Нана бесплатное чтение
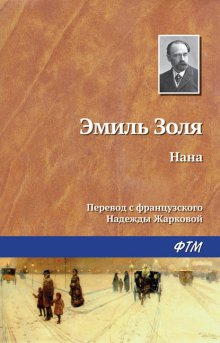
© Перевод. Н. М. Жаркова, наследники, 2019
© Агентство ФТМ, Лтд., 2019
I
Пробило девять, а зал театра Варьете был еще пуст. Лишь кое-где на балконе и в партере терпеливо ожидали начала немногочисленные зрители, затерявшиеся среди гранатового бархата кресел, в слабом сумеречном свете приспущенной люстры. Громадное алое пятно занавеса расплывалось во мраке; сцена безмолвствовала, рампу еще не зажигали, еще не расставили по местам сдвинутые в беспорядке пюпитры оркестрантов. Только в райке, ютившемся под расписным плафоном, где обнаженные девы и младенцы порхали в небесах, давно позеленевших от испарений газа, – слышался сдержанный непрерывный гул голосов, смех и выкрики; там уступами уходили ввысь к большим круглым окнам в золоченых рамах ряды чепцов и каскеток. В ложах время от времени появлялись билетерши и, с озабоченным видом держа билеты в руке, пропускали вперед очередную пару, чинно садившуюся на свои места: мужчина во фраке, при нем дама – тоненькая, затянутая, с томно блуждающим взором.
В креслах показались двое молодых людей. Не присаживаясь, они стали разглядывать зал.
– Ну что я тебе говорил, Гектор! – воскликнул тот, что был постарше, высокий брюнет с усиками. – Чего ради ты притащил меня так рано? Даже сигару не дал докурить.
Мимо прошла билетерша.
– Верно, господин Фошри, – фамильярно бросила она, – начнут уж никак не раньше, чем через полчаса.
– Зачем же писать в афишах, что начало в девять, – буркнул Гектор, досадливо кривя свое длинное худое лицо. – Еще сегодня утром Кларисса уверяла меня, что начнется в девять, а ведь она знает, сама занята в пьесе.
Они прервали беседу и, закинув голову, старались проникнуть взором в полумрак лож. Но зеленая обивка, казалось, еще сгущала тени. Внизу под галереей утопали в полной мгле ложи бенуара. В ложе балкона сидела одна-единственная зрительница – какая-то полная дама, тяжело опиравшаяся на бархатный барьер. Справа и слева от сцены, между высоких колонн, еще пустовали литерные ложи, задрапированные занавесями с длинной бахромой. Белизна и позолота зала, оттененные нежно-зелеными тонами, еле проступали сквозь легкую пелену света, льющегося из большой хрустальной люстры, где газовые рожки только еще начинали разгораться.
– А ты достал ложу для Люси? – спросил Гектор.
– Достал, но с каким трудом! – ответил его спутник. – Не беспокойся, Люси раньше времени не явится.
Он подавил зевок и после минутного молчания добавил:
– Тебе повезло, ты ведь еще никогда на премьерах не бывал… «Белокурая Венера» наверняка будет гвоздем сезона. О ней уже целых полгода трезвонят. Ах, дружок, какая музыка! Шик!.. Борденав, а он в таких делах знаток, недаром приберег пьесу для Выставки.
Гектор слушал его слова с благоговейным вниманием. Потом спросил:
– А эту Нана, новую звезду, которая играет Венеру, – ты ее знаешь?
– Господи! И ты туда же! – воскликнул Фошри, воздевая к небесам руки. – С самого утра меня допекают этой Нана. Я нынче встретил человек двадцать, и все как сговорились, Нана да Нана!.. А я почем знаю! Неужели я обязан помнить всех парижских девок?.. Нана – новое открытие Борденава. Этим все сказано!
Он замолчал, успокоился. Но вид пустого зала, тусклый свет люстры, какое-то почти церковное благолепие, благолепие храма, где человек невольно переходит на шепот, боится хлопнуть дверью, снова вывели его из равновесия.
– Ну, нет уж, – неожиданно заявил он, – с меня хватит! Лично я ухожу. Может, нам посчастливится обнаружить внизу Борденава. И даже узнать кое-какие подробности.
В огромном вестибюле, выложенном мраморными плитами, у контроля уже начали толпиться зрители. Сквозь распахнутые двери видны были бульвары, где под высоким небом апреля шла своя особая жизнь с жаркой сутолокой и сверканием огней. Стук карет резко обрывался у подъезда, громко хлопали дверцы; зрители по двое, по трое входили в вестибюль, задерживались у контроля, поднимались по расположенной в глубине вестибюля лестнице, расходившейся направо и налево двумя маршами; на ступеньках с умыслом медлили, играя гибкой талией, дамы. В беспощадном свете газа, среди мертвенной наготы вестибюля, которому жалкие колонны в стиле ампир придавали сходство с храмом, воздвигнутым из папье-маше, бросались в глаза длинные афиши, где на желтом фоне огромными черными буквами выделялось имя НАНА. Мужчины останавливались и впивались глазами в афишу; уже прочитавшие толпились в дверях, загораживая проход; а у билетной кассы толстяк с широким гладко выбритым лицом грубо огрызался в ответ на просьбы желающих получить билетик.
– Вот он, Борденав, – сказал Фошри, спускаясь по лестнице.
Но директор уже заметил его.
– Хорош, нечего сказать! – крикнул он снизу. – Где она, обещанная статейка? Открываю утром «Фигаро», и хоть бы слово!
– Да подождите, – отбивался Фошри. – Надо сначала посмотреть вашу Нана, а потом уже о ней писать… Кстати, я вам ровно ничего не обещал.
Желая положить конец пререканиям, он представил директору своего кузена Гектора де Ла Фалуаз, прибывшего в Париж с намерением завершить здесь свое образование. Директор бросил на юношу быстрый оценивающий взгляд. А Гектор в волнении уставился на него. Так вот каков он – знаменитый Борденав, владелец труппы дрессированных девиц, их тюремщик, неистощимый поставщик сенсационных новинок, вот он, этот циник с замашками жандарма, – орет, брызжет слюной, хлопает себя по ляжкам. Гектор решил, что обязан начать разговор с какой-нибудь любезной фразы.
– Ваш театр… – произнес он медовым голоском.
Но Борденав прервал его бесцеремонным словечком, как человек, не склонный приукрашивать истину.
– Скажите лучше – мой бордель.
Фошри одобрительно фыркнул, а шокированный Ла Фалуаз, поперхнувшись комплиментом, старался сделать вид, что оценил остроту. Тут директор бросился здороваться с театральным критиком, чьи фельетоны имели немалый вес. Когда он снова подошел к молодым людям, Ла Фалуаз уже успел оправиться от смущения. Пуще всего он боялся, что будет мяться, и тогда в нем признают провинциала.
– Мне говорили, – начал он, не желая сдаваться, – что у Нана прелестный голос.
– Это у нее-то?! – воскликнул директор, пожимая плечами. – Визжит, как драная кошка!
Юноша поспешил исправить свой промах:
– Зато великолепная артистка.
– Это она-то!.. Тумба тумбой, ни рукой, ни ногой двинуть не умеет.
Легкая краска проступила на скулах Ла Фалуаза. Он окончательно отказывался что-либо понимать. И пробормотал:
– Ни за какие блага мира я не пропустил бы нынешней премьеры. Мне известно, что ваш театр…
– Мой бордель… – снова поправил его Борденав с холодным упрямством человека, которого не так-то легко сбить с его позиций.
Тем временем невозмутимый Фошри разглядывал входивших дам. Он поспешил на помощь кузену, который стоял разинув рот, не зная, смеяться ему или обидеться.
– Ну что тебе стоит порадовать Борденава, называй его театр, как он тебя просит, раз ему так хочется… А вы, дружок, бросьте нас морочить. Если ваша Нана не умеет ни петь, ни играть, спектакль просто-напросто провалится. Впрочем, боюсь, что так оно и будет.
– Провалится! Провалится! – завопил директор, багровея от негодования. – Да кто вам сказал, что женщина должна уметь петь и играть! Ах, детка, ты, как я погляжу, просто дурак… У Нана есть нечто другое, и это-то другое все заменит, уж поверь мне. У меня на такие вещи нюх, так вот этого другого у Нана хоть отбавляй, или я, старый болван, ничего не стою… Вот увидишь, сам увидишь, стоит ей выйти на сцену, и весь зал ахнет.
Он вскинул к потолку свои огромные ручищи, которые тряслись от восторга; облегчив душу, он понизил голос и пробормотал про себя:
– Да, она далеко пойдет, далеко, уж поверьте… Кожа-то, кожа какая…
И так как Фошри не отставал, Борденав снизошел и сообщил кое-какие подробности в столь откровенных выражениях, что Гектор де Ла Фалуаз сконфузился… По словам Борденава, Нана он знал раньше и решит дать ей ход. Кстати, он тогда как раз искал Венеру для новой пьесы. Лично он не любитель долго возиться с новенькими, пускай публика получит свое удовольствие. Ну и хлебнул же он горя, когда эта рослая девица появилась в их заведении, – чуть бунт не поднялся. Роза Миньон, главная его звезда, она и поет прекрасно и играет отлично, так вот Роза совсем разъярилась, почуяв соперницу, каждый божий день грозит бросить его на произвол судьбы. А с афишами-то что было, боже мой! В конце концов он велел набрать имена обеих артисток одинаково крупным шрифтом. Пусть только оставят его в покое. А если кто-нибудь из его девочек, как он именовал своих артисток, скажем, Симона или Кларисса, заартачится, он, не беспокойтесь, сумеет дать им пинка пониже спины. Иначе от них житья не будет. Он, слава богу, перевидал их на своем веку, знает им цену, этим шлюхам!
– Смотрите-ка! – прервал он свой рассказ. – Наши неразлучные пришли – Миньон со Штейнером. Роза, знаете ли, порядком прискучила Штейнеру, ну вот муж за ним и ходит по пятам, боится, как бы тот не дал тягу.
От газовых рожков, зажженных на фронтоне театра, пролегла по тротуару светлая полоса. Два ярко-зеленых деревца четко вырисовывались на фоне неба; свет газа придавал колонне неестественную белизну, и можно было, как днем, издали прочесть афишу; а там, еще дальше, огни буравили сгустившийся мрак бульваров, где смутно угадывалось непрерывное движение толпы. Подходившие к театру мужчины не спешили войти и, остановившись у входа, беседовали, докуривая сигару; газовые рожки окрашивали их лица в синеватый цвет, и на асфальт ложились кургузые тени. Миньон, чересчур высокий, чересчур широкоплечий, с четырехугольным, как у ярмарочного борца, черепом, легко прокладывал в толпе дорогу, волоча за собой банкира Штейнера, низенького, пузатенького, круглолицего, с седеющей бородкой.
– Ну так вот! – обратился Борденав к банкиру. – Вчера вы как раз и видели ее у меня в кабинете.
– Ах, значит, это она! – воскликнул Штейнер. – Я так и думал. Но мы с ней столкнулись уже на пороге, и я даже не успел ее как следует разглядеть.
Миньон прислушивался к разговору, не подымая опущенных век, нервическим жестом вертя вокруг мизинца перстень с огромным бриллиантом. Он сразу понял, что речь идет о Нана. Но Борденав так живо набросал портрет своей дебютантки, что в глазах банкира вспыхнул огонек, и тут Миньон решил вмешаться.
– Да бросьте, милый, самая обыкновенная потаскушка! Публика ей еще покажет… Штейнер, голубчик, моя жена ждет вас у себя в уборной.
Он попытался было увести его силой. Но Штейнер не желал расставаться с Борденавом. Прямо перед ними зрители, выстроившись цепочкой, напирали на контролеров, и среди нестройного гула голосов все чаще слышалось имя Нана – два коротких певучих слога. Мужчины, толпившиеся у афиш, громко скандировали это имя; другие бросали его на ходу, как вопрос; а женщины с тревожной улыбкой на устах повторяли его тихонько, с удивлением. Никто не знал Нана. Откуда она взялась, эта самая Нана? Шепотом, на ушко друг другу, передавались шуточки, анекдоты. Само имя уже звучало как ласка, уменьшительное имя, становившееся интимным в любых устах. Достаточно было произнести его вот так вслух, и толпой овладевало веселое благодушие. Всех охватила лихорадка любопытства, того особого парижского любопытства, которое по силе можно сравнить только с приступом горячки. Всем хотелось видеть Нана. В толчее какой-то даме оторвали оборку, какой-то господин потерял шляпу.
– Нет, это уж слишком! – завопил Борденав, когда человек двадцать насели на него с вопросами. – Сами увидите… А я бегу, меня ждут.
Он исчез в восторге от того, что сумел разжечь свою публику. Миньон, пожав плечами, напомнил Штейнеру, что Роза давно ждет их, – хочет показать свой костюм для первого акта.
– Смотри, вон Люси выходит из кареты, – сказал Ла Фалуаз, обращаясь к Фошри.
Это действительно оказалась Люси Стюарт, маленькая дурнушка лет под сорок; шея у нее была слишком длинная, личико помятое, губы слишком крупные, но необычайное изящество и живость движений придавали ей какое-то особое обаяние. Она привезла с собой Каролину Эке и ее матушку; Каролина поражала холодной красотой, а матушка, весьма достойная особа, походила на чучело.
– Пойдешь с нами, я тебе оставила место, – скомандовала Люси, обращаясь к Фошри.
– Нет уж, увольте! Оттуда ничего не видно, – ответил он. – У меня кресло, предпочитаю сидеть в партере.
Люси взорвалась. Значит, он просто боится показываться с ней? Потом, так же внезапно успокоившись, заговорила о другом.
– Почему ты мне не сказал, что знаешь Нана?
– Я? Да я ее в глаза не видал!
– Ох, так ли? А меня уверяли, будто ты с ней спал.
Но стоявший рядом Миньон, приложив к губам палец, призвал их к молчанию. И в ответ на вопросительный взгляд Люси прошептал, показав на молодого человека, проходившего мимо:
– Ее дружок!
Присутствующие взглянули на молодого человека. Он был весьма недурен собой. Оказалось, Фошри его знает: это Дагне; мальчик уже успел просадить на женщин миллиона три и сейчас крутится на бирже, чтобы заработать на букет для какой-нибудь очередной дамы или угостить ее обедом. Люси объявила, что у него прелестные глаза.
– А вот и Бланш! – воскликнула она. – Кстати, Бланш мне и сказала, что ты спал с Нана.
Бланш де Сиври, рослую блондинку с хорошеньким, но преждевременно расплывшимся личиком, сопровождал хилый, очень выхоленный и очень элегантный господин.
– Граф Ксавье де Вандевр, – шепнул Фошри на ухо Ла Фалуазу.
Граф обменялся рукопожатием с журналистом, а Бланш с Люси, не теряя времени, вступили в бурное объяснение. Одна была в розовом, другая – в голубом; своими широкими юбками в воланах они загородили весь проход, и имя Нана произносилось обеими дамами так часто и так громко, что к ним уже стали прислушиваться. Граф де Вандевр увел Бланш. Но теперь имя Нана звучало уже во всех уголках вестибюля, накаляя страсти заждавшихся зрителей. Почему, в самом деле, не начинают? Мужчины то и дело вынимали из жилетного кармана часы, опаздывающие выскакивали на ходу из карет, зрители, толпившиеся на улице, потянулись к дверям, а случайные прохожие, вступая в полосу света на опустевшем тротуаре, замедляли шаги, вытягивали шеи, стараясь заглянуть в вестибюль. Какой-то мальчишка, насвистывая песенку, пробежал было мимо театра, но вдруг остановился перед афишей, хрипло выкрикнул: «Эй ты, Нана!» – и пошел дальше развинченной походкой, шаркая стоптанными башмаками. Раздался взрыв смеха. Вполне пристойные с виду господа повторяли вслед за сорванцом: «Нана, эй, Нана!» Началась давка у контроля, вспыхнул скандал, голоса, призывавшие Нана, требовавшие Нана, сливались в нестройный гул; толпа, как всякая толпа, была рада поддаться любой глупой забаве, любому порыву низменной чувственности.
Но над этим содомом внезапно послышалось треньканье звонка, возвещавшего о начале спектакля. Гам переплеснулся на бульвар: «Звонят, звонят!»; каждый энергично прокладывал себе дорогу в толпе, так что пришлось прислать подкрепление контролерам. Встревоженному Миньону удалось наконец сдвинуть с места Штейнера, который так и не удосужился посмотреть Розин костюм. При первом же звяканье колокольчика Ла Фалуаз, испугавшись, что они не поспеют к увертюре, потащил за собой Фошри, прокладывая дорогу локтями. Это излишнее рвение публики бесило Люси Стюарт. Ну и грубияны, женщину готовы затолкать! Она нарочно замешкалась вместе с Каролиной Эке и ее матушкой. Вестибюль опустел, только во входные двери все еще врывалось протяжное гудение бульвара.
– Хоть бы пьесы у них были веселые, и того нет, – твердила Люси, поднимаясь по лестнице.
В зале Фошри и Ла Фалуаз, стоя у своих кресел, вновь огляделись вокруг. Теперь все здесь сияло. Длинные язычки газа играли на хрустальных подвесках люстры, брызги розовых и желтых огней дождем падали от плафона до партера. Темно-гранатовая обивка кресел отливала теперь алым, а игра позолоты смягчалась нежной зеленью орнамента, и только роспись плафонов сохраняла свою неумеренную яркость. Рампа словно пламенем зажгла тяжелый пурпурный занавес, сказочно богатый, как в волшебных замках, зато еще резче выступило убожество портала, где трещины обнажили штукатурку под позолотой. Становилось жарко. Рассевшись перед пюпитрами, оркестр настраивал инструменты, и среди крепнувшего гула голосов проносилась то легчайшая трель флейты, то сдержанный вздох валторны, то певучий голос скрипки. Зрители говорили все разом, толкались, рассаживались по местам, добытым с боя; в коридорах скопилась уйма народу, и в двери с трудом просачивался неиссякаемый людской поток. Махали друг другу, шуршали шелка, в затейливый хоровод юбок и причесок то тут, то там врезалось черное пятно фрака или редингота. Меж тем ряды кресел заполнялись; кое-где резко выделялся светлый туалет, головка с нежным профилем клонилась под тяжестью шиньона, среди локонов вспыхивала молния диадемы. В ложе изгиб оголенного плечика отливал атласной белизной. Дамы, уже успевшие усесться, томно обмахивались веером, спокойно наблюдая за суетой, а в партере молодые люди в слишком низко вырезанных жилетах, с гарденией в петлице, наводили на ложи бинокль, держа его самыми кончиками пальцев, обтянутых белыми перчатками.
Кузены Ла Фалуаз и Фошри тоже стали искать знакомые лица. Миньон и Штейнер восседали бок о бок в бенуаре, чинно положив ладони на бархат барьера. Бланш де Сиври, казалось, занимала своей особой всю литерную ложу бельэтажа. Но особенно внимательно Ла Фалуаз разглядывал Дагне, который тоже сидел в креслах двумя рядами ближе к сцене. Рядом с ним оказался совсем юный мальчик, лет семнадцати, не более, видимо улизнувший школяр; он смотрел вокруг широко открытыми глазами, прекрасными, как у херувима. Фошри не мог сдержать улыбки.
– А что это за дама на балконе? – вдруг спросил Ла Фалуаз. – Вон та, рядом с которой сидит девушка в голубом.
Он показал на дебелую даму, туго затянутую в корсет, по-видимому, бывшую в свое время блондинкой, а теперь перекрасившую седые волосы в соломенный цвет, с нарумяненной круглой физиономией, казавшейся еще круглее из-за мелко завитой гривки, по-детски спущенной на лоб.
– Это Гага, – лаконически ответил Фошри.
Заметив, что имя ее удивило кузена, он пояснил:
– Разве ты не слышал про Гага? Краса самых первых лет царствования Луи-Филиппа. Теперь она повсюду таскает за собой дочку.
Ла Фалуаз даже не взглянул на молоденькую девушку. Его заинтересовала сама Гага, он не спускал с нее глаз; он находил, что и сейчас еще она совсем недурна, однако не посмел высказать свое мнение вслух.
Тем временем дирижер поднял палочку, музыканты грянули увертюру. Зрители по-прежнему входили в зал, суета и шум удесятерились. У этой публики имелись здесь свои излюбленные укромные уголки, где завсегдатаи премьер улыбались при встрече незнакомым как знакомым. Они не снимали шляп, раскланивались направо и налево и вообще чувствовали себя в театре как дома. Весь Париж был здесь, – Париж литературный, финансовый, прожигающий жизнь, множество журналистов, кое-кто из писателей, биржевики, девицы легких нравов, превосходившие численностью порядочных женщин; целый мир, странная смесь, где попадаются все таланты, все пороки, но где все лица отмечены одной и той же печатью усталости и лихорадочного возбуждения. Фошри, еле успевая отвечать на вопросы кузена, показал ему ложу, отведенную для прессы и членов театрального клуба, потом обратил его внимание на двух театральных критиков, одного худенького, высохшего, с тонкогубым злым ртом и другого – толстяка с детски благодушной физиономией, – этот все жался к плечу своей соседки, молоденькой актрисочки, не спуская с нее отечески нежного взгляда.
Но, увидев, что Ла Фалуаз кланяется каким-то господам в ложе напротив сцены, он прервал свой рассказ. Он был явно удивлен.
– Как, ты, оказывается, знаком с графом Мюффа де Бевиль? – осведомился он.
– Давным-давно, – ответил Гектор. – Поместье Мюффа расположено неподалеку от нашего. Я у них часто бывал… Граф здесь со своей женой и тестем, маркизом де Шуар.
И, не скрывая тщеславного удовольствия, что и ему тоже удалось поразить кузена, Гектор пустился в подробности: маркиз был государственным советником, графа на днях назначили камергером при особе императрицы. Фошри поднес к глазам бинокль, разглядывая графиню, пухленькую брюнетку с очень белой кожей и лучистыми черными глазами.
– Представишь меня во время антракта, – сказал он, окончив осмотр. – С графом я встречался, но мне хочется попасть на их вторники.
Энергичное «тише!» донеслось с галерки. Увертюра уже гремела, а публика все продолжала входить. Из-за одного опоздавшего приходилось подниматься целому ряду партера, хлопали двери лож, в коридорах шли громкие споры. И гул голосов не стихал ни на минуту, словно расчирикалась напропалую перед закатом солнца стая воробьев. Все окончательно смешалось – машущие руки, головы; одни садились, стараясь поудобнее устроиться в креслах, другие упорно торчали посреди зала, желая в последний раз окинуть его взглядом. Из темных глубин партера донесся яростный крик: «Садитесь! Садитесь!» По толпе зрителей пробежала дрожь: наконец-то они увидят эту Нана, о которой им столько наговорили и которой вот уже целую неделю занимался весь Париж.
Мало-помалу волна голосов спадала, разговоры затихли, лишь изредка слышался чей-то густой бас. И среди приглушенного шепота и замирающих вздохов вдруг стал слышен оркестр, посылавший в зал зажигательные звуки легкого вальса, в пошлом ритме которого слышался задорный смех. Публику так и разбирало, рты растягивались в улыбку. А клакеры, сидевшие в первых рядах, разразились неистовыми рукоплесканиями. Поднялся занавес.
– Смотри-ка, – проговорил неугомонный Ла Фалуаз, – у Люси в ложе какой-то незнакомый господин.
Он не отрываясь смотрел на ложу с правой стороны балкона, где на передних креслах сидели Люси и Каролина. В глубине виднелась благообразная физиономия г-жи Эке-старшей, матушки Каролины, и профиль какого-то высокого, безукоризненно одетого молодого человека с прекрасной белокурой шевелюрой.
– Да посмотри же, – твердил Ла Фалуаз, – там какой-то господин.
Фошри снизошел к просьбе кузена и направил на ложу бинокль. Но тотчас же отвернулся.
– Да это же Лабордет, – пробормотал он беспечным тоном, будто присутствие вышеназванного господина в чужой ложе было более чем натурально и ровно ничего не означало.
Позади их раздался крик: «Тише, вы!» Пришлось замолчать. Теперь от партера до амфитеатра зал оцепенел; застыла в сосредоточенном внимании зыбкая линия голов. Первое действие «Белокурой Венеры» происходило на Олимпе, на некоем картонном Олимпе, с троном Юпитера направо и облаками вместо кулис. Сначала появились Ирида и Ганимед в окружении хора небесной челяди, – не переставая петь, хористы расставляли по сцене сиденья, предназначенные для богов, собравшихся на совет. Снова из того ряда, где сидели клакеры, послышалось «браво!», но публика их не поддержала. Она еще не освоилась и ждала. Только Ла Фалуаз громко зааплодировал при появлении Клариссы Беню – одной из девочек Борденава, которая играла Ириду и одета была в нежно-голубую тунику, подпоясанную широким семицветным шарфом.
– Знаешь, чтобы надеть этот костюм, ей пришлось снять сорочку, – пояснил он кузену, умышленно не понижая голоса. – Утром мы с ней устроили примерку… Сорочка вылезала на спине и под мышками.
Но тут по залу пробежал легкий трепет. На сцену вышла Роза Миньон в костюме Дианы. И хотя эта смуглая худенькая женщина с восхитительно неправильной, как у парижского гамена, мордочкой не подходила для роли Дианы ни лицом, ни фигурой и скорее уж была пародией на мифологическую богиню, – как раз этим она и пленила зал. Свою выходную арию с отчаянно глупыми словами – жалобой на изменника Марса, который собирается бросить ее ради Венеры, – она пропела сдержанно, даже целомудренно, однако так сумела подчеркнуть голосом каждый игривый намек, что сразу расшевелила зрителей. Ее муж и Штейнер, сидевшие бок о бок, снисходительно посмеивались. И весь зал разразился хохотом, когда на сцене появился Марс-Прюльер, признанный любимец публики, в генеральской форме, с гигантским плюмажем на треуголке, волоча за собой длиннющую саблю, которая упиралась ему эфесом под мышку. Хватит с него Дианы, надоела; слишком о себе много воображает. Тогда Диана клянется подстеречь неверного и отомстить. Дуэт закончился шутливой песенкой, которую Прюльер спел очень весело на тирольский лад, то взвизгивая, то урча, как рассвирепевший кот. Держался он с забавным фатовством избалованного первого любовника и так фанфаронски вращал глазами, что дамы в ложах покатывались со смеху.
Но вскоре публика опять охладела к пьесе; следующие сцены показались ей скучноватыми. Только старику Боску, игравшему придурковатого Юпитера и нацепившему огромную корону, которая то и дело соскальзывала ему на уши, удалось ненадолго рассмешить публику в сцене ссоры с Юноной из-за счета на провизию. А шествие богов – Нептуна, Плутона, Минервы и прочих – чуть было не загубило спектакля. Публика потеряла терпение, в зале постепенно стал нарастать тревожный шепот, утратившие интерес зрители отворачивались от сцены и рассматривали зал. Люси пересмеивалась с Лабордетом; граф де Вандевр тянул шею, стараясь выглянуть из-за мощных плечей Бланш; а Фошри тем временем украдкой бросал взгляды на семейство Мюффа, на графа, сидевшего с таким видом, будто он не понимал, что происходит на сцене, на улыбающуюся своим мыслям графиню, мечтательно и рассеянно глядевшую куда-то вдаль. Но внезапно среди этого тягостного уныния раздались аплодисменты клакеров, громкие и размеренные, словно повзводная стрельба. Все головы повернулись к сцене. Неужели наконец появилась Нана? Эта Нана слишком уж заставляет себя ждать.
Но появилась под водительством Ириды с Ганимедом делегация смертных, почтенных обывателей; обманутые мужья пришли принести владыке богов жалобу на Венеру, зачем-де она воспламеняет страстями их жен. Нарочито наивная жалоба хора, прерываемая долгими многозначительными паузами, развеселила публику. Весь зал облетело чье-то крылатое словцо: «Хор рогачей, хор рогачей», – и оно так и осталось за этим номером. Раздались крики «бис!». Да и у самих хористов вид был забавный, вполне подходящий к случаю; особенно пришелся по вкусу публике один толстяк с круглой, как полная луна, физиономией. Тем временем на сцену выскочил разъяренный Вулкан, требуя свою супругу, которая вот уже три дня находится в бегах. Снова вступил хор, взывая к богу рогоносцев Вулкану. Его играл Фонтан, комический актер самобытного, но вульгарного дарования, неуемной разнузданной фантазии. Вулкана он изображал в виде сельского кузнеца в огненно-рыжем парике, с обнаженными руками, покрытыми, точно татуировкой, изображением пронзенных стрелой сердец. Какая-то женщина, не удержавшись, воскликнула на весь зал: «Ну и урод!» Слова ее были покрыты смехом и аплодисментами.
Следующая сцена показалась публике бесконечно растянутой. Юпитер никак не мог собрать совет богов, дабы обсудить петицию рогоносцев. А Нана так и не появлялась. Неужели ее выпустят на сцену только под занавес? Это бесконечно долгое ожидание стало раздражать публику. Снова послышался шепот.
– Дело плохо, – твердил, сияя, Миньон банкиру Штейнеру. – Зря публику заманивают!
В эту самую минуту облака в глубине сцены раздвинулись, и показалась Венера. Нана, очень рослая, очень дородная для своих восемнадцати лет, в белой тунике, как и положено небожительнице, с распущенными по плечам без всяких ухищрений длинными белокурыми волосами, спокойно и самоуверенно приблизилась к рампе, улыбнулась публике. И завела свою выходную арию:
- Однажды вечерком Венера…
Когда певица начала второй куплет, весь зал удивленно переглянулся. Что это, шутка, новая блажь Борденава, или он просто побился с кем-нибудь об заклад? Никогда еще на театральных подмостках не звучал такой фальшивый голос, выдававший полное отсутствие школы. Прав был директор Варьете, заявив, что она поет, как драная кошка. И к тому же не умеет даже держаться на сцене, нелепо выбрасывает вперед руки, покачивается всем телом, что, во-первых, малопристойно, а во-вторых, просто неизящно. В креслах уже послышалось возмущенное «о! о!», уже засвистели на приставных местах, как вдруг в партере раздался чей-то ломающийся, как у молодого петушка, голос.
– Шикарно! – провозгласил говоривший с непоколебимой убежденностью.
Весь зал уставился на смельчака. Им оказался тот самый херувимчик, школяр, улизнувший из коллежа; он таращил на Нана свои красивые глаза, его окаймленное белокурыми локонами лицо разгорелось. Заметив, что все бинокли и взоры устремились на него, он побагровел от стыда, сообразив только сейчас, что кричал во все горло. Дагне с улыбкой наблюдал за своим соседом, свист прекратился, и публика захохотала, как бы обезоруженная этим возгласом; а молодые люди в белых перчатках громко захлопали, млея от восторга при виде округлых форм Нана:
– Прелестно! Превосходно! Браво!
А Нана, увидев, что зал хохочет, тоже расхохоталась. Все окончательно развеселились. Эта красотка и впрямь забавная. Когда она смеялась, на подбородке у нее виднелась очаровательная ямочка. Она переждала взрыв веселья, ничуть не смутившись, сразу же освоившись на сцене; казалось даже, она подмаргивает публике, как бы говоря, что таланта у нее действительно ни на грош, что она не тем, мол, берет. И, махнув дирижеру рукой, как бы говоря: «А ну, давай, дружок!» – она затянула второй куплет:
- Когда Венера в час ночной…
Пела она все тем же пронзительным голосом, но теперь голос этот задевал как раз те струны, которые требуется, чтобы бросить публику в легкую дрожь. Нана по-прежнему откровенно смеялась, смех порхал на ее ярко-красных губах и зажигал озорные огоньки в огромных светло-лазоревых глазах. В чересчур игривых местах она плотоядно морщила носик, розовые ноздри ее раздувались, а щеки заливал румянец. Она все так же нелепо раскачивалась всем телом, видимо, ничего другого она на сцене делать не умела. Но теперь это покачивание уже не казалось публике таким неуклюжим, напротив: мужчины не отрывали от сцены биноклей. Когда Нана заканчивала свои куплеты, ей совсем изменил голос, и она сама поняла, что ей ни за что не допеть арию до конца. Тогда, ничуть не тревожась, она вильнула бедром, обнаружив его приятную округлость сквозь прозрачную тунику, выставила грудь, закинула голову, а обе руки протянула вперед. Раздались аплодисменты. И сразу же Нана повернулась к залу спиной и направилась за кулисы, показав публике гриву рыжих волос, вольно рассыпавшихся по спине, – и весь зал разразился рукоплесканиями.
Конец первого акта был встречен с холодком. Вулкан хотел надавать Венере пощечин. Боги собрались на совет и постановили самолично провести на Земле обследование, а уж потом дать ход жалобе обманутых мужей. Но тут Диана, подслушав, как воркуют в стороне Венера с Марсом, клянется, что во время всего путешествия будет зорко следить за влюбленной парой. Была здесь также сцена Амура, которого играла девчушка лет двенадцати; на все вопросы Амур, ковыряя в носу, плаксиво твердил: «Да, мамаша… Нет, мамаша». Вслед за тем Юпитер, неумолимый, как школьный учитель, засадил Амура в карцер, велев ему проспрягать двадцать раз подряд глагол «любить». Конец акта понравился больше, хор и оркестр провели его с блеском. Но когда занавес упал, несмотря на все старания клаки, вызывавшей актеров, публика дружно поднялась с мест и направилась к дверям.
Зрители с трудом пробирались сквозь ряды кресел, толкая соседей, обмениваясь впечатлениями. Во всех уголках залы слышалось:
– Экая ерунда!
Театральный критик заявил, что без купюр, и немалых, не обойтись. Впрочем, бог с ней, с пьесой; все разговоры вертелись главным образом вокруг Нана. Фошри и Ла Фалуаз, которым удалось выбраться из зала в числе первых, столкнулись в коридоре партера со Штейнером и Миньоном. В этом узком, длинном, как кишка, и низком, как штольня, помещении, освещенном тусклым светом газовых рожков, можно было задохнуться. Кузены остановились передохнуть справа у лестницы, укрывшись за полукругом перил. Сверху беспрерывным потоком спускались посетители галерки, размеренно топая грубыми башмаками, вслед за ними проплыла волна черных фраков; билетерша, стиснутая со всех сторон, старалась загородить стул, на который она складывала пальто.
– Да я же ее знаю! – еще издали закричал Штейнер, заметив Фошри. – Клянусь, я где-то ее видел… По-моему, в Казино, она до того напилась, что ее пришлось вывести.
– Лично я поклясться не могу, – подхватил журналист, – но и у меня, представьте, такое впечатление, что я ее где-то видел.
И, понизив голос, он с улыбкой добавил:
– Уж не у Триконши ли?
– В этом мерзком вертепе? Это уж черт знает что! – взорвался Миньон, терпение которого окончательно истощилось. – Тошно смотреть, как публика встречает первую попавшуюся шлюху. Скоро так в театре ни одной порядочной женщины не останется, кончится тем, что я запрещу Розе играть, именно запрещу.
Фошри не мог сдержать улыбки. А топот ног в грубых башмаках все еще заполнял лестницу, с верхней до нижней ступеньки; какой-то коротышка в каскетке объявил во всеуслышание, забавно растягивая слова:
– Пышка-то преаппетитная! Так бы ее и съел.
В коридоре сцепились два молоденьких франтика с мелко завитыми волосами, вполне корректно одетые, в воротничках с отогнутыми кончиками. Один твердил: «Гадость! Гадость!», не давая себе труда пояснить свою мысль, другой отвечал ему в тон: «Прелесть! Прелесть!», тоже не снисходя до более пространных объяснений.
Ла Фалуаз нашел, что Нана весьма мила, но, добавил он осторожно, была бы еще лучше, если бы поработала над голосом. Тут Штейнер, который пропустил всю беседу мимо ушей, вдруг словно очнулся ото сна. Впрочем, подождем выносить суждение. Возможно, следующие акты испортят все. Публика, конечно, слушала снисходительно, но пока спектакль ее не захватил. Миньон клялся, что зрители все равно не досмотрят премьеру до конца, и, так как Фошри и Ла Фалуаз отправились в фойе, он взял Штейнера за руку и шепнул, навалившись ему на плечо:
– А теперь, дружок, вам необходимо посмотреть костюм моей жены для второго акта. Да, пикантненько получилось!
В верхнем фойе ярко горели три хрустальных люстры. Кузены на минуту замешкались: сквозь обшарпанные застекленные двери виднелось волнующееся море голов, которое двумя встречными потоками беспрерывно омывало галерею. Однако они решились войти. Пять-шесть групп мужчин, оживленно беседовавших, сопровождая свои слова широкими взмахами рук, стойко держались среди этой толчеи; все прочие покорно шагали в затылок друг другу бесконечной цепочкой, круто заворачивая в концах галереи и царапая навощенный паркет каблуками. Справа и слева меж колонн крапчатого мрамора на обитых алым бархатом скамейках восседали дамы, как видно совсем разомлевшие от жары, и с усталым видом поглядывали на перекатывавшуюся перед ними людскую волну; высокие зеркала за их спиной послушно отражали затейливые шиньоны. На другом конце галереи какой-то толстяк пил у буфетной стойки сироп.
Но Фошри, желая подышать свежим воздухом, вышел на балкон. Ла Фалуаз начал было изучать фотографии актрис, развешанные между зеркалами за рядом колонн, но потом последовал за кузеном. Только что потушили газовые фонари над входом в театр. На балконе, где было совсем темно и прохладно, казалось, нет никого, но вдруг они заметили в правом углу какого-то молодого человека; опершись о каменную балюстраду, он курил, и кончик его сигареты алел во мраке. Фошри узнал Дагне. Они обменялись рукопожатиями.
– Что вы здесь поделываете, дорогой? – спросил журналист. – Прячетесь по укромным уголкам, хотя, насколько мне известно, в дни премьер вас из партера не выманишь.
– Как видите, курю, – отозвался Дагне.
Фошри вдруг захотелось его подразнить;
– Ну, а что вы скажете о новой дебютантке? В кулуарах о ней отзываются не особенно хорошо.
– Очевидно, отзываются мужчины, которых она отвергла! – пробормотал Дагне.
Больше он о талантах Нана не распространялся. Перегнувшись через перила, Ла Фалуаз посмотрел на бульвар. Прямо напротив горели ярко освещенные окна какого-то отеля и клуба; а на тротуаре за столиками кафе «Мадрид» густо плечом к плечу сидели посетители. Хотя время было уже позднее, толпа не убывала; прохожим приходилось замедлять шаг, из дверей пассажа Жофруа непрерывным потоком лились люди; пешеходы по несколько минут ждали, прежде чем им удавалось перейти на другую сторону, так как экипажи тянулись теперь непрерывной вереницей.
– Какое движение! Какой шум! – повторял Ла Фалуаз, все еще не переставший дивиться Парижу.
Раздалось продолжительное треньканье звонка, фойе опустело. Люди бросились в кулуары. Занавес подняли, а публика все еще валом валила в зал, к негодованию зрителей, уже успевших усесться. Каждый спешил занять свое место, и на всех лицах застыло оживленно-внимательное выражение. Войдя в зал, Ла Фалуаз первым делом кинул взгляд на Гага; но обомлел, увидев рядом с ней того самого высокого блондина, который только что сидел в литерной ложе Люси.
– Как, ты говоришь, зовут этого господина? – спросил он.
Фошри не сразу разглядел того, о ком шла речь.
– Да это же Лабордет, – наконец сказал он, все так же беспечно махнув рукой.
Декорация второго акта произвела эффект. Сцена представляла знаменитый кабачок «Черный шар» у парижской заставы в самый разгар масленичного карнавала; маски затянули застольную песню, постукивая в такт каблуками. Эта неожиданная озорная выдумка развеселила публику, и она потребовала повторить номер. И вот здесь-то вся орава богов, заплутавшаяся по вине Ириды, которая без зазрения совести хвалилась, будто знает Землю вдоль и поперек, решила провести свое обследование. Желая сохранить инкогнито, боги нарядились в маскарадные костюмы. Юпитер оделся под короля Дагобера, – штаны наизнанку, огромная железная корона; Феб появился в костюме почтальона из Лонжюмо, а Минерва в костюме нормандской кормилицы. Выход Марса, вырядившегося в нелепый костюм швейцарского адмирала, вызвал взрыв всеобщего веселья. Но когда появился, шаркая туфлями, Нептун в блузе и высокой каскетке со вздутым верхом, с прилизанными височками и произнес жирным голосом: «Ничего не попишешь, нам, красавцам, отбою от женщин нет!» – раздался утробный хохот. Послышались возгласы: «Ого-го!», а дамы чуть прикрывались веерами. Люси в своей литерной ложе заливалась таким громким смехом, что Каролине пришлось легонько стукнуть ее по плечу веером.
Итак, пьеса была спасена, все почувствовали, что ее ждет огромный успех. Публике пришелся по вкусу этот карнавальный пляс небожителей, этот втоптанный в грязь Олимп, поругание целого мира религии и целого мира поэзии. Высокообразованные господа, завзятые посетители премьер, упивались этим посягновением на святая святых. Здесь попиралась ногами легенда, здесь разбивали в прах образы древности. Юпитер был простак, Марс – полоумный, королевская власть становилась фарсом, армия – предметом зубоскальства. Когда Юпитер, с первого взгляда влюбившийся в молоденькую прачку, которую играла Симона, начал лихо отплясывать канкан, а Симона, задирая ноги к самому носу владыки богов, презабавно восклицала: «Папашка-толстячок», – бешеный хохот овладевал залом. Пока шли танцы, Феб поил из салатницы Минерву подогретым вином, а Нептун царил в обществе семи-восьми девиц, наперебой угощавших его пирожными. Зал на лету ловил намеки и изощрялся в непристойностях; самые невинные слова становились скабрезными в устах зрителей, сидевших в партере. Уже давно театральной публике не доводилось так сладко поваляться в бессмысленно непочтительном шутовстве. И это было отдохновением.
Тем временем действие продолжалось среди все тех же дурацких шуточек. Вулкан в обличье светского щеголя, в желтой паре, в желтых перчатках и с моноклем в глазу по-прежнему вертелся вокруг Венеры, которая на сей раз вышла в костюме рыночной торговки с косыночкой на голове, а на ее пышной груди блистала огромная золотая брошь. Нана, такая беленькая, такая пухленькая, была словно создана для роли, где требуются лишь мощные бедра и столь же мощная глотка; она сразу покорила зал. Ради нее публика забыла Розу Миньон – прелестное бебе в коротеньком муслиновом кринолинчике, очень мило проворковавшее жалобу Дианы. От той, другой, рослой девки, которая звонко хлопала себя по ляжкам и кудахтала, словно курица, исходил аромат самой жизни, извечной женской силы, кружившей зрителям головы. Со второго действия все ей прощалось: и неумение держаться на сцене, и то, что она не могла взять ни одной ноты, и незнание текста; стоило ей только повернуться и захохотать, как со всех сторон неслось «браво!». Когда же она повторяла свое знаменитое вихляющее движение бедрами, партер воспламенялся. Жаркая волна передавалась от яруса к ярусу, застывая где-то под самым потолком. Сцена в кабачке превратилась в триумф Нана. Тут уж она была в своей родной стихии, эта канаворожденная Венера, Венера панелей, с кулаками, упертыми в бока. Да и музыка, казалось, была создана для голоса этой дочери предместий, разухабистая музыка, с какой расходятся после ярмарки в Сен-Клу, – пронзительно чихает кларнет, взвизгивает флейта пикколо.
По требованию публики повторили два номера. Вновь прозвучал вальс из увертюры, тот самый вальс в игриво-шутовском ритме, и боги пустились в пляс. Юнона, наряженная фермершей, застигла Юпитера с прачкой и надавала ему пощечин. Диана, подслушав, как Венера назначает свидание Марсу, поспешила донести о часе и месте встречи Вулкану, который воскликнул: «Я знаю, что делать!» Продолжение было довольно туманно. Обследование закончилось финальным галопом, и Юпитер, задохнувшийся от пляса, весь в поту, без короны, которую он успел где-то потерять, заявил, что земные дамочки просто прелесть и во всем виноваты сами мужья.
Занавес упал под крики «браво!», заглушаемые хором голосов, вопивших:
– Всех! Всех!
Тогда занавес подняли еще раз, вышли актеры, держась за руки. Стоявшие в центре бок о бок Нана и Роза Миньон делали публике реверансы. Зрители хлопали, клакеры не скупились на восторженные крики. Потом публика стала медленно покидать зал.
– Пойду поздороваюсь с графиней Мюффа, – заявил Ла Фалуаз.
– Чудесно, и меня заодно представишь, – одобрил Фошри. – Немножко подождем и отправимся.
Но пробраться к ложам балкона оказалось не так-то просто. В верхнем кулуаре стояла невообразимая давка. Проталкиваясь сквозь густую толпу, приходилось то и дело сторониться, скользить ужом, энергично действовать локтями. Критик-толстяк, прислонившись к стене в луче света, падавшем от медной лампы, разбирал перед кружком внимательных слушателей достоинства и недостатки пьесы. Проходившие мимо называли вполголоса его фамилию. В кулуарах утверждали, что он прохохотал весь второй акт; однако теперь он судил о пьесе весьма сурово, взывая к морали и законам вкуса. Чуть подальше другой критик, тонкогубый, высказывался с полной благожелательностью, которая, впрочем, отдавала кислинкой, словно начавшее портиться молоко.
Фошри поочередно заглядывал во все ложи сквозь круглые окошечки, проделанные в дверях. Но это занятие прервал граф де Вандевр, обратившийся к нему с вопросом, и, узнав, что кузены идут засвидетельствовать свое почтение супругам Мюффа, пояснил, что их ложа седьмая и что сам он оттуда. Потом, нагнувшись к журналисту, тихонько шепнул ему на ухо:
– А знаете, милейший, я более чем уверен, что мы с вами видели эту самую Нана как-то вечером на углу улицы Прованс.
– Господи! Вы совершенно правы! – воскликнул Фошри. – Я же говорил, что я ее знаю.
Ла Фалуаз представил своего кузена графу Мюффа де Бевиль, который встретил визитеров более чем холодно. Но графиня, услышав имя Фошри, подняла головку и сдержанно похвалила хроникера за его статьи в «Фигаро». Она сидела, облокотившись на бархатный барьер ложи, и теперь повернулась к собеседнику изящным движением плечей и стана. После ничего не значащей болтовни разговор зашел о Всемирной выставке.
– Это будет величественное зрелище, – произнес граф, храня на своем квадратном с правильными чертами лице важное и официальное выражение. – Как раз сегодня я побывал на Марсовом поле… И вернулся оттуда завороженный.
– Говорят, к сроку не поспеют, – бухнул Ла Фалуаз. – Там такая творится неразбериха…
Но граф сурово прервал его:
– Будет готово… Такова воля императора.
Фошри очень мило рассказал, что однажды, отправившись на Выставку за материалами для статьи, он попал в еще строившийся тогда аквариум и сидел там, пока его не выудили. Графиня улыбнулась. Она то и дело поглядывала в зал и, приподняв руку, обтянутую по локоть белой перчаткой, не спеша обмахивалась веером. Опустевший зал погрузился в дремоту, несколько господ, оставшиеся в партере, углубились в чтение газет; дамы непринужденно, точно у себя дома, принимали в ложах знакомых. Теперь под люстрой, яркий свет которой смягчала пелена тончайшей пыли, поднятой в антракте беспрерывным шарканьем ног, слышался лишь сдержанно-благовоспитанный шепот. В дверях толпились мужчины, разглядывая оставшихся на своих местах дам; на минуту они задерживались на пороге и стояли неподвижно, вытянув шею над пластроном, выделявшимся в вырезе фрака, словно огромный белый туз червей.
– Мы рассчитываем видеть вас у себя в ближайший вторник, – обратилась графиня к Ла Фалуазу.
Она пригласила также и Фошри, в ответ он склонился в вежливом поклоне. Пьесу тут не обсуждали, имя Нана не произносили. Граф держался с таким ледяным достоинством, словно присутствовал по меньшей мере на заседании Законодательного корпуса. В оправдание присутствия всей семьи в этом вертепе он сослался на страсть своего тестя к театральным зрелищам. В распахнутые двери ложи была видна высокая фигура маркиза де Шуар в широкополой шляпе, скрывавшей его дряблое бледное лицо; маркиз вышел, чтобы очистить место для посетителей, и молодецки расправлял свой старческий стан, провожая взглядом мутных глаз проходивших мимо женщин.
Добившись приглашения от графини, Фошри откланялся, поняв, что говорить здесь о пьесе было бы бестактностью. Ла Фалуаз выбрался из ложи последним. Напротив, в литерной ложе графа де Вандевр, рядом с Бланш де Сиври он заметил белокурого Лабордета, который, усевшись, фамильярно с ней беседовал.
– Смотри-ка, – произнес Ла Фалуаз, догнав кузена, – этот Лабордет знаком буквально со всеми дамами. Сейчас он у Бланш.
– Ну конечно, он их всех наперечет знает, – спокойно отозвался Фошри. – Ты что, любезный, с луны, что ли, свалился?
Теперь в кулуарах стало просторнее. Фошри направился было к лестнице, но тут его окликнула Люси Стюарт. Она стояла на пороге своей ложи, в самом дальнем конце коридора. Тут можно испечься живьем, заявила она; дамы, то есть сама Люси, Каролина и ее матушка, заняли весь проход, с хрустом грызя пралине. Билетерша по-родственному беседовала с ними. Люси набросилась на журналиста с упреками: очень красиво, бегает по ложам, а к ним даже не заглянет, даже не поинтересуется узнать, не хотят ли они пить! Потом, внезапно оставив сетования, воскликнула:
– А мне, дружок, представь, Нана очень понравилась.
Люси потребовала, чтобы журналист смотрел последнее действие из ее ложи; но он поспешил улизнуть, пообещав, что зайдет за ними после спектакля. На улице у театрального подъезда Фошри и Ла Фалуаз закурили сигары. Толпа запрудила весь тротуар, мужчины цепочкой спускались с лестницы глотнуть свежего воздуха среди постепенно стихавшего урчания бульваров.
Тем временем Миньон, подхватив Штейнера под руку, затащил его в кафе Варьете. Убедившись в успехе Нана, он первый заговорил о ней с восторгом, зорко наблюдая за банкиром уголком глаза. Он-то хорошо знал банкира, раза два сам помогал ему обмануть Розу, а потом, когда страсти утихали, приводил обратно старого грешника, кающегося и преданного вдвойне. В кафе вокруг мраморных столиков толпились посетители; некоторые, не присаживаясь, наспех опрокидывали стаканчик; и огромные зеркала многократно отражали это волнующееся море голов, раздвигали до бесконечности стены тесного зальца, освещенного тремя люстрами, с обитыми молескином банкетками и винтовой лестницей, полускрытой красными драпри. Штейнер уселся за столиком в первой зале, выходившей прямо на бульвар; здесь не по сезону рано выставили двери. Заметив проходивших мимо Фошри и Ла Фалуаза, банкир окликнул их:
– Выпейте с нами по кружке пива.
Но все его помыслы занимало одно – ему хотелось послать Нана на сцену букет. Наконец он кликнул гарсона, которого запросто именовал Огюстом. Миньон, слушавший их переговоры, поглядел на банкира таким ясным взглядом, что тот, смутившись, пробормотал:
– Два букета, Огюст, и передайте их билетерше: каждой даме по букету, пусть их кинут в подходящий момент, понятно?
В противоположном конце зала неподвижно сидела перед пустым стаканом девица лет восемнадцати; привалившись затылком к золоченой раме зеркала, она словно оцепенела от бесконечного и тщетного ожидания. Девически чистое личико обрамляли пышные, вьющиеся от природы, пепельные волосы, спадая на бархатистые глаза, смотревшие кротко и простодушно; на ней было платьице выцветшего зеленого шелка; шляпка с круглыми полями, видно, не один раз помятая в драке. Она побледнела от ночной прохлады.
– А вот и Атласка, – пробормотал Фошри, взглянув в ее сторону.
Ла Фалуаз тотчас же осведомился, кто она такая. Да так, обыкновенная бульварная шлюха. Но она такая озорница, что поболтать с ней одно удовольствие. И журналист крикнул:
– Эй, Атласка, что поделываешь?
– Дерьмлю… то есть дремлю, – спокойно отозвалась Атласка, даже не шелохнувшись.
Четверо мужчин в восхищении расхохотались.
Миньон уверял, что торопиться нечего; перемена декораций для третьего акта займет не меньше двадцати минут. Но кузены, допив пиво, все же решили идти в зал; они замерзли. Тогда Миньон, оставшись со Штейнером наедине, уперся локтями в столик и, придвинув свое лицо вплотную к лицу банкира, зашептал:
– Значит, решено? Мы с вами сейчас пойдем к ней, я сам вас и представлю… Только помните, это наша с вами тайна, моей жене ни слова.
Вернувшись на свои места, Фошри и Ла Фалуаз заметили в ложе второго яруса скромно одетую хорошенькую женщину. С ней сидел мужчина важного вида, начальник отделения министерства внутренних дел, по словам Ла Фалуаза, встречавшегося с ним у Мюффа. А Фошри припомнил, что даму, кажется, зовут г-жа Робер; вполне порядочная женщина, имеет зараз не больше одного любовника, и обычно человека с положением.
Тут они оба обернулись. Со своего места их с улыбкой окликнул Дагне. Вдохновленный успехом Нана, он победителем прошелся по кулуарам и теперь уже не скрывал своих чувств. Сидевший с ним рядом школяр так и не вышел из зала в продолжение всего антракта, оцепенев от восхищения перед Нана. Вот это да! Вот это женщина! И он побагровел, то стаскивая, то машинально надевая перчатки. Когда же сосед заговорил о Нана, он, осмелев, задал ему вопрос:
– Простите, сударь, вы знакомы с этой дамой?
– Да, немножко, – нерешительно и не без удивления отозвался Дагне.
– Стало быть, вам известен ее адрес?
Этот вопрос, поставленный в упор, да еще самому Дагне, прозвучал так нескромно, что тот еле удержался, чтобы не дать мальчишке пощечину.
– Нет, – сухо произнес Дагне.
И он повернулся к соседу спиной. Блондинчик понял, что совершил какой-то промах; покраснев еще сильнее, он со страха онемел.
За сценой раздалось три удара, билетерши сбивались с ног, принимая от возвращавшихся с улицы зрителей шубы и пальто. Клака дружно зааплодировала декорации, изображавшей грот на склоне Этны, устроенный в серебряном руднике, стены которого блестели, как новенькие монетки; горн Вулкана, стоявший в глубине, разливал вокруг багровый свет. Во второй сцене Диана уговаривалась с Вулканом, что он сделает вид, будто отправляется в дальнее путешествие, предоставив тем самым Венере и Марсу свободу действий. Когда Диана осталась на сцене одна, вышла Венера. Зрителей охватила дрожь – Нана появилась обнаженной. Появилась со спокойной дерзостью, уверенная в покоряющей силе своего тела. Она накинула лишь газовое покрывало; ее округлые плечи, грудь амазонки с приподнятыми и твердыми, как острие копья, розовыми сосками, широкие, сладострастно покачивающиеся бедра, полные ляжки, все ее тело, тело очень светлокожей блондинки, угадывалось, просвечивало сквозь легкую, белую, как пена, ткань. Это Венера рождалась из пены морской, и покровом ей служили лишь волосы, разбросанные по плечам. Когда Нана подымала руки, у нее под мышками в свете рампы виден был золотистый пушок. Ей уже не аплодировали. Никто не смеялся, лица мужчин вдруг стали серьезными, напряженными, губы пересыхали от волнения, ноздри западали. Чудилось, будто по театру прошел ветерок, пока еще легкий, но предвещавший бурю. Внезапно, у всех на глазах, это простодушное создание превратилось в женщину, и вся призывная сила ее пола потрясла безумием зрительный зал, вызвала к жизни еще не изведанные желания. Нана по-прежнему улыбалась, но пронзительной улыбкой пожирательницы мужчин.
– Н-да! – только и произнес Фошри, обращаясь к Ла Фалуазу.
Тем временем на свидание примчался Марс в своем адмиральском оперении и попал между двух богинь. Эту сцену Прюльер сыграл очень тонко; с блаженным видом женского баловня он принимал ласки обеих – Дианы, которая решила в последний раз пустить в ход свои чары, прежде чем предать изменника в руки Вулкана, и Венеры, которая умасливала любовника, подстрекаемая присутствием соперницы. Сцена закончилась шумным трио; и как раз в эту минуту в ложе Люси Стюарт появилась билетерша и бросила на сцену два огромных букета белой сирени. Раздались аплодисменты. Нана и Роза Миньон раскланивались с публикой, а Прюльер подбирал с пола букеты. Почти половина партера обернулась и с улыбкой уставилась на ложу бенуара, где сидели Штейнер и Миньон. Банкир с побагровевшим лицом судорожно дергал подбородком, как будто в горле у него застряла кость.
Следующие сцены окончательно увлекли зрителей. Диана в гневе удаляется. И Венера, усевшись на дерновую скамейку, подзывает к себе Марса. Никогда еще на подмостках не осмеливались показать столь откровенную сцену обольщения. Нана, закинув за шею Прюльера обе руки, привлекла его к себе, но тут в глубине грота появился Фонтан, корча нелепо свирепые рожи, стараясь преувеличенно комической мимикой показать переживания оскорбленного супруга, поймавшего жену с поличным. В руках он держал свою знаменитую железную сеть. Он раскачал ее движениями рыбака, закидывающего невод в море; и вот благодаря смекалке рогоносца Венера с Марсом попались в ловушку; железная сеть окутала, сковала их в позе счастливых любовников.
Зал наполнился шепотом, перешедшим в глубокий вздох. Кое-кто захлопал, все бинокли были направлены на Венеру. Мало-помалу Нана покорила каждого из этих мужчин. Зов, шедший от нее, словно от львицы в любовном неистовстве, разливался все шире, наполняя зал. Малейший ее жест будил желание; движением мизинца она раскаляла воображение. Спины выгибались, вздрагивали, словно невидимый смычок касался всех фибров тела; теплое женское дыхание как бы проносилось по залу, и от него шевелились волосы на затылке. Фошри увидел, как порывом страсти сорвало с кресла сидевшего перед ним школяра. Из любопытства журналист оглядел ложи: граф де Вандевр стоял очень бледный, со стиснутыми губами; толстяка Штейнера, казалось, вот-вот хватит удар; Лабордет лорнировал дебютантку с видом барышника, любующегося чистокровной кобылкой; у Дагне побагровели уши, и казалось, они даже шевелятся от наслаждения. Потом Фошри бросил рассеянный взгляд назад и замер от удивления, заметив, что творится в ложе Мюффа: позади графини, очень бледной и очень серьезной, стоял граф, широко раскрыв рот, лицо его пошло красными пятнами; а рядом с ним в темноте поблескивали глаза маркиза де Шуар, уже не те тусклые глазки, а два огромных, как у кошки, зрачка, фосфоресцирующие, все в золотых искорках. Публика задыхалась, смоченные по́том волосы липли ко лбу. За эти три часа воздух пропитался жаром и запахами человеческого дыхания. Пыль, висевшая под потолком, казалось, неподвижно застыла вокруг люстры, вся пронизанная светом газовых рожков. Публику шатало от усталости и возбуждения, зрители замирали в том полузабытьи, в том полушепоте желаний, что слышится ночью в глубине алькова. И Нана, мраморное ее тело, женская ее сила, способная сгубить всех сошедшихся сюда мужчин и выйти из игры такой же, какою вошла в игру, – Нана торжествовала над этим залом, над этой полуторатысячной толпой, сломленной к финалу спектакля нервным перенапряжением.
Представление шло к концу. На торжествующие крики Вулкана сбежался весь Олимп, все боги продефилировали перед влюбленными, кто ахая удивленно, кто охая из озорства. Юпитер заявил: «Сын мой, вы поступили неосмотрительно, угостив нас подобным зрелищем». Но все симпатии склонялись к Венере. Хор рогачей, по-прежнему предводительствуемый Иридой, обращается к владыке богов с мольбой не давать ходу жалобе; с тех пор как женщины стали домоседками, мужьям житья нет; лучше быть обманутыми, да жить спокойно – такова была мораль комедии. Затем Венеру освобождают. Вулкан добивается отдельного вида на жительство. Марс воссоединяется с Дианой, Юпитер, желая восстановить мир у домашнего очага, отсылает свою прачку на одно из дальних созвездий. И наконец выпускают из карцера Амура, который, оказывается, и не думал спрягать глагол «любить», а мастерил бумажных петушков. Когда коленопреклоненный хор рогачей в апофеозе спел благодарственный гимн улыбающейся Венере, ставшей как бы еще величественнее в своей царственной наготе, занавес опустили.
Зрители, поднявшись с мест, направились к выходу. Среди громового «браво!» дважды вызывали авторов комедии. Неистовый крик: «Нана! Нана!» – прокатился по залу. В еще не опустевшем зале уже воцарился мрак; потухла рампа, приспустили газ в люстре; длинные серые чехлы легли на бархат аванлож, прикрыли позолоту ярусов; и зал, еще за минуту до того раскаленный и шумный, внезапно погрузился в тяжелый сон, отовсюду пополз запах пыли и плесени. Графиня Мюффа, укутанная в меха, застыла у барьера ложи, ожидая, когда схлынет толпа, и вглядывалась во мрак.
В кулуарах совсем затолкали билетерш, которые и так уже сбились с ног среди груды наваленных друг на друга пальто. Фошри и Ла Фалуаз спешили попасть к разъезду. Вдоль всего вестибюля стояли цепочкой мужчины, а по обоим маршам лестницы лился нескончаемый поток зрителей, плотная масса равномерно шагавших людей. Штейнер, которого подхватил Миньон, выбрался одним из первых. Граф де Вандевр вел под руку Бланш де Сиври. Гага с дочерью сначала растерялись в этой давке, но Лабордет поспешил к ним на помощь, нашел карету и галантно захлопнул за ними дверцу. Никто не заметил, как исчез Дагне. Школяр с разрумянившимися щеками решил ждать возле артистического подъезда, но когда он добежал до Пассажа панорам, то обнаружил запертую железную решетку, а рядом Атласку, которая, проходя, задела его своими юбками; но он грубо отстранился от нее, потом смешался с толпой, обескураженный, чуть не рыдая от страсти. Мужчины закуривали сигары и расходились, мурлыча под нос: «Однажды вечерком Венера…» Атласка вернулась в кафе Варьете, где Огюст милостиво разрешил ей доесть сахар, оставшийся от посетителей. Наконец какой-то толстяк, разгоряченный спектаклем, увел ее с собой на бульвар, постепенно погружавшийся в темноту.
А публика все еще выходила из театра. Ла Фалуаз поджидал Клариссу. Фошри обещал проводить Люси Стюарт с Каролиной Эке и ее маменькой. Дамы спустились в вестибюль, громко хохоча, они заняли своими юбками целый угол, и тут мимо них с ледяным видом прошествовали граф и графиня Мюффа. Борденав как раз вовремя приоткрыл маленькую дверцу и добился от Фошри клятвенного обещания написать статейку о спектакле. Директор Варьете был весь в поту, лицо его пылало, как солнце, он совсем опьянел от сегодняшнего успеха.
– Двести представлений гарантированы, – любезно заметил ему Ла Фалуаз. – Весь Париж побывает в вашем театре.
Но разгневанный Борденав резким движением подбородка указал на публику, заполнившую вестибюль, на это скопище мужчин с пересохшими губами, с алчно горящими взорами, еще не остывших после воображаемого обладания Нана, и яростно выкрикнул:
– Да говори же – в моем борделе, упрямая башка!
II
На следующий день Нана все еще отсыпалась после спектакля, хотя уже пробило десять. В огромном новом доме на бульваре Османа она занимала весь третий этаж, так как домохозяин охотно сдавал одиноким дамам только что отстроенные помещения, в надежде, что они приведут его в жилой вид. Какой-то богатый купец из Москвы, проводивший зиму в Париже, поселил здесь Нана, заплатив хозяину за полгода вперед. Эту слишком просторную квартиру так и не удалось как следует обставить, и кричащая роскошь консолей и золоченых стульчиков преспокойно соседствовала с разномастной мебелью, приобретенной по случаю у перекупщицы, с палисандровыми столиками, с цинковыми подсвечниками под флорентийскую бронзу. Все говорило о тернистом пути девицы, слишком скоро оставленной первым своим солидным покровителем и пошедшей по рукам всяких подозрительных субъектов, о первых трудных шагах на новом поприще, – одним словом, о не совсем удачном начале карьеры под вечной угрозой лишиться кредита у лавочника и быть выгнанной домохозяином.
Нана спала на животе, обхватив обнаженными руками подушку и уткнувшись в нее побледневшим от сна личиком. Только убранство спальни да туалетной комнаты, в отличие от всей прочей квартиры, было поручено в свое время заботам местного обойщика. Солнечный луч, проскользнув под занавеску, осветил палисандровую мебель, штофные обои и пуфики, обитые тем же серым шелком с огромными голубыми цветами. Но вдруг Нана проснулась в своей спальне, еще не проснувшейся, напоенной влажной духотою, проснулась внезапно, как будто ее пробудило необычное ощущение пустоты подле себя. Она взглянула на соседнюю подушку, где на гипюровой наволочке еще теплела ямка, хранившая очертания чьей-то головы. Нащупав над изголовьем постели электрический звонок, она нажала кнопку.
– Ушел? – спросила она горничную, появившуюся на пороге спальни.
– Да, мадам, господин Поль ушел минут десять назад… Так как мадам очень устали, он не захотел ее будить. Но поручил мне передать мадам, что придет завтра.
Не прекращая ни на минуту болтовни, Зоя, горничная Нана, открыла жалюзи. В комнату ворвался яркий утренний свет. Зоя, очень темная брюнетка, гладко прилизывала волосы, разделенные прямым пробором; лицо у нее было длинное, какое-то собачье, бледное и рябое, нос приплюснутый, толстые губы и черные бегающие глазки.
– Завтра, завтра, – повторила еще не окончательно проснувшаяся Нана, – разве завтра его день?
– А как же, мадам, господин Поль всегда приходит по средам.
– Ах, вспомнила! – воскликнула Нана и даже села на кровати. – Ведь все изменилось. Я хотела ему сказать утром… Он же столкнется с Чернышом. Будет целая история!
– Мадам меня не предупредили, откуда же мне знать, – проворчала Зоя. – Если мадам меняет дни, пусть уж потрудится меня предупреждать, чтобы я была в курсе дела. Значит, старый скупердяй теперь не по вторникам ходить будет?
Этими кличками «скупердяй», «Черныш» хозяйка с горничной отнюдь не для смеха, а всерьез, называли двух содержателей Нана – коммерсанта из предместья Сен-Дени, человека весьма прижимистого, и некоего валаха, выдававшего себя за графа, – этот давал деньги крайне нерегулярно и неизвестно откуда их брал… Дагне приходил сразу же после «скупердяя»; так как коммерсанту необходимо было к восьми часам попасть домой, молодой человек терпеливо поджидал его ухода на кухне у Зои, а затем занимал еще не остывшее местечко возле Нана, с которой и оставался вплоть до десяти часов; потом он тоже шел по делам. Они с Нана находили это весьма удобным.
– Ничего не поделаешь! – вздохнула Нана. – Напишу ему сегодня после обеда… Ну, а если письмо не успеет дойти, вы завтра утром его не впускайте.
Зоя тем временем бесшумно шмыгала по комнате. Какой огромный успех выпал накануне на долю мадам! Мадам сумела блеснуть талантом, а как дивно она пела! Ах, мадам теперь может быть совершенно спокойна!
Нана, опершись локтем о подушку, одобрительно кивала. Ночная сорочка сползла с плеча, распустившиеся спутанные волосы рассыпались по спине.
– Что верно, то верно, – пробормотала она, мечтательно глядя вдаль, – но пока-то как мы перебьемся? Уже сегодня неприятностей не оберешься… Привратник опять приходил?
Тут разговор принял серьезный оборот. За квартиру не плачено уже три срока, хозяин грозит наложить арест на имущество. Кроме того, в переднюю ежедневно врывалась целая толпа кредиторов – каретник, белошвейка, портной, угольщик и прочие; все они усаживались на скамеечку и ждали. Особенно допекал ее угольщик, он еще на лестнице подымал крик. Но самым большим огорчением Нана был крошка Луи, мальчик, которого она родила на шестнадцатом году жизни и оставила у кормилицы, жившей в деревушке под Рамбулье. Кормилица требовала триста франков, иначе ребенка она не отдаст. После последнего визита в Рамбулье Нана вдруг воспылала материнской любовью к своему ненаглядному Луизэ и горевала, что не может осуществить проект, ставший чуть ли не манией – выплатить кормилице долг, забрать ребенка и поселить его у своей тетки мадам Лера в Батиньоле, где при желании можно видеться с сынишкой хоть каждый день.
Тут Зоя намекнула, что мадам вполне бы могла поговорить о их неотложных нуждах со скупердяем.
– Эх, сколько раз я ему уже говорила, – взорвалась Нана, – а он твердит, что у него крупные платежи… Он сверх своей тысячи в месяц гроша ломаного не даст. Черныш сейчас сидит на бобах, – должно быть, продулся в карты… А моему бедненькому Мими самому впору занимать; падение курса акций его окончательно разорило, даже букета не может мне принести.
Нана заговорила о Дагне. В минуты утренней откровенности у нее от Зои не было секретов. А Зоя, привыкшая к этим интимным излияниям, слушала их почтительно и сочувственно. Но раз сама мадам удостаивает ее разговорами о своих делах, она может позволить себе высказать то, что у нее на уме. Прежде всего она горячо любит мадам, она ведь ради мадам бросила мадам Бланш, а уж чего только та не делала, лишь бы заманить Зою обратно! Место ей, слава богу, всегда найдется, ее ведь хорошо знают; но она предпочитает остаться у мадам; пусть им сейчас туго приходится, все равно она верит в будущее мадам. Свою тираду Зоя закончила довольно определенным советом. Конечно, в молодые годы человек всегда наделает глупостей. Но пора уже взяться за ум, потому что мужчинам, им бы только свое получить! От них теперь отбоя не будет! Мадам достаточно слово сказать, чтобы утихомирить кредиторов и получить сколько угодно денег.
– Все это так, да только сейчас трехсот франков нету, – твердила Нана, запустив пальцы в разметавшиеся пряди волос. – А мне нужно триста франков сегодня, немедленно… Такая глупость, не иметь человека, который может дать вам триста франков!
Она строила проект за проектом, она непременно пошлет в Рамбулье мадам Лера, которая заглянет к ним как раз сегодня утром. Неутоленная прихоть портила ей всю радость от вчерашнего триумфа. Подумать только, среди всех этих мужчин, что орали вчера как оглашенные, нет ни одного, который взял бы да и принес ей пятнадцать луидоров! Но она вовсе не хочет брать зря деньги. Господи, до чего же она несчастная! И то и дело она вспоминала своего Луизэ: глазенки у него голубые, как у ангелочка, а как он говорит «мама», с хохоту помереть можно!
Но ее сетования прервала захлебнувшаяся дребезжащая трель электрического звонка. Вернувшись из передней, Зоя доверительно шепнула:
– Женщина пришла.
Десятки раз Зоя видела эту «женщину», только притворялась, будто не узнает ее и даже понятия не имеет, зачем она ходит к дамам, испытывающим денежные затруднения.
– Она мне свое имя сказала… Ах да, мадам Трикон.
– Триконша! – воскликнула Нана. – Верно, ведь я совсем забыла… Введи же ее сюда.
Зоя ввела в спальню высокую даму в длинных буклях, похожую на обедневшую графиню, превратившуюся на старости лет в заядлую сутяжницу. Потом горничная испарилась, бесшумно исчезла, прошмыгнув в двери гибким змеиным движением, как обычно, когда в спальню мадам входили гости. Впрочем, она преспокойно могла бы и остаться. Триконша даже не присела. Дамы обменялись несколькими короткими фразами.
– У меня для вас есть кое-кто на сегодня. Согласны?
– Согласна… А сколько?
– Двадцать луидоров.
– К какому часу?
– К трем… Значит, решено?
– Решено.
Триконша сразу же переменила тему разговора, – погода, слава богу, стоит сухая, гулять сейчас одно удовольствие. Ей еще надо побывать в трех-четырех домах. И, сверившись с записной книжечкой, она удалилась. После ее визита Нана, видимо, успокоилась. Легкая дрожь пробежала по ее плечам, она снова зарылась в теплую постель ленивыми движениями иззябшей кошечки. Глаза ее слипались, она улыбнулась при мысли, что завтра как принца разрядит своего ненаглядного Луизэ; она вновь задремала, и вновь пришли лихорадочные сны, которые виделись ей всю ночь; гулкое «браво!» звучало беспрерывно, как протяжная басовая нота, баюкая усталое тело.
В одиннадцать часов, когда Зоя ввела в спальню мадам Лера, Нана все еще спала. Но, разбуженная шумом шагов, сразу же узнала тетку.
– Ах, это ты… Сегодня же поедешь в Рамбулье.
– За тем и пришла, – отозвалась тетка. – Поезд отходит в двенадцать двадцать. Я еще поспею.
– Нет, деньги у меня будут попозже, – пояснила Нана, потягиваясь и выгибая грудь. – Сейчас позавтракаем, а там видно будет.
Зоя принесла хозяйке пеньюар.
– Мадам, парикмахер пришел, – шепнула она.
Но Нана не хотелось покидать спальни. Она крикнула:
– Входите, Франсис!
Прилично одетый господин переступил порог. Вежливо поклонился дамам. Как раз в эту минуту Нана собралась подняться с постели и свесила на пол свои голые ноги. Она не торопилась и не спеша протянула руки, чтобы Зое удобнее было надеть на нее пеньюар. Франсис, видно чувствовавший себя здесь как дома, степенно ждал, не оборачиваясь. Но когда Нана уселась и он провел гребнем по ее шевелюре, завязалась беседа.
– Должно быть, мадам еще не видела газет… В «Фигаро» помещена прекрасная статья.
По дороге он купил газету. Мадам Лера нацепила очки и, подойдя к окну, начала громко читать статью. Она выпрямила свой мужеподобный стан и, произнося хвалебные эпитеты, многозначительно шевелила ноздрями. Статью написал Фошри сразу же после спектакля: на двух колонках пылкой прозой он расточал ехидные остроты по адресу актрисы и грубую лесть по адресу женщины.
– Превосходно! – твердил Франсис.
Нана даже бровью не повела, слушая насмешки над своим голосом. А все-таки этот Фошри прелесть; она непременно отблагодарит его за любезность. Мадам Лера, перечитав статью еще раз, вдруг заявила, что у каждого мужчины в ребре бес сидит, но от дальнейших объяснений отказалась, весьма довольная своим игривым намеком, смысл коего был понятен лишь ей одной. Но Франсис уже закончил взбивать и укладывать кудри Нана. Он раскланялся и бросил на прощанье:
– Я непременно посмотрю вечерние газеты… Приходить как обычно? К половине шестого?
– Принесите мне банку помады и фунт пралине от Буасье! – крикнула вслед ему Нана, когда он проходил через гостиную, направляясь к выходу.
Только сейчас, оставшись наедине, тетка и племянница вспомнили, что не успели поздороваться, и обменялись звучным поцелуем. Статья их вдохновила. Нана, до сих пор бродившую, как в полусне, вдруг охватила лихорадка вчерашнего триумфа. Интересно было бы посмотреть теперь на эту Розу Миньон! Тетка не пожелала прийти в театр, она уверяла, что волнение вредно отражается на ее желудке, и Нана стала подробно описывать события минувшего вечера, упиваясь собственным рассказом, из коего следовало, что Париж чуть не рухнул от грома рукоплесканий. Вдруг, прервав свое повествование и расхохотавшись, она спросила тетку: ну можно ли было вообразить себе такое, когда Нана девчонкой шаталась по улице Гут-д’Ор? Мадам Лера отрицательно помотала головой. Конечно нет, кто же мог такое предвидеть. И тут она заговорила важным тоном, называя Нана доченькой. Да разве она и вправду ей не мать, ведь родительница ее отправилась вслед за папашей и бабушкой… Нана, растрогавшись, чуть не заплакала. Но мадам Лера успокоительно твердила, что прошлое – оно и есть прошлое, да к тому же нехорошее, грязное прошлое, чего в нем копаться. Сама она долго не встречалась с племянницей: родные обвиняли ее, будто она развратничает заодно с девчонкой. Господи, да мыслимо ли это! Она ведь не требовала от Нана откровенности, она всегда верила, что племянница ведет порядочную жизнь. И теперь от души радуется, что Нана так хорошо устроилась и так крепко любит своего сыночка. Нет ничего на свете выше труда и честности.
– А от кого младенчик-то? – вдруг спросила она, прервав свои нравоучения, и в глазах ее вспыхнуло острое любопытство.
Застигнутая врасплох, Нана замялась.
– Так, от одного господина, – наконец ответила она.
– Гляди-ка ты! – подхватила тетка. – А говорят, ты прижила его от каменщика, и он, говорят, тебя здорово поколачивал… Ладно, как-нибудь все в подробностях расскажешь; ты знаешь, я могила! Ничего, не беспокойся, я за мальчиком, словно за принцем, ухаживать буду!
Мадам Лера уже рассталась с профессией цветочницы и жила теперь на свои сбережения, на ренту в шестьсот франков, собранных по грошу. Нана посулила снять ей маленькую квартирку и ежемесячно давать по сотне франков. Услышав эту цифру, тетка совсем потеряла голову и закричала, что надо их всех взять за глотку, раз они теперь у Нана в руках, подразумевая под словом «они» – мужчин. Родственницы снова расцеловались. Но в самый разгар веселья Нана вдруг помрачнела потому, что разговор опять зашел о Луизэ.
– Экая досада, к трем часам придется уходить, – пробормотала она. – Вот еще наказание!
Тут вошла Зоя и доложила, что завтрак подан. В столовой, поджидая Нана, уже сидела дама почтенных лет. На ней было платье неопределенного цвета, нечто среднее между красно-коричневым и желто-зеленым, шляпки она не сняла. Нана ничуть не удивилась при виде гостьи. Только спросила, почему та сразу не прошла в спальню.
– Я услыхала голоса, – пояснила старушка, – и решила, что у вас кто-то есть.
Мадам Малюар, дама на вид почтенная и благовоспитанная, играла при Нана роль не то компаньонки, не то старой подруги, – и часто ее сопровождала. При виде Лера она сначала насторожилась. Но, узнав, что это тетя, старушка улыбнулась уголком губ и кротко на нее поглядела. Тут Нана заявила, что у нее от голода кишки подвело, и, набросившись на редиску, стала грызть ее без хлеба. Мадам Лера вдруг напустила на себя церемонный вид и отказалась от редиски – редиска вызывает мокроту. Когда Зоя подала отбивные котлеты, Нана нехотя отщипнула кусочек мяса, зато обсосала косточку. Она то и дело искоса поглядывала на шляпку своей компаньонки.
– Это та самая новая шляпа, которую я вам подарила? – не выдержала она наконец.
– Та самая, только я ее переделала, – пробормотала с полным ртом мадам Малюар.
Шляпка и впрямь была диковинная, с широкими полями, закрывавшими лоб, а посреди высоченное перо. У мадам Малюар была мания переделывать все свои шляпки; она одна знала, что ей идет, и в мгновение ока превращала самый изящный головной убор в бесформенный шлык. Нана, нарочно купившая шляпку своей подруге, чтобы не краснеть за нее, когда они выезжали вместе, чуть было не взорвалась.
– Хоть снимите ее по крайней мере, – крикнула она.
– Благодарю, она мне ничуть не мешает, – с достоинством ответила старая дама.
За котлетами последовала цветная капуста и половина холодного цыпленка, оставшегося от ужина. При виде каждого блюда Нана недовольно морщилась, сидела в нерешительности, не зная, что выбрать, обнюхивала каждый кусок, а в конце концов все оставляла на тарелке. На сладкое подали варенье.
Десерт затянулся. Зоя принесла кофе, не потрудившись убрать со стола. Дамы просто отодвинули тарелки в сторону. Разговор по-прежнему шел о вчерашнем триумфе. Нана крутила пахитоски, пускала в потолок дым и раскачивалась, откинувшись на спинку стула. А так как Зоя тоже осталась в столовой и, сложив руки, прислонилась к буфету, пришлось дамам выслушать и ее историю. Матушка Зои, как уверяла она, была акушеркой в Берси, да ей не повезло. Сначала Зоя пошла в услужение к зубному врачу, от него к страховому агенту, но ее это не устраивало, – и тут она не без гордости перечислила всех дам, у которых служила горничной. Говорила Зоя об этих дамах с таким видом, будто только ей одной они обязаны были своим благополучием и богатством. Сколько раз она им помогала выпутываться из всяких историй! Взять хотя бы мадам Бланш, у нее как-то сидел г-н Октав, а вдруг приходит старик; вы думаете, Зоя растерялась, как бы не так! Ведя гостя через гостиную, она нарочно оступилась и упала, старик, конечно, засуетился, бросился за водой на кухню, а г-н Октав тем временем успел скрыться.
– Ну и молодчина! – воскликнула Нана, слушавшая рассказ горничной с самым живым сочувствием, даже с каким-то раболепным восхищением.
– Я на своем веку тоже хлебнула горя… – начала мадам Лера.
И, пригнувшись к мадам Малюар, она пустилась в откровенности. Обе дамы обмакивали в коньяк кусочки сахара. Но мадам Малюар, охотно выслушивая чужие тайны, никогда не открывала своих. Утверждали, что живет она на какую-то загадочную пенсию и в свою комнату никого не пускает.
Вдруг Нана вспылила:
– Не играй ты ножами, тетя!.. Ты же знаешь, что я этого терпеть не могу.
Мадам Лера машинально положила на скатерть крестообразно два ножа. Впрочем, Нана утверждала, что вовсе она не суеверная. Например, опрокинуть солонку – это пустяки, и пятницы тоже бояться нечего; но вот ножи совсем другое дело, тут она ничего с собой поделать не может, эта примета никогда не обманывает. С ней наверняка случится какая-нибудь неприятность… Она зевнула, потом с видом величайшей досады произнесла:
– Уже два часа… Пора идти.
Пожилые дамы переглянулись. Все трое многозначительно покачали головой. Кто спорит, веселого тут мало. Нана снова откинулась на спинку стула, закурила новую пахитоску, а обе ее собеседницы сидели с глубокомысленным видом, скромно поджав губы.
– А мы пока сыграем в безик, – первой нарушила молчание мадам Малюар. – Вы умеете, мадам, играть в безик?
Конечно же, мадам Лера играет в безик и играет отлично. Незачем беспокоить Зою, которая куда-то испарилась, – вполне хватит места на углу стола; край скатерти откинули прямо на грязные тарелки. Но когда мадам Малюар встала, чтобы взять карты из ящика буфета, Нана попросила ее сначала написать одно письмецо. Писание ей претило, к тому же она была не особенно тверда в орфографии, а ее старая компаньонка славилась уменьем составлять душещипательные послания. Нана сбегала в спальню и принесла листок превосходной бумаги. Чернильница, вернее пузырек дешевых чернил, и ручка с заржавленным пером были обнаружены в разных углах комнаты. Письмо предназначалось Дагне. Мадам Малюар по собственному почину вывела своим прекрасным почерком с наклоном вправо: «Мой обожаемый дружок» – и известила его, чтобы он завтра не приходил, потому что «никак нельзя», но «все равно в любую минуту дня и ночи, близко ли он, далеко ли, мысленно она всегда с ним».
– А закончу я так: «миллион поцелуев», – пробормотала она.
Мадам Лера одобряла каждую фразу важным кивком головы. Глаза ее загорелись, она млела даже от косвенного участия в чужих любовных делах. Ей тоже захотелось вставить словцо, и она с томным видом проворковала:
– «Целую миллион раз твои милые глазки».
– Ох, чудно – «целую миллион раз твои милые глазки», – повторила Нана, а на лицах обеих старух застыло блаженное выражение.
Позвонили Зое, чтобы она вручила письмо рассыльному. Та как раз беседовала с театральным служителем, который принес мадам забытое утром расписание спектаклей. Нана велела впустить служителя и поручила ему на обратном пути занести письмо Дагне. Потом засыпала его вопросами. О, господин Борденав очень доволен, билеты распроданы вперед на целую неделю; мадам и представить себе не может, сколько людей с утра справлялись об ее адресе. Когда служитель ушел, Нана сообщила, что вернется, самое большее, через полчаса. Если кто явится с визитом, Зоя скажет, чтобы ждали. Слова ее прервало треньканье электрического звонка. Явился кредитор-каретник; он уселся на скамейку в передней. Ну и пусть плюет в потолок хоть до вечера, торопиться некуда.
– Пора! – произнесла Нана, отяжелевшая, с трудом преодолевая лень, снова зевая и потягиваясь. – Иду.
Однако даже не двинулась с места. И стала следить за игрой тетки, которая выложила четыре туза. Подперев подбородок рукой, Нана задумалась. Но, услышав, что часы бьют три, она подскочила на стуле.
– Эх, черт! – грубо бросила она.
Мадам Малюар, подсчитывая очки, посоветовала ей мягким тоном:
– Лучше, деточка, побыстрее освободиться.
– Иди-ка скорее, – добавила мадам Лера, тасуя карты. – Если ты вернешься домой с деньгами до четырех часов, я успею еще на поезд четыре тридцать.
– Да это недолго, – пробормотала Нана.
Зоя подала платье и шляпку, и через десять минут Нана была уже готова. Сейчас ей было, впрочем, не до нарядов. Когда она направлялась к дверям, снова раздался звонок. На сей раз явился угольщик, – ничего, посидит вместе с каретником, им же веселее будет. Однако, опасаясь скандала, она прошла через кухню и улизнула по черной лестнице. Она нередко пользовалась черным ходом – разницы никакой, только приходится повыше поднимать юбки, чтобы не завозить подол.
– Чего не простишь хорошей матери, – наставительно изрекла мадам Малюар, оставшись наедине с мадам Лера.
– У меня четыре короля, восемьдесят очков! – воскликнула та, увлеченная игрой.
И обе, забыв все на свете, углубились в нескончаемую партию.
Со стола так и не убрали. Всю комнату заволокло тусклой дымкой – к едкому запаху табака примешивался запах пищи. Дамы, решив полакомиться, снова принялись обмакивать кусочки сахара в коньяк. Минут двадцать они играли, безмятежно посасывая сахар, как вдруг у входной двери опять раздался звонок, в столовую влетела Зоя и стала без церемонии выпроваживать их прочь.
– Ведь звонят же… Нельзя вам здесь сидеть… Если явится много народу, мне и всей квартиры не хватит. А ну, живо! живо!
Мадам Малюар заявила, что сначала надо кончить партию, но когда Зоя сделала вид, что собирается смешать карты, компаньонка согласилась перебраться в другое помещение. Главное, запомнить свои карты, а мадам Лера прихватит бутылку коньяка, стаканы и сахар. И обе бегом пустились на кухню, где устроились на кончике кухонного стола, среди просыхавших тряпок, возле лохани с жирной, грязной водой.
– Объявляю семейство триста сорок очков. Теперь ваш черед.
– Черви козыри.
Вернувшись на кухню, Зоя обнаружила, что обе дамы снова всецело поглощены игрой. Воспользовавшись тем, что мадам Лера тасует карты, мадам Малюар осведомилась:
– А кто пришел?
– Да так, один! – небрежно бросила горничная. – Какой-то мальчуган… Я хотела было его выставить, да больно уж он хорошенький, на подбородке даже пушка нет, глаза синие-синие и мордочка, как у девочки, ну я сказала – пускай ждет… А букет какой огромный притащил, из рук боится его выпустить; надавать бы ему, сопляку, шлепков; тоже по гостям ходит вместо того, чтобы за партой сидеть.
Мадам Лера отправилась за графином с водой, она решила сделать грог; от сахара с коньяком у нее началась жажда. Зоя заявила, что тоже не прочь выпить чего-нибудь. У нее во рту такая горечь, просто желчь одна.
– Так, значит, куда вы его дели? – продолжала свои расспросы мадам Малюар.
– В заднюю комнатку, она у нас еще не обставлена… Там только и есть, что сундук да стол. Самое место для скряг.
Зоя с удовольствием потягивала грог, как вдруг снова позвонили, и она даже подскочила. Вот-то дьявол! Не дадут человеку спокойно посидеть, выпить стаканчик. Если уж сейчас такой трезвон идет, что-то будет дальше? Однако бросилась отпирать двери. Потом, вернувшись на кухню, ответила на вопросительный взгляд мадам Малюар:
– Никого. Букет.
Все трое, кивнув друг другу, осушили стаканы. Не успела Зоя убрать посуду со стола и сложить тарелки в каменную мойку, как снова позвонили, подряд два раза.
Но и эти звонки были просто так, несолидные! Зоя держала кухню в курсе событий и оба раза повторила презрительным тоном:
– Чепуха, букет.
А дамы между двумя сдачами заливались хохотом, слушая Зою. Ну и таращат же глаза кредиторы там в прихожей, видя, как несут букет за букетом! Цветы Зоя пока поставит на туалет. Мадам вернется и сразу их увидит. Одно обидно, деньги плачены бешеные, а продай, так и десяти су не выручишь. Словом, зря деньги на ветер люди бросают!
– Мне бы такие деньги, какие мужчины тратят в Париже на букеты! Хватило бы прожить! – заметила мадам Малюар.
– Еще бы, нам много не нужно, – пробормотала мадам Лера. – Одни ленты от букетов сколько стоят. Выкладываю дам, шестьдесят очков, голубушка.
Часовые стрелки показывали без десяти четыре. Зоя только диву давалась, почему это хозяйки так долго нет. Обычно, если мадам уходит после полудня, она в два счета управляется. Но мадам Малюар возразила, что не всегда получается так, как хочешь. Ее поддержала мадам Лера – чего только в жизни не бывает! Лично она подождет; если племянница опаздывает, значит, с делами не управилась, ведь верно? Впрочем, никто не жаловался на это опоздание. В кухне было уютно, тепло. И так как у мадам Лера не осталось на руках червей, она стала сбрасывать бубны.
Снова протренькал звонок. В кухню вбежала раскрасневшаяся Зоя.
– Ну, детки, сам толстяк Штейнер пожаловал! – сообщила она с порога, понизив голос. – Его-то я посадила в маленькой гостиной.
Тут мадам Малюар рассказала кое-что о банкире мадам Лера, которая ничего об этих господах не знала. Неужто он собирается бросить Розу Миньон? Зоя задумчиво покачала головой, ей было что порассказать. Но тут снова пришлось идти открывать двери.
– Хорошенькое дело! – буркнула она, входя в кухню. – Черныш явился! Сколько я ему ни втолковывала, что мадам нет дома, все равно прошел в спальню и сидит… А мы его только к вечеру ждали.
Нана все еще не появлялась, хотя было уже четверть пятого. Что она там делает? Просто глупо. Принесли еще два букета. Зоя, которой все это уже надоело, заглянула в кофейник. Дамы тоже охотно выпили бы по чашечке: кофе бодрит. Они чуть не валились со стула, клевали носом, их укачало однообразное движение, которым обе брали со стола карты. Пробило половину пятого. Нет, с мадам что-то приключилось. Дамы шепотом вели счет взяткам.
Вдруг мадам Малюар, забывшись, объявила громовым голосом:
– У меня пятьсот очков! Семейство от козырного туза.
– Да тише вы! – сердито шикнула на нее Зоя. – Господа бог знает что подумают!
Но тут воцарившуюся на кухне тишину, свистящий шепот ссорившихся за картами старух вдруг нарушили быстрые шаги на черной лестнице. Наконец-то Нана явилась. Еще за дверью они услышали прерывистое ее дыхание. Она не вошла, а влетела, щеки пылали огнем. Подолом юбки, – завязки, очевидно, порвались, – она подмела все ступеньки и вымочила оборки в помоях – служанка со второго этажа, мерзкая грязнуха, вечно разводит на лестнице болото.
– Слава тебе господи, пожаловала! – процедила сквозь зубы мадам Лера. Она никак не могла опомниться после выигрыша мадам Малюар. – Небось лестно, что столько людей тебя ждет.
– Нет, правда, сударыня, с вашей стороны это неблагоразумно, – поддержала Зоя.
Нана, явившись в дурном расположении духа, зашлась от гнева, услышав эти упреки. Так-то они ее встречают! После всех ее неприятностей!
– Идите вы к черту! – завопила она.
– Ох, тише вы, сударыня, там люди, – остановила ее служанка.
Нана, понизив голос, пробормотала, запинаясь:
– Вы небось воображаете, что я там веселилась?! Как бы не так, еле дождалась, когда можно будет уйти. Вы бы на моем месте побыли… Взяла бы и надавала ему пощечин, еле сдержалась… И как на грех ни одного фиакра не попалось! Слава богу, хоть недалеко отсюда. И все равно неслась домой сломя голову.
– Деньги принесла? – осведомилась тетка.
– Еще бы не принесла! – ответила Нана.
Она присела на стул прямо у плиты – ноги гудели после сумасшедшего бега – и, еще не отдышавшись как следует, вытащила из-за выреза лифа конверт с четырьмя билетами по сто франков. Билеты выглядывали из конверта, грубо надорванного прямо пальцем, – видимо, Нана желала проверить его содержимое. Все три женщины, обступив Нана, пристально глядели на смятый засаленный конверт из толстой бумаги, который держала маленькая ручка в перчатке. Уже поздно, сегодня мадам Лера не попадет в Рамбулье. Нана тут же сцепилась с теткой.
– Сударыня, да у нас гости, – твердила горничная.
Но Нана снова вспылила. Пускай ждут. Сначала она покончит с делами. И так как тетка уже потянулась за деньгами, Нана воскликнула:
– Э, нет, только не все. Триста кормилице, пятьдесят на дорогу и тебе на расходы, это будет триста пятьдесят. Пятьдесят франков я оставлю себе.
Самым сложным оказалось разменять деньги. В доме не имелось и десяти франков. Обращаться по этому поводу к мадам Малюар, слушавшей споры с равнодушным видом, было бесполезно: у нее при себе больше шести су на омнибус никогда не бывало. Наконец Зоя заявила, что посмотрит у себя в сундучке, вышла из кухни и вернулась, держа в руках десять монет по сто су. Их пересчитали на краешке стола. Мадам Лера тут же отправилась домой, пообещав, что завтра непременно привезет Луизэ.
– Значит, вы говорите, у нас гости? – спросила Пана, все еще не вставая со стула.
– Да, мадам, целых трое.
И первым назвала банкира. Нана сделала гримаску. Пускай Штейнер не воображает, что за вчерашний букет она позволит ей надоедать!
– Да и вообще хватит, – заявила она. – Никого принимать не буду. Подите и скажите, чтобы меня не ждали.
– Пусть мадам хорошенько подумает, и она примет Штейнера, – с серьезным видом прошептала Зоя, не трогаясь с места; видно было, что она сердится на хозяйку, готовую совершить новую глупость.
Потом она сообщила, что в спальне сидит валах и, должно быть, ждет не дождется прихода Нана. Тут Нана еще больше разозлилась и заупрямилась. Никого она не желает видеть, слышите, никого! Наказание с этим валахом, никак от него не отвяжешься.
– Выставьте их всех за дверь! А я сыграю с мадам Малюар в безик. Уж лучше в карты играть…
Звонок прервал ее речь. Нет, это уж слишком! Еще один явился скуку нагонять! Она запрещает Зое отпирать двери. Но Зоя, не дослушав запрета, вышла из кухни. Вернувшись, она протянула Нана две визитные карточки и произнесла тоном, не терпящим возражений:
– Я сказала, что хозяйка принимают… Эти господа в большой гостиной.
Нана в сердцах вскочила со стула. Но, прочитав на карточках имена маркиза де Шуар и графа Мюффа де Бевиль, сразу утихла. С минуту она молчала.
– Что это еще за типы? – спросила она наконец. – Вы их знаете?
– Старика знавала, – ответила Зоя, многозначительно поджимая губы.
И на вопросительный взгляд хозяйки кратко добавила:
– Случалось видеть в одном месте.
Эти слова, казалось, убедили Нана. Она с сожалением покинула кухню, уютный теплый уголок, где можно всласть поболтать, вдыхая аромат кофе и греясь у потухающей плиты. Там осталась одна мадам Малюар, которая теперь разложила карты на счастье. Шляпки она все-таки не сняла, но для удобства развязала ленты и закинула их за плечи.
Пока в туалетной комнате проворная Зоя помогала хозяйке надеть пеньюар, Нана отводила душу, понося и кляня вполголоса всех мужчин на свете. Эти грубости огорчали горничную; она с прискорбием убеждалась, что мадам все еще выражается так, будто только что вышла на панель. Она даже осмелилась попросить хозяйку успокоиться.
– Вот еще! – грубо оборвала ее Нана. – Им, гадам, это как раз по вкусу!
Тем не менее послушалась и напустила на себя «королевский вид», по ее собственному выражению. Затем направилась было в гостиную, но в последнюю минуту Зоя ее удержала и сама, не спрашивая разрешения, ввела в будуар маркиза де Шуар и графа Мюффа. Так будет лучше.
– Очень сожалею, господа, что заставила вас ждать, – с заученной светскостью начала Нана.
Мужчины поклонились и сели. Сквозь тюлевую вышитую гардину с трудом пробивался дневной свет. Будуар выделялся из всей квартиры своим изяществом – стены обтянуты светлым шелком, из мебели – большой мраморный туалетный стол, псише в раме с инкрустациями, кушетка и кресла, обитые голубым атласом. На туалете пахучей грудой громоздились розы, сирень, жасмин, разливая сильный и резкий аромат; а во влажном воздухе стоял приторный запах тазов и тазиков, который временами перешибало острое благоухание сухих пачулей, мелко накрошенных в вазочке. Нана, словно ее застигли врасплох с еще влажной после ванны кожей, ежилась, запахивала то и дело расходившиеся полы пеньюара, улыбалась, испуганно выглядывая из кружевных оборок.
– Сударыня, – торжественно начал граф Мюффа, – простите нам нашу назойливость… Мы пришли насчет пожертвований… Маркиз и я, мы оба, состоим членами благотворительного комитета вашего округа.
Маркиз де Шуар, любезно улыбаясь, поспешил добавить:
– Когда мы узнали, что в этом доме живет известная актриса, мы сразу же решили попросить ее особо позаботиться о наших бедняках… Где талант, там и доброе сердце.
Теперь Нана вошла в новую роль – роль скромницы. Она одобрительно кивала головкой, стараясь сообразить, что, в сущности, происходит. Надо полагать, старик и привел сюда того, другого, больно уж у старика глаза озорные. Однако и другому пальца в рот не клади; вон как у него на висках жилы вздулись; он и без провожатых мог бы прийти. Ясно, привратник сказал им, что она тут живет, вот они и стараются каждый для себя.
– Само собой разумеется, господа, вы правильно сделали, зайдя ко мне, – любезно одобрила Нана.
Но тут же вздрогнула всем телом, услышав новый звонок. Еще один пожаловал, а эта противная Зоя впускает всех подряд! Вслух она произнесла:
– О, это такое счастье иметь возможность помогать…
В глубине души она была польщена.
– Ах, сударыня, – начал маркиз, – если бы вы только знали, какая повсюду царит нищета! В нашем округе насчитывается более трех тысяч бедняков, а ведь это еще один из самых благополучных в Париже. Вы и представить себе не можете размеры бедствия, – голодные детишки, больные женщины, ни врачебной помощи, ни полена дров…
– Несчастные!.. – воскликнула Нана, растроганная до глубины души.
Нана вдруг так расчувствовалась, что даже слезы выступили на ее прекрасных голубых глазах. Она подалась вперед уже не заученным, а естественным движением; распахнувшийся пеньюар открыл ее шею, а натянутая коленками тонкая ткань четко обрисовала округлую линию бедер. Землисто-серые щеки маркиза слегка порозовели. Граф Мюффа, собравшийся было вступить в беседу, потупил взор. Слишком жарко было в этом будуаре, где стояла какая-то тяжелая духота, словно в теплице. Розы увядали на туалете, и одуряюще пахло накрошенными в вазочке пачулями.
– Вот когда хочется быть очень, очень богатой, – добавила Нана. – Что ж, каждый делает что может!.. Поверьте, господа, если бы я только знала…
От жалости, в расстройстве чувств, она чуть было не сморозила глупость. Но вовремя спохватилась и не докончила фразы. На нее вдруг нашло смущение – она совсем забыла, куда, переодеваясь, положила пятьдесят франков. Наконец вспомнила – засунула их под банку из-под помады, стоявшую вверх донышком на туалете. Она уже поднялась с места, как снова раздался продолжительный звонок. Господи, еще один! Так и конца не будет. Гости тоже поднялись, и казалось, уши старика маркиза шевелятся – так жадно он вслушивался в каждый шорох за дверью; он-то, конечно, понял, что означают эти звонки. Мюффа взглянул на тестя; но, встретившись глазами, оба потупились. Их охватило смущение, оба снова напустили на себя ледяной вид, – один стоял монументальный, важный, с густой шевелюрой, другой расправлял свои худые плечи, по которым рассыпались седые, поредевшие пряди волос.
– Ничего не поделаешь, господа, придется вас нагрузить, – весело воскликнула Нана, протягивая им на ладони десяток тяжелых серебряных монет. – Но ведь это для бедных.
И на ее подбородке явственнее вырисовалась очаровательная ямочка. Вид у нее был простодушный, детский, она стояла перед ними, уже ничего из себя не строя, держа на раскрытой ладони столбик экю, протягивая его мужчинам, словно говоря: «А ну, кто возьмет?» Граф оказался более расторопным, пятьдесят франков взял он, но одна монета осталась в углублении ладони, и, доставая ее, он ощутил под пальцами кожу Нана, теплую, мягкую кожу, от прикосновения к которой его бросило в дрожь. А Нана, развеселившись, все еще заливалась смехом.
– Ну вот и все, господа, – произнесла она. – В следующий раз надеюсь дать больше.
Оставаться дольше не было предлога, гости откланялись и пошли к дверям. В этот самый момент раздался новый звонок. Губы маркиза тронула улыбка, которую он не мог скрыть, но надменное лицо графа омрачила тень. Нана задержала их еще на минутку, чтобы Зоя успела найти для вновь прибывших укромный уголок. Она не любила, когда гости встречаются друг с другом. Но теперь во всей квартире не найдешь свободного местечка. Увидев, что гостиная пуста, Нана с облегчением перевела дух. Что их Зоя, по шкафам, что ли, рассовала?
– До свидания, господа, – сказала она, останавливаясь на пороге гостиной.
На прощанье она подарила им еще одну улыбку, еще один взгляд. Граф Мюффа поклонился. Несмотря на весь свой светский опыт, он не владел собой, ему хотелось поскорее выбраться на свежий воздух: в этой душной комнате, где к запаху женского тела примешивался запах цветов, у него закружилась голова. А стоявший за спиной зятя маркиз де Шуар, зная, что никто не увидит, рискнул подмигнуть Нана, отчего физиономия его так перекосилась, что даже кончик языка высунулся наружу.
Когда Нана вернулась в будуар, где ее поджидала Зоя с новой порцией писем и визитных карточек, она расхохоталась во все горло и воскликнула:
– Ну и людишки, сумели-таки выманить последние пятьдесят франков!
Она ничуть не сердилась, ей было даже смешно, что мужчины взяли и унесли ее деньги… И все же они свиньи, оставили ее совсем без гроша. При виде писем и визитных карточек Нана снова помрачнела. Письма еще куда ни шло; вчера господа ей рукоплескали, сегодня объясняются в любви. А визитеры пусть катятся прочь!
Зоя рассадила их по всем углам и глубокомысленно заметила: квартира очень удобная, все комнаты выходят в коридор. Не то что у мадам Бланш, там гостиной не миновать. Сколько у мадам Бланш было из-за этого неприятностей!
– Отправьте их всех по домам, – упорствовала Нана, – и в первую очередь Черныша.
– Его, мадам, я уже давным-давно спровадила, – с улыбкой отозвалась Зоя. – Он заходил предупредить вас, что вечером не может прийти.
Вот счастье-то! Нана захлопала в ладоши. Не придет, какая удача! Стало быть, она свободна! И она вздохнула с таким облегчением, как будто ее миновала самая отвратительная пытка. Первая ее мысль была о Дагне. Бедный котик, а она написала ему, что придется ждать до четверга! Пусть мадам Малюар живо напишет ему новое письмо! Но Зоя сказала, что мадам Малюар, по своему обыкновению, незаметно исчезла. Сначала Нана заявила, что непременно нужно послать кого-нибудь к Дагне, но потом заколебалась. Уж очень она устала. Спокойно проспать целую ночь – какое блаженство! Мало-помалу идея насладиться одиночеством восторжествовала. В конце концов может она хоть раз в жизни позволить себе такую роскошь!
– Сразу же после театра и лягу, – пробормотала она, смакуя предстоящий отдых, – а вы меня разбудите только в полдень.
Потом, повысив голос, скомандовала:
– Ну-ка, выкиньте их всех на лестницу.
Зоя не пошевелилась. Она не позволяла себе давать прямых советов, старалась только, во всеоружии своего долголетнего опыта, удерживать хозяйку от опрометчивых шагов, которые та могла наделать по вечному своему сумасбродству.
– И господина Штейнера тоже гнать? – отрывисто спросила она.
– Ну конечно, – ответила Нана. – Его-то в первую очередь!
Служанка замешкалась на пороге, желая дать госпоже время одуматься. Неужели мадам ничуть не лестно отбить у своей соперницы, Розы Миньон, такого богача, завсегдатая парижских театров?
– Пошевеливайтесь, голубушка, – повторила Нана, поняв маневр Зои. – Скажите ему, что он мне противен.
Но тут же подумала: а что, если завтра ей придет охота последовать совету Зои? И она крикнула вслед служанке, по-мальчишески махнув рукой и весело подмигивая:
– А кстати, если мне захочется его заполучить, самый верный способ – это выставить его за дверь.
Слова эти, по-видимому, поразили Зою. Она взглянула на свою хозяйку с чувством невольного восхищения и покорно пошла выпроваживать банкира.
Тем временем Нана тихонько сидела у себя в будуаре, чтобы дать Зое возможность на свободе, как выражалась Нана, вымести весь сор. Кто бы мог подумать, что ей придется выдержать целую осаду! Нана заглянула в гостиную – никого. В столовой тоже никого. Радуясь, что квартира пуста, она продолжала свой осмотр, но, приоткрыв двери задней комнатушки, заметила какого-то юношу. Он чинно и скромно сидел на сундуке, держа на коленях огромный букет.
– Бог ты мой! – воскликнула Нана. – Оказывается, и тут кто-то есть!
Юнец вскочил с сундука, зардевшись как пион. Задыхаясь от волнения и не зная, куда девать букет, он перекладывал его из одной руки в другую. Его молодость, смущенный вид, нелепая возня с букетом умилили Нана, и она добродушно расхохоталась. И дети туда же! Ну и молодежь пошла, прямо из колыбели да к ней! Она развеселилась, охваченная материнским чувством, и, хлопнув себя по ляжкам, фамильярно спросила, просто так, для шутки:
– А что, если я тебя, младенчик, нашлепаю?
– Нашлепайте, – ответил тот глухим умоляющим голосом.
Этот ответ окончательно рассмешил Нана. Оказалось, гостю семнадцать лет, зовут его Жорж Югон. Накануне он был в Варьете. И вот пришел к ней.
– А цветы-то мне принес?
– Да, вам.
– Давай их сюда, глупыш!
Но когда она брала у него букет, он припал к ее рукам с жадностью, свойственной блаженному отрочеству. Пришлось его ударить, чтобы он отступился. Еще совсем сопляк, а какой напористый! Распекая его, Нана сама раскраснелась, заулыбалась. И она выставила малыша, разрешив ему на днях снова к ней заглянуть. Он вышел, шатаясь, и не сразу нашел дверь.
Нана вернулась в будуар, и вслед за ней явился Франсис, чтобы сделать ей парадную прическу. Вообще-то Нана приводила свой туалет в полный порядок только к вечеру. Она мечтательно и молча сидела перед зеркалом, вверившись искусным пальцам парикмахера, как вдруг вошла Зоя и объявила:
– Мадам, пришел один и никак не хочет уходить.
– Ну и пусть, оставь его, – спокойно ответила Нана.
– Но и другие тоже ждут.
– И их тоже оставь, вели им ждать. Проголодаются – уйдут.
Нана уже успела переменить мнение. Ее восторгала мысль, что она может вертеть мужчинами, как ей вздумается. Тут ей в голову пришла новая идея: она осторожно высвободилась из рук Франсиса, подбежала к двери и задвинула засов; пускай теперь, если угодно, толкутся на лестнице, стену-то, надо полагать, не прошибут. А Зоя может пользоваться низенькой дверцей, ведущей прямо на кухню. Меж тем электрический звонок разошелся вовсю. Каждые пять минут с точностью безупречно отрегулированной машины раздавалось его громкое и четкое треньканье. И Нана просто для развлечения считала звонки… Но вдруг прервала это занятие:
– А пралине принесли?
Франсис тоже совсем забыл о пралине. Из кармана сюртука он вытащил кулечек конфет скромным жестом человека светского, принесшего подарок даме, что, впрочем, не мешало ему к каждому счету аккуратно приписывать расход на сласти. Нана положила кулечек себе на колени и начала грызть засахаренный миндаль, поворачивая голову под легким прикосновением пальцев парикмахера.
– Ну и ну! – пробурчала она, нарушая молчание. – Вот банда-то!
Трижды, раз за разом, прозвонил колокольчик. Его призывное треньканье раздавалось все чаще. Были звонки скромные, как приглушенно-трепетный шепот первого признания, были дерзкие, громко заливавшиеся под нетерпеливо-яростным нажимом пальца; были торопливые, сотрясавшие воздух коротенькой трелью. Настоящий трезвон, говорила Зоя, трезвон, грозивший переполошить весь квартал; целая орава мужчин толкалась у заветной кнопки из слоновой кости. Этот шутник Борденав, очевидно, слишком многим сообщил адрес Нана, – все вчерашние зрители в полном составе явились к ней домой.
– Да, кстати, Франсис, – вдруг спохватилась Нана, – у вас не будет пяти луидоров?
Франсис, отступив на шаг, критически оглядел прическу, потом спокойно произнес:
– Пяти луидоров? Это как сказать.
– Ну, знаете ли, – возмутилась Нана, – если вам требуется гарантия…
И, не закончив фразы, широким жестом показала на входную дверь. Франсис выдал требуемую сумму. Зоя в минуты затишья вбегала в будуар и урывками готовила мадам вечерний туалет – уже пора было ее одевать. Парикмахер терпеливо ждал, когда туалет будет закончен, чтобы придать прическе последний штрих. Но звонок, дребезжавший теперь беспрерывно, отрывал горничную от дела, и она убегала, не дошнуровав мадам, надев ей только одну туфельку. Уж на что она была опытная в таких делах, и то совсем потеряла голову. Рассадив мужчин по всем углам и закоулкам, она вынуждена была теперь пристраивать их по двое, по трое в одной комнате, что противоречило всем ее житейским принципам. Ну и пусть перегрызутся, места больше останется! А Нана, сидя под замком в надежном убежище, хохотала над ними, уверяя, что слышит сквозь стены, как они там пыхтят! Веселенькая, должно быть, картина – сидят в кружок, как псы, высунув язык! Это продолжался вчерашний ее успех, целая свора мужчин пустилась по ее следу.
– Как бы они там чего не разбили, – прошептала она.
Нана уже начала беспокоиться, сквозь щели до нее доходило их горячечное дыхание. Но тут Зоя ввела Лабордета, и молодая женщина вскрикнула от радости. Он пришел сообщить Нана, что ему удалось с помощью мирового судьи уладить одно ее денежное затруднение; но она не слушала, она твердила:
– Вы поедете со мной… Вместе и пообедаем… А оттуда вы проводите меня в Варьете. Мой выход только в половине десятого.
До чего же вовремя явился этот душка Лабордет! Никогда он ничего не просит для себя, ничего не домогается. Он друг, и только друг женщин, которым охотно оказывает мелкие услуги. Вот, например, сегодня он спровадил из передней всех кредиторов. Впрочем, эти славные люди вовсе и не требовали денег, наоборот: они просидели весь день, желая поздравить хозяйку и вновь предложить ей свои услуги после вчерашнего шумного успеха.
– Бежим, бежим скорее, – твердила Нана, кончив одеваться.
В эту минуту в будуар с криком ворвалась Зоя:
– Я, мадам, отказываюсь открывать… Там на лестнице целая очередь выстроилась!
Очередь на лестнице! Даже Франсис, вопреки своей английской флегме, впрочем, явно напускной, и тот расхохотался, убирая гребни. Нана взяла Лабордета под руку, потащила его в кухню. И она убежала, наконец-то отделавшись от мужчин; она сияла, зная, что с Лабордетом не страшно остаться наедине где угодно, – этот никогда не натворит глупостей.
– Вы и после спектакля меня проводите, – сказала она, спускаясь по черной лестнице. – Тогда я буду совсем спокойна… Представьте себе, что я решила, – проспать всю ночь, всю ночь одна. Пришла такая фантазия, дружок!
III
Графиня Сабина, как обычно называли г-жу Мюффа де Бевиль, в отличие от скончавшейся год назад свекрови – матери графа, принимала по вторникам в особняке, стоявшем на углу улиц Миромениль и Пантьевр. В этом просторном квадратном здании семейство Мюффа обитало уже более столетия; высокий мрачный фасад, выходивший на улицу и навевавший какую-то монастырскую грусть, казалось, погружен в дремоту и никогда не размыкает огромных наглухо замкнутых ставень; позади дома на узком клочке сада, напоенного сыростью, упорно тянулись к солнцу чахлые деревья, вознося над черепичной кровлей длинные свои ветви.
В этот вторник к десяти часам в гостиной собралось не более дюжины визитеров. Когда графиня ждала только самых близких друзей, ни маленькую гостиную, ни столовую не отпирали. Гораздо уютнее было вести непринужденную беседу, сидя у камелька. Впрочем, гостиная была достаточно просторная, с высоким потолком, четыре окна выходили в сад, откуда в этот дождливый апрельский вечер тянуло сыростью, хотя в камине жарко пылали огромные поленья. Никогда сюда не заглядывало солнце; днем окна скупо пропускали зеленоватый свет; вечерами при свете лампы и люстры гостиная приобретала своеобразное величие, чему способствовала массивная мебель красного дерева в стиле ампир, штофные обои и кресла, обтянутые желтым бархатом с тиснеными атласными цветами. Гостей встречала атмосфера чопорного достоинства, напоминавшая о старинных нравах, о временах, давно ушедших в прошлое, но оставивших после себя неистребимый дух благочестия.
У камина, напротив кресла, в котором скончалась матушка-графиня, квадратного кресла с твердыми деревянными подлокотниками, обитого жесткой материей, – восседала графиня Сабина на козетке, мягкой, как пуховик, с пунцовой шелковой обивкой. Это была единственная вещь в современном духе, прихоть, явно неуместная в этом строгом мирке.
– Стало быть, к нам едет персидский шах, – начала молоденькая гостья.
Разговор шел о коронованных особах, которых ждали в Париж на открытие Выставки. Дамы уселись в кружок перед камином. Г-жа Дюжонкуа, чей брат служил в дипломатической миссии на Востоке, стала подробно рассказывать присутствующим о дворе Насреддина.
– Вам нездоровится, дорогая? – обратилась к хозяйке г-жа Шантеро, жена заводчика, видя, что графиня вздрогнула и побледнела.
– Нет, нет, ничуть не бывало, – возразила та с улыбкой. – Просто немножко озябла. Нашу гостиную не сразу натопишь!
И ее черные глаза медленно обежали стены от пола до высокого потолка. Эстелла, дочь графини, шестнадцатилетняя особа, еще не вышедшая из неблагодарного возраста подростка, худенькая и незаметная, поднялась с пуфа, приблизилась к камину и молча поправила щипцами готовое вывалиться полено. Но г-жа де Шезель, – подруга Сабины по пансиону, моложе ее лет на пять, – воскликнула:
– Ах нет, мне бы ужасно хотелось иметь такую гостиную, как твоя! По крайней мере можно устраивать приемы… А то сейчас строят какие-то каморки… На твоем месте я бы…
Довольно бестолково она пояснила, сопровождая свои слова размашистыми жестами, что она лично все бы сменила здесь, буквально все: и обои и мебель; а потом давала бы балы для всего Парижа. Ее муж, чиновник, с серьезным видом слушал болтовню супруги, стоя за ее креслом. Говорили, что она открыто ему изменяет, но ей это как-то прощалось, ее принимали повсюду потому, что считали ее неисправимой сумасбродкой.
– Ох, уж эта Леонида! – пробормотала графиня Сабина со своей обычной вялой улыбкой.
Недоговоренную мысль она закончила ленивым движением руки. Не станет она менять обстановку гостиной, прожив в этом доме семнадцать лет. Пусть остается такой, как ее когда-то обставила свекровь. Потом, продолжая разговор, прерванный Леонидой, она произнесла:
– Мне говорили даже, что в Париж приедут король Пруссии и русский император.
– Да, празднества будут изумительные, – подхватила г-жа Дюжонкуа.
Банкир Штейнер, которого в дом графа Мюффа недавно ввела Леонида де Шезель, знавшая весь Париж, пристроился на канапе, в простенке, стараясь незаметно выведать у депутата новости об изменениях биржевого курса, которые сам Штейнер уже сумел учуять; граф Мюффа, стоя возле, молча слушал их разговор, и лицо его было еще более хмурым, чем обычно. Пять-шесть молодых людей образовывали второй кружок поближе к двери, они обступили графа Ксавье де Вандевр, который вполголоса рассказывал им какую-то историю, надо полагать, весьма нескромную, ибо слушатели то и дело громко фыркали. Посреди комнаты одиноко и грузно восседал в кресле толстяк – начальник департамента внутренних дел – и дремал с открытыми глазами. Один из молодых людей, очевидно, усомнился в достоверности истории, рассказанной Вандевром, и тот, повысив голос, по-отечески пожурил его:
– Нельзя быть таким скептиком, Фукармон, вы сами лишаете себя половины удовольствия.
И, продолжая смеяться, он подошел к дамам. Последний отпрыск славного рода Вандевров, женственный и остроумный, граф проедал сейчас свое состояние с каким-то яростным аппетитом, не знавшим утоления. Содержание скаковой конюшни – одной из самых знаменитых в Париже – стоило ему бешеных денег; его проигрыши в клубе «Империаль» ежемесячно выражались в такой сумме, что вчуже страшно становилось; его любовницы поглощали год за годом то ферму и несколько арпанов земли или леса, а то и кусок пожирнее из его обширных пикардийских владений.
– Не вам бы обзывать других скептиками, когда вы сами ни во что не верите! – произнесла Леонида, освобождая графу место возле себя. – Это вы портите себе все удовольствия.
– Совершенно справедливо, – отозвался тот. – И пусть другие воспользуются моим опытом.
Но на него зашикали. Он шокирует г-на Вено. Тут дамы посторонились, открыв глазам гостей старичка лет шестидесяти; раскинувшись на шезлонге, он лукаво улыбался, показывая гнилые зубки; расположился он здесь как у себя дома, слушал и не вмешивался в чужие разговоры. Он махнул ручкой, как бы говоря, что вовсе не шокирован. Граф Вандевр, надменно выпрямившись, произнес с достоинством:
– Господин Вено прекрасно знает, что я верю в то, во что следует верить.
Этими словами он торжественно высказал свое религиозное кредо. Даже Леонида довольно улыбнулась. Молодые люди, толпившиеся посреди гостиной, уже не смеялись. Салон графини с его чопорным духом отбивал охоту веселиться. По комнате точно прошел холодок, в тишине отчетливо слышался гнусавый голос банкира, который, поняв, что из депутата ничего не вытянешь, начал злиться. С минуту графиня Сабина молча глядела на огонь, потом возобновила прерванную беседу:
– Я видела прусского короля в прошлом году в Бадене. И, представьте, он еще вполне бодр для своих лет.
– Его будет сопровождать граф Бисмарк, – подхватила г-жа Дюжонкуа. – А вы не знаете графа? Я как-то завтракала с ним у моего брата, о, уж очень давно, когда граф представлял в Париже Пруссию… Просто не понимаю, чем объясняются его теперешние успехи.
– Почему же? – осведомилась г-жа Шантеро.
– Как бы вам получше объяснить… Просто он мне не понравился. Грубый, невоспитанный. И, откровенно говоря, показался мне даже глуповатым.
Все дружно заговорили о Бисмарке. Мнения разделились. Вандевр, лично знавший графа, утверждал, что он прекрасный игрок, любитель выпить. Но посреди спора открылась дверь, и на пороге показался Гектор де Ла Фалуаз. Следовавший за ним Фошри приблизился к графине и склонился перед ней.
– Сударыня, я разрешил себе воспользоваться вашим любезным приглашением.
Графиня улыбнулась, бросила какую-то любезную фразу. А журналист, поздоровавшись с графом, растерянно стоял посреди гостиной, чувствуя себя чужим среди всех этих людей, из которых он знал одного лишь Штейнера. Но тут Вандевр, оглянувшись, заметил нового гостя и подошел пожать ему руку. И Фошри, обрадовавшись знакомому человеку, решил отвести душу; отойдя с графом в сторону, он сказал шепотом:
– Соберутся завтра. Вы будете?
– Еще бы!
– В полночь у нее.
– Знаю, знаю… Я приду с Бланш.
Он хотел было улизнуть от собеседника, чтобы убедить дам еще одним веским аргументом в пользу Бисмарка, но Фошри вцепился в него.
– Вы ни за что не угадаете, кого она велела мне пригласить.
И легким кивком головы он указал на графа Мюффа, который как раз обсуждал государственный бюджет со Штейнером и депутатом.
– Не может быть! – воскликнул пораженный Вандевр; новость развеселила его.
– Даю слово! Взяла с меня клятву, что я его приведу. Отчасти из-за этого я сюда и явился.
Оба тихонько рассмеялись, и Вандевр ринулся к кружку дам перед камином, крикнув еще издали:
– А я вам скажу, что господин Бисмарк весьма остроумен… Вот послушайте, как он однажды сострил в моем присутствии, прелестнейшая острота…
Ла Фалуаз, уловив из беседы Вандевра с Фошри несколько слов, пристально поглядел на кузена, надеясь, что тот расскажет, о чем они секретничали. Однако объяснения не последовало. Что произойдет завтра в полночь? Гектор решил, что не отстанет от кузена. А тот уселся поближе к дамам. Особенно его интересовала сама графиня Сабина. Он вспомнил, что в его присутствии не раз называли ее имя, знал, что ее выдали замуж семнадцати лет, что сейчас ей должно быть года тридцать четыре, что с первых дней брака она вела затворническую жизнь в обществе мужа и свекрови. В свете одни утверждали, что графиня просто-напросто холодная натура, ханжа, другие жалели ее, вспоминая веселый звонкий смех, пламенные взоры, потухшие с тех пор, как ее заточили в четырех стенах старого особняка. Фошри смотрел на графиню и никак не мог прийти к определенному выводу. Один из его приятелей, недавно скончавшийся в Мексике в чине капитана, накануне своего отъезда, выйдя из-за-стола, неожиданно сделал ему признание, одно из тех грубо-откровенных признаний, которые вырываются в иные минуты у самых сдержанных людей. Но помнил Фошри этот разговор не особенно отчетливо; в тот вечер они плотно пообедали и немало выпили. И сейчас, глядя на графиню, всю в черном, сидевшую в этом старинном салоне со спокойной улыбкой на устах, он начал сомневаться. Лампа, стоявшая за ее спиной, четко вырисовывала изящный профиль этой пухленькой брюнетки, и только, пожалуй, чересчур крупный рот придавал ее лицу выражение какой-то властной чувственности.
– Дался им этот Бисмарк! – буркнул Ла Фалуаз, который бравировал тем, что скучает в светских салонах. – Тоска смертельная! Что за нелепая мысль пришла тебе в голову тащить меня сюда?
Фошри грубо прервал его:
– Скажи-ка лучше, есть у графини любовник?
– Конечно нет, что ты, что ты, милый, – пробормотал Гектор, явно растерявшись, и даже перестал рисоваться. – Где ты находишься, сообрази!
Но тут же спохватился, что человеку светскому не полагается высказывать негодование по такому поводу. И поспешил добавить, раскинувшись на софе:
– Впрочем, черт побери, хоть я и сказал нет, а кто его знает… Есть такой франтик, некто Фукармон, он вечно здесь торчит. Конечно, ничего завидного в нем нет. Мне-то, конечно, плевать… Одно скажу, если графиня и развлекается понемножку, то все шито-крыто, сплетничать о ней не сплетничают, даже не болтают.
Не дожидаясь дальнейших расспросов Фошри, Гектор выложил все, что было ему известно о семействе Мюффа. Поскольку дамы по-прежнему беседовали у камелька, кузены, сидя в стороне, понизили голос; и, глядя на этих двух кавалеров в безупречных галстуках и белых перчатках, можно было подумать, что они в самых изысканных выражениях рассуждают о каком-нибудь возвышенном предмете. Итак, мамаша Мюффа, которую Ла Фалуаз хорошо знал, была просто старая ведьма и вечно возилась с попами; к тому же надутая, чванливая и всех гнула в дугу. Понятно, почему сам Мюффа – младший сын некоего генерала, пожалованного в графы Наполеоном I, – попал в милость после 2 декабря. Этот тоже не из весельчаков, но, однако, слывет человеком честным, прямодушным. При всем том придерживается самых допотопных взглядов и столько возомнил о своей роли при дворе, о своих достоинствах и добродетелях, что задирает нос, будто он сам папа римский. Это мамаша Мюффа постаралась дать сыну такое воспитание: каждый день ходи к исповеди, ни тебе юношеских проказ, ни прочих развлечений, полагающихся молодым людям. Вот он и стал аккуратно бывать в церкви, а временами на него накатывал религиозный стих, чуть ли не до припадков доходило, вроде злокачественной горячки. Желая дорисовать портрет графа, Ла Фалуаз нагнулся к уху кузена и шепнул ему на ухо несколько слов.
– Быть не может! – недоверчиво отозвался Фошри.
– Честное слово, мне в этом клялись!.. Таким он и женился.
Фошри захохотал и оглянулся на графа, который приводил возражавшему ему Штейнеру какие-то цифры; бритое лицо его, обрамленное бакенбардами, казалось еще более широким, еще более жестким.
– А ведь верно, физиономия соответствующая! – пробормотал журналист. – Хорошенький подарочек преподнес он своей супруге! Ах, бедняжка, то-то, верно, он ей наскучил! Она ровно ничего не знает, готов пари держать!
Как раз в эту минуту графиня Сабина окликнула журналиста. Но тот не расслышал, размышляя над странностями графа Мюффа, которые казались ему и смешными и слишком уж неправдоподобными. Графиня повторила свой вопрос:
– Вы, кажется, написали для газеты портрет Бисмарка, господин Фошри?.. Вы с ним беседовали?
Фошри поспешно поднялся с места, подошел к кружку дам, стараясь по дороге собраться с мыслями, что, впрочем, ему вполне удалось, ибо он ответил с завидной легкостью:
– Бог мой, сударыня, признаюсь, я написал портрет Бисмарка лишь по его биографиям, выходившим в Германии… Я никогда не видел господина Бисмарка.
Он присел рядом с графиней. И, поддерживая с ней светский разговор, продолжал размышлять. Графиня выглядела моложе своих лет, ей никто не дал бы даже тридцати; особенно поражали глаза, где еще горело пламя юности, томные, с какой-то голубизной под тяжелыми веками. Родители ее жили врозь, и она поочередно проводила месяц у маркиза де Шуар, другой месяц у маркизы; она вышла замуж после смерти матери, совсем еще девочкой, очевидно, по принуждению отца, которого стесняло ее присутствие. Ужасный субъект, этот маркиз, каких только историй о нем не рассказывают, хоть он и славится примерным благочестием. Фошри осведомился у графини, не будут ли они иметь удовольствие видеть ее батюшку. Да, конечно, отец непременно приедет, но попозже: он так занят! Журналист, которому было известно, чем занимается вечерами старик маркиз, выслушал ответ графини с невозмутимо серьезным видом. Но, заметив у нее на левой щеке, почти над самой губой, родинку, он удивился: точно такая же была у Нана. Забавное совпадение! На родинке курчавились волоски, только у Нана они были белокурые, а у графини черные как смоль. Пусть так, все равно графиня ни с кем не спит.
– Мне всегда ужасно хотелось познакомиться с королевой Августой, – продолжала графиня. – Говорят, она сама доброта, сама набожность… Как по-вашему, будет она сопровождать короля?
– Не думаю, сударыня, – ответил Фошри.
Ни с кем она не спит, это ясно. Достаточно увидеть ее здесь, а рядом с ней дочку, бесцветную юную особу, которая сидит на пуфе, словно палку проглотила. Эта гостиная, унылая, как склеп, источающая какие-то церковные запахи, – красноречивое свидетельство того, в каких ежовых рукавицах держат здесь графиню и как согнула ее волю эта суровая жизнь. Ровно ничего не принесла она в эту древнюю обитель, всю почерневшую от сырости. Чувствовалось, что здесь полновластно царит, правит сам Мюффа с его ханжеским воспитанием, с его вечными постами и покаянными молитвами. Но, пожалуй, самым веским аргументом оказался в глазах Фошри вот этот старичок со скверными зубами и хитрой улыбкой, которого он внезапно обнаружил съежившимся в глубоком кресле за спиной дам. Он знал, кто это такой, – Теофиль Вено, бывший поверенный, специализировавшийся на церковных процессах; составив себе крупное состояние, он отошел от дел и вел теперь загадочную жизнь; принимали его повсюду, низко ему кланялись, даже побаивались, как будто за ним стояла некая сила, и притом сила таинственная. Впрочем, держался он смиренником, был старостой в церкви св. Магдалины и скромненько выполнял обязанности мэра в девятом округе, просто чтобы занять досуг, – говаривал он сам. Да, черт побери! У графини надежные стражи, плохо дело!
– Ты прав, здесь можно подохнуть от скуки, – обратился Фошри к кузену, незаметно выбравшись из кружка дам. – Давай сбежим потихоньку.
Но Штейнер, которого только что покинули Мюффа с депутатом, перерезал кузенам путь, весь потный от злобы, и прохрипел вполголоса:
– Ну их к дьяволу! Ничего не сказали, ничего не хотят сказать… Ладно, найдем таких, которые скажут.
Потом, затолкнув журналиста в угол, сразу сменил тон и, приняв победный вид, шепнул:
– Значит, завтра… Я, дружок, тоже буду.
– Вот как? – удивленно пробормотал Фошри.
– Ах, да ведь вы еще ничего не знаете… Пришлось мне побегать, пока я попал к ней. А тут еще Миньон за мной по пятам ходит.
– Но ведь и Миньоны званы.
– Да, она мне говорила… В конце концов она меня приняла и пригласила… Ровно в полночь после спектакля.
Банкир так и сиял. Подмигнув, он добавил, многозначительно подчеркивая слова:
– Ну как, идут ваши дела на лад?
– О чем это вы? – притворно удивился Фошри. – Просто она хотела поблагодарить меня за статью. Поэтому и зашла ко мне.
– Так, так… Хорошо вам, счастливчикам. Вас вознаграждают. Кстати, кто завтра раскошеливается?
Журналист развел руками, как бы говоря, что этого никому знать не дано. Но тут Штейнера окликнул Вандевр, встречавшийся с Бисмарком. Г-жа Дюжонкуа почти сдалась на доводы графа. И заявила, желая окончить спор:
– Просто он произвел на меня плохое впечатление, на мой взгляд, у него злое лицо… Но охотно вам верю, что он человек остроумный. Тогда его успехи понятны.
– Без сомнения, – криво улыбнувшись, подтвердил банкир, еврей из Франкфурта.
Тем временем Ла Фалуаз, набравшись смелости, решил приступить к своему кузену с расспросами; он ходил за ним по всей гостиной и наконец шепнул, улучив минутку:
– Значит, завтра вы ужинаете у дамы, так ведь? А у какой? Скажи, у какой?
Фошри показал ему глазами, что их, мол, слушают; надо все-таки соблюдать приличия. Снова распахнулись двери, и вошла старая дама в сопровождении юноши, в котором журналист с первого взгляда признал школяра, крикнувшего на спектакле «Белокурая Венера» свое знаменитое «шикарно!», о чем до сих пор шли толки. Появление новой гостьи вызвало в салоне всеобщее движение. Графиня Сабина живо поднялась с места и пошла ей навстречу, пожала ей обе руки, назвала ее «дорогая госпожа Югон». Видя, что Фошри с интересом следит за этой сценой, Ла Фалуаз, желая его задобрить, кратко ввел кузена в курс дела: г-жа Югон – вдова нотариуса, после смерти супруга безвыездно живет в своем родовом поместье Фондет под Орлеаном, а наезжая в Париж, останавливается в собственном доме на улице Ришелье; сейчас она там и поселилась на несколько недель; приехала устраивать младшего сына, который начал изучать право; в свое время очень дружила с маркизой де Шуар, графиня Сабина при ней и родилась и до замужества по нескольку месяцев гостила у г-жи Югон; та до сих пор говорит Сабине «ты».
– Я тебе привела Жоржа, – обратилась г-жа Югон к Сабине. – Ну как, подрос?
Светлоглазый, светловолосый юноша, похожий со своими кудряшками на переодетую девочку, без смущения поклонился графине и напомнил ей, что два года назад он имел честь играть с ней в волан в Фондете.
– А Филиппа нет в Париже? – спросил граф Мюффа.
– Нет, – ответила старая дама. – Он у себя в гарнизоне в Бурже.
Она уселась, она с гордостью заговорила о своем старшем сыне: он хоть и сорвиголова, но вот поступил на военную службу и очень быстро дослужился до лейтенантских нашивок. В кружке она явно пользовалась уважением и симпатией. Снова завязалась беседа, еще более приятная и тонкая, чем прежде. И Фошри, поглядывая на почтенную г-жу Югон, на ее лицо, светло и по-матерински улыбавшееся из-под седых буклей, решил, что с его стороны было нелепо усомниться хоть на миг в добродетелях графини Сабины.
Но его внимание почему-то привлекала широкая, обитая красным атласом козетка, на которую опустилась графиня. Тон обивки казался ему вульгарным, рассчитанным на чувственное воображение, неуместным в этом закопченном от времени салоне. Уж конечно не по воле графа очутилась здесь эта игрушка, располагавшая к сладострастной лени. Словно намек, словно преддверие желаний и обещание радостей. И он забылся, замечтался, вновь вспомнив беглое признание, услышанное как-то вечером в отдельном кабинете парижского ресторана. Он стремился попасть в дом к Мюффа, повинуясь чувственному любопытству; коль скоро его приятель покоится в мексиканской земле, как знать? А вдруг выйдет! Конечно, это выдумки; и все-таки мысль о графине тянула его, дразнила порочные наклонности. Козетка с ее шелковой обивкой чем-то напоминала измятую постель, да и изгиб спинки был какой-то странный.
– Ну что ж, идем? – спросил Ла Фалуаз, надеясь по дороге выведать у кузена имя дамы, устраивающей ужин.
– Сейчас, – отозвался Фошри.
Но он уже не торопился уходить и в свое оправдание сослался на то, что ему поручено кое-кого пригласить, а сейчас сделать это неудобно. Тем временем дамы завели беседу о пострижении в монахини одной девицы; уже целых три дня этот трогательный обряд занимал воображение всего парижского света. Речь шла о старшей дочери баронессы Фожере, которая вступила в монастырь кармелиток, повинуясь неодолимому зову сердца. Г-жа Шантеро, дальняя родственница баронов Фожере, сообщила, что баронесса на следующий же день после пострижения дочери слегла с горя в постель.
– А мне досталось прекрасное место, – воскликнула Леонида. – По-моему, было страшно интересно.
Но г-жа Югон от души пожалела несчастную мать. Огромное горе – так лишиться ребенка.
– Я знаю, что меня называют ханжой, – произнесла она со своим обычным прямодушным спокойствием, – и все же я считаю, что со стороны детей такого рода самоубийство – величайшая жестокость.
– Вы правы, это ужасно, – прошептала графиня, зябко поежилась и еще глубже забилась в уголок своей козетки у камина.
Дамы заспорили. Но теперь голоса их звучали приглушеннее, и временами выспренний тон беседы нарушался легким смешком. Стоявшие на камине две лампы под розовыми кружевными абажурами едва освещали их лица; да и весь просторный салон был погружен в приятный полумрак, который не могли рассеять три лампы, горевшие в дальнем углу.
Штейнер заскучал. Он принялся рассказывать Фошри о последнем приключении малютки де Шезель, которую он запросто называл Леонидой; ох и бабенка, добавил он тихо, чтобы не услышали дамы у камина. Фошри посмотрел на нее – роскошное бледно-голубое атласное платье, сама тоненькая и дерзкая, как мальчишка, сидит в развязной позе на краешке кресла, – и вдруг ему показалось странным, что она попала в такой дом: ведь даже у Каролины Эке вели себя пристойнее, недаром ее маменька весьма строго соблюдала этикет. Готовая тема для статьи. Совсем особый, удивительный мир, этот мирок парижского света! В самые чопорные салоны попадает бог знает кто. Конечно, безмолвный персонаж Теофиль Вено, который только улыбается, показывая свои гнилые зубки, перешел сюда по наследству от покойной графини-матери, равно как и эти дамы в годах – г-жа Шантеро, г-жа Дюжонкуа, а также три-четыре старичка, мирно дремлющие в дальних углах. Граф Мюффа ввел в салон чиновных лиц, славящихся строгостью манер, столь ценимой в Тюильри; среди них начальник управления, который все еще сидит в полном одиночестве посреди гостиной, с чисто выбритой физиономией, с потухшим от тоски взглядом и боится шелохнуться, полузадушенный узким фраком. Почти все молодые люди так же, как и несколько в высшей степени тонных господ, пришли по зову маркиза де Шуар, который сохранил связи с легитимистской партией, хотя сам вошел в государственный совет. Оставались еще Леонида де Шезель, Штейнер и прочие, – словом, особый клан личностей сомнительных, среди которых особенно странно было видеть любезную пожилую даму, г-жу Югон, с ее безмятежно спокойным лицом. И Фошри уже представлял себе, как назовет в своей статье этот клан «приватным уголком» графини Сабины.
– Как-то раз, – продолжал Штейнер уже совсем шепотом, – Леонида выписала в Монтобан своего тенора. Сама она жила в замке Боркейль, в двух лье за Монтобаном, и каждый день приезжала в коляске, запряженной парой, повидаться со своим милым, который стоял в отеле «Золотой лев»… Леонида проводила в его обществе целые дни, а тем временем собиралась толпа и глазела на экипаж и лошадей.
Голоса на мгновение смолкли, под высоким потолком торжественно проплыла тишина. Двое молодых людей, шептавшихся в уголке, тоже замолчали; и слышны были только осторожные шаги графа Мюффа, пересекавшего салон. Казалось, потускнел свет ламп, догорел в камине огонь, суровая тень окутала старых друзей семейства Мюффа, уже сорок лет занимавших по вторникам все те же кресла. Как будто между двух недоговоренных фраз величественно прошествовала тень графини, и гости ощутили ее леденящее присутствие. Но графиня Сабина заговорила снова:
– Словом, разные ходили слухи… Молодой человек, говорят, умер, потому-то несчастное дитя и постриглось в монахини. Впрочем, говорят также, что господин Фожере ни за что на свете не согласился бы на этот брак.
– Мало ли что говорят, – необдуманно воскликнула Леонида.
Она залилась хохотом и отказалась объяснить смысл своих слов. Не устояв перед этим взрывом веселья, Сабина тоже сдержанно рассмеялась, поднеся платочек к губам. И переливы этого смеха прозвучали так странно среди торжественной тишины салона, что Фошри вздрогнул: будто хрупкий звон бьющегося хрусталя. Вот где она, эта первая трещина! Все голоса зазвучали разом; г-жа Дюжонкуа возразила, но г-жа Шантеро доподлинно знала, что свадьба была решена, но почему-то дело тем и кончилось; даже мужчины решили обменяться на сей счет мнениями. В течение нескольких минут стоял неясный гул – это дружно высказывали свои суждения различные кланы салона: и бонапартисты, и легитимисты, и светские скептики, – которые сталкивались здесь по вторникам. Эстелла позвонила, вошедший лакей подбросил дров в камин, вывернул в лампах фитили, и все словно пробудилось ото сна. Фошри улыбнулся, почувствовав себя как-то уютнее.
– Если им, черт их побери, не удается стать невестами кузенов, они спешат стать хотя бы христовыми невестами, – прошипел сквозь зубы Вандевр, который, наскучив спором, снова подошел к Фошри. – Видели ли вы, голубчик, чтобы женщина, которую любят, ни с того ни с сего пошла в монастырь?
Ответа он не стал ждать – с него лично хватит таких историй – и вполголоса спросил:
– А скажите, сколько приглашено народу? Будут Миньоны, Штейнер, вы, я с Бланш… А кто еще?
– Кажется, будет Каролина… Симона, и уж непременно Гага. Кто может знать? Рассчитываешь человек на двадцать, а глядишь – все тридцать придут.
Вандевр, разглядывавший дам, вдруг перескочил на новую тему:
– Должно быть, лет пятнадцать назад мамаша Дюжонкуа была очень и очень недурна собой… А бедняжка Эстелла еще больше вытянулась. Представляете себе такую жердь в постели!
Но, не договорив, снова перешел к завтрашнему ужину:
– Знаете, что особенно противно на таких пирушках? Вечно одни и те же женщины… Хорошо бы хоть что-нибудь новенькое. Попытайтесь найти. Ба, идея!
Пойду попрошу этого толстяка, чтобы он привел даму, с которой был тогда в Варьете.
Вандевр имел в виду начальника управления, дремавшего посреди салона. Фошри издали наслаждался ходом этих щекотливых переговоров. Вандевр подсел к толстяку, державшемуся с большим достоинством. Со стороны можно было подумать, что они обсуждают тонкий вопрос – какие именно чувства побуждают девиц идти в монастырь. Затем граф вернулся к Фошри.
– Не вышло. Клянется, что она из порядочных. Не придет… Однако, держу пари, я видел ее у Лоры.
– Как! Вы, оказывается, посещаете Лору? – негромко рассмеялся Фошри. – Рискуете показываться в таком месте! А я-то думал, что там бываем только мы, грешные…
– Эх, голубчик, все надо знать.
Посмеиваясь, блестя глазами, они поверяли друг другу подробности о заведении на улице Мартир, где толстуха Лора Пьедефер держала что-то вроде табльдота и кормила за три франка девочек, находившихся в денежном затруднении. Ну и дыра! Все девочки целовались с Лорой. И так как графиня Сабина, уловив громко сказанное слово, обернулась в их сторону, оба, веселые, оживленные, отступили на шаг, подталкивая друг друга локтем. Они и не заметили, что возле них трется Жорж Югон, который, слушая откровенные разговоры, весь залился краской, – даже уши, даже его девичья шейка побагровели. Младенец и наслаждался и конфузился. Как только мать забыла о его присутствии, он стал тут же увиваться вокруг г-жи Шезель, которая показалась ему единственной по-настоящему шикарной дамой. Впрочем, Нана ей сто очков вперед даст!
– Вчера вечером Жорж повел меня в театр, где я уже лет десять не была. Мальчик прямо обожает музыку… Я-то, конечно, не особенно развлекалась, но зато Жорж был в восторге. Странные все-таки нынче пошли пьесы. Хотя, признаюсь, музыка вообще меня не особенно трогает.
– Как, сударыня, вы не любите музыки! – воскликнула г-жа Дюжонкуа, томно закатив глаза. – Да разве можно не любить музыки!
Все дружно заохали. Никто ни словом не обмолвился о вчерашней пьесе, в которой г-жа Югон, кстати сказать, ровно ничего не поняла; что касается прочих дам, то пьеса была им прекрасно известна, только они предпочли об этом умолчать. Тут все разом ударились в чувствительность, не скупились на утонченные и восторженные комплименты по адресу великих мастеров. Г-жа Дюжонкуа признавала одного только Вебера, г-жа Шантеро обожала итальянцев. Голоса беседующих звучали теперь расслабленно и томно. У камина воцарилась атмосфера церковного благолепия: так млеет хор молящихся в маленькой часовенке.
– А все-таки необходимо пригласить на завтра какую-нибудь новенькую, – пробормотал Вандевр, увлекая Фошри на середину салона. – Давайте спросим Штейнера.
– Ну нет, если Штейнер завел себе даму, значит, весь Париж от нее отказался.
Однако Вандевр, не теряя надежды, оглядывал присутствующих.
– Подождите-ка, – сказал он. – Я как-то встретил Фукармона с очаровательной блондиночкой. Пойду скажу, пусть ее приведет.
И он окликнул Фукармона. Они быстро обменялись двумя-тремя фразами. Очевидно, переговоры осложнились, ибо оба, осторожно переступив через дамские шлейфы, направились еще к одному молодому человеку, и все трое, продолжая беседовать, отошли к амбразуре окна. Оставшись в одиночестве, Фошри решил подойти к дамам, и подошел как раз в тот момент, когда г-жа Дюжонкуа уверяла, что, слушая Вебера, она сразу же представляет себе леса, озера, солнечные восходы над полями, где сверкают росинки; но вдруг чья-то рука тронула его за плечо и чей-то голос произнес над самым его ухом:
– А все-таки это некрасиво.
– Что некрасиво? – спросил он, оборачиваясь, и увидел Ла Фалуаза.
– Я говорю о завтрашнем ужине… Мог бы и меня пригласить.
Фошри хотел было ответить, но тут снова к нему подошел Вандевр и заявил:
– Представьте себе, она вовсе не фукармоновская пассия, а вон того господина. И тоже прийти не может. Вот не везет! Но я все же завербовал Фукармона. Он попытается привести Луизу из Пале-Рояля.
– Господин Вандевр, – повысила голос г-жа Шантеро, – правда ли, что в воскресенье освистали Вагнера?
– О да, и притом беспощадно, – ответил он, делая шаг вперед, с изысканной вежливостью.
Но так как дальнейших вопросов не последовало, он отошел и шепнул на ухо журналисту:
– Пойду еще попытаю счастья… Вот те юнцы непременно должны знать девочек.
Журналист смотрел, как граф, любезный, улыбающийся, подходил по очереди ко всем присутствующим мужчинам, мелькая то в том, то в другом уголке салона. Он втирался в кружок беседующих, шептал что-то на ухо соседу, оборачивался, заговорщически подмигивая и глубокомысленно кивая головой. Казалось, он передает по рядам некий пароль, сохраняя, впрочем, обычный непринужденный вид. Мужчины повторяли друг другу его слова, уславливались о встрече, и возбужденный шепот, сопровождавший вербовщика, заглушался проникновенными рассуждениями дам о музыке.
– Нет, даже не говорите мне о ваших немцах, – твердила г-жа де Шантеро. – Пение – это веселье, это свет… Слышали вы Патти в «Цирюльнике»?
– Упоительно! – прошептала Леонида, хотя сама бренчала на пианино лишь арии из оперетт.
Тем временем графиня Сабина позвонила. Когда на ее вторники собиралось не очень много гостей, чай сервировали тут же в салоне. Давая лакею распоряжение освободить маленький столик, графиня следила взором за Вандевром. Неопределенная улыбка слегка обнажила ее белые зубки. И так как граф проходил мимо, она остановила его вопросом:
– Что это вы здесь за комплоты устраиваете, господин Вандевр?
– Какие комплоты, сударыня? – спокойно ответил тот. – Ровно я ничего не устраиваю.
– Да? А мне показалось, что вы чем-то озабочены. Кстати, помогите-ка мне.
И Сабина вручила графу альбом с просьбой положить его на пианино. Однако по дороге он нашел способ шепнуть Фошри, что будет Татан Нене, признанная обладательница самого красивого бюста в этом сезоне, и Мария Блон, та, что недавно дебютировала в Фоли-Драматик. Меж тем Ла Фалуаз ходил за графом по пятам, надеясь получить приглашение. В конце концов он добился своего. Вандевр без долгих разговоров пригласил его на ужин, только взял с него слово привести Клариссу; и так как Ла Фалуаз мялся, делая вид, что стыдится своей назойливости, граф успокоил его:
– Ведь я же вас пригласил! Этого вполне достаточно.
Теперь Ла Фалуазу не терпелось узнать имя их завтрашней хозяйки. Но тут графиня подозвала Вандевра и стала расспрашивать его о способах заварки чая, принятых у англичан. Граф часто бывал в Англии, где на ипподромах скакали его лошади. По его мнению, заваривать чай умеют одни лишь русские; и он тут же сообщил их рецепт. Но, видимо, пока он разговаривал с дамами, его грызла все та же тайная мысль, потому что он вдруг прервал свой рассказ и спросил:
– Ах да, где же маркиз? Неужели мы его сегодня не увидим?
– Отец обещал непременно быть, – ответила графиня. – Я уже начинаю беспокоиться… Должно быть, его задержали дела.
Вандевр незаметно улыбнулся. Очевидно, и он тоже знал, какого рода дела могли задержать маркиза де Шуар. Он сразу вспомнил хорошенькую особу, которую старик время от времени вывозил за город. Может быть, удастся заполучить хоть ее.
Тем временем Фошри решил, что самое время передать графу Мюффа приглашение на ужин. Вечер близился к концу.
– Нет, это вы серьезно? – спросил Вандевр, подумавший было, что журналист просто шутит.
– Вполне серьезно… Да она мне глаза выцарапает, если я не исполню ее поручения. Ничего не поделаешь, дамская прихоть!
– Тогда я вам помогу, голубчик!
Пробило одиннадцать часов. Графиня с помощью дочки разливала чай. Так как нынче съехались только наиболее близкие знакомые, чашки и тарелочки с печеньем запросто передавали из рук в руки. Дамы остались сидеть в креслах у камина, отхлебывая чай маленькими глоточками, деликатно откусывая печенье, зажатое в кончиках пальцев. От музыки разговор перешел к поставщикам. Конфеты можно брать только у Буассье, а мороженое у Катрины; впрочем, г-жа Шантеро высказалась за Латенвиля. Беседа шла все ленивее: казалось, салон погружается в дремоту. Штейнер снова взялся незаметно обрабатывать депутата, зажав его в углу козетки. Г-н Вено, видимо давно испортивший себе зубы сладостями, брал одно сухое печенье за другим и грыз его почти бесшумно, как мышь; а начальник управления, уткнувшись носом в чашку, все пил и пил чай. Графиня неторопливо переходила от одного гостя к другому, останавливалась на несколько секунд, вопросительно глядя на мужчин, и шла дальше, все так же улыбаясь. От огня, бурно пылавшего в камине, она порозовела и выглядела сейчас старшей сестрой своей дочки, которая казалась особенно сухой и нескладной по сравнению с матерью. Фошри, о чем-то беседовавший с Мюффа и графом Вандевром, заметил, что графиня направляется к ним, и сразу замолчал, что, впрочем, не ускользнуло от ее внимания; не остановившись, она пронесла мимо чашку чаю и предложила ее стоявшему невдалеке Жоржу Югону.
– Одна дама приглашает вас к себе на ужин, – весело начал журналист, обращаясь к графу Мюффа.
Граф, хмурившийся весь вечер, кинул на говорившего удивленный взгляд: какая дама?
– Да Нана же, – брякнул Вандевр, которому хотелось поскорее довести дело до конца.
Лицо графа приняло еще более спесивое выражение. Только судорожно дернулись веки да сморщился лоб, словно в приступе мигрени.
– Но я незнаком с этой дамой, – пробормотал он.
– Да полноте, ведь вы у нее были, – вставил Вандевр.
– Как так? Я у нее был?.. Ах да, правильно, заглянул по делам благотворительного комитета. Я и не помню об этом. Все равно я с нею незнаком и не могу принять приглашения.
Он словно оледенел, показывая всем своим видом, что принимает это за шутку, и притом дурного тона. Человеку его положения не место за столом подобной женщины. Вандевр так и взвился: ведь речь идет об артистическом ужине, талант искупает все. Но граф, не дослушав Фошри, который старался доказать, что ничего особенного тут нет, и в подтверждение своей правоты стал рассказывать о том, как шотландский принц, сын королевы, сидел бок о бок за столом с бывшей кафешантанной певичкой, – решительно отказался от приглашения. И при всей своей вежливости не удержался от досадливого жеста.
Жорж и Ла Фалуаз, которые пили чай, стоя друг против друга, услышали обрывки этого разговора.
– Вот оно что, ужин будет у Нана! – прошептал Ла Фалуаз. – Как это я сразу не догадался?
Жорж промолчал, но вспыхнул, белокурые его кудри растрепались, голубые глаза запылали; все эти дни его повсюду подстерегал порок, и он ходил воспламененный страстью, все рвался куда-то. Наконец-то он окунется в ту самую стихию, о которой втайне мечтал.
– Вот только адреса я не знаю, – продолжал сетовать Ла Фалуаз.
– Бульвар Османа, угол улицы Аркад и Паскье, третий этаж, – выпалил Жорж единым духом.
И так как его собеседник удивленно поднял глаза, юноша, покраснев еще сильнее, добавил, задыхаясь от смущения и фатовства:
– Я тоже буду, она пригласила меня сегодня утром.
Но тут в салоне началось движение. Вандевру и Фошри пришлось отступиться от графа. Вошел маркиз де Шуар, и все поспешили ему навстречу. Шагал маркиз с трудом, волоча непослушные ноги. Он остановился посреди салона мертвенно-бледный, неуверенно моргая глазами, будто попал сюда, под яркий свет ламп, прямо из темного переулка.
– Я уже не надеялась вас видеть сегодня, папенька, – произнесла графиня. – И волновалась бы до утра.
Маркиз ошалело взглянул на дочь, не понимая, о чем разговор, и ничего не ответил. Неестественно белый нос, слишком крупный для гладко выбритого лица, производил впечатление болезненно разросшегося придатка, нижняя губа бессильно отвисла. Добросердечная г-жа Югон сразу же пожалела немощного старца.
– Вы слишком много работаете. Вам необходимо отдохнуть. В наши годы уже пора переложить часть работы на молодые плечи.
– Работа! Ох да, работа! – промямлил маркиз. – Слишком много работы…
Он старался овладеть собой, выпрямил свой сгорбленный стан и жестом, вошедшим в привычку, провел ладонью по своим поредевшим волосам, курчавившимся за ушами.
– Над чем это вы трудитесь до самой ночи? – спросила г-жа Дюжонкуа. – Я думала, вы на приеме у министра финансов.
За маркиза ответила его дочь:
– Папенька работает над одним законопроектом.
– Да, да, над законопроектом, – подхватил тот. – Вот именно, над законопроектом… Сижу взаперти… Речь идет о фабричном законодательстве, хочу, чтобы соблюдался воскресный отдых. Стыдно, что правительство в данном случае недостаточно энергично. Церкви пустуют, мы идем к катастрофе.
Вандевр взглянул на Фошри. Оба стояли за спиной у маркиза, чуть ли не принюхивались к нему. Когда же наконец Вандевру удалось отвести маркиза в сторону, чтобы потолковать о хорошенькой девице, которую старик возит за город, тот притворился непонимающим. Может быть, его видели с баронессой Декер, он действительно время от времени гостит в ее поместье в Вирофле. Желая отомстить старику, Вандевр спросил его в упор:
– Скажите, пожалуйста, откуда это вы явились? Локоть весь в паутине, в известке.
– Локоть? – пробормотал старик, видимо смутившись. – Ах, верно!.. Запачкался где-то… Должно быть, когда спускался с лестницы.
Кое-кто из гостей стал откланиваться. Близилась полночь. Два лакея бесшумно убирали пустые чашки и тарелки из-под печенья. Дамы у камина, сдвинув кресла, сидели теперь тесным кружком и беседовали непринужденно, но уже вяло, как это бывает к концу вечера. Сама гостиная медленно засыпала, со стен скользили ленивые тени. Фошри заявил, что на сей раз он уходит. Однако, взглянув на графиню, снова забыл о своем намерении. Усевшись на обычное место, Сабина отдыхала от обязанностей хозяйки дома, молча глядя на тлевшее в камине полено; и при виде ее бледного замкнутого лица Фошри вновь охватили сомнения. В пламени камина темные волоски на родинке, сидевшей в уголке рта, посветлели. Точь-в-точь такая же родинка у Нана, теперь даже цвет одинаковый! Не удержавшись, он сообщил о своем наблюдении графу Вандевру. Ей-богу, верно, как же это он сам до сих пор не заметил! И оба продолжали параллель между Нана и графиней. Обнаружили отдаленное сходство в очертании подбородка и губ; но вот глаза совсем другие. К тому же видно, что у Нана душа нараспашку, а с графиней надо держать ухо востро, она похожа на кошечку, которая тихонько дремлет, убрав коготки, только лапки чуть-чуть вздрагивают в нервической судороге.
– А все-таки с ней неплохо бы поспать, – заметил Фошри.
Вандевр молча раздевал графиню взглядом.
– Да, пожалуй, – произнес он наконец. – Только вот насчет бедер я опасаюсь. Нет у нее бедер, хотите пари?
Он замолк. Фошри быстро тронул его за локоть, показывая глазами на Эстеллу, которая сидела на пуфике совсем рядом с ними. Увлекшись, они повысили голос, и, должно быть, она услышала их спор. Впрочем, она по-прежнему сидела неподвижно, все в той же напряженной позе; шея у нее была длинная, как обычно у непомерно вытянувшихся подростков, и хоть бы один волосок выбился из ее гладко прилизанной шевелюры! Они отошли шага на три. Вандевр клялся, что графиня вполне порядочная женщина.
В эту минуту голоса у камина стали громче. Г-жа Дюжонкуа объявила во всеуслышание:
– Ну хорошо, вы меня убедили, что Бисмарк человек неглупый… Но все же говорить о нем, как о гении…
Оказывается, дамы вернулись к первоначальному предмету разговора.
– Ох, опять они со своим Бисмарком, – ужаснулся Фошри. – Ну, на сей раз я действительно ухожу.
– Подождите, – попросил Вандевр, – мы еще не получили от графа окончательного отказа.
Граф Мюффа как раз беседовал с тестем и кое с кем из солидных гостей. Вандевр отвел его в сторону, возобновил приглашение, упирая главным образом на то, что сам он тоже ужинает у Нана. Мужчина волен ходить куда ему вздумается; никто не заподозрит ничего дурного в том, что вполне можно объяснить простым любопытством. Граф слушал эти доводы, не подымая глаз, лицо его ничего не выражало. Однако Вандевр почувствовал, что его собеседник начал колебаться; но как раз в эту самую минуту к ним приблизился с вопросительной миной маркиз де Шуар. И когда старик узнал, о чем идет речь, и когда Фошри передал и ему приглашение Нана, он искоса взглянул на зятя. Воцарилось неловкое молчание; но вдвоем они осмелели и, пожалуй, дали бы свое согласие, если бы взгляд графа Мюффа не упал на г-на Вено, внимательно наблюдавшего за беседующими. Старичок уже не улыбался, на его землисто-сером личике блеснули стальные глаза, светлые, острые.
– Нет! – поспешил ответить граф таким категорическим тоном, что все поняли – настаивать дальше бесполезно.
Тут отказался и маркиз, сделав это в еще более суровых выражениях. Он даже заговорил о морали.
Высшие классы обязаны подавать пример всему обществу. Фошри улыбнулся и пожал руку Вандевру. Ждать он его не станет, он торопится, ему еще надо поспеть в газету.
– Так значит, завтра в полночь у Нана?
Ла Фалуаз тоже решил откланяться. Штейнер пошел прощаться с графиней. За ним потянулись остальные мужчины. И по дороге в переднюю, где гости разбирали свои пальто, слышались все те же слова, каждый повторял: «Итак, в полночь у Нана». Жорж, которому приходилось ждать свою матушку, стоял на пороге и сообщал желающим точный адрес: третий этаж, дверь налево. Однако, прежде чем уйти, Фошри бросил на салон прощальный взгляд. Вандевр подсел к кружку дам и весело болтал с Леонидой де Шезель. Граф Мюффа и маркиз де Шуар присоединились к общему разговору, а добродушная г-жа Югон дремала с открытыми глазами. А там, отгороженный от зала пышными дамскими юбками, снова скорчился на своем кресле, снова заулыбался г-н Вено. В просторном салоне гулко и торжественно пробило полночь.
– Как! Как! – не унималась г-жа Дюжонкуа. – Значит, по-вашему, Бисмарк собирается идти на Францию войной и разобьет нас? Ну, знаете, это уже слишком!
Но прочие гости, толпившиеся вокруг г-жи Шантеро, только рассмеялись, когда она повторила прорицание, услышанное ею в Эльзасе, где ее муж владел фабрикой.
– К счастью, у нас есть наш император, – произнес граф Мюффа с официальной многозначительностью.
Больше Фошри ничего не расслышал. Он закрыл дверь, в последний раз взглянув на графиню Сабину. Она о чем-то степенно беседовала с толстяком, начальником управления, и, казалось, живо интересуется его словами. Нет, решительно он ошибся, хрусталь оказался без трещины. Что ж, очень жаль!
– Ну, идешь ты или нет? – крикнул ему из передней Ла Фалуаз.
На улице они распрощались, повторив еще раз:
– До завтра у Нана.
IV
С самого утра Зоя передала бразды правления метрдотелю, прибывшему с целой оравой помощников и официантов от Бребана. Бребан взялся поставить ужин, посуду, хрусталь, столовое белье, цветы, все, вплоть до стульев и табуреток. В шкафах у Нана не нашлось бы и дюжины салфеток; как ни высоко котировалась сейчас Нана, она не успела еще обзавестись соответствующей обстановкой и решила поэтому, что пусть уж лучше ресторан придет к ней, нежели она пойдет в ресторан. Так казалось ей куда шикарнее. Ей хотелось отпраздновать свой шумный артистический успех ужином, о котором заговорил бы весь Париж. Столовая была невелика, метрдотель остановил свой выбор на гостиной и накрыл там стол на двадцать пять кувертов, поставив приборы теснее, чем требовалось.
– Все готово? – спросила Нана, вернувшись домой в полночь.
– А я почем знаю, – сердито огрызнулась Зоя, буйствовавшая весь день. – Мое дело, слава те господи, сторона. Такой разгром устроили на кухне, да и во всей квартире тоже… А тут еще ругаться пришлось. Те-то двое взяли и явились! Не беспокойтесь, я их живо спровадила.
Зоя имела в виду двух бывших содержателей мадам, негоцианта и валаха, с которыми Нана, уже не боясь за будущее, решила расстаться; ей хотелось, по ее собственному выражению, «поскорее сбросить прежнюю шкуру».
– Вот нахалы надоедливые, – буркнула она. – Если посмеют еще явиться, пригрозите им, что пойдете за полицией.
Затем она крикнула Дагне и Жоржа, которые замешкались в передней, вешая пальто. Молодые люди встретились у артистического подъезда в Пассаже панорам, и Нана привезла их с собой в фиакре. Так как гости еще не собрались, она позвала их в будуар, где Зоя одевала ее к вечеру. В спешке Нана решила не менять платья, только велела Зое поправить прическу да приколола две белые розы, одну к корсажу, другую в волосы. Весь будуар заставили мебелью из гостиной; наваленные друг на друга круглые столики, канапе, кресла вздымали к потолку свои деревянные ножки. Нана была уже совсем готова, как вдруг зацепилась подолом юбки за колесико кресла и порвала оборку. Она даже чертыхнулась от злости: вечно с ней случаются всякие неприятности! Яростными движениями она стащила с себя платье, простенькое платьице из белого фуляра, такое тонкое и мягкое, что оно облегало ее, словно длинная ночная сорочка. Но тут же скова надела его, так как все прочие туалеты не пришлись ей по вкусу; еле сдерживая сердитые слезы, она уверяла, что выглядит просто тряпичницей. Пока Зоя поправляла хозяйке прическу, Дагне с Жоржем закололи булавками порванное место. Все трое ужасно суетились, особенно хлопотал мальчуган: он ползал вокруг Нана на коленях, не выпуская из рук подола юбки. Наконец Дагне удалось ее успокоить, он сказал, что сейчас всего лишь четверть первого, недаром она прогнала как на курьерских третье действие «Белокурой Венеры», глотала реплики, пропускала целые куплеты.
– Подумаешь, для этих болванов и так сойдет, – заявила она. – Видели, какие у них нынче вечером были физиономии? Зоя, милочка, подождите меня здесь. Не ложитесь, может быть, вы мне еще понадобитесь… Черт! Уже пора, гости пришли.
Нана выскользнула из будуара. Жорж все еще стоял на коленях, подметая паркет полами фрака. Поймав взгляд Дагне, он покраснел. В последнее время молодые люди прониклись друг к другу самыми нежными чувствами. Они поправили перед зеркалом галстуки и почистили друг друга щеткой, так как, вертясь вокруг Нана, перепачкались пудрой.
– Точно сахар, – пробормотал Жорж и рассмеялся счастливым смехом падкого на сладенькое мальчугана.
Нанятый на ночь лакей вводил приглашенных в маленькую, тесную гостиную, где оставили лишь четыре кресла, чтобы поместилось побольше народа. Из соседней большой гостиной доносился звон тарелок и стук ножей, а сквозь щель из-под двери пробивалась яркая полоска света.
Войдя в гостиную, Нана обнаружила в одном из кресел Клариссу Беню, которую привел с собою Ла Фалуаз.
– Как, ты первая! – воскликнула Нана, которая после своего шумного успеха стала обращаться с Клариссой запросто.
– Да это все он, – ответила Кларисса. – Боялся опоздать… Если бы я его послушалась, пришлось бы ехать в парике, даже грима не успела бы снять.
Молодой человек, впервые видевший Нана так близко, поклонился, рассыпался в комплиментах, упомянул заодно о своем кузене, стараясь скрыть смущение преувеличенно изысканной вежливостью. Однако Нана, которая даже не знала, кто он такой, рассеянно поздоровалась с гостем и, не дослушав комплиментов, бросилась навстречу Розе Миньон. Вдруг она стала сама светскость.
– Ах, дорогая мадам, как мило с вашей стороны! Я так счастлива, что вы меня посетили!
– Я сама в восторге! – ответила Роза. Она тоже была сама любезность.
– Присядьте, пожалуйста… Не нужно ли вам чего-нибудь?
– Нет, благодарю… Ах да, я забыла в шубке веер. Штейнер, принесите веер, он в правом кармане.
Штейнер с Миньоном вошли вслед за Розой. Банкир отправился в переднюю за веером и вернулся как раз в тот момент, когда Миньон, по-братски расцеловавшийся с Нана, заставил Розу тоже с ней поцеловаться. Разве они, актеры, не одна семья? Потом подмигнул Штейнеру, как бы поощряя и его, но банкир, смущенный безмятежным взглядом Розы, скромно приложился к ручке Нана.
Затем явился граф де Вандевр с Бланш де Сиври. Снова повторилась вся церемония. Нана торжественно подвела Бланш к креслу. А Вандевр тем временем со смехом сообщил, что Фошри сцепился внизу с привратником, который отказался пропустить во двор карету Люси Стюарт. В передней послышался голос самой Люси, которая честила за глаза привратника скотиной и грубияном. Но когда лакей распахнул перед ней дверь гостиной, Люси вошла с обычной своей веселой грацией, сама представилась хозяйке дома и, взяв обе ее руки в свои, сказала, что полюбила Нана с первого взгляда за ее недюжинный талант. Нана, упиваясь своей новой ролью хозяйки дома, поблагодарила гостью, искренне смущенная ее похвалами. Но, завидев Фошри, Нана насупилась. Улучив минутку, она приблизилась к нему и шепотом спросила:
– Придет?
– Не придет, отказался, – буркнул журналист, застигнутый врасплох, хотя заранее подготовил целую историю, чтобы смягчить отказ Мюффа.
Увидев, как побледнела Нана, он понял свой промах и попытался исправить дело:
– Он не может, сегодня вечером он сопровождает графиню на бал в министерство внутренних дел.
– Ладно, – прошипела Нана, заподозрив журналиста в коварстве. – Ты мне за это, миленький, поплатишься.
– Еще чего, – отозвался Фошри, оскорбленный угрозами Нана, – запомни, я не любитель подобных поручений. Следующий раз потрудись адресоваться к Лабордету.
Оба сердито повернулись друг к другу спиной. Тем временем Миньон тянул Штейнера к Нана. Когда она осталась одна, Миньон, понизив голос, сказал с простодушным цинизмом сводника, желающего услужить другу:
– Он, знаете, просто умирает от любви к вам… Только боится моей супруги. Не возьмете ли вы его под свое крылышко?
Нана слушала Миньона с притворно непонимающим видом. Затем, улыбнувшись, обвела глазами Розу, ее мужа и банкира и обратилась к последнему:
– За ужином, господин Штейнер, вы будете моим соседом.
Но тут из передней донесся смех, шушуканье, веселый щебет, словно туда впорхнула целая стайка монастырских воспитанниц, вырвавшихся из-под строгой опеки. И в дверях появился Лабордет во главе пяти дам, «своих пансионерочек», как окрестила их острая на язык Люси Стюарт… Тут была Гага, величественная в туго стягивавшем ее платье голубого бархата; Каролина Эке, как и обычно, в черном фае, отделанном кружевами шантильи, затем Леа де Горн, вырядившаяся во что-то весьма безвкусное, толстуха Татан Нене, добродушная блондинка с мощной, как у кормилицы, грудью, что служило предметом общих насмешек, и, наконец, Мария Блон, девчонка лет пятнадцати, худенькая и испорченная, как парижский гамен, недавно дебютировавшая в Фоли. Лабордет привез весь свой выводок в одной карете; и они до сих пор хихикали, вспоминая, какая там была теснота, – Марии Блон пришлось даже сидеть у них на коленях. Однако, здороваясь с гостями, новоприбывшие дамы церемонно раскланивались, поджимали губки, – словом, вели себя как порядочные. Гага ребячилась, даже присюсюкивала для большей светскости. Одна только Татан Нене, которой по дороге сказали, что у Нана будут прислуживать за столом полдюжины негров без всякой одежды, взволновалась и пожелала непременно их увидеть. Лабордет, обозвав Татан дурехой, велел ей замолчать.
– А Борденав? – осведомился Фошри.
– Представьте себе, какое горе! – воскликнула Нана. – Он не может провести с нами вечер.
– Верно, – подтвердила Роза Миньон, – он чуть было не упал в люк, и теперь у него ужасный вывих. Если бы вы только слышали, как он клянет всех и вся, ведь ему приходится сидеть и держать перевязанную ногу на стуле.
Все дружно пожалели Борденава. Без Борденава и ужин не в ужин. Ничего не поделаешь, придется обойтись без него. И гости перешли уже к следующей теме, как вдруг в передней раздался громовой голос:
– Как бы не так! Славное дело, хоронить меня собрались?
Присутствующие ахнули, обернулись к дверям. На пороге стоял Борденав, огромный, багровый, с негнущейся ногой, опираясь на плечо Симоны Кабирош.
В данное время он жил с Симоной. Блондиночка Симона получила прекрасное образование, бегло играла на пианино, говорила по-английски; миниатюрная, деликатного сложения, она гнулась под тяжестью опиравшегося на ее плечо Борденава и все же хранила на губах покорную и влюбленную улыбку. Он с умыслом помедлил в дверях, отлично понимая, что вместе они образуют колоритную пару.
– Вот что делает с человеком дружба! – начал он. – Сидел, сидел один, испугался, что соскучусь, и подумал: дай, мол, поеду…
Но, не договорив фразы, вдруг крикнул:
– Черт побери!
Это восклицание относилось к Симоне, которая неосторожно шагнула вперед, и он чуть было не упал. Борденав сердито толкнул ее. А она, все так же улыбаясь, пригнула хорошенькую белокурую головку, – маленькая, пухленькая, покорная, как животное, ожидающее удара, – и всеми силами старалась поддержать Борденава. Тут дамы заохали, засуетились. Нана и Роза Миньон подкатили кресло, Борденав тяжело рухнул на сидение, а остальные бережно уложили его больную ногу на другое кресло. И все присутствующие актрисы, само собой разумеется, бросились его целовать. Он ворчал, вздыхал:
– Черт возьми! Черт возьми! Слава богу, хоть желудок уцелел, сами за ужином убедитесь.
Подоспели и другие приглашенные. В комнате нельзя было сделать шагу. Звяканье тарелок и ножей стихло, зато теперь из гостиной, где, видимо, перессорились лакеи, доносился начальственный голос метрдотеля. Нана нервничала, приглашенные уже съехались, а ужинать не зовут. Она послала Жоржа узнать причину задержки, как вдруг, к великому ее изумлению, вошла новая группа гостей – мужчин и дам. Этих она уже окончательно не знала. Тогда, немного смущенная, она стала расспрашивать Борденава, Миньона, Лабордета. Но и те знали не больше. Она обратилась за разъяснениями к графу Вандевру, которого вдруг осенило: да это же он сам завербовал молодых людей на вечере у Мюффа. Нана поблагодарила его. Чудесно! Просто чудесно! Только им будет тесновато. И она попросила Лабордета сходить к метрдотелю, пусть добавят еще семь приборов. Едва Лабордет скрылся за дверью, как лакей ввел еще троих новых гостей. Ну, это уж просто нелепость, они ни за что не поместятся за столом. Раздосадованная Нана, взяв, как это с ней иногда случалось, светский тон, заявила, что у приличных людей не принято так поступать… Но когда явилось еще двое запоздавших, Нана расхохоталась – это становилось даже забавным. Им же хуже, пускай рассаживаются как знают. Все гости стояли, за исключением Гага и Розы Миньон, да Борденав захватил целых два кресла. В комнате слышался сдержанный гул голосов, приглашенные втихомолку зевали, прикрывая ладонью рот.
– А не пора ли нам, дочка, за стол? – спросил Борденав. – Надеюсь, все уже в сборе?
– Еще бы не все, – смеясь, ответила Нана.
Она обвела взором гостей. И вдруг сразу лицо ее стало серьезным, она, видимо, удивилась, не найдя того, кого искала. Ясно, что не явился еще один приглашенный, о котором Нана предпочла умолчать. Придется подождать. Несколько минут спустя гости заметили в толпе какого-то высокого господина с благообразной физиономией и великолепной седой бородой. И самое удивительное, что никто не видел, как он вошел: должно быть, незаметно проскользнул в гостиную через полуотворенную дверь спальни. Воцарилось молчание, слышно было только, как шушукались гости. Один лишь Вандевр знал вошедшего господина, они даже обменялись беглым рукопожатием; но на вопросы женщин граф отвечал загадочной улыбкой. Каролина Эке вполголоса уверяла, что это английский лорд, который завтра уезжает в Лондон жениться; она его знает, она сама с ним жила. И эта история мигом обошла всех присутствующих дам; однако Мария Блон запротестовала – вовсе это не лорд, а немецкий посол, ей это хорошо известно, он часто навещает одну ее подружку. Мужчины тоже обменялись на его счет беглыми фразами. Господин, по всему видно, серьезный; возможно, как раз он-то и оплатил ужин. Все может быть! Похоже на то! Нам-то что, лишь бы хорошо кормили. Словом, вопрос остался открытым… Все уже забыли о седобородом господине, как вдруг метрдотель распахнул двери большой гостиной.
– Мадам, кушать подано.
Нана приняла подставленную ей калачиком руку банкира Штейнера, сделав вид, что не заметила шагнувшего было к ней старца, который в одиночестве поплелся сзади. Торжественного шествия к столу не получилось. Кавалеры и дамы входили в гостиную гурьбой, посмеиваясь снисходительно, как порядочные буржуа, над этой простотою нравов. Просторную комнату, откуда вынесли всю мебель, занимал длинный стол. Но и этого стола не хватало, приборы стояли вплотную друг к другу. Четыре канделябра, каждый по десять свечей, освещали стол; особенно бросался в глаза один, из накладного серебра, помещенный между двух огромных букетов. То был классический ресторанный шик – фарфоровая посуда с золотой сеточкой без вензелей, серебряные приборы, потускневшие и облезшие от долголетней мойки, хрустальные бокалы из тех, что покупают поштучно на любой толкучке. Нечто вроде новоселья на скорую руку, устроенного людьми вдруг разбогатевшими и еще не осмотревшимися в своем новом жилище. Не хватало одной люстры, непомерно длинные свечи в канделябрах еще не разгорелись как следует и лили блекло-желтый свет на компотницы, на стопки тарелок, на вазы, где симметричными горками лежали фрукты, печенье, сласти.
– А знаете что, давайте сядем как попало, – предложила Нана. – Так будет веселее.
Сама она не садилась, а стояла ближе к середине стола. Старый господин, которого никто из приглашенных не знал, занял место по правую ее руку, а по левую она сама усадила Штейнера. Приглашенные совсем было расселись, как вдруг из маленькой гостиной донеслось чертыханье. Это чертыхался Борденав, которого забыли в суматохе и который теперь силился подняться со своих двух кресел; он ворчал, он звал эту негодяйку Симону, улизнувшую от него вместе с прочими. Дамы, полные жалости, кинулись к Борденаву, и вот он показался на пороге – его поддерживали со всех сторон, чуть ли не несли на руках Каролина, Кларисса, Татан Нене и Мария Блон. Но усадить несчастного за стол оказалось делом непростым.
– В середину стола, напротив Нана! – заорали присутствующие. – Борденава в середину! Он будет председательствовать!
Тогда его усадили на указанное место. Но требовался еще один стул для больной ноги. Две дамы подняли его ногу, осторожно уложили ее на стул. Ничего, можно есть и так, сидя к столу боком.
– Черт бы меня побрал, – жаловался Борденав. – Совсем колодой стал! Вы, кисоньки мои, уж поухаживайте за папочкой!
Справа от него уселась Роза Миньон, слева – Люси Стюарт. Обе обещали позаботиться о больном. Гости кое-как разместились. Граф де Вандевр сел между Люси и Клариссой, а Фошри – между Розой Миньон и Каролиной Эке. Гектор де Ла Фалуаз поспешно пробрался на противоположную сторону стола, чтобы занять место подле Гага, не обращая внимания на зовы Клариссы; Миньон, не желавший выпускать из вида банкира Штейнера, уселся рядом с его соседкой Бланш, а справа от него поместилась Татан Нене. За нею следовал Лабордет. На обоих концах стола вперемежку устроились молодые люди и дамы – Симона, Леа де Горн, Мария Блон. Туда же попали Дагне и Жорж Югон, которые все больше и больше симпатизировали друг другу и то и дело с улыбкой поглядывали на Нана.
Двум девицам не хватило места, и начались шутки. Мужчины игриво предлагали им в качестве сиденья свои колени. Кларисса, которую так зажали, что она не могла рукой пошевелить, заявила Вандевру, что ему придется кормить ее с ложечки. А тут еще этот Борденав расселся, заняв сразу два стула. Гости, сделав еще усилие, потеснились, и всем нашлось место. Но Миньон громко выразил недовольство, – народу набилось, как сельдей в бочке!
– Крем-спаржа контеос, консоме а-ля Делиньяк, – доверительно сообщали официанты, проходя за спиной гостей с полными тарелками.
Борденав во всеуслышание высказался за консоме. Но его голос потонул в общем крике. Сотрапезники сердились, протестовали. Дверь отворилась, и вошли трое запоздавших гостей – дама с двумя кавалерами. Ах нет, это уже сверх комплекта. Нана, не вставая со стула, щурила глаза, стараясь разглядеть, кто вошел – знакомые или нет. Дама оказалась Луизой Виолен. Но ее кавалеров Нана никогда не видела.
– Дорогая моя, – обратился к ней Вандевр, – разрешите представить моего приятеля, господина Фукармона, он морской офицер, и его пригласил я.
Фукармон развязно раскланялся и добавил:
– А я разрешил себе привести своего приятеля.
– Очень, очень мило! – воскликнула Нана. – Садитесь, пожалуйста… Подвинься-ка, Кларисса. Очень уж вы там расселись… При желании вполне можно освободить место…
Стулья сдвинули еще плотнее, так что Фукармону и Луизе досталось на двоих одно местечко в углу стола, но приятелю Фукармона пришлось стоять на значительном расстоянии от прибора; он так и ел стоя, тянулся к тарелке через плечи соседей. Официанты убрали глубокие тарелки и разносили теперь кроличьи сосиски с трюфелями и котлеты с пармезаном. Борденав всполошил весь стол, заявив, что чуть было не привел с собой Прюльера, Фонтана и старика Боска. Но Нана с достоинством вскинула голову и сухо ответила, что незваным гостям не поздоровилось бы. Если бы ей хотелось пригласить своих коллег, она сама бы потрудилась это сделать. Нет, нет, только не актеришки! Старик Боск вечно пьян; Прюльер жрет как свинья, а Фонтан просто нетерпим в обществе – орет, валяет дурака. К тому же актеры уж никак неуместны в обществе этих господ.
– Что верно, то верно! – подхватил Миньон.
А эти господа во фраках и белых галстуках, сидя вокруг стола, вели себя вполне корректно, и их бледные лица, осунувшиеся от утомления, казались еще более аристократичными. Старик кушал неторопливо, тонко улыбался, будто председательствовал на дипломатическом конгрессе. Вандевр, казалось, находится на приеме у графини Мюффа, так изысканно ухаживал он за своими соседками. Еще нынче утром Нана объясняла тетке: насчет мужчин можно не беспокоиться – все либо вельможи, либо богачи, – словом, люди шикарные. Что касается дам, то и они вели себя в высшей степени прилично. Кое-кто – Бланш, Леа, Луиза – явились в декольтированных платьях; но одна лишь Гага, пожалуй, показывала публике больше, чем надо, хотя в ее годы предпочтительнее было бы вообще ничего не показывать. Сейчас, когда гости расселись, смех и шутки стихли. Жорж даже подумал, что ему доводилось присутствовать на более веселых обедах, скажем, в Орлеане, у тамошних буржуа. А здесь говорили мало, незнакомые мужчины церемонно поглядывали друг на друга; женщины держались спокойно, и это последнее обстоятельство особенно поразило юношу. Он обозвал их про себя «мещанками», он-то надеялся, что здесь сразу же начнут целоваться!
Когда подали рейнских карпов а-ля Шамбор и козье седло по-английски, Бланш громко произнесла:
– Люси, милочка, я в воскресенье встретила вашего Оливье… Как же он вырос!
– Еще бы! Ему уже восемнадцать, – отозвалась Люси. – Это меня не особенно молодит. Вчера он вернулся к себе в училище.
Ее сын Оливье, о котором она говорила с материнской гордостью, учился в морском училище. Разговор зашел о детях. Дамы растрогались. Нана поделилась своей радостью: ее крошка, ее маленький Луизэ, живет теперь у тетки, тетка приводит мальчика сюда каждое утро, часов в одиннадцать, Нана берет его к себе в постель, и он играет с ее собачонкой, грифоном Люлю. Просто со смеху можно помереть, когда они вдвоем катаются по постели, зарываются под одеяло. Трудно даже поверить, каким плутишкой растет Луизэ.
– А я вчера провела чудесный день, – в свою очередь рассказывала Роза Миньон. – Представьте себе, заехали в пансион за Шарлем и Анри, а вечером, хочешь не хочешь, пришлось взять их в театр… Как же они прыгали, били в ладошки: «Мы увидим мамочку! Увидим мамочку!» Такой шум подняли, просто ужас.
Миньон слушал со снисходительной улыбкой, глаза его увлажнила слеза отцовской нежности.
– А на спектакле, – подхватил он, – они такие были забавные, сидели важно, совсем как взрослые, не спускали с Розы глаз и все у меня допытывались, почему у мамочки голые ножки…
Все дружно захохотали. Миньон торжествующе обводил взором гостей, польщенный в своей родительской гордости. Он обожал этих дорогих малюток, он жил единственной заботой – увеличить состояние детей, для чего, как верный и суровый управляющий, распоряжался деньгами, которые Роза зарабатывала в театре и не в театре. Когда Миньон – дирижер оркестра – женился на Розе, которая пела в том же кафешантане, молодые обожали друг друга. Теперь они стали просто добрыми друзьями. Между ними существовал неписанный договор: Роза работает без устали, широко используя свой талант и свою красоту, а он, бросив скрипку, неусыпно наблюдает за артистическими и прочими успехами Розы. Трудно было найти более мещанскую и более дружную чету.
– А сколько лет старшему? – осведомился Вандевр.
– Анри уже девять, – ответил Миньон. – Ну и плут растет, я вам доложу!
Тут он стал поддразнивать Штейнера, который терпеть не мог детей, и заявил с наглой самоуверенностью, что, будь у банкира потомство, не стал бы он так глупо транжирить свои капиталы. Продолжая шутить, он из-за плеча Бланш следил за Штейнером, желая удостовериться, как у них с Нана идут дела. Но его раздражало поведение Розы, которая, сидя слишком близко к Фошри, о чем-то оживленно с ним беседовала. Не очень-то рассудительно со стороны Розы терять золотое время на разные глупости. В подобных случаях супругу надлежит вмешаться без колебаний. И супруг, изящно держа нож и вилку в своих красивых руках с крупным бриллиантом на мизинце, стал доедать козье филе.
А разговор о детях все еще продолжался. Ла Фалуаз, которого волновало близкое соседство Гага, осведомился о ее дочери, сказав, что имел удовольствие видеть ее в Варьете. Лили чувствует себя превосходно, но это еще такой ребенок! Ла Фалуаз удивился, узнав, что Лили идет девятнадцатый год. Это обстоятельство придало в его глазах еще больше весу самой маменьке. И когда он спросил, почему она не привела с собой дочку, Гага жеманно воскликнула:
– Ох нет, что вы! Всего три месяца назад она вышла из пансиона, не захотела там больше оставаться. Я мечтала сразу же выдать ее замуж… Но она просто меня обожает, и я вынуждена была ее взять – о! поверьте – против моей воли.
Она говорила о тщетных стараниях устроить судьбу дочери, и ее тронутые синей тушью веки со спаленными ресницами нервно дрожали. Если уж она, Гага, в свои годы не сумела отложить про черный день ни гроша, если ей до сих пор приходится заниматься прежним ремеслом, имея в качестве клиентов чаще всего юнцов, которым она в бабки годится, – так уж лучше и в самом деле выйти поскорее замуж. Она склонилась к Ла Фалуазу и так прижала его к спинке стула жирным, густо набеленным плечом, что юноша покраснел от смущения.
– Если Лили свихнется, – шепнула Гага, – поверьте, моей вины тут не будет… Чего только не творишь в молодости!
Вокруг стола началось движение. Официанты засуетились, меняя тарелки. Подали новое блюдо: пулярку а-ля марешаль, рыбное филе под чесночным соусом и гусиный паштет. Метрдотель, который до этой перемены наливал гостям мерсо, стал предлагать теперь шамбертен и леовиль. Под легкий стук тарелок Жорж, который с каждой минутой дивился все больше, спросил Дагне, неужели у всех тут есть дети; Дагне, улыбнувшись наивности вопроса, сообщил о дамах кое-какие подробности. Люси Стюарт – дочь англичанина, работавшего смазчиком на Северном вокзале; ей тридцать девять, физиономия лошадиная, а все-таки прелесть; уже давно больна чахоткой и никак не умрет; самая шикарная из всех этих дам – на ее счету три принца и один герцог. Каролина Эке родилась в Бордо, в семье мелкого чиновника, не пережившего позора, но ей повезло – у нее мамаша прямо министр; так вот, эта самая мамаша сначала прокляла дочку, а потом через год примирилась с ней, – очевидно, одумалась и поняла, что дочери нужно хотя бы обеспечить себя; Каролине двадцать пять лет, весьма холодная особа, слывет одной из первых красавиц Парижа, доступных за определенную, раз навсегда установленную цену; мать – олицетворение порядка, ведет счета, строго учитывает все поступления и расходы, распоряжается хозяйством, а сама ютится в тесной квартирке двумя этажами выше и содержит белошвейную и портняжную мастерскую. А Бланш де Сиври – на самом дело Жаклина Бодю, родом откуда-то из-под Амьена; великолепный экземпляр, дуреха и лгунья, выдает себя за внучку генерала и скрывает свой возраст, – а ей уже тридцать два; благодаря своим округлым формам особым успехом пользуется у русских. Всех прочих Дагне характеризовал двумя-тремя краткими фразами: Клариссу Беню вывезла из Сен-Обена в качестве прислуги одна дама, муж которой и пустил девицу по торной дорожке; Симона Кабирош – дочь владельца мебельного магазина в Сент-Антуанском предместье, получила прекрасное воспитание в пансионе и готовилась в учительницы; Мария Блон, Луиза Виолен, Леа де Горн – просто парижские потаскушки, а Татан Нене до двадцати лет пасла коров в их вшивой Шампани. Слушая Дагне, Жорж пялил глаза на милых дам. Этот грубый перечень без прикрас взволновал и ошеломил юношу. Он слушал соседа, нашептывавшего ему на ухо все эти подробности, а официант, проходя за их стульями, почтительно предлагал:
– Пулярка а-ля марешаль… Рыбное филе под чесночным соусом…
– Вот что, дружок, – посоветовал Дагне, решивший до конца передать юноше свой светский опыт, – никогда не ешьте рыбы на ночь, рыба в таких случаях не годится… и ограничьтесь леовилем, оно не подведет.
Нестерпимым жаром веяло от горящих канделябров, от блюд, от всего стола, вокруг которого теснилось тридцать семь персон; официанты как угорелые носились по ковру, и на нем множились жирные пятна. Ужин тянулся все так же нудно. Дамы отщипывали по кусочку, оставляя на тарелках половину мяса. Одна лишь Татан Нене жадно уплетала все подряд. В этот поздний час ели только те, у кого разыгрывался нервный аппетит или начинал капризничать, требуя пищи, неисправный желудок. Сидевший подле Нана пожилой господин отказывался от всех блюд; он откушал только несколько ложек овощного пюре и, сидя над пустой тарелкой, молча глядел на гостей. А гости украдкой начинали позевывать, то у одного, то у другого смежались веки, лица принимали землисто-серый оттенок; словом, мухи от скуки дохли, по выражению Вандевра. Чтобы такой ужин получился веселым, надо отказаться от чистоплюйства. А если разыгрывать паинек, соблюдать хороший тон, уж лучше ужинать в светском обществе – хоть не так скучно. Не будь здесь Борденава, который орал не переставая, все бы давным-давно заснули. Этот скотина Борденав, удобно устроив больную ногу на свободном стуле, сидел, словно султан, и снисходительно позволял своим соседкам, Розе и Люси, прислуживать ему. Они только им одним и занимались, обхаживали его, лелеяли, зорко следили, чтобы не пустовала его тарелка и рюмка, но ему все казалось мало.
– Кто же мне в конце концов мясо нарежет?.. Сам ведь я не могу, сижу за версту от стола.
Каждую минуту Симона вскакивала с места, пробиралась к Борденаву и, стоя за его спиной, резала ему жаркое и хлеб. Все дамы интересовались, что и как он ест. Снова и снова подзывали лакеев, кормили его словно на убой. Симона вытирала ему салфеткой губы, Роза и Люси меняли ему тарелки, а он их похваливал и наконец с довольным видом заявил:
– Эх, славно! Ты, дочка, права… Женщина только для этого дела и создана.
Гости немножко оживились, завязалась общая беседа. Доканчивали мандариновый шербет. Подали два жарких: горячее – филе с трюфелями и холодное – цесарку под галантином. Нана сидела надувшись, ее злили осоловелые физиономии гостей, и она громко произнесла:
– А знаете, принц шотландский уже заказал ложу на «Белокурую Венеру» к своему приезду на Выставку.
– Надеюсь, ни один принц нас не минует, – заявил Борденав с набитым ртом.
– В воскресенье ждут персидского шаха, – подхватила Люси Стюарт.
Тут Роза Миньон заговорила о бриллиантах шаха. Мундир на нем сплошь усыпан драгоценными камнями, чудо, а не мундир, сияет, как солнце, и стоит миллионы. И, побледнев от вожделения, жадно блестя глазами, вытягивая шеи, дамы громко называли других королей, других императоров, которых ждут в Париже. Каждая мечтала о королевском капризе, когда одна-единственная ночь может принести состояние.
– Скажите, милый, – спросила Каролина Эке, нагнувшись к Вандевру, – а сколько лет русскому императору?
– Тут дело не в возрасте, – смеясь, ответил граф. – Предупреждаю вас: от него как от козла молока.
Нана сделала вид, что оскорблена этими грубыми словами. И верно, всем присутствующим реплика графа показалась чересчур соленой, послышался протестующий ропот. Но тут Бланш сообщила некоторые подробности об итальянском короле, которого видела в Милане, – не красавец, однако женщин имеет сколько угодно; и она недовольно замолчала, когда Фошри сообщил, что Виктор-Эммануил не может прибыть в Париж. Луиза Виолен и Леа больше склонялись на сторону австрийского императора. Вдруг раздался голосок Марии Блон:
– Вот кто настоящий старый кощей, так это прусский король. В прошлом году я была в Бадене и видела его. Каждый день встречала их вместе с графом Бисмарком.
– Ах, Бисмарк, – подхватила Симона, – я его знаю, обаятельный человек.
– Как раз об этом я вчера и говорил, – воскликнул Вандевр, – а мне не желали верить.
И совершенно так же, как у графини Сабины, гости Нана надолго занялись Бисмарком. Вандевр повторял свои вчерашние фразы. На мгновение стало совсем как в салоне Мюффа, только дамы здесь были другие. А от Бисмарка точно так же перешли к музыке. Потом Фукармон упомянул вскользь о пострижении в монахини, о котором говорил весь Париж, и Нана, заинтересовавшись, потребовала, чтобы он рассказал все, что знает, о мадемуазель Фужере. Ах, бедняжечка, заживо похоронить себя! Выходит, против призвания не пойдешь. Все гости растрогались. А Жорж, которому до смерти надоело два вечера подряд слушать одни и те же разговоры, принялся выспрашивать Дагне об интимных привычках Нана, но беседа самым роковым образом вновь зашла о графе Бисмарке. Татан Нене нагнулась к Лабордету и спросила его на ушко, что это еще за Бисмарк, она о нем впервые слышит. Тогда Лабордет с невозмутимым видом стал плести всякие небылицы: Бисмарк ест сырое мясо, а если встретит возле своей берлоги женщину, тут же взвалит ее себе на спину. Поэтому-то у него в сорок лет уже тридцать два ребенка.
– В сорок лет да тридцать два ребенка! – изумленно воскликнула Татан Нене, свято поверив Лабордету. – Он, должно быть, сейчас еле ноги волочит!
Раздался дружный хохот, и Татан поняла, что ее дурачат.
– Ну и глупо! Почем мне знать, что вы шутите!
Гага тем временем все еще рассуждала о Выставке. Подобно всем этим дамам, она радовалась предстоящим увеселениям, готовилась к ним. Сезон будет удачный – в Париж ринется вся провинция, да и заграница тоже. Словом, после Выставки, если, конечно, дела пойдут удачно, она сможет удалиться на покой в Жювизи, где уже давно облюбовала себе домик.
– Ничего не поделаешь, – говорила она Ла Фалуазу, – бьешься, бьешься, и все зря… Хоть бы знать, что тебя любят!
Гага расчувствовалась, ощутив прикосновение колена Гектора к ее ноге. И, продолжая сюсюкать, она присматривалась оценивающим взглядом к его сильно раскрасневшемуся лицу. Молодой человек, видать, не бог весть что, но и она не так уж требовательна. Ла Фалуаз выпросил ее адрес.
– Смотрите-ка, – шепнул Вандевр Клариссе, – как бы Гага не похитила вашего Гектора.
– Плевать мне на него! – отрезала актриса. – Настоящий кретин. Я его три раза за дверь выставляла. На этот раз – шабаш; противно, когда мальчишка возится со старухами.
Она не договорила и незаметным движением век указала графу на Бланш, которая с самого начала ужина сидела в неудобной позе, согнувшись и одновременно выпятив грудь, чтобы показать во всей красе свои плечи пожилому господину светского вида, сидевшему от нее через три человека.
– Вас тоже, дружок, того гляди бросят, – сказала она.
Вандевр небрежно махнул рукой и понимающе улыбнулся. Уж кто-кто, а он не собирается мешать успехам бедняжки Бланш. Его куда сильнее заинтересовало поведение Штейнера, к которому присматривался сейчас весь стол. Банкир славился тем, что на него вдруг накатывал стих; и когда у этого немецкого еврея, у этого беспощадного дельца, который ворочал миллионами, начиналось новое увлечение, он просто-напросто глупел; ему хотелось обладать всеми женщинами подряд, и стоило на сцене парижского театра появиться новой звезде, как он тут же покупал ее, сколько бы это ни стоило. Люди называли баснословные цифры. Необузданная жадность к женщинам дважды доводила его до разорения. По словам Вандевра, в лице этих хищниц мстила за себя поруганная добродетель. Крупные операции с Ландскими Солончаками вернули ему былой вес на бирже, и вот уже полтора месяца, как Миньоны присосались к этим самым солончакам. Но многие уже держали пари, что не Миньонам достанется последний лакомый кусочек! Недаром Нана показывает свои белые зубки. Опять, в который раз, Штейнер попался, да так попался, что, сидя подле Нана с пришибленным видом, даже жевал через силу; нижняя губа его отвисла, все лицо пошло красными пятнами.
Нана оставалось лишь назвать сумму. Однако она не торопилась, она играла с ним как с мышью, только хохотала ему прямо в волосатое ухо и от души забавлялась, видя, как по его жирному лицу проходит судорога страсти. Если паче чаяния этот балда Мюффа будет по-прежнему корчить из себя Иосифа Прекрасного, она всегда сумеет прибрать к рукам банкира.
– Прикажете леовиля или шамбертена? – вполголоса осведомился лакей, просовывая свою физиономию между Нана и Штейнером, который шептал что-то на ухо своей соседке.
– А? Что? – заикаясь, пролопотал банкир, окончательно ошалев. – Что хотите, все равно.
Вандевр тихонечко толкнул локтем Люси Стюарт, эту язву Люси, которая, раз начав, уже не знала удержу в злословии. Сегодня ее особенно раздражал Миньон.
– Да он, поверьте, сам еще свечу держать будет, – сказала она графу. – Надеется повторить трюк с молодым Жонкье… Помните, Жонкье, который жил с Розой и вдруг врезался в эту дылду Лору… Миньон раздобыл ему Лору, а после привел его за ручку к Розе, словно мужа, которому разрешили погулять на стороне… Только на сей раз номер не пройдет. Нана не из тех, кто возвращает обратно одолженных ей на время мужчин.
– А почему Миньон так строго смотрит на жену? – спросил Вандевр.
Нагнувшись вперед, он поглядел на Розу, которая совсем разнежничалась с Фошри. Так вот откуда гнев Люси! Он расхохотался.
– А я и не знал, что вы ревнивы!
– Я ревнива? – яростно повторила Люси. – Если Розе понадобился Леон, пожалуйста, я его с руками и ногами отдам. Грош ему цена! Один букетик в неделю, да и то!.. Видите ли, мой милый, все эти театральные дивы одним миром мазаны. Роза ревела от злости, прочитав статью Леона о Нана; я-то знаю. А теперь, сами понимаете, подавай ей тоже статью, ну она и старается… Вот увидите, вышвырну я Леона!
И, прервав свои излияния, скомандовала лакею, стоявшему с двумя бутылками:
– Леовиля!
Потом, понизив голос, продолжала:
– Подымать шум я не собираюсь, это не в моем стиле. Но все-таки Роза настоящая шлюха. На месте мужа задала бы я ей перцу. Только хлебнет она горя. Она еще не знает, что за сокровище мой Фошри, господинчик не из чистоплотных, цепляется за женщин, – видно, думает через них сделать карьеру… Миленькая публика!
Вандевр попытался ее успокоить. Борденав, забытый Розой и Люси, злился, вопил, что они уморят папочку голодом. Его жалобы развеселили всех присутствующих. Ужин затянулся. Никто ничего не ел; гости нехотя ковыряли вилкой белые грибы по-итальянски, ананасный пирог а-ля Помпадур. Но от шампанского, которое начали пить после супа, гостями постепенно овладело нервическое опьянение. Манеры стали развязнее. Дамы непринужденно облокачивались о стол, заваленный грудами тарелок; мужчины, наоборот, отодвигали стулья, чтобы передохнуть немного; и фраки темными пятнами врезались в строй светлых корсажей, муаровый отблеск ложился на обнаженные плечи повернувшейся к соседу дамы. Становилось душно, желтый свет свечей сгущался над столом. Когда порой склонялась чья-то головка в бесчисленных золотистых кудерьках, на высоком шиньоне радугой вспыхивал алмазный гребень. Веселье зажигало огоньки в смеющихся глазах, приоткрывались в улыбке ослепительные зубы, свет канделябров играл в бокале шампанского. Шутки становились громче, жесты шире, из общего гула вырывался чей-то вопрос, оставшийся без ответа, кто-то окликал кого-то через всю комнату. Но больше всего шума производили лакеи; забыв, что здесь не коридор ресторана, они грубо толкались, разнося мороженое и десерт, перекликались сиплыми голосами.
– Дочки, дочки, – вопил Борденав, – помните, завтра спектакль… Воздержитесь, не особенно налегайте на шампанское.
– А вот я пил во всех пяти частях света все существующие в мире вина… Самые удивительные напитки, которые могут любого здоровяка убить наповал… – рассказывал Фукармон. – И, вообразите, хоть бы что! Не могу напиться допьяна. Пробовал, да не выходит!
Он сидел, откинувшись на спинку стула, и пил бокал за бокалом, с очень бледным холодным лицом.
– Ну и ладно, хватит с тебя, – пробормотала Луиза Виолен, – уже налакался… Страшно весело будет с тобой до самого утра возиться.
Шампанское зажгло на бледных щеках Люси Стюарт два алых чахоточных пятна, разнежило Розу Миньон, глаза которой увлажнил яркий блеск. Татан Нене, разомлев от еды, только глупо хихикала. Прочие дамы – Бланш, Каролина, Симона, Мария – говорили все разом о своих делах, о ссоре с кучером, о предполагаемой поездке за город, рассказывали запутанные истории о соперницах, которые сначала отбивали у них любовников, а потом возвращали обратно. Но когда какой-то молодой человек, сидевший неподалеку от Жоржа, полез с поцелуями к Леа де Горн, ответом был толчок в грудь и произнесенное с великолепным негодованием: «Да ну вас! Отстаньте», – и Жорж, окончательно охмелевший, взволнованный прелестями Нана, отказался от своего проекта, который он упорно обдумывал уже с полчаса, – залезть на четвереньках под стол и прижаться там по-щенячьи к ногам своей богини; никто бы его не заметил, а он бы сидел себе смирненько. Когда же, по просьбе Леа, Дагне сделал нахалу соответствующее внушение, Жоржу вдруг стало ужасно тоскливо, будто нагоняй получил он сам, – как все глупо, скучно, ничего хорошего, оказывается, тут нет. Однако Дагне продолжал шутить, заставил его выпить стакан холодной воды; что же будет делать Жорж, оставшись наедине с дамой, спрашивал он, если он от трех бокалов шампанского с ног валится?
– Взять хотя бы Гавану, – разглагольствовал Фукармон, – тамошние жители гонят водку из каких-то диких ягод; глотнешь, как огнем обжигает… А я за вечер спокойно выпил целый литр. И хоть бы в одном глазу… Больше того, как-то на Коромандельском побережье нас угостили тамошней настойкой, – по-моему, туда входили главным образом перец и купорос, – и опять-таки мне хоть бы что… Не пьянею, и все тут.
Но ему почему-то вдруг не понравилась физиономия сидевшего напротив Ла Фалуаза. Он стал прохаживаться на его счет, говорить гадости. А Ла Фалуаз, у которого уже порядком кружилась голова, беспрестанно вертелся на стуле, жался к Гага. Он тоже забеспокоился, ему показалось, что кто-то украл его носовой платок; с упорством пьяного он требовал, чтобы ему немедленно вернули носовой платок, спрашивал соседей, не видали ли они его носового платка, заглядывал под стол и под стулья. Гага пыталась его образумить, а он бормотал ей в ответ:
– Это же глупо, поймите, ведь на уголке мой вензель и дворянская корона… Это же меня скомпрометировать может.
– Эй вы, там, господин Фаламуаз, Ламафуаз, Мафалуаз! – орал Фукармон, очевидно считая весьма остроумным коверкать на все лады фамилию своего визави.
Но Ла Фалуаз рассердился. Он, заикаясь, заговорил о своих предках. Грозился, что сейчас швырнет графин в башку Фукармона. Пришлось вмешаться графу Вандевру и заверить Ла Фалуаза, что Фукармон ужасный шутник. И действительно, все громко захохотали. Это окончательно сразило осоловевшего Ла Фалуаза, он в конце концов смиренно опустился на стул; потом, когда кузен Фошри, сердито повысив голос, приказал ему есть, Ла Фалуаз покорно, как ребенок, принялся за еду. Гага снова привалилась к нему; а он время от времени искоса беспокойно поглядывал на гостей, все еще надеясь обнаружить свой носовой платок.
Но Фукармон, бывший в ударе и не желавший сдаваться, стал приставать теперь к Лабордету, сидевшему на противоположном углу стола. Напрасно Луиза Виолен старалась его утихомирить, – ведь всякий раз, заявила она, когда он с кем-нибудь сцепляется, в результате достается ей. Шутка Фукармона состояла в том, что, обращаясь к Лабордету, он именовал его «сударыня»; должно быть, он сам упивался своей остротой, потому что повторял ее без конца, и всякий раз Лабордет, пожимая плечами, спокойно отвечал:
– Да замолчите, уважаемый, это глупо.
Но так как Фукармон не унимался и даже неизвестно почему перешел к прямым оскорблениям, Лабордет перестал отвечать обидчику и адресовался к графу Вандевру:
– Сударь, велите вашему другу замолчать… Я не намерен заводить ссору.
Лабордет дважды дрался на дуэли. С ним раскланивались, его повсюду принимали. Весь стол восстал против Фукармона. Гости развеселились, шутка показалась остроумной, но это вовсе не значит, что нужно портить людям вечер. Вандевр, тонкое лицо которого побурело, потребовал, чтобы Фукармон называл Лабордета, как и положено, «сударь». Мужчины, и в их числе Миньон, Штейнер, Борденав, изрядно подвыпившие, тоже вмешались в спор, громко заорали, заглушая слова Вандевра. Только пожилой господин, сидевший возле Нана и всеми забытый, хранил свой важный вид и ничего не выражавшую улыбку, следя белесыми глазами за побоищем, разыгравшимся к концу ужина.
– А что, кисонька, если мы здесь кофе выпьем? – спросил Борденав. – Здесь так уютно!
Нана помедлила с ответом. С самого начала ужина она сидела словно в гостях. Суета приглашенных, которые беспрерывно подзывали к себе лакеев, выкрикивали что-то, бесцеремонно расположились здесь, точно в зале ресторана, совсем ее оглушила. Она забыла роль хозяйки дома и занималась только своим соседом, толстяком Штейнером, которого, казалось, вот-вот хватит удар. Она слушала его, отрицательно покачивала головой и смеялась вызывающим смехом, который так идет полным блондинкам. Она вся порозовела от шампанского, глаза блестели, губы увлажнились; и банкир при каждом игривом движении ее плеч, при каждом незаметном повороте головы, подчеркивавшем упоительную складочку на шее, становился все щедрей. Перед его глазами было крошечное, атласной гладкости местечко возле самого ее уха, способное свести с ума. Временами Нана спохватывалась, обращалась с разговорами к гостям, старалась быть любезной, желая показать, что такие приемы ей не в диковинку. К концу ужина она сильно захмелела и сама ужасно этим огорчилась, но так уж на нее действовало шампанское. А главное, ее терзала одна мысль: эти дамы просто хотят сделать ей пакость и потому так развязно себя ведут. О, ее не проведешь! Люси подмаргивает Фукармону, чтобы натравить его на Лабордета, а Роза, Каролина и все прочие дамы подуськивают спорящих. Нарочно подняли такой галдеж, чтобы слова не было слышно, а потом раззвонят по всему Парижу, что на ужине у Нана все дозволено… Хорошо же, они еще увидят! Пусть она пьяная, зато самая шикарная среди всех эти девок и ведет себя вполне прилично.
– Ну, котеночек, – приставал Борденав, – вели подать кофе сюда… Так оно будет лучше, куда же я пойду с больной ногой.
Но Нана, не отвечая, резко поднялась с места и пробормотала, наклонившись к Штейнеру и к своему соседу, благопристойному старику, которые оба растерянно взглянули на нее:
– Поделом мне, зачем пригласила такой сброд!
Потом, указав на дверь столовой, громко произнесла:
– Если хотите кофе, идите туда.
Гости встали из-за стола, потянулись в столовую, даже не заметив гневной выходки Нана. И вскоре в гостиной остался один лишь Борденав. Но и он побрел в столовую, цепляясь за стены, осторожно переставляя больную ногу, кляня этих проклятых баб, – им-то хорошо, нажрались и бросили папочку. А за его спиной лакеи уже убирали со стола, подгоняемые громкими приказаниями метрдотеля. Они торопились, толкались, и в мгновение ока стол исчез, словно декорация в феерии по свистку машиниста. Дамы и господа после кофе должны были вернуться в гостиную.
– Ух ты, а здесь не жарко, – сказала Гага, очутившись в столовой, и зябко передернула плечами.
Окно в столовой оставили открытым настежь. Две лампы освещали стол, где уже стоял кофе и ликеры. Стульев не было, кофе пили стоя, а в соседней комнате все громче орали лакеи. Нана куда-то исчезла. Но ее отсутствие никого не взволновало. Гости прекрасно обходились и без нее, кто-то шарил в буфете, так как не хватало ложечек. Присутствующие разбились на группы; сидевшие за ужином далеко друг от друга сошлись теперь поговорить, обменивались взглядами, беглыми замечаниями насчет сегодняшнего вечера, многозначительно посмеивались.
– Поддержи меня, Огюст, – обратилась Роза Миньон к мужу, – господин Фошри обязательно должен прийти к нам в ближайшие дни к завтраку.
Миньон, рассеянно игравший цепочкой часов, окинул журналиста суровым взглядом. Роза просто с ума сошла. В качестве домоправителя он не может допустить подобного мотовства. За хвалебную статью куда ни шло, но потом уж извините. Однако, хорошо зная взбалмошный нрав Розы и взяв себе за правило, в крайних случаях, по-отечески разрешать ей безобидные утехи, он любезно обратился к журналисту:
– Конечно, я буду очень рад… Завтра же и приходите, господин Фошри.
Люси Стюарт, беседовавшая со Штейнером и Бланш, услышала его приглашение. Обращаясь к банкиру, она с умыслом повысила голос:
– Все они тут просто взбесились. А одна так даже собаку у меня украла… Ну, скажите, дорогой, я-то тут при чем, если вы ее бросили?
Роза обернулась. Она прихлебывала кофе маленькими глотками, она пристально глядела на Штейнера, лицо ее покрылось бледностью, и долго сдерживаемый гнев зажег пламенем ее глаза. Она была куда проницательнее своего супруга: просто глупость пытаться повторить трюк с Жонкье – дважды такие вещи не получаются. Будь что будет! Но Фошри должен ей достаться, она просто влюбилась в него за ужином, и если Миньон надулся, тем лучше, это ему наука.
– Надеюсь, вы не перейдете в рукопашную? – спросил Вандевр у Люси.
– Не бойтесь, не перейдем, только пускай она помалкивает, а то ей не поздоровится.
И, властным жестом подозвав Фошри, она произнесла:
– У меня, миленький, остались твои ночные туфли. Завтра же отошлю их твоему привратнику.
Фошри хотел было обратить все в шутку. Но Люси величественно удалилась. Кларисса, отошедшая к стене, чтобы спокойно выпить стакан кирша, только плечами пожала. Столько крику из-за мужчин! Известно ведь, что стоит двум женщинам вместе с любовниками сойтись где-нибудь в обществе, и уже каждой не терпится переманить у подружки кавалера. Так уж, видно, повелось. Она, например, вполне имеет право выцарапать глаза Гага из-за Гектора. А ей наплевать! И когда Ла Фалуаз прошел мимо, она бросила ему:
– Послушай-ка, я и не знала, что ты такой охотник до старух. Теперь тебе уже с гнильцой подавай!
Ла Фалуаз обиделся. Он до сих пор все еще не мог прийти в себя. Видя, что Кларисса издевается над ним, он тут же заподозрил ее в краже платка.
– Пошутила, и будет, – промямлил он. – Ты взяла мой носовой платок, отдай мой носовой платок.
– Всем голову заморочил своим платком! – взвизгнула Кларисса. – Ну, на что мне, болван, твой платок?
– Как на что? – проговорил он, подозрительно оглядывая свою собеседницу. – Возьмешь и пошлешь его моим родным, чтобы меня скомпрометировать.
Тем временем Фукармон принялся за ликеры. Он все еще подхихикивал, глядя на Лабордета, который в окружении дам прихлебывал кофе. И Фукармон ронял обрывки фраз: этот малый – сын барышника, ходят слухи, что он незаконное чадо какой-то графини; доходов никаких, а в кармане вечно двадцать пять луидоров; на посылках у девок, здоровяк, а сам ни с одной не спит.
– Ни с одной, ни с одной! – твердил он, все больше разъяряясь. – Нет, как хотите, я обязан съездить его по физиономии.
Он опрокинул еще стаканчик шартреза. Шартрез ему тоже нипочем; хоть бы что, добавил он и в доказательство лихо щелкнул себя ногтем большого пальца по кончикам верхних зубов. Но, двинувшись навстречу Лабордету, Фукармон вдруг побледнел как полотно и рухнул у буфета безжизненной массой. Он был мертвецки пьян. Луиза Виолен чуть не заплакала от огорчения. Она же говорила, что это плохо кончится; теперь ей до утра придется с ним возиться. Но ее утешила Гага: взглянув на морского офицера наметанным взглядом, она заявила, что ничего с ним не будет, проспит десять – двенадцать часов, и все. Фукармона унесли.
– А где же Нана? – вдруг спохватился Вандевр.
И правда, Нана исчезла, как только встали из-за стола. Теперь все о ней вспомнили и стали звать. Штейнер, суетившийся больше других, осведомился у Вандевра насчет благопристойного старца, исчезнувшего одновременно с Нана. Но граф успокоил банкира: он лично проводил старика до передней; это иностранец, имени его граф называть не собирается, богач; как видно, вполне довольствуется тем, что оплачивает ужин. Все снова позабыли о Нана. Но тут Вандевр заметил Дагне, который, высунув голову из-за двери, жестами подзывал его к себе. Хозяйку дома граф обнаружил в спальне; Нана сидела на постели с побелевшими губами, неестественно выпрямив стан, а Жорж и Дагне, стоя рядом, сокрушенно на нее глядели.
– Что это с вами? – спросил удивленный Вандевр.
Нана не ответила, даже головы не повернула. Он повторил свой вопрос.
– А со мной то, – вдруг прокричала она, – что я не желаю, чтобы на меня плевали!
Тут она выложила все, не особенно стесняясь в выражениях. Да, да, вовсе она не дурочка, она все заметила. На нее еще за ужином плевали, нарочно говорили всякие пакости, лишь бы показать: мы, мол, тебя презираем. И кто же? Эти шлюхи, которые в подметки ей не годятся! Нет уж, больше не будет она из кожи вон лезть, чтобы ее же еще и паскудили! Даже непонятно, почему это она не возьмет и не вышвырнет весь этот сброд за дверь. И, задыхаясь от ярости, она громко зарыдала.
– Детка, да ты просто пьяна, – сказал Вандевр, переходя на «ты». – Надо быть благоразумнее.
Нет, нет, Нана ничего и слышать не хочет, она будет сидеть здесь.
– Ну и пусть пьяная. Все равно я желаю, чтобы меня уважали.
Целые четверть часа Дагне и Жорж тщетно умоляли Нана выйти к гостям. Но она заупрямилась, кричала, что пускай ее гости делают все, что им угодно: слишком она их презирает и ни за что к ним не выйдет. Ни за что, ни за что! Хоть на куски ее режьте, будет сидеть в спальне.
– Мне бы раньше надо было сообразить, – жаловалась она. – А все подстроила эта кобыла Роза. Ждала я одну-единственную честную женщину, да и ту, уверена, отговорили прийти.
Нана имела в виду мадам Робер. Вандевр торжественно поклялся, что мадам Робер отказалась прийти по собственному почину, никто ее не подговаривал. Он выслушивал сетования Нана с самым серьезным видом, говорил без улыбки, тоном человека, уже давно привыкшего к подобным сценам и знающего, как приступиться к женщине в такие минуты. Но как только он пытался взять Нана за руки, поднять с кресла и повести к гостям, она вырывалась в новом приступе гнева. Ни за что, слышите, ни за что она не поверит, что Фошри не отговорил графа Мюффа прийти к ней. Этот Фошри – настоящая змея, завистник, ни с того ни с сего может ополчиться на женщину и разрушить ее счастье. Ведь она-то знает, что граф в нее втюрился. Ей ничего не стоило его заполучить.
– Вот его уж никогда, милочка! – смеясь, возразил Вандевр, забыв свою роль утешителя.
– А почему? – осведомилась Нана серьезным тоном, даже хмель у нее прошел.
– Потому что он помешан на попах, и если прикоснется к тебе хоть кончиком пальца, завтра же побежит каяться… Послушай мудрого совета, не упускай того, другого.
Нана притихла и с минуту о чем-то размышляла. Потом поднялась с кресла, ополоснула покрасневшие глаза холодной водой. Однако, когда мужчины решили повести ее в столовую, она злобно прокричала «нет». Вандевр не стал настаивать и, улыбаясь, вышел из спальни. Как только за ним захлопнулась дверь, Нана в внезапном припадке нежности и умиления бросилась на шею Дагне.
– Один ты только у меня и есть, Мими… Я тебя люблю, ух, как же я тебя люблю!.. Вот было бы хорошо, если бы мы могли с тобой не расставаться. Бог ты мой, какие же мы, женщины, несчастные!
И, заметив, что Жорж при виде целующейся парочки густо покраснел, она за компанию поцеловала и его. Не будет же в самом деле Мими ревновать к младенцу! Ей хотелось, чтобы ее Поль навеки подружился с Жоржем, – как было бы славно жить им троим вместе и любить друг друга. Но тут их отвлек какой-то странный шум, по соседству кто-то храпел. Оглянувшись, они обнаружили Борденава, который, выпив чашку кофе, расположился со всеми удобствами в спальне Нана. Он устроился на двух стульях, вытянув больную ногу и уронив голову на край постели. Он показался Нана до того смешным – рот открыт, при храпе забавно вздрагивает кончик носа, – что она залилась смехом. Она выскочила из спальни, а за ней Дагне и Жорж, пробежала через столовую и влетела в гостиную, хохоча как сумасшедшая.
– Ох, дорогая, – произнесла она, чуть ли не бросаясь на шею Розе, – вы даже представить себе не можете, идите, идите скорее!
Все дамы тоже непременно должны посмотреть. Нана ласково хватала их за руки, силой тащила за собой в приступе такого неподдельного веселья, что все заранее хохотали. Стайка дам исчезла; затаив дыхание, они с минуту молча любовались величественно раскинувшимся Борденавом, потом вернулись в столовую. И снова раздался смех. Когда одна из дам потребовала, чтобы все замолчали, из спальни отчетливо донесся храп.
Было около четырех часов. В столовую внесли ломберный стол, и Вандевр, Штейнер, Миньон и Лабордет уселись за карты. Стоя за их спиной, Люси и Каролина ставили на игроков, а Бланш, недовольная проведенным вечером, каждые пять минут спрашивала Вандевра, скоро ли они поедут домой. В гостиной попытались устроить танцы. Дагне сел за пианино, «по-семейному», как выразилась Нана; пригласить тапера она не пожелала, Мими играл любые польки и вальсы. Но танцы не клеились. Дамы, прикорнув на кушетках, завели беседу. Вдруг поднялся ужасный гвалт: одиннадцать молодых людей, явившихся целой оравой, громко хохотали в прихожей и рвались в гостиную; они решили заглянуть сюда после бала у министра внутренних дел, все были во фраках и белых галстуках, с ленточками никому не известных орденов в петлице. Нана, рассерженная этим шумным вторжением, кликнула лакеев, сидевших на кухне, и приказала им выставить прочь незваных гостей; она клялась, что и в глаза их никогда не видела. Фошри, Лабордет, Дагне и все прочие мужчины выступили вперед, готовые защитить честь хозяйки дома. С уст уже срывались грубые слова, руки угрожающе сжимались в кулаки. С минуты на минуту могло начаться побоище. Меж тем какой-то блондинчик болезненного вида твердил настойчиво, как попугай:
– Да как же так, Нана, помните вечером у Петерса в большой красной гостиной… Да вспомните же! Вы сами нас пригласили.
Вечером у Петерса? Нана ничего толком не помнила. Да когда вечером? Блондинчик уточнил – в среду, и тут она вспомнила, что действительно ужинала в среду у Петерса; но никого она не приглашала, это она твердо знает.
– Послушай, детка, а вдруг ты их все-таки пригласила? – шепнул начавший сомневаться Лабордет. – Просто ты была навеселе.
Тут Нана расхохоталась. Возможно, что и так, ручаться она не станет. В конце концов раз уж эти господа здесь – пусть войдут. Все устроилось к общему удовольствию, у вновь прибывших оказались знакомые среди гостей Нана. Скандал окончился дружескими рукопожатиями. Тщедушный блондинчик болезненного вида носил одно из самых громких имен Франции. Тут новые гости заявили, что за ними следуют остальные; и действительно, каждую минуту распахивались двери, пропуская кавалеров в белых перчатках, при полном параде. Фошри шутливо осведомился, не пожалует ли сюда сам господин министр. Но Нана, уязвленная, ответила, что министру случается бывать у людей, которые мизинца ее не стоят. Она все еще таила надежду – увидеть среди этой оравы графа Мюффа. Может, он передумал. Непринужденно болтая с Розой, она не спускала с двери глаз.
Пробило пять. Танцы прекратились. Одни только игроки не желали сдаваться. Лабордет уступил свое место за карточным столом, дамы опять перешли в гостиную. Бдение затянулось до утра, и нагоревшие фитили бросали сквозь стекла абажуров тусклый красноватый свет на это сонное царство. Наступил тот предутренний час безотчетной грусти, когда у многих дам возникает потребность поведать кому-нибудь свою историю. Бланш до Сиври рассказывала о дедушке-генерале, а Кларисса выдумала целый роман с участием герцога, который приезжал к дяде охотиться на кабанов и соблазнил ее. Но стоило одной из собеседниц отвернуться, как другая недоверчиво пожимала плечами: и как только язык поворачивается плести такие небылицы! Одна лишь Люси Стюарт спокойно признавалась в своем происхождении и охотно рассказывала про детские годы, когда отец, смазчик на Северной железной дороге, угощал ее по воскресеньям яблочным пирожным.
– Ох, вот что я вам расскажу! – вдруг воскликнула Мария Блон. – Напротив меня живет один господин, русский, – словом, ужасный богач. Получаю я вчера корзину фруктов, но какую корзину! Персики огромные, виноград вот такой, – словом, нечто умопомрачительное, особенно по сезону… А под фруктами шесть билетов по тысяче… Это русский прислал. Конечно, я все отослала обратно. Вот только фруктов было жаль!
