Плут, или Жизнеописание господина Плутнева бесплатное чтение
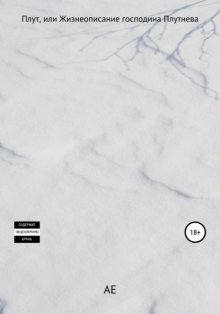
С самых первых строк заявляю, что пишу эту исповедь под угрозой, что ко мне в индивидуальную камеру (оплаченную!!!! о чем я лично договаривался с замначальника СИЗО Ивановым В.Е.) опять подселят подследственного Буратаева, двухметрового бугая, у которого вопреки правилам содержания имеется нож, который он приставлял неоднократно к моим яйцам и обещал их отчикать. Кстати, жбан я ему не проломил (чем настоящим денонсирую протокол осмотра подследственного Буратаева, составленный тюремным врачом Хаимовичем), а только лишь повредил о шконку и несколько раз об пол, причём исключительно в целях самообороны, защищая свою мужскую честь!!!
Детство
Я, Плутнев Дмитрий Сергеевич, вылупился в деревне Никола Корма Костромской области 16 июня 1978 года, через девять месяцев по завершении сельхозработ, когда батя перетащил свою задницу с трактора на мамку.
До девяти лет детство было общим, как шишки на ёлке. Лето-осень проводили в лесу и на речке Нищенке, зимой катались на санках с Гривовой горы да сидели по избам. Часто родаки отправляли меня со старшей сестрой за полста километров к деду-бабке по отцу в деревеньку Переславичи, где на длинной улице жилых домов оставалось только три. Через Переславичи протекла Княжна, не широкая, но полноводная, с заводями. К толстому суку на берёзе с чёрной капой, который торчал как вставший челен над дряхлыми яйцами, дед прикрутил верёвку со строганой палкой. Я часами с разбегу сигал на тарзанку, летел из тени свет и, на секунду зависнув над ослепительным солнечным пятном на стремнине, солдатиком срывался вниз. Однажды допрыгался до того, что сил плыть к берегу не стало; Анька сестра спасла. Ещё поджопник отвесила на память. Но не сдала старикам.
Вот так встренулись в первый раз. Прикинулась ласковой: «Не мучайся. Отдохни».
Помимо усадьбы дед с бабкой держали пчёл.
C дедом мы грузили колоды с пчёлами в прицеп, садились в «москвич» и катили медленно на ближнюю гарь или вырубку, где редкие обугленные стволы, как вышки вертухайские, торчали в сиренево-зелёном море иван-чая. Это называлось кочевать.
Купание с тарзанки в Княжне и кочевание с дедом и его пчёлами – это лучшее, что было в моём детстве.
Ещё был жидкий кипрейный мёд зелёного цвета, который кроме нас с дедом и бабкой никто не хавал. Однако его охотно брали городские литераторы, которые отдыхали в санатории «Вождь пролетариата». К осени кипрейный мёд белел, густел, превращался в помадку, и его как конфету можно было держать за щекой.
Однако в девять детство кончилось. Мать понесла и родила сестрёнку, с рожденья увечье; родаки сдали её в дурку. То ли с этого, то ли с чего другого дед помер. И оказалось, что он тот неяркий, но единственный винтик, который выдернули, и житуха, как бугаина, которому в висок втащили, что постоял ещё, покачался и осел, как обед в очко.
Вот мы и понеслись с горы на санках. На похоронах бабку разбил паралич. Её к нам перетащили. Она под себя ходит, вонища на весь дом, мать с Анькой убирать не успевают. Усадьбу в Переславичах забросили, улья распродали. Зарплату в колхозе стали задерживать, медовы барыши накрылись. Отец с матерью начали закладывать, а как бабка преставилась, запили по-чёрному. Да вся Корма запила, работы нет, денег нет, чем не занятие.
Но именно со смерти деда, которая как фонарь осветила тёмный сарай детства, я помню женщину своей жизни.
На деревянной сцене актового зала школы на фоне бордового бархатного занавеса стояла Галка. Худенькая и высокая для своих десяти лет, в чёрном форменном платьишке с белым фартуком, в щегольских белоснежных колготах и чёрных лакированных туфельках-лодочках. В белых прилизанных волосах, над оттопыренными ушами как два пиона два пышных банта. Справа херачит по фортепьяно училка музыки, тощей ногой педалирует, ветки взмахивают над клавишами и застывают, то ли ноту вытягивают, то ли артроз. А Галка, которую я тогда как впервой увидел, поёт так пронзительно про горящие самолёты и солдат, которые мир спасают, что мне мечтается с гранатой под танк фашистский, погибнуть, но только чтоб на её глазах.
Толстый
Толстый солидный бизнесмен, отмотавший срок в академии за голду магаданскую, с брюхом тройню носить. Но для меня он навсегда жирдяй с красной от ветра рожей, в серой ушанке, позорно по-детски завязанной верёвочками под подбородком с глубокой ямочкой, в валенках, в синей куртке с жёлтыми нагрудными чердаками. На горбушке ранец, а в нём узелки пшеничные, которые мать спекла. Накануне Анька принесла молока, и мы хлебали крошенину, когда родаки ввалились с банкой самогонки, стали адовать, что их булку мы стырили, отец, сука, стал хвостать ремнём, я слился на улицу, так и не дожрав. В комнату пробрался к ночи, так что бункер пустой скручивало, как яйца в кулаке. В отличие от нас Толстый жил дородно.
Вот с утра мы и шагали по дороге, впереди сеструха с Маринкой и ещё одной, следом мы с Толстым. Толстый талаланил про домашку, а у меня в башке узелки эти крутились. Достанет он их до первого урока?! А если нет, станет хавать на переменке? После второго мне уже похер, школьный завтрак.
Ветер в лицо стегает, щёлкает редкими каплями. Справа-слева голое поле в тонком снегу. До шоссе, где остановка и куда придёт вонючий, битком набитый, но тёплый, даже жаркий автобус, нам ещё чапать и чапать.
Школу в Устье мы часто прогуливали. Домой мне, понятно, не хотелось, и мы шатались по улицам, по базару, по задам, у развалин церкви, на кладбище, везде, короче.
В один день нам выпала карта. Какая, сейчас хер проссышь. Мы, как обычно, мотыляли по селу, скрипя валенками по снегу, и у сельпо из серого кирпича с двумя окнами за белыми решётками справа от синей двери наткнулись на тётку, которая, как цветок из навозной кучи, торчала с верхушки высокого сугроба, одетая в длинный дутый пуховик алого цвета. На курчавой чёрной голове у неё меховые наушники, на ногах козырные дутые сапожки такие же алые, как юшка с артерии пером вскрытой.
– Мальчики, – она загребала цапками, как загребали американские империалисты мешки с деньгами на советских плакатах. Меня чуйка торкнула – «что-то будет!», наверное потому, что голос у неё был как у моей мамки, насквозь пропитанный бухлом.
– Ма… й-ой, – икнула она, съехала с сугроба и завалилась на бок. Мы стояли над ней.
– Ма-ль-чик… й-ой-и-и, помо-й-ой-ги-й-ой-те дойти до-й-ой й-ой останов-ки!
Я толкнул Толстого, и он елейно пропел:
– Вам до «Вождя пролетариата»?
– Й-ой. Да. Мне до… й-ой дол-бан-но-го вождя!
Её подставки в красивых дутиках разъезжались, и мы упрели вести её под руки.
– Ой, как же у вас краси… й-ой …во. Так и… й-ой хочется творить. Я вообще гений… й-ой… поэтесса, и критик, и редактор. Вообще… й-ой… литературная величина. А… й-ой… какая у вас церковь красивая, хоть и заброшенная. Иоанна Крести… й-ой-ля. Лаги, лаги… й-ой… такие, лаги же называется, – она стала показывать и скопытилась на спину. Раздвинула коленки, и я увидел, как сквозь чёрные колготы еле просвечивают, как зимнее солнце сквозь дым печной, белые трусы. У меня впервые встал.
Во было время, не то что нынче импотент со стажем, хоть пенсионник выдавай! Здоровье всё потратил, функцию детородную на алтарь отечества положил, а меня, честного бизнесмена, патриота, как урку последнего в стакан?! Меня не опресуешь! Все: и следаки, и Буратаев, и Иванов с Хаимовичем, все ссякой умоетесь, дерьма нахлебаетесь возле параши!
Толстый пособлял дамочке подняться, а она снова и снова садилась на жопу, ржала. Я прощупал верхи. В одном лежал лопатник, его тащить стрёмно, зато в другом, облитом водкой из неплотно закрытой чекушки, захватил горстью мелочь и бумажки. Тётку совсем развезло; мы тащили её к остановке, а она упрямо талалакала:
– Страна советская убогая. А у вас здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Названия какие! Храм… й-ой… Иоанна Крес-ти-те-ля! Мочальный пруд! Река Тетёрка! Й-ой. Красное на Волге. А бор, какой… й-ой… бор, сосны корабельные, янтарные стволы на зимнем солнце. А роща берёзовая! А воздух!
– Воздух как воздух! – даже Толстый не выдержал.
Тут бабища стала блевать на свои алые дутики. Я ещё раз окунулся в родник, вытащил бумажку, но до дна не скрёб.
В автобусе, прыгающем на раздолбанной дороге, будто челеном трясли над толчком, мы считали воздух; мелочь сыпалась, мы на коленках ползали по залитому грязью полу, подбирая монеты. Подбив бабки, мы с Толстым захлебнулись от счастья богатства! Его охеревшие зенки, вылупившиеся как две залупы на меня, и сейчас как наяву. Какие же мы были нищие!
С того дня мы поначали чистить карманы бухим, обувать малолеток. К нам прибился Генка. Он был резкий, крепкий, на год старше, хотел подмять нас под себя. Толстому пофиг, а я схватывался с ним на задах. Тогда и понял, что не главное, если кто старше или сильнее. Важно, кто готов биться до края, через край.
Я был готов. Потому как друга жисть мне в окошко не отсвечивала. Работы в колхозе не стало, родаки бухали беспробудно. Хавать им не хотелось, потому мы с Анькой вечерами хлебали нужду. А если её не сготовили, так и впроголодь ложились. Иногда шабры подкармливали, мамка Толстого перехватку в школу передавала. Анька когда бывала, могла сытно сготовить, но мать, сука, сырая всё тянулась стегать её, так что сеструха появлялась больше к ночи. Батя, напротив, под мухой добрел, а с похмелюги прям зверел. Аньку, правда, вообще пальцем не трогал, зато меня лупил, гад. В один раз загнал в дровяной сарай и уразил, я на поленницу, а она посыпалась. Он давай меня порскать ремнём военным, с пряжкой, с якорем моряцким. Я встать уже не могу, а он хвощет и хвощет. Так бы в сарае и колем встренул в поленьях осиновых. Свезло мне, что он умудохался, тяжко после самогонки, и отвалил. Кожу сдерябил, спина синяк один, ещё и в кровище.
Аня сестра выходила. У Маринки выцепила зелёнку, вата после бабки осталась, нарвала подорожников. Промывала водой, макала в кровищу вату с зелёнкой, пришлёпывала подорожником. Я лежал на пузе и мечтал, как он с мамкой юшкой умоется, когда вырасту, как костыли ему переломаю, как хвостать их буду его же ремнём! Назло им терпел, даже не стонал, только грыз подушку, перо в рот забивалось, кашлял, а кашлять, сука, больно, спина вся рана!
К нашей стае прилепился белобрысый задрот Паяльник. Он был младше, потому всегда летал на посылках за бухлом или дымом, но на дело тоже годился, мог разнюхать, да и стыбзить по мелочи. Мы обували мелких, пьяных, тянули хавку с задов, вскрывали дачи. Жили объедками, но мечтали о большом деле. Дымя сигаретами, сиплыми голосами перетирали враньё и слухи о главном воре Мироне, которому платили торгаши, о Серёже Газоне, который под ним ходил и рулил всем в нашем районе, о каких-то Твиксах, братьях-близнецах, сильнее которых нет. Паяльник божился, что видел у кабака «Фаэтон» Твиксов, они страшные, лысые, а ладони такие, что шею свернут любому как курёнку, но ему никто не верил. Мы колесили по области в автобусах и электричках, схватывались со шпаной, уносили ноги от хозяев. На Толстого я полагался, верил, что не кинет, в драке он стоял до последнего, а если мы сливались, как в Костроме, когда местные на вокзале нас так стренули, что мы вернулись все обоссанные, так со мной. Паяльник шкет совсем, а Генка хоть ходил подо мной, но своевольничал и показывал, что живёт наособину. Школу прогуливали целыми днями, но не бросали.
Сестра моя башковита, не то, что я, мозг как воробей посрал, и я слышал её:
– Не вздумай, дотяни хоть до восьмого и получи аттестат. Иначе на зону дорога.
Я был не прочь поступить в академию – в тепле, жеванина дармовая, да и авторитет сразу у пацанов, когда откинешься. Но Анька дожимала, глядя строго мне в зенки своими прекрасными серыми глазами:
– Тут ты хороводишь, а там как бы в шестерки не попасть. А если Толстый забросит учёбу, не видать тебе тогда подкормки от мамки его, узелков пшеничных на перехватку да щец гостевых.
Пустое брюхо налучший советчик.
Но наперво, что Галчонок возражал. Меня, как днище полное, садили с отличницей. Метод такой, из дерьма вытягивать показатели класса. Как не засрать чистоту никто не думал, все ж равны, потому говнеца с меня на её платье белое, так в порядке вещей. К чему привело известно, а кому лучше стало, окромя меня?
А мне стало.
Быть с ней, слышать её, перешёптываться, просить подсказки, видеть её ангельский профиль, когда, подставив кулачки и вздёрнув носик, она слушает учителя! Нести за ней портфель в другой класс, как служка за принцессой!
Кое-кто ржал да быстро осёкся, кто-то клеился к ней, но рудой своей умылся, так что никто не смел даже зыркнуть на неё, чтоб я не знал.
– Дима, не вздумай бросать учёбу, знание – сила, знание – свет, окно в бескрайний мир.
Дима.
Я Плут давно, только для неё и сестры Дима. Она говорила «Дима», и я вздрагивал, как бы и не ко мне она обращалась, а вроде и ко мне, только из другой жизни, чем жил. Я знал про себя, что повторяет она за отцом, директором нашей школы, который то же талдычил со сцены каждое первое сентября, ещё и со стихами Шекспира, Омар Хайяма, Данте, Пастернака и остальных мозгоправов. Но ослушаться её даже и не думал.
Перестать её видеть, как серпом по яйцам!
Анька
19 августа 1992 года сеструха получила паспорт и позвала на весельбу. В траве на берегу Нищенки Анька разложилась газетой с угощением: бутылка водки, четыре пива в зелёном стекле, пачка сигарет почти цела, консерва печени трески, батон колбасы варёной, горка огурцов с задов, кирпич беляшки.
Она смотрела грустно, так что ждал плохого.
– Братик, сам видишь, мамка совсем озверела, так что я сваливаю.
– Куда? – удивился я, хрустя огурцом, ещё ничего не понимая, сявка малолетняя.
– В Питер с Маринкой насовсем. Там за секс с малолеткой дяденьки толстые и пять, и семь штук платят, надо пользовать, пока молода. Надо успеть заработать.
C ноги по яйцам.
Я раскис как баба. Анька, глядя на меня, заплакала и прижала мою голову к своей большой тёплой груди. Я зарыдал, сам не зная отчего, и не мог остановиться. Выл, как бык, на всю Нищенку.
Потом пили водку, захлёбывая пивом, курили, со смехом полезли пьяные купаться, хоть вода и холодна. Но всё одно было дерьмово так, что хотелось разом и реветь, зарывшись в сено, и кусаться, как собака.
Наутро я стоял на остановке. Башка трещала. За пыльным окном перекошенного на левый бок автобуса, который с грохотом и лязганьем, как трактор, натужно, словно через силу, отъезжал от меня, Анька и Маринка махали руками. Может, и ревели, не помню.
Стучало железо, вонял сизый выхлоп, девчонки шлёпали пятернями в заднее стекло, я вяло качал веткой сестре, которую больше никогда не видел.
Теперь вся злость мамкина на меня уходила. Да и отец свихнулся, стал хвостать почём зря, если что наперекорки скажешь. С середины сентября зарядили дожди, и стало совсем тоскливо.
Мы с пацанами лазали по дачам, набирали по мелочи, трясли малышню, выбивали из пьяных, но меня уже не грело. Даже новости, что порешили главу нашего района, что это Мирон сделал руками Серёжи Газона, чтоб поставить своего, возбуждало пацанов, не меня. Где большие дела, а где мы, шкеты последние. Наоборот, мне эти важные новости: про убийство, что подпалили дом участкового в Устье и что сделали это, по слухам, Твиксы, только тыкали как носом в дерьмо коровье, напоминали, какая мы жалкая шантрапа.
В один день я собрался в дурку найти младшую сестру. Зачем не знаю, но решил, посмотрю, а потом, наверно, утоплюсь.
Как сука последняя ластился к сторожу:
– Пусти, дяденька, сестра у меня тут.
– Пошёл, щенок, отсюда.
Меня окурком в толчок спустили; ярость закружила, завертела. Я набрал камней и разнёс ему окно в сторожке. Счастье душу пробило! Он выскочил с дубинкой, но я тоже не ссыкло последнее, давай метать в него, чтоб в висок, чтоб положить наверняка. В грудь попал, но дед, сука, увёртлив, я ноги делать, он, гад, не отстаёт, дышит на ухо, граблёй прям чирк по куртке. Поймает, старый пердун, положит навсегда, и я из последних дёрнул в придорожную канаву, в воду ледяную по колени рухнул, но вскарабкался и в лес. Лес топкий, ноги застыли совсем, ещё в болотину провалился, но через щёлку в заборе протиснулся, как челен молодой в дырку узкую.
Стоит на поляне терраса под крышей, с боков досками голубыми обита, по доскам медведи бурые, зайцы белые намалёваны, правее за стволами берёзовыми силикатного кирпича двухэтажный корпус, за редкой листвой жёлтой крыша тёмно-серая, мокрая, шиферная. На террасе этой сидит огромная баба в белом халате на куртку, тубаретку жопа всосала, вокруг карапузы трёх-четырёхлетние или около. Кто сидит на стульчике, кто в коляске такой. Смотрят в одну точку, иногда голову повернут и всё. Иногда один встанет, пройдет, сядет. Казалось мне, девочка белобрысая на стульчике, которая с открытым ртом пялилась в кусты, где я сидел, это сестра моя. Иначе отчего она белёсая, как Анька, что уставилась, может, чувствует меня? На террасе ни криков, ни разговоров, только мычание. Слышно, как за спиной в лесу птицы перелетают, крылья трещат. Ветер подует, и листья со стуком о стволы бьются. И так жалко мне себя стало, и эту сестрёнку мою, и Аньку, что бросился на землю и реветь, только набил жёсткими осиновыми листами рот, чтоб не услышал никто.
Возвращаясь домой, твёрдо решил, что порешусь, утоплюсь в Княжне, там, где с тарзанки сигал.
Галка
Чем больше думал о смерти, тем больше мечтал о ней. Как в дерьме измажешься и носом тянешь; чем чаще занюхиваешь, тем, кажется, вонь сильнее. Залезу на берёзу, прикручу наново веревью, как дед мне делал, разбегусь со всех сил по мокрой жёлтой и чёрной листве, скользкой, рыбьей чешуёй облепившей берег, взлечу над водой в разводах от капель и сигану прям в одежде, чтоб сразу утянуло. А там уже ни скотских родаков, ни орущих училок, ни голода, ни ссак дождей.
Скорее прикидывался, а как до дела дошло, обделался бы наверняка. Но привык думать, что спасла Галка. Как сука щенка своего, зажав в зубах, за шкирку вынесла.
Прибежала в слезах.
– Хватал меня, в забор прижал. Под платье лапал. Я вырвалась, а он: «Завтра пойдёшь, дождусь тебя, малолетка».
Она плакала, а я злой, но и счастливый оттого, что ко мне пришла, оттого, что она, небесная, плачет передо мной. Я так охерел, что даже ладонью погладил её плечико. Она и не заметила, а меня током долбануло так, что и сейчас ладонь помнит и круглую шишечку на предплечье, и тонкую, будто куриную кость, руку от плеча до локтя под шершавой тканью шерстяного платья.
– Галчонок, только не плачь, я всё решу, больше он к тебе не подойдёт. Не плачь, я клянусь, решу!
Он борзо лыбился и уверенно шаркал, даже не замечая меня, потому тот кайф, с которым я втащил ему снизу-вверх кастетом, забивая залупу носа в череп, навсегда со мной. Из двери подъезда выскочил Генка и черенком лопаты перебил ему сбоку коленку. Тот заорал и ухнул в лужевину посреди дороги, длинную, вытянутую как Северная и Южная Америки на географической карте с тонким Панамским перешейком. Подвалил Толстый, и мы втроём стали месить его, балдея от победы и того, что старший базланит и извивается в грязи под нами.
Тройку дней мы ходили гоголями, не прогуливали школу, наслаждаясь славой, пока к подгорице, где мы курили после уроков, не прибежал Генка с замороженной рожей:
– Это не фраер залётный, это Глист, пацан Газона, он здесь за самогонщицами приглядывал!
– Нас всех убьют, – мёртво сказал Толстый, и его морда, до того розовая и довольная, сморщилась как древний анус.
– Нас Твиксы замучают! – пискнул Паяльник.
Со злости я дал ему пождопника, так что он аж подскочил еще пару раз сам.
– Ты что ссышь, тебя там близко не было, гондон конченный.
Толстый стоял ко мне спиной в своей синей куртке, сгорбившись, так что я видел его нечёсаные рыжие волосы, разделенные на затылке молочной слезой кожи, лежавшие прядями по сторонам черешка, как у листа дубового покрасневшего, жирного от влаги.
Слезу пустил, с мамкой прощается. Кому он нужен, мне предъявят. Паяльник зыркал на меня снизу-вверх и тёр задницу двумя ладонями, по ладошке на полужопие. Только Генка был боле-мене спокоен, но задумчив. Тогда, небось, гадёныш, продумал.
Что базарить, я сам обделялся мощно, как тогда в сарае, когда думал батя забьёт в землю. Но точно не жалел. Думал, лучше так, на глазах у Галочки грызть Твиксов и лечь здесь, чем по-тихому в омуте речном.
Пятиэтажка из серых блоков в белых окнах, низкая огородка с просветами из тощих досок, за ними, как небритая лохматка, густые кусты облетевшей смородины. Пустая дорога села, по которой проехала, переваливаясь на неровностях, и остановилась вишнёвая восьмёрка с чёрными стёклами. За ней вдоль огородки встала чёрная девятка, с чёрными стёклами. Сердце засосала жопа.
«Как чёрная метка у пиратов в кино «Остров сокровищ»!
«Надо слиться прям ща!»
«К Галке, сука, опять подкатит!» – ярость вытолкнула сердце под гланды.
«Нахер шкериться – всё одно – споймают и матку наизнанку вывернут».
«Лучше здесь, у Галочки на глазах биться за неё, чем меня на задах закопают по-тихому».
После урока Генка со словами: «Мне очень надо» – слился.
Я ждал, что это будет Толстый.
Мы вышли с Толстым из школы, к нам отвалило четверо, один был Глист, который хромал и опирался на палку. Справа, отстав от троих, озираясь по сторонам, медленно шагал непримечательный, среднего роста, с круглой головой человек в рамах с прозрачными стёклами. Очко сразу намокло, и казалось, вот-вот брызнет; я почуял, что это сам Серёжа Газон. Я сжал покрепче булки и упрямо зашагал, только оглянулся на крыльцо – не смотрит ли Галчонок? Её не было.
– Вы, фто ль, сяфки, отофарили Глифта? Поехали побафарим, – с ходу повалил худой.
– Здесь побазарим.
– Зассал, шкет?
– Не зассал, потому тут. А за Галку я вам всем глотки перегрызу.
Налысо бритый парень в синем тренировочном костюме и белых кроссовках оглянулся на Газона, потом вылупился на меня. Равнодушный взгляд давил, словно на спор жал краба, и у меня уже хрустела кисть. Я дристанул, и в тишине это грохнуло как выстрел, и кажется, разлетелось на всё село, и тётки на задах вышли поглядеть, что рвануло, а все классы и училки прильнули к окнам, узнать, где гремит. Они заржали, только Cтёпа или Коля Твикс, я понял, что это кто-то из них, больше некому, даже не улыбнулся.
– Шпингалет, пасть закрой и послушай свою судьбу.
Я опустил голову, не удержавшись перед этими пустыми голубыми зенками.
Первый, чувствуя настроение, понёс:
– Вы, сяфки малолетние, ща на ремни фас резать будем за баратана нафего, руки-ноги повыдёргиваем, спички вставим.
– Остынь, Оратор.
Это сказал Газон, и стало тихо.
– Ладно, шпана, в этот раз вы отскочили, потому что Глист затрахал, – это слово он оттолкнул от себя зло, оно остро выперло, как гвоздь из доски, – лажать с малолетками. Но косяк за вами числится, потому обязаны мне, а ходить будете под Колей Твиксом, и что прикажет делать, сделаете, – сказал Газон, и тереть стало нечего.
Мы с Толстым потошнились на берег.
Я принюхивался, не тащит ли от меня пердежом, и больше ни о чём не думал, словно важнее не было.
Вдруг Толстый проворно забежал вперёд и вскрикнул:
– Мы с тобой под Газоном, ты представляешь?! Мы в деле!!!
Знала бы тогда его счастливая морда, вспотевшая, как блин масленичный мелкими капельками, который мамка его пекла, что конкретно ему уготовано!
Вот так, не по доброй воле, а принуждением криминальных элементов я был втянут в преступный промысел. Мы, как и раньше, обували сырых да малолеток, шныряли по заброшкам и дачам, но теперь и шестерили на Колю Твикса. Возили записки, конверты, а главное, обслуживали бабок, которые гнали самогонку. Тогда реактор поставить до трёх лет светило, а сейчас это развитие культуры употребления алкогольных напитков, возрождение исконных традиций винокурения и частное предпринимательство. Газон удовлетворял спрос, Мирон закачивал воздух в свои чердаки – казёнки реально не стало.
Твикс стал башлять нам бабло, даже Паяльнику. Потом мне вручил пейджер. Это было так круто, как если бы я съездил директору нашей школы на торжественной линейке по сопатке, а он бы утёрся. Втащить мне реально мечталось, он дрючил меня, когда я попадался на всякой мелочи, грозил выгнать, но это же был папа Галчонка.
Я тошнился на уроках, по случаю делал домашку, даже читал книжки: «Звёздные приключения Ники и Нуми», «Остров сокровищ», «Преступление и наказание». Просто потому, что так хотел Галчонок. А Галчонок моя судьба на всю жизнь.
Серёжа Газон
В один прекрасный летний день в Перунов бор, где я, Толстый и Паяльник чадили заграничными лисичками, взятыми на пробу, дурея от раскалённого соснового духа и безделья ожидания, переваливаясь на ухабах, как негритянки беременные, по просёлку в зелёном бурьяне заросшего колхозного поля медленно подъехали две чёрные девятки. Из одной вылез Саня Кривой (с ударом молотка его левое глазное яблоко сползло вниз). Из другой вышли Твиксы. Голова одного как в горшке была в шапке из белоснежных, как парное молоко, бинтов. Все были серьёзны, а Саня Кривой скалился, как собака, жёлтыми мелкими зубьями.
Пусть я был шкет тогда, но нутром почуял, что сейчас эти уголовные элементы затянут наши молодые неокрепшие души в паутину насилия лжи и принудят к совершению преступлений, пользуя силу принуждения.
– Сегодня люди Мирона расстреляли тачку Серёжи Газона.
Мы переглянулись, прихерев.
– Дряхлый Мирон ссыт, что Газон силу набрал. Вы, пацаны, уже не сосунки желторотые, – говорил Коля Твикс. Рядом Саня Кривой, присев на корточки, осматривал нас снизу-верх и ловко обрезал кривым правилом ногти. Я слушал, но косился на этот ножичек (говорили, он мог как художник расписать человека, а терпиле одному, кто на бабло был выставлен, ухо отчекрыжил). – Пора определяться, вы под кем жить хотите, под старым пердуном или под Газоном вровень с нами?
После такого прогона меня так и подмывало выкрикнуть, как пионер присягу: «С Газоном навсегда!». Но язык в глотку заховал. А если Газон сдох или вот-вот отчалит, смысл за него впрягаться? Мирон большой чел, про нас и не слыхивал, а вот если мы начнём за Газона топить, нам матку наизнанку как пить дать вывернут.
– Конечно, за Газона, – звонко выкрикнул Толстый.
– Да, мы завсегда с вами, пацаны, – прокуренным голосом, нарочно медленно, для солидности, протявкал Паяльник.
– Конечно, мы за Газона, за вас, мы не подведём, мы не ссыкуны какие, чтоб слиться, – последним, как бы солидно, а на самом деле догоняя своих подельников, чтоб не опоздать, дристанув пару раз голоском, подлизнул я.
– Тогда вот, – от машины отвалился Стёпа Твикс, медленно вывел из-за спины руку и протянул ствол.
Это был макаров с перемотанной синей изолентой рукояткой, какой перематывали клюшки сельские хоккеисты на пруду рядом со школой. Раскрыв кормушки, Толстый и Паяльник зекали с завистью. В отличие от них, я знал, что мне дают. И принял. Принял, потому что если бы не взял, взял бы кто-то из моих. И первая пуля осталась бы во мне. Взял потому, что он притягивал. В нём была власть, сила и красота. Словно просил, возьми в ладонь.
Оглядываясь на Толстого и Паяльника, распахнувших варежки, как если б они бабу голую щупали, я отстрелял, целясь в толстую берёзу, обойму. Весело, громко, в руку отдаёт, страшно отчего-то – как первый трах.
Только ствол вошёл в мою юную судьбу раньше секса.
Мы расселись по тачкам и через час подкатили в кабаку «Фаэтон» в ПГТ «Автопрокладка», позже от вида которого я чуть не в штаны буду мочиться каждый раз. На крыльце ждал Газон в чёрных брюках, рубашке, ботинках, в узких фарах металлических с зелёными стёклами, в перстнях на мальцах, нарядный как женихаться. Из двери выполз Глист, который держал в руках, как грудью кормил, замотанный в синее шерстяное одеяло, каким в детсаду меня укрывали, куль. За ним вывалил незнакомый парень в синих трениках с оттянутыми коленками, как отец мой носит, чёрной майке и синих кедах с белыми носами, с двумя охотничьими ружьями на одном плече. Они сели в джип, Газон за руль, и мы покатили за ними по шоссе в сторону Костромы, потом по узкой асфальтовой дороге деревнями, полями, потом лесом, пока на лесной свёртке не сползли с трассы и не встали на земляной обочине в тени деревьев.
Я жал ластой макарова и пялился, как Твиксы передёргивали затворы длинных калашей с жёлтыми деревянными прикладами, отцепляли и прицепляли коричневого цвета рожки с патронами, словно угловатые челены в узкие норки. Кривой и парень в трениках, надломив охотничьи ружья, вставляли в двухстволки патроны.
– Они поедут здесь. Сначала рыжая копейка, вся раздолбанная, её не трогаем, следом белая «вольва» и джип японка. Лупите по салону и колёсам без остановки. Или они нас, или мы их.
Мы почапали за Газоном между деревьями к дороге. Я озирался на Толстого с Паяльником, которые стояли молча у тачек. Тощий Паяльник, одетый в зелёные огромные шорты, сильно большовые, и позорную голубую маечку, помахал мне двумя ладошками.
Подумалось «придурок!», но не зло, а с какой-то благодарностью.
Я ждал у прямого соснового ствола, липкого на жаре от смолы, словно мёдом намазанного. Был бы жив дед, сейчас бы кочевал с ульями по гарям, а не стоял бы измазанный. Думал о Галчонке, что больше не увижу её и что хоронить меня она не придёт. Дать стрекача к Паяльнику и Толстому, сховаться, в Питер укатить, как сеструха, кто меня там достанет?! Но здесь Кривой и Газон достанут, они в двух шагах. Это Твиксы с калашами и тот в трениках вверх по дороге. Кривой пером горло вскроет, легче чем консерву.
Ждали долго. Я даже отлить сходил раз, но Кривой сидел на земле, спиной к стволу и залитой солнцем дороге, видной близко-близко в просветах между соснами, и пялился на меня.
Я решил, что, ховаясь за сосной, отстрелю все патроны и буду тихонько сидеть, чтоб моя задница осталась при мне.
Ждали, ждали, ждали, а случилось всё сполошно.
Поехал старый жигулёнок, я даже не понял, что это тот, как загрохотали выстрелы автоматов, и я стал палить в дорогу, а после сел и стал дрожащими ветками выгребать из чердака маслята, которые выпадали и укатывались на землю, заштопанную длинными сосновыми иголками. Стрельба вдруг прекратилась, только из-за одного дерева раздавались редкие выстрелы, будто кто засиделся на толчке и бежал за братвой, подтягивая обосранные штаны с криком: «Меня, меня обождите!»
– Харе шмалять, – крикнул сипло и так рядом, что очко ёкнуло, Кривой, и выстрелы оборвались. Стало слышно, как молотит мотор близко-близко от меня и шипит жидкость, будто кто ссыт.
Я выглянул – в нескольких метрах, смяв длинный передок, в дерево уткнулся белый «вольво». Его двери и боковые стёкла были в дырках пуль, стекло заднее обвалилось.
Когда я подошёл, на земле лежало огромное тело в варёных джинсах и синей рубашке с коротким рукавом. Мне запомнилось, что в распахнутом вороте грудь была голая, без волосьев.
Как ловкий игрок в бильярд прицеливается, щелкает кием, загоняет шар в лузу, отходит, присматривается и забивает новый, так Газон, не торопясь всаживал из пистолета пулю за пулей в тушу Мирона, перед каждым выстрелом словно что-то припоминая ему.
Потом Газон в окружении Твиксов с калашами на перевес, направленными на нас, проверил у каждого оружие. Влагалище моего макара было пусто, чем я заслужил похвалу.
Вот так моя чистая ангельская душонка преступными элементами была затянута в омут криминального промысла против моей доброй воли. Хочу отметить, что никаких преступлений, связанных с лишением жизни, я не осуществил: шмалял в воздух и никого не задел. А стрелить принуждён угрозой лишения жизни, поэтому все действия предприняты неосознанно в детском возрасте.
Галя
Как после победы доходяге-тыловику, который ствол в глаза не видел и всю войну бумажки перекладывал, клопами обосранные, вешают боевую награду, так мы были облагодетельствованы.
Нам подняли зарплату, выдали по мотику, на которых мы наворачивали летом и зимой по району. Мы по-старому крышевали самогонщиц, тягали им дрожжи, посыпуху, качали воздух с должников. Но Газон запустил нас и в самую ядрицу – рынки «Родничок».
Жрачка, бухло, стройматериалы, техника, одёжа – всё толкали у посёлка Автопрокладка, рядом железкой, в заводских корпусах, на бывшей заготовительной площадке, рассечённой на улицы из контейнеров, и прямо с фур, распахнувших задние двери, как хабалда ягодицы. Здесь же нанимали мужиков ставить срубы, копать колодцы, отделывать хаты. Работали тошниловки на лёгкий перекус. В закоулках толкали герыч, шмаль, колёса. В соседних домишках замостырили бани да сауны, где ждали, раздвинув лярвы, шлюхи. С поездов, с автобусов, на тачках и пёхом народ валил на рынки.
С этих рынков, обнесённых старой красно-кирпичной стеной бывшего завода металлоконструкций, как с материнских сисек, кормились сначала Мирон, а теперь Газон.
Мы водомерками мотались по этому огромному миру. Шестерили под Газоном, при случае обували лохов. Выходило не только на пожить. Я откладывал в тайник в полу под изголовьем кровати по мелочи, но часто, как коза серет.
С 15 лет я копил на свадьбу.
Я бухал, курил, прогуливал, она училась на отлично, сочиняла стихи и музыку. Её папа директорcтвовал в школе, мамка рулила сельской почтой. Мои предки пили горькую. То, что со стороны было хернёй, для нас было взаправдашним. Я носил за ней портфель, катал на мотике и ссал даже поцеловать в щёчку. Да, саднило, что не только Толстый, даже задрот Паяльник уже расчехлили свои кочерыжки. А я всё ходил девуном. Изредка, когда яйца набухали арбузами, a челен сводило, как в тисках зажали, я салютовал в потолок. Но трахнуть кого-то казалось мне тогда, что дерьма отхлебнуть из миски. Я знал, Галочка моя судьба и любовь навсегда, потерять её невозможно.
Когда мне стукнуло шестнадцать, я снял конуру в Устье; место центровое по району, не то что наша морковкина задница. Галкин батя накатал заяву ментам из детской комнаты, мол, я, несовершеннолетний, один живу, родители пьющие, чтоб меня в детдом оприходовали, от Галчонка подале. Но Газон крепко держал район, как наш президент Владимир Владимирович Путин дорогой страну нашу держит, что многажды труднее, но так на то он и гений всех времён и гордость наша, так что отвалились менты, как бородавка сухая.
Однажды Галя после уроков спросила показать, как живу.
Почему она пришла, что толкнуло её, ведь после слезами кровавыми умылась. Но тогда отчего сама? Я шаркал с разбухшим между ног хозяйством, но терпел, не просил, не требовал от неё ничего. Верится, что пришла из любви. Что хотя бы тогда любила. Но уже никогда не узнать.
Так мы стали мужем и женой.
Летом 1995 года Галка поступила в Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского на факультет иностранных языков. Я погнал на мотике в Николу Корму за заначкой.
Калитка из старых штакетин в редких, как с конца побрызгали, чешуйках голубой краски лежала в траве. Где идеально ровная ярко-голубая огородка с выкрашенными белым столбами, как колоннами? Где чёрная густая земля без единой травинки в ровных грядах картофельных кустов, которые тянулись до заднего двора? Узкая сырая тропа пробиралась как в джунглях в кустах. На поляне мятой травы чёрными кучами сидели отец с матерью, вокруг валялись пустые бутылки, мятые пачки сигарет. Их коричневые рожи, пухлые от пьянства, скалились мне жёлтыми зубами.
– Явился, сучонок, – просипела мать.
Я чапал к дому, но мне очень не нравились их довольные хари. Споро захрустели под кроссовками пластиковые стаканчики. В два прыжка я взлетел по деревянной лестнице, перепрыгнув проломленную ступень. И тут мне в спину ударил ржач, словно дали ногой в прыжке. Я споткнулся, падая, рванул в комнату, нырнул под кровать, уже всё зная; половицы в углу у стены не было. На всякий я прошарил рукой, но тайник был пуст. Только палец занозил.
– Что, сынок-ссыкунок, – сидя на траве, мать скалила зубы с пробоиной на месте правого клыка, – мамку не обманешь, мамка жопой чувствует тебя, засранца.
Я с разворота засадил ей ногой прямо в опухшее хлебало. Она ветками взмахнула и опрокинулась на спину в траву.
– Ты, ты чё, – отец опирался на руки и ноги, пытаясь встать, похожий на лесную корягу. Я с удовольствием дал ему под брюхо, так что он сковырнулся и скатился в крапиву. Я так хотел забить его! Да западло лезть в сырую крапиву. Да и бабло не выбьешь, спустили, суки.
Но Галчонка мы всё одно с её родаками уютно устроили в комнатке рядом с Универом. Я мотался к ней так часто, как мог. В седальнике с час, потом по железке до Ярика, потом по городу. Ща бы сдох на полдороге. Но тогда время пролетало, я ждал этих дней, лишь бы увидеть Галочку свою. А она, как вантуз упрямо и нудно прокачивает дерьмо в трубе, прокачивала меня. Подсовывала книжки, рассказывала о концертах в Ярославской филармонии, о Художественном музее, таскала как бычка за верёвку в театры. А ещё говорила уверенно, как знала, что будет у нас мальчик, а чуть позже, «когда малыш подрастёт», ещё девочка.
Мне виделись эти мальчик и девочка, виделись такими волшебными, что если бы кто попытался только лишь мечту о них отнять, тому я бы кадык зубами вырвал.
Я без конца дарил ей цветы. Цветастые фразы из меня выходили тяжело, как глинка при запоре, а сказать душе было что. Галка принимала всегда и всегда с благодарностью. Потому что знала, это высший взлёт земляной души.
18
Штабом ОПГ Газона был ресторан «Фаэтон» на Автопрокладке. Место центровое по району, рынок-кормилец под боком, а сам шалман конструктор из боковушек и приделок, так что и ховаться, и сливаться сподручно.
Как нынче шлюхи новомодные папиков богатых таскают с собой сук в сумочках, так Газон держал пацанов на коротком поводке, требуя к себе в «Фаэтон». Нам, малолеткам, отметиться в кабаке козырном круть, еще и при Газоне, но слухи про укромные номера, где басили пацаны не только хабалдам мохнатки кудрявили, но и фраеров кончали Твиксы с Кривым, как в задницу булатом кололи, так что мы сидели на мягких стульях, как на углях горячих.
В один день в июле 1996-го Коля Твикс поманил меня пальцем. Мы с Толстым и Паяльником как верные жёны засеменили к нему.
– Что жопы отклеили? Валите. А ты со мной.
По длинному коридору с закрытыми дверями, освещённому жёлтым светом, матовыми пятнами блестевшим с коричневого линолеума и крашеных зелёных стен, мы шли в глубину «Фаэтона». Здесь я никогда не был. Любопытство свербило в юной заднице, но и страх, как бы чего не вышло. Запхают в конуру и поминай как звали. Твиксам человека уделать, что опростаться.
Коля Твикс отпер дверь:
– Заходи.
Анус резко сморщился, но я не подал виду. Краем глаза сёк, ожидая, что он отоварит меня.
Пол в комнате заставили картонные коробки, между которыми шла лабиринтом тропа. Твикс поднял пухлый чёрный пакет с меня ростом, мне указал:
– Пять коробок возьми и давай за мной.
Коробки вроде были не тяжелые, но я узопрел, пока допёр до девятки и уложил в багажник.
Твикс протянул ключ с брелоком на цепочке в виде вырезанной из моржового клыка голой бабы с длинными волосами, которая стоит в корыте, правой рукой прикрыв сиськи, а левой павильон. Я еще не верил своему счастью, но Коля сказал:
– Подвезешь, теперь твой агрегат.
– Да, да, да! – я толкал голосом «да» всё выше, будто челен пихал всё глубже, приближаясь к кайфу оргазма.
Он посмотрел на меня и ухмыльнулся. Я не знал, что Твиксы умеют улыбаться! Но тогда и это не торкнуло! Счастье пробило! Кажется, никогда я так не был внезапно счастлив. Я распахнул дверь чёрной, с наглухо тонированными стёклами девятки. Кресла были обтянуты чёрным кожзамом, руль в кожаной оплётке, блестела серебристой пластмассой автомагнитола JVC, а приборы были не как у всех – чёрные, а белые, с красными стрелками! Я сел в кресло, боясь коснуться неаккуратно руля, шарика рукоятки коробки передач в кожаном шлеме, как Галчонка в первом сексе.
– Погнали уже?
Твикс махнул веткой на чёрную бэху. Козырная тачка! Но даже если у него космолёт, мне пофиг. Я на колёсах, на тонированной девятке, салон в коже!
Мы помчали за город. Я вёл как в тумане и толком не умея и стремаясь попортить. Коля достал мобилу. Так близко я видел её впервые и не мог не смотреть, как питок в завязке на водяру.
Вежливым голосом, перекованным из чугуна в серебро, Твикс защебетал:
– Валентина Ивановна, я еду, через минут десять буду.
Он зло взглянул на меня, но я и не подумал ничего сказать.
Мы подъехали к воротам, которые тут же раскрылись, отчего понял, что Твикса здесь знали. Мы лихо зарулили прям к каменным ступеням жёлтого дворянского особняка, ведущим к обшарпанным колоннам.
Тощая как палка тётка в белом халате, с жёлтой гривой волос, как одуванчик на тонком стебле, протянула две руки:
– Здравствуйте, Николай Иванович.
Меня уже ничто не могло удивить.
Мы затащили коробки и мешок в кабинет с надписью «Директор».
– Пройдёте к подопечным?
В свежевыкрашенном спортзале варежка моя распахнулась, как междуножие на челен; Механик и Тренер отжимались с пятью подростками от пола. Ещё один пацан, сухой и накаченный, босой, в одних чёрных трусах молотил козырными красными, как юшка, перчатками, баскую жёлтую грушу, подвешенную к потолку. Тренер отправил пацанов бегать по кругу, подошёл к Твиксу. Они что-то перетёрли, Коля сказал директрисе тем же голоском с серебряным колокольчиком:
– Новенькие к вам поступили?
– Пройдёмте, Николай Иванович.
В комнате с детскими стульчиками и столиками, расписанными по чёрному лаку зелёными листами да гроздьями рябины, сидели три шкета в шортах, два совсем малолетки, третий лет четырнадцати. Они обернулись на нас. Два остались сидеть, а старший как увидел Твикса, метнулся в угол и усох, урыв башку в голых красных коленках и закрыв ладонями бритый затылок.
– Виталик тихий мальчик, но как увидит любого высокого мужчину, так забивается в угол. Но не кричит.
Твикс любезничал с директрисой. Я смотрел на Виталика, который из-за решётки пальцев зыркал то на Твикса, то на меня, шморгая носом. Всплыло, как я лазил в интернат для дебилов, малая казалась сестрёнкой, и как-то жалко стало этого Виталика!!! в коротких шортиках, увечье ничтожное в сравнении со мной, при тачке, стволе и невесте.
Юрий Гагарин
С появлением тачки само собой вышло, что мы стали взгрёбывать больше. Иногда Твиксы с Кривым отчаливали в Питер, тогда сам Газон нарезал нам уроки за столом в «Фаэтоне». Мы ловили кайф от своей крутости, а шелупонь малолетняя, открыв хлеборезки, испуганно заглядывала нам в зенки. Мы подтянули пару шкетов, Твиксы отрядили к нам Кузю, здорового бугая из детдомовских. В Устье, Николе Корме, Бортниках, на Святом Мысу, Красном ткаче мы крутились сутками, а Газон качал воздух в свои карманы.
Считаю необходимым заявить, что по принуждению мы, несмышлёныши, подвергались изощрённому давлению профессиональных воров и бандитов, не имея возможности осознать свою неправоту, не понимая, что делаем, совершали мелкие правонарушения. Бывало, прессовали очередного должника, который базланил на весь дом, кровищей залитый, вышибали бабло с наркош, собирали дань с торгашей. Но время было такое, что власть государева обосралась, и без светлого ориентира, который есть теперь у нового счастливого поколения, мы вынужденно, подчёркиваю, вынужденно копошились в навозе криминала.
Отмечаю, что душа моя чистая завсегда стремилась к законопослушанию и высокой социальной ответственности личности перед обществом.
Галя моя, с небесным голосом, была тот ангел, который вёл меня к честной жизни. Ради любви к богоданной невесте, а не для корысти своей, я выполнял поручения воров, не имея возможности отказаться под угрозой жизни. А отработав, я садился с Галчонком в обтянутый чёрным кожзамом салон вороной девятки, откуда мойщики стёрли руду да собрали гнилушки очередного борзого клиента, который отметелил девочку и не хотел платить, и ехали на «Родничок» выбирать обои, клей и плинтусы. А потом очищали стены в нашей новой квартирке в Устье, и я любил её, стоя по колено в оборванной бумаге, а после, через лень, таскали вороха на помойку, грязные, усталые, но счастливые.
В июне 1997 года, когда Галочка, как всегда, на отлично сдала сессию, я отпросился в отпуск. Мы не поехали в Мухосранск или Сочи-Крым. Мы уезжали в Турцию, и это было для пацанов подо мной как полёт первого человека в космос!
Я Юрий Гагарин!
Впервые полететь на самолёте, и сразу в Турцию, если до того только в поезде из Костромы скорлупал варёные яйца под звон стаканов в подстаканниках? Это как девственность потерять; гордо, волнительно, вроде приятно, но непонятно.
Галка хоть на языках говорит, а я вообще пень, торможу, как первоклашка на линейке: «А идти куда?», «А что такое «гейт?», «А вдруг не выпустит пограничник?», «А вдруг в Турции завернут?», «А поссать в самолёте дадут?», «Bisness lounge это для кого?», «А заходить можно?», «А коньяк дают?», «А бесплатно?»… Пошёл на дальняк котлету отбить. Галку с собой не возьмешь. Сделал грязное дело, твою мать, как руки вымыть?! Кран без краников. Как назло, никого; вертелся-крутился – р-раз вода пошла. Только намылил грабли – хер вам в нос. Скользкими крабами дудки тереблю, всё в мыле, я в поту, а если самолёт отчалит, а воды нет, идти в пене, как лох последний? Хоть в толчке иди смывай. Слава богу, один доссал, я подглядел. «А жрать дадут, а почему очко свистит в аэроплане? А спускать с него как?»
В отеле ром, виски, пиво – всё включено! Как если б в детстве попал в бесплатный парк аттракционов, катайся не хочу. А ещё вода до горизонта. Море дышит, как живое, то ласкается, то сердится крутой волной.
В Турции впервые заметил другую женщину. Не захотел, а именно увидел. И не определенную, а просто – другую. Увидел, что Галки фигура, еще вчера мраморная статуэтка, чуть поплыла, как свечка. А рядом молодые аниматорши с загорелыми телами в купальниках скачут на песке.
Возвращался я уже не первым космонавтом планеты Земля, а сбитым лётчиком. Пялился в окно, на дождь, на уходящие назад длинные одноэтажные красного кирпича бараки, под скатами металлических крыш в лишаях ржавчины. Думал даже не о том, что возвращаюсь из чистенького отеля с вежливыми слугами, из Москвы с её огромными домами, широченными проспектами в свой нужник. До меня дошло, что у себя на селе я был ферзь – с женой на поезде в Москву, потом на самолёте за границу, на Средиземное море в саму Турцию, ещё и в отель всё включено, пей, ешь сколько влезет. А в Москве таких, как я, как какашек под козой. А для бизнес-класса я, кто «макара», был бы со мной, выбив зубья передние, им вхерачил в глотку, что сходили б под себя, халдей, которого не замечают, развалившись в широких креслах. До меня дошло, что мне скоро двадцатник, а я пустое место, шестёрка!
Глядя в длинный мокрый бетонный забор, скучный, как секс по сильной пьяни, мимо которого тошнился состав, зарёкся, что добьюсь для Галчонка, и сынульки, и дочурки, которые будут у нас, раз знает она, значит, будут, и бизнес-класса широких кресел, и шофёра в прислугу, что мне будет открывать двери мерса шестисотого, и шампанского французского перед взлётом, и тарелок фарфоровых!
«Фаэтон»
В двадцать Галка понесла, сыграли свадьбу, брюхатой она сдала экзамены, и мы поселились в нашей квартирке в Устье. Она писала диплом, нянчилась с Илюшкой. Я работал ночами, рвал жилы, надеясь встать вровень с Твиксами и Кривым. Наверно, не такого она ждала.
Но нельзя быть немного беременным или наполовину дохлым; если ты в банде, ты дышишь по её законам, жёстким законам Газона. И если ночью стрелка в Костроме или сауна с пацанами, отцепиться западло.
Газон уставил, что время от времени ближний круг собирается в «Фаэтоне» с жёнами. Кто не ходил, тот шестерил. С этим было строго. Кто приходил один казался ему скрытным, а значит, опасным. И Газон всегда был в курсах, куда надавить при случае. Дураком он не был.
В первый же вечер с Галиной, прознав про её голос, а он, сука, всегда всё знал, просил спеть под гитару. К тому моменту наша пьянка и ругань обрыдли ей настолько, что она исполнила совсем не то, что заказывали, а то, что дома они на четыре голоса с матерью отцом и братом любили – русские романсы. Она хотела показать им, что она не с ними, что она другая, а Газон, как пескарь последний, заглотил русский романс, как шлюха челен по самые яйца.
Она ненавидела наши сборища:
– Я не выношу ваши пьянки. Он смотрит на меня как на еду.
Я сам это чуял, но не ходить значило косячить.
Теперь выпив, смягчившись, Газон каждый раз говорил музыкантам:
– Ребята, отдохните, – а ей: – Галя, спой на свой вкус.
А я, говнюк, на подхвате:
– Иди спой, я прошу, уважь хозяина.
Каждый раз она ходила на сцену и пела что-то печальное и прекрасное, стараясь изо всех сил – не порадовать, нет, стараясь улететь вместе с песней от наших унылых рож. Газон её чувствовал, и как пацан, прицепив санки к трактору, пытался проехаться за ней вдаль. И я, и вся братва, и жёны их, все видели, как он пожирает, как голодный пайку хлебную, как выпивает её, словно алкаш конченный, поднося первую утреннюю чекушку трясущимися руками, с колотящимся бешено сердцем.
Каждый раз в башке своей я разбирал пером Газона на молекулы, но сидел и терпел, чтоб не напиться. Твиксы обрезали бы меня на голову не икнув, но Газон, очевидно, опасался, что после этого Галка улетит, и он её никак уже не достанет.
Дома Галя не хотела даже вспоминать о братве в «Фаэтоне», о Газоне, Твиксах. Она ограничила мир семьёй, дипломом, переводами, Илюшкой, с которым водилась с утра до ночи, и берегла мирок даже от меня, когда я вваливался в него бухой, с байками о подставах и разборках.
Я же многое запихивал поглубже; работа специфическая, не обсудишь за ужином, как коммерсу рыло раскрасили.
Головастики
Настоящим я заявляю решительный протест любым попыткам следствия увязать мою прогрессивную патриотическую деятельность на развитие производственных сил державы с коррупционером Палочкиным. Продажное следствие, спонсируемое такими же коррупционерами, как Палочкин, пытается бросить грузную тень на мою светлую репутацию. Потому ниже откровенно описываю сношения с дважды упомянутым Палочкиным и заявляю, что никаких, подчёркиваю настоятельно, никаких участий в его преступной деятельности не осуществлял.
Сразу после того, как Мирон отчалил, глава нашего района угодил в ДТП – с боковухи грузовой газон вошёл в его тачку. Дедок выжил, но от дел мудро отошёл, правильно считав маляву, а в его ещё тёплое кресло сел заместитель Йодко. Год спустя Газон поручил Кривому оформить землю «Ромашки», а также окрестных шалманов по закону. Но пошли тёрки с Гиви Сухумским с Ярика, который, по слухам, хотел подмять Газона под себя. А как положили его бойцов на выходе из казино, Гиви предъяву кинул, но Газон отбрехался; Твиксы и Кривой были в Питере, Газон в «Фаэтоне» гудел. Канитель с ярославскими тянулась с год, пока не остались все при своих. А я всё клянчил дело, надеясь встать вровень с Твиксами и Кривым, так что в один день Газон отвёз меня в администрацию, где Йодко представил Палочкина, Газон меня. Нас озадачили составить список объектов и зарегить всю землю на нужные компашки. Так мы завстречались.
Палочкин, баско одетый в чёрный костюм-тройку с голубым гаврилой при белой рубашке, с гладенькой такой речью, казался наперво чистюлей. Ну а на деле ссаки с него сочились, как с бочки щелястой. Он сразу предложил проводить доки через его костромского нотариуса, а не того, с кем работал Газон, привлечь фирмёшку юридическую, где, как я пробил, он раньше верховодил. Он познакомил меня с единственным юристом, кто тянул его загибавшуюся контору, звали его Глеб. Глеб этот всё разложил по полочкам; планы, кадастровые свидетельства, кодексы-законы, так что я сразу смекнул, что мне лучшее пацанчика этого под себя взять, чем помогать Палочкину с его фирмёшкой.
Газон щедро башлял, Йодко включил ресурс, только бы братве угодить, так что дело двигалось. Нотариус Палочкина, обернувшаяся его женой, имела свой навар, а фирмёшку его я прокинул, так что Глебка оказался без работы, с женой и маленьким ребёнком на руках. Я протянул ему спасительный конец. Чем не только спас от безденежья, но и положил начало своему праведному делу – переводу криминала в легальный бизнес. Если б Газон узнал, что я замостырил фирмочку и по-тихому на неё работаю, меня бы порезали. Но что не сделаешь ради семьи, ради светлого чувства любви. Но не только.
Я ловил кайф, когда водил их всех за нос: Твиксов, Кривого, братву, а главное Газона, который к жене моей ненаглядной грабли свои вонючие, кровью обмытые, тянул.
Помню один день бухой я валялся в кровати. Потолок плавал, издалека доносился голос Галчонка, она читала Илюшке сказку. И мне показалось, что Маленький Мук это я. Не самый смелый, не самый башковитый. Но оттого, что Мук карлик, в нём нечему уменьшаться, он самая кроха. Потому его нельзя продавить. Потому он всех имеет. Меня Твиксы подвесили бы за яйца к потолку, да хер в нос, не cпоймали на левоте.
В остальном я честно вкалывал, как раб на галерах, на общество. С Галкой скандалил, что не ночую ночами, с тестем схватывался, мол, гуляю. Как собака на кость бросался на любое поручение. Но Газон всё одно держал меня в чёрном теле, всё одно я оставался, как жена нелюбимая, как она ни крутится, как ноги ни раздвигает, как жопу вазелином ни смазывает, а муж всё одно шлюхам засовывает.
Ещё Галка твердила:
– Газон не любит тебя, он подставит тебя.
А то я не знал!
Заземлить меня, а после к моей жене в кровать.
А то я не знал!
Магадан
В день, который до конца дней не забуду, который всю судьбу мою в который раз перекрутил в канат тугой, где доброе и бедовое спаяно, слеплено, не разорвать, я, как муж верный бабе властной получку, подогнал Газону пачку свидетельств на землю, только переданных мне Йодко с Палочкиным. Газон, уставив зенки из-за рам зелёного стекла, прогнал, что если я хочу доли, надо самому бабло приносить. Для меня с Толстым у него есть сладкий кусок, но ради нас он обходит честных пацанов, потому мы будем обязаны ему лично. Выходило сладко, как пирожено междуножено; на Колыме есть завязки с владельцем компании по добыче золота. Абхазы, ингуши, турки сидят плотно на голде, а он хочет мимо них работать – то ли кинули, то ли платят мало. Под легальным бизнесом c государственной лицензией у хозяина толпа хитников, кто сдает ему мимо кассы. Должны мы были и на слабо пощупать местных, не скинут ли цену. Долю обещал щедрую, но мутную, – «расходы неясны».
Проще пареной репы – метнуться, закорешиться, привезти желтуху.
Сейчас бы легкота эта по сердцу сверлом ходила! А тогда мне, дураку, в заднице засвербило: «большое дело!», «бабло поднимем!».
А закончил разговор Газон так:
– Ты жене подсказку дай, чтоб дома не скучала, пока ты зарабатываешь. Если приглашу в ресторан или киношку, пусть кивнёт. А не захочешь, так продолжайте с Толстым самогонщиц обслуживать и под Колей Твиксом шестерить.
– Что же, ты меня продаешь? – Галка смотрела с болью и гневом.
– Просто меня не будет, тебе скучно, Газон поможет.
– Я одна, что ль, в миру? С чем не справлюсь? – она смотрела прямо в мои зенки гнойные. Я же дрожал, как в школе, влюблённый шкет. Я стал отползать, как обутый фраер:
– Я об тебе озабочен. Ты дома не засиживайся, если позовёт, сходи.
– Всё поняла! – она отвела взгляд, мне будто дышать разрешили.
Водка давно кончилась, стюардессы уже не бегали с «потише, пожалуйста», только Толстый снова и снова включался: «Лежал впереди Магадан, столица Колымского края!» Больше он ничего не знал, потому, пожевав сопли, снова заводил: «Лежал впереди Магадан, столица Колымского края!», пока, наконец, не подпалил башкой иллюминатор и не захрапел.
Я же уснуть не мог. Закемарил перед посадкой, когда привиделся сон, который спас мою шкуру. На оснеженной ветке рябины над красной горстью сидела синичка с жёлтой грудкой. «Лежал впереди Магадан, столица Колымского края!» – вдруг пробасила она пьяным голосом Толстого. А после чётко Галкиным голосом произнесла: «Газон это нарочно. Газон не любит тебя и подставит».
Я сразу проснулся.
Башка Толстого была запрокинута вверх, рыжая щетина как мох облепила раскрытый рот. Я почуял кишками, что мне жопа. Поди туда, не знамо куда. И не возвращайся.
Это подстава, и нас примут местные.
Это подстава, и упакует меня Толстый.
Подставы нет, но местные беспредельщики нас кончат за бабло.
Менты поимеют нас с золотухой, и мы сядем.
Наперво прощупать Толстого. Газон мог его купить, пообещав моё место. Храпит он, сука, мирно, но не факт, что уже не продался. Встретить наш должен пацанчик таксующий, который не при делах. Вот куда он повезёт?
Толстый краснел рожей и сильно качался. Местные менты внимательно нас оглядели, но обошлось. Мы подвалили к плюгавому парню с картонкой в руке, на которой нацарапано ручкой «Кастрама». Я стремался сильно и ментов, и подставы, и, как всегда, мне хотелось глинки выдавить со страху, так что шагал, сжимая булки, будто мне кол в задницу вставили. Но выйдя из аэропорта, забыл обо всём в секунду.
Передо мной были горы.
Горы!
Невысокие, как торчащие сиськи, сначала зелёные от леса, а выше настоящие каменные. Толстый с похмелюги плёлся, подвесив голову, как яйца в мошонке, а я всё вертелся, забыв, что меня через час мочканут. Я впервые видел горы, и, в натуре, они были крутые эти горы!
В блестящей «тойоте» леворульной я кинул кости сзади, Толстый послушно сел затылком ко мне, а через полчаса отключился. Шоферюга талалакал без умолку про колымскую житуху, дороговизну, гаишников борзых. Я слегка подуспокоился, прикинув, что эти два не про меня.
«Тойота» мчала по каменистой грунтовке, обгоняя самосвалы да грузовики, наворачивала по серпантинам над обрывами, неслась со склона, дымя пылью, как из печной трубы, переваливалась на лагах деревянных мостов над мелкими речками, черпая днищем, шёпотом перебиралась через промоины на трассе. С откосов ржавые остовы сгинувших кузнечиками прыгали в мои караулки.
Ввечеру привезли к вагончику, над которым по ветру российский флаг стелется, на двери железной табличка под иссеченным оргстеклом – артель каких-то там старателей. Из-за стола под портретом президента Ельцина поднялся плотный невысокий мужичок лет шестидесяти с седыми, коротко стриженными волосами ёжиком.
– Пить у нас не пьют, с этим строго, потому и гостям только чай.
Как наставил Газон, я заикнулся об уменьшении цены. Старик взглянул на меня так, что я чуть не обделался:
– Мальчики, здесь вам не Россия, это севера. Я на Колыме сорок лет, я знаю, каково зимой кайлом работать, сколько секунд у водилы спастись, когда «Коматцу» в болото уходит, как блестят глаза хитника, нашедшего, но утаившего. Потому слушайте сюда, говорю один раз – здесь я ставлю цену и будет по-моему или никак. Ясно?!
Мы с Толстым закивали, обоссанные. Я вздохнул полной грудью, как меня захлебнувшегося, Анька за волосы вытянула из омута, только когда свалили с вагончика. Мы с Толстым давно уже не шкеты сопливые были тогда, но этот Юрич кого угодно дрожать заставит.
Ночью не спал даже тупой Толстый. Мы слушали тишину и ждали. Мы реально приехали с огромным баблом, и жизни наши держались на тоненьком, как паутинка, суеверии Юрьича «не убий», или «выгоднее наладить сбыт», или «если их мочкануть, мои же могут сдать». Но один сильный порыв его жадности размажет нас с Толстым, как комара ладонь, мы закружимся, как тубзабумага в толчке, и ляжем в болотину. Вот какой прибыток нам Газон заготовил.
Магадан был золотым краем. Только выбираться оттуда через угольное ушко рамки в аэропорту, опоясавшись золотыми слитками, сразу на этап двигать. Золото как чугун тяжёлое, но гирю же не потащишь собой? Крест возьмёшь, сразу пробьют – не золотой ли? Побазарил с урками, сказали, раньше в брюхе рыбы красной золотой песок везли, сковородки золотые делали и красили. Прокатывало до момента. И меня пробило. Набрали рыбы, сушеной, вяленой, копчёной, крючки, лески, ножи, сапоги резиновые. Отлили из золота чугунок с крышкой и грузил на полкило, покрасили всё черной краской и сдали в багаж. Отдать в багаж желтухи на пять кило богато. Но на этом и выехали. В Москве нас пацаны уже встречали.
– Ваш процент единичка, – Газон зло пялился из-за стеклянных рам не столько в караулки, сколько прямо в сердце. Коля Твикс отодвинул стул, будто проперделся, и встал, ковыряя вилкой в зубах. Я знал, когда позвали базарить без Толстого, станут разводить. Но единичка! Мы с Толстым чуть не сели, нас Юрич мог жабам болотным на корм отправить, шпана местная с баблом принять, никто б не почесался даже, а нам единичку?! На слабо меня решили взять?! Процент, когда всё сделано? Пусть режут меня на куски, но хер им!
– Серёжа, это не по чесноку.
– Ты на кого прёшь? – Твикс швырул на пол вилку. – Тебе Газон кусок нарезал.
– Серёжа, – я пропускал Твикса (сколько я сам лохов разводил, разбивая на троих, что стухали, как бычки в луже, меня приёмом дешёвым не возьмёшь), – мы под смертью ходили. Пять процентов честно.
– Ты чё буторишь, малой?! – Твикс надвинулся на меня, с грохотом швырнув стул об пол. Я сжал булки, чтоб только не шагнуть назад, не шевельнутся трусливо. – Ты чё, на базаре с черножопыми трёшь? Тебе хозяин кусок определил.
Я упёрся, чтоб только не взглянуть даже краем глаза, когда он адовал мне в ухо, брызгая слюной:
– Сюда смотри, щенок!
– Серёжа, режь меня на куски, но пять это честный процент.
– А и порежем, – Твикс двинул мне в плечо кулаком, так что я отступил, но тут же шагнул вперёд. Толстый оттолкнул меня двумя руками, я снова пошёл к нему, уже готовясь, когда Газон сказал:
– Ладно, дело новое, дело важное. Три процента ваши.
Я понял, что выйду живым, что я не обделался и что дальше Серёжа не подвинется:
– Хорошо.
На мгновение помстилось, что я отжал у Газона бабки!
Но он меня тут же усадил голой жопой на угли, взяв на них много больше:
– Вот ещё что. Ты Галину не ищи, она ко мне ушла. Зла не держи, это жизнь.
Полкаш
По приезду с Магадана Палочкин пригласил в сауну. Он всё больше по ресторанам да заграницам таскался, сауна для него как треники под пиджак. Думал, угостит бабами да водкой, но сауна оказалась баней в его усадьбе. Жена поставила нам чай, мёд. Я ждал. В парилке он зашептал:
– У меня есть знакомый владелец банчишка. Йодко с Газоном знать его не хотят, а если б удалось его подтащить, все бы как сыр в масле катались, ну да ладно. Суть в том, что есть у него клиент – рембаза военная. Звучит дёшево, а на деле завод настоящий со складами стратегическими. Начальствует полковник, со слов туповатый, но хитрый. Нужен ему помощник, вот я о тебе и подумал. Глеба ты же у меня забрал?
– Газон заземлит, если узнает, – про Глеба пустил мимо ушей, дело сделано.
– Это не в нашем районе, нет там Газона. Да вообще братва с вояками не возится, они на всю голову больные.
– А интерес твой?
– Если выкрутишь что, отдашь долю малую.
Полкаш оказался тупым и бесстрашным; он начислял офицерам левые надбавки, а потом собирал их в конвертах. Я стал при нём вроде адъютанта по экономическим вопросам. Глеб, светлая голова, пару схем нарисовал, обложил договорами, чтоб хоть не впрямую воздух отсасывал.
Глеб при деле и окладе, помощника взял. Палочкин за наводку своё получил. Банкир доволен, Полкаш не сразу сядет, еще деньги покрутятся у него. Даже Полкашу хорошо.
Мне, сука, плохо!
Как закрутилось с воякой, я без стакана спать не ложился. Всё виделось, прознает Газон про мой левак, и почикает тело моё белое карандашом Кривой на лоскуты кровавые.
А ещё Полкаш бухал запойно. Уедет с генералом на заимку в глухомань и сидят неделю, пьют, охотятся, в бане парятся. Я им водку вожу, он командует, стоя в сугробе по колено, обмотавшись простыней:
– Выпей с генералом. Тебе така честь выпала! – И генералу: – Видал, какой у меня мальчик ловкий на посылках.
А мальчику мечталось забить ему в хавло бутылку, чтоб гнилушки прыснули на снег и юшка полилась. Эта мысль, как рука на причинном месте, возбуждала! Никого и никогда я не мечтал замочить, как этого полкаша тогда. Но я ни одной души христианской не порешил в своей жизни, это факт точный, хер оспоришь. УК мне Библия и Коран.
Полкаш обсирал всё вокруг, как курица, но яички золотые нёс справно. Военный и пьяница – мой идеал начальника! Но иногда его заносило так, что никакого бабла не нужно, только сховаться от полудурка. 17 июня 2001 звонит на мобилу:
– Мигом явиться! Одна нога здесь, другая там!
У меня со вчерашней днюхи качан трещит, перегаром разит, самому дышать противно. Тащиться за сто километров в падлу. Ещё и стрелка забита с Колей Твиксом, бабло ему сдать самогонное и там по мелочи, не соскочишь. Коля простой, а нутром чует, я и так каждый день на измене, что левак про рембазу вскроется. Послал Глебку. Порешали в «Фаэтоне», выхожу на крыльцо, почесать яйцо, опять набирает:
– Холуёв своих не подсылай! Приказываю лично явиться!
Вхожу. Глебушек на каркасе жопу греет посреди кабинета, бельевой верёвкой обмотан. Рожа белая, как у жмура, гаврила в ногах валяется. Я только пасть распахнул, Полкаш метнулся из-за стола и ствол в лоб:
– Где калаши или расстреляю без суда и следствия за хищение вверенного мне военного имущества?! Убью! – пистолетом трясёт, как импотент челеном.
Вижу Полкашу с похмелюги ещё хуже, чем мне. Я из кармана медленно чекушку вытянул, чтоб не стрельнул, говорю:
– Давайте порешаем, я не в курсах.
Он обмяк, за скатерть сел, локти уставил, за башку схватился. Я в штанах обдристанных, аккуратно, чтоб дерьмо не расплескать, к секретарше. Она на подносе чеснок маринованный, розовый, на дольки разобранный, огурчики, капустку, селёдочку с лучком-картошечкой принесла. Чекушку усосал, чутка отошёл.
– На складе два калаша пропали и цинки к ним с патронами.
Я Глеба развязываю, у него подбородок трясогузкой ходит, у меня клешни дрожат, парень нос воротит, от меня говном тащит, я причитаю, как бабка на похоронах:
– Товарищ полковник, где я, где калаши! Я режимом не занимаюсь. Мы чисто по экономике решаем. Да тачку мою на выезде всегда шмонают, пульки ссаной не вынес, гильзы долбанной не присвоил! За что поклёп такой?
Как-то отбрехался. Секретутка за литрухой сгоняла, накатили с ним, отпустило вроде.
Я выполз в зюзю, даже не помню, как дорулил до хаты. Но на шконке не отключился, – упрямый организм послал меня, как целка ухажёра; помня ствол наставленный, ворочался с боку на бок.
Вызвонил Нинку. Шлюха баская, по подиуму ходить и в рекламе сниматься, в рот берёт с проглотом до яиц, а у меня даже не вздрогнул. Так началась моя импотенция.
Пошаркал на кухню, с обоями желтыми в кофейниках и чашках белых, которые с Галкой клеили. Из рюмок хрустальных, на свадьбу дареных, коня тянули, – Палочкин ампулу подогнал с Парижа. Нинка талалакала, а я тосковал, как тогда я обмирал о Галчонке, и хер стоял водокачкой, а теперь повис соплёй. Только с рассветом, поблевав в толчок, уснул под жарким бабским боком.
Кому так взгрёбывать охота?!
Бабло
В субботу 26 октября 2002 года, когда спецназ взял штурмом террористов на Дубровке в Москве, Серёжа Газон играл в «Фаэтоне» свадьбу, по слухам роскошную.
Я же с Паяльником пялился в телек и квасил в шалмане в Шарике, вылетая на Колыму. Оно и к лучшему – кому мило дерьмо ложкой на виду у всех хлебать? Паяльник летел впервой, ссал охерительно, потому колдырил и не косел. Я же быстро нажрался в говно, потому как запойно пил уже три дня, начав еще с отвальной в сауне с Толстым, Кузей и другими пацанами. Рейс задерживали то ли на восемь, то ли на двенадцать часов, поэтому мы сосали водяру, распахнув кормушки, малолетками голодными глазели на стюардесс, почёсывая яйца, кемарили в креслах и снова бухали.
Тогда мне Паяльник, который умел разнюхать, слил, что Твиксы и Кривой мотыляют в Питер не бумажки оформлять, как это нам подавалось, а отстреливать по указке местной братвы, за что питерские в ответку вычищали лишних по просьбе Газона. И по слухам, именно питерские положили бойцов Гиви Сухумского, чтоб тот не смотрел в сторону Автопрокладки и «Родничков», а занялся внутренними разборками. А выглядело перед Гиви чисто – в день исполнения Газон шумно гулял с пацанами в кабаке, предъявить ему было нечего.
На Колыме Юрич встренул как старого знакомого, выдал миску красной икры с беляшкой, композитора горячего с мятой. Мы прожили пару дней на прииске, обменяли бабло на голду, отлили из него снасти и отчалили. В Магадане досмотрщик дырку во мне просверлил, будто признавая, но пропустил без слов.
Выход с командировки оказался таков, что, балдея от своей крутости, в декабре я сменил девятку на мерина. Вообще год вышел урожайный, я сильно приподнялся в доходах. С рембазы капало. Толстый с пацанами приносил. Галку с сынком-ссыкунком Газон обеспечивал, так что зажил для себя. В Туретчину с Нинкой смотался. Мобилу сменил. Однако дел привалилось: Палочкин, Магадан, при том что работы в Устье, Корме горбил по-старому. Просил пацанов детдомовских, бойцы из них отчаянные вырастали, Кузей я был доволен, но Газон хитрожопый отказал:
– Сам воспитывай, спортсмены самому нужны.
Нарисовался Башкир, резкий как понос, я даже моргнуть не успевал, как он троечку фраеру в корпус отрабатывал. Остальные зелёные. Ещё пацана забитого детдомовского пригрел, но его в дело не потребишь, так, привези-отнеси, полудурок, что с него взять? А жалко. Всех я жалел всегда, устраивал, обогревал, Витальку, Глебку, когда Палочкин его без работы кинул, а меня на нары?!
