Девятый вал бесплатное чтение
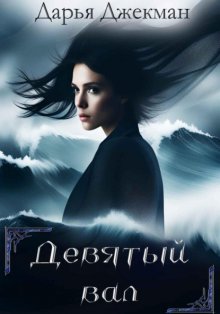
Голова кружится, лестница виляет, а ступеньки то пропадают из-под ног, то возвращаются в самый последний момент. Семнадцатое июля, очередной понедельник, в который единственное, о чем я могу думать, – как поскорее попасть домой.
На цокольном этаже темно. Не помогают даже лампы дневного света в коридоре. Они слепят, но не освещают путь. За год работы в музее я выучила каждый коридор, каждый поворот и каждый угол, так что до кабинета Грымзы могу дойти с закрытыми глазами.
Я стучу в открытую дверь. Обычно по утрам Грымза в приподнятом настроении: она пьет кофе с пирожным и болтает с подругой по телефону. Но сегодня она раздраженная. Стучит толстым пальцем по калькулятору и тяжело вздыхает над кипами документов.
– Что ты у дверей трешься? Заходи!
Я переступаю порог, но остаюсь стоять у двери, ожидая, когда Грымза даст команду заговорить.
– Ну, – гнусавит она, откладывая в сторону бумаги. – Говори быстро. У меня дела.
– Галина Владимировна, я хотела попросить…
– Опять? – Грымза вскидывает черную бровь. – Опять плохо и надо домой? Иди напрямую к кадровичке увольняться. Мне твои болячки уже вот где сидят.
Она подносил ладонь к шее. Я опускаю глаза, притворяюсь, что мне стыдно.
– И не надо тут строить грустные моськи. Больше не прокатит давить на жалость.
– Но вы же знаете мою ситуацию. – Я использую последний козырь.
Грымза открывает рот, чтобы ответить, но ее прерывает телефонный звонок. Она поджимает губы, поднимает указательный палец и командует:
– Жди.
И только потом берет трубку. По ее лицу можно предположить, что разговор неприятный. Грымза морщится. Ее брови возмущенно подскакивают и тут же опускаются к переносице. Когда ей надоедает слушать то, что без перерыва тараторят в трубке, она прерывает собеседника и отвечает громко и четко:
– Так, а теперь послушайте, что я вам скажу. Не надо мне объяснять ценность экспонатов и не надо думать, что раз музей у нас маленький, то мы непременно потеряем ваши особые посылки. Я тут сорок лет корячусь за копейки! Имейте уважение! При мне ни один экспонат не пострадал.
Голос в трубке верещит еще быстрее.
– Да что вы говорите! – перебивает собеседницу Грымза. – А я будто не знаю, кто это такой. Деревня же! Все равно нет! Никакой охраны я в музей ночью не пущу. У нас на это есть сторож. Идите разбирайтесь с исполкомом. У меня решение на руках будет, тогда и поговорим, а пока… И вам того же!
Грымза бросает трубку и фыркает.
– Вот коза! Думает, если работает в Русском музее, ей все дозволено. Надо Люде позвонить, чтобы никакого решения ей не давала. Не хватало еще пускать сюда непонятно кого и, не дай бог, деньги ему платить. Удумали!
– Нам предоставляет картину Русский музей?
– Чаще работать надо, а не болеть, чтобы знать все, – замечает Грымза. – Вчера уже вывеску на улице повесили, вообще-то. У нас двадцатого числа выставка маринистов будет в рамках их «большого тура». Эта коза малолетняя за Айвазовского трясется. Считает, что у нас в музее охрана плохая. А поняла она это только в день доставки картины. Дура.
Я стою, чуть дыша, и уже почти не слышу, что говорит Грымза. Сам Айвазовский здесь, в нашей глуши, в моей власти и без охраны.
– Ты и правда какая-то бледная, – оценивает Грымза. – Ладно уж, вали домой. Только это в последний раз. Хватит с меня этой истории твоей и глаз щенячьих. Болеешь – иди на больничный, а работать не хочешь – увольняйся.
– Вы совершенно правы.
Глаза Грымзы округляются. Я стараюсь стоять прямо и делать вид, что чувствую себя намного лучше.
– Мне действительно стоит поработать сегодня. Спасибо вам.
Сбегаю из кабинета, пока Грымза не успевает ничего добавить, и иду к туалету. Если я действительно хочу пережить этот день, нужно привести себя в порядок. Туалет как раз рядом с кабинетом начальства. Самое место.
Я умываю лицо холодной водой до тех пор, пока не перестаю чувствовать кончики пальцев. Мне хочется набрать целую раковину воды и опустить туда голову.
– Все хорошо, деточка?
Старческий голос и мягкая рука на моей спине заставляют поднять глаза. Морщинистое лицо нашей уборщицы, по совместительству сторожа, Чеславы Чеславовны морщится от волнения.
– Это все твои ночные посиделки тут, – Чеся качает головой. – Сколько раз я тебе говорила, что не надо тут ночами с зарисовками своими сидеть.
Придаю лицу безмятежное выражение и улыбаюсь.
– Я себя хуже чувствую, когда дома ночую. Я там не сплю совсем. Только плачу. А в музее я при деле.
Чеся качает головой и возвращается к швабре. Я пытаюсь собраться с мыслями. Сегодня в наш музей прибывают новые картины. И не просто картины, а полотна маринистов. При этом, благодаря Грымзе, никто не будет охранять их этой ночью. Возможно, это мой единственный шанс, пока Русский музей не надавил на исполком.
– Чеславна, я сегодня с вами ночую. – Я подхожу ближе и протягиваю старушке несколько мелких купюр.
– Как же так, деточка? – Чеся берет деньги, но смотрит неуверенно. – В таком вот состоянии?
Я подмигиваю ей, как делаю всегда. Это что-то вроде знака нашей договоренности. Она кивает. Пусть не одобряет мои решения, зато никому не рассказывает, не лезет в мои дела и искренне верит в ложь про зарисовки.
День тянется невыносимо долго до приезда маринистов. Мне становится хуже, но я жду. Ровно в час дня, как по расписанию, на лестнице раздаются шаги и крики Грымзы:
– Осторожнее с Айвазовским!
Сердце начинает биться чаще. Неужели сегодня я впервые увижу «певца моря»? Тело отзывается восторженным трепетом. Желудок скручивает от волнения, будто перед встречей с любимым. В каком-то смысле так оно и есть.
Эдика не стало два года назад, а я все еще жду его возвращения. Дергаюсь каждый раз, когда звонит телефон или раздается стук в дверь. Жду, что он войдет, как всегда красивый и обворожительный, с огромным букетом в руках.
Жизнь с ним напоминала фонтан с шампанским – она струилась и опьяняла. Я не работала все пять лет, что мы были вместе. Эдик брал все расходы на себя. Мы путешествовали, жили и наслаждались друг другом. С ним я побывала на всех лучших курортах мира: Канары, Бора-бора, Пхукет и даже Атлантис. Я пытаюсь убедить себя, что именно из-за количества поездок, я не помню, где мы с ним были в последний раз.
Меня от этого мутит, но я никак не могу вспомнить, где мы были. То ли на Бали, то ли на Гоа, то ли вообще где-то на Сейшелах. Я помню море: темное, буйное, шумное. Помню запах соли и вкус горечи во рту, который ощущаю теперь каждый раз, как пытаюсь вспомнить хоть что-то. Что случилось в тот день? Почему он оказался в море вечером один? Был шторм или он мне только приснился? Как он утонул? Разве мог утонуть человек, который плавал каждый день? Море было нашим домом. Как могло оно поглотить моего любимого?
Я не помню и похорон. Помню поход к психотерапевту перед ними, а потом еще сотню таких же сеансов, пока мои платежи не начал отклонять банк. Конечно, если все деньги спускать на путешествия, то будет нечего отложить на черный день.
Я толком не поняла, куда ушли все деньги, но в один день я вдруг осознала свою неожиданную бедность. У меня осталась квартира и дорогие подарки от Эдика, но у меня не было и мысли о том, чтобы продать нашу с ним память. Я слишком мало могла вспомнить. Я все еще надеюсь, что одна из таких вещей вернет мне память о том дне и об Эдике. А чтобы раздобыть денег, я достала из далекого ящика свой пыльный диплом по специальности «Музейное дело» и вышла на работу.
***
Уезжаю домой в три часа дня, а в одиннадцать вечера снова стою у дверей музея. По ночам Чеся открывает для меня заднюю дверь. Она открывается только изнутри и давно не используется. Я бы предпочла заходить в музей через главный вход, но Чеся очень волнуется, что кто-то может увидеть, что она пускает меня по ночам в музей, и она потеряет работу. Мне проще следовать выдуманным ей правилам безопасности, чем спорить.
Я не включаю свет. Иду по привычному маршруту, который преодолевала сотни раз: вперед по коридору, осторожно – у стены стоят шкафы со старыми архивными документами, дальше вниз к рабочим помещениям и складу. Иду направо. На металлической двери ввожу пин-код, такой же примитивный, как и Грымза: один, два, три, четыре. Захожу в святая святых музея.
Включаю фонарик на телефоне и опускаю его в нагрудный карман пиджака, чтобы он освящал комнату через ткань мягким светом. Здесь картины выглядят иначе, чем в зале музея. Шедевры превращаются в самые обычные вещи. Их покидает глубина и таинственность. Они разочаровывают.
Полотна стоят одно на одном в крафтовой бумаге, картоне или дереве. В левом верхнем углу маленькая белая наклейка сообщает, какая красота скрыта под уродливой упаковкой.
«Устье Темзы. Николай Досекин. 1896». Я отставляю ее в сторону сразу же. Хорошо помню эту картину. Море на ней слишком спокойное и светлое. Неинтересно. «Амстердам. Валентин Александрович Серов. 1885». В центре этой картины не море, а корабли. Она мне не подходит. Дальше картины Айвазовского.
Сердце трепещет от одного начертания гордой буквы «А». Я едва сдерживаюсь, чтобы не запищать от радости. Неужели я увижу его, гения, вживую и смогу пережить бурю вместе с ним? Мне попалось «Туманное утро» и «Ниагарский водопад». Интересные картины. Я могла бы ухватиться за одну из них, но если Грымза не обманула на счет Русского музея и охраны, то где-то здесь есть рыба покрупнее. Только где же она?
Проносится страшная мысль, обдавшая холодом плечи: «А вдруг его не привезли из-за слабой охраны? Вдруг он вообще не приедет?» Я машинально оборачиваюсь к противоположной стене и замираю.
Огромный, деревянный ящик, выше двух метров, возвышается надо мной, словно гора. Белые наклейки кричат красными буквами: «ОСТОРОЖНО! ХРУПКОЕ!» Это полотно не может быть ничем другим. Я сглатываю нетерпение, прячу его глубже и подхожу ближе.
«Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850». Вот он. Шедевр моря и кисти истинного гения, запертый в бездушном, деревянном плену. Любой человек, зная, что скрывается под коробкой, захотел бы освободить великий шедевр, а я с надеждой в сердце, что картина станет ответом на мои вопросы, набрасываюсь на нее, словно внутри лекарство от яда, которым я сама себя отравляю вот уже два года.
Первый год после смерти Эдика был тяжелым. Я не могла ни есть, ни спать. Постоянно находилась где-то между сном и реальностью, искала Эдика в толпе, звала его по ночам так громко, что соседи вызывали милицию. Я вообще не выходила из дома. Даже психиатр приезжал ко мне на дом. Я была разбита. Что-то внутри меня утонуло в тот день вместе с Эдиком.
Но когда я оказалась на работе в музее, стало еще хуже. Меня трясло от близости людей и картин. Я принимала двойные дозы препаратов, чтобы просто встать утром с кровати. Из-за этого в музее мне могло померещиться всякое.
Я особенно ненавидела портретную экспозицию. Мне казалось, на меня с картин таращатся люди и осуждают за то, что я ничего не помню. А однажды с картины мне явился Эдик. Любимые голубые глаза смотрели на меня с грустной нежностью. Я тогда не обратила внимания на посетителей музея. Опустилась на колени перед Эдиком и плакала, прижимаясь к стене, пока Грымза не увела меня и не отправила к врачу.
Тот день изменил все. Я поняла, что моя работа могла убить меня или излечить. Глядя на картины под таблетками, я научилась вызывать видения прошлого. Небольшими кусочками, фрагментами, но все же Эдик снова был со мной, и я уже не казалась себе такой сумасшедшей. По крайней мере, я перестала глотать таблетки все время, как было раньше. Теперь я берегу их для ночей.
Я осторожно вскрываю коробку. Эта работа предназначена не для одной хрупкой девушки, но мне не впервой проворачивать подобные манипуляции в одиночку. Мы с Чесей договорились, что я не буду делать зарисовки прямо на складе. Ей и это кажется небезопасным. Поэтому я выношу нужные картины, закрываю кодовую дверь и иду вместе со своими «примерами» в самую дальнюю часть коридора на старый склад и занимаюсь «зарисовками» там.
На старый склад никто, кроме меня, не ходит уже больше десятка лет. Я притащила туда мягкое кресло-мешок, пару ламп и расчистила от старой мебели немного места у пустой стены. Обычно я вешаю картины на стену, освещаю их, как мне хочется, и сажусь в кресло рядом, наблюдая.
Одного мимолетного взгляда на «Девятый вал» мне хватает, чтобы понять: я никогда в жизни не подниму его на стену, поэтому я использую стойку на колесиках, чтобы переместить картину на старый склад и оставляю ее стоять у стены. Я устанавливаю лампы так, чтобы осветить шедевр и с замиранием сердца включаю свет.
Я специально не смотрю на картину, пока не подхожу ближе к креслу. Стоит мне охватить ее взглядом, колени подгибаются, и я падаю в мягкий мешок, как тряпичная кукла. Прижимаю ладони ко рту. По коже бегут сотни и тысячи мурашек.
Темное, бушующее после ночного шторма, море лишает дара речи и выбивает из меня дыхание. Волны пенятся и закручиваются, словно гребнем. Море бушует, намереваясь проглотить утомленных борьбой за выживание членов экипажа корабля, отчаянно цепляющихся за мачту их потонувшего судна как за соломинку, последнюю надежду выжить. Их силы на исходе. Стихия уже почти сломила их, а ведь впереди еще самое страшное.
Девятый вал. Жестокая, смертоносная волна, самая опасная для жизни – девятая волна в шторме. Она наступает на них, словно море раскрывает пасть, готовясь проглотить людей вместе с остатками корабля и горящей, как рассветное солнце, надеждой в их сердцах.
