Бюг-Жаргаль бесплатное чтение
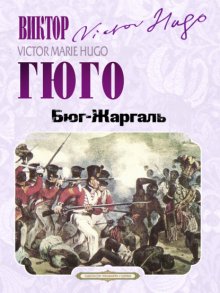
© перевод со шведского Е. Суриц (наследники)
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
I
Когда наступила очередь капитана Леопольда д’Овернэ, он заявил присутствующим, что не знает в своей жизни ни одного события, о котором стоило бы рассказать.
– Но позвольте, капитан, – сказал ему поручик Анри, – мы слышали, что вы немало путешествовали и видели свет. Ведь, кажется, вы побывали на Антильских островах, в Африке, в Италии и в Испании?.. Ах, капитан, ваша хромая собака…
Д’Овернэ вздрогнул, уронил свою сигару и быстро обернулся к входу в палатку как-раз в ту минуту, когда к нему подбегала огромная хромая собака. Собака лизала ему ноги, махала хвостом, ласково визжала, прыгала, как могла, а потом улеглась перед ним. Взволнованный, тяжело дыша, капитан машинально гладил ее левой рукой, отстегивая другой рукой ремень своей каски, и повторял отрывисто:
– Это ты, Раск! Ты! – Наконец он вскричал: – Да кто же тебя привел обратно?
– С вашего позволения, я, господин капитан…
Приподняв полу палатки, на пороге стоял уже несколько мгновений сержант Тадэ, обернув шинелью правую руку.
Д’Овернэ поднял на него глаза.
– Тад! Как это ты ухитрился?.. Бедная собака! Я думал, что она в английском лагере. Где же ты ее нашел?
– Дело в том, господин капитан, что с тех пор, как бедный Раск пропал, я заметил, с вашего, так сказать, позволения, что вам чего-то недостает. Откровенно говоря, мне кажется, что в тот вечер, когда Раск не прибежал, по обыкновению, разделить со мной порцию черного хлеба, старый Тад чуть было не разревелся, как ребенок. Но я плакал только два раза в жизни: первый раз, когда… в тот день, когда… – и сержант посмотрел с тревогой на своего начальника. – А второй раз в тот день, когда этому каналье, капралу Бальтазару, взбрело на ум заставить меня очистить пучок луку.
– Мне кажется, Тадэ, – вскричал, смеясь, Анри, – что вы нам не сказали, когда вы расплакались в первый раз.
– Должно быть, в тот день, старина, как тебя облобызал Ла-Тур-д'Овернэ, первый гренадер Франции? – спросил ласково капитан, не переставая гладить собаку.
– Никак нет, господин капитан. Уж если сержант Тадэ расплакался, согласитесь, что это могло случиться только в тот день, когда приказал стрелять в Бюг Жаргаля, иначе называемого Пьерро.
Лицо д’Овернэ омрачилось. Он поспешно подошел к сержанту и хотел пожать ему руку; старый Тадэ продолжал прятать руку под шинелью.
– Да, господин капитан, – продолжал Тадэ, отступая на несколько шагов, тогда как д’Овернэ смотрел на него с грустным выражением, – да, в тот раз я плакал, по правде сказать, он стоил слез! Он был черный, – это так, но и порох тоже черен, а… а…
Доброму сержанту очень хотелось бы с честью выпутаться из своего странного сравнения. Быть может, в этом сближении понятий заключалось что-нибудь такое, что нравилось ему, но все старания высказаться остались напрасными; и вот после нескольких попыток так или иначе взять приступом свою мысль он, подобно полководцу, которому не удается взять крепость, снял внезапно осаду и продолжал, вовсе не замечая улыбок слушавших его молодых офицеров:
– Скажите, господин капитан, помните ли вы этого бедного негра, когда он вбежал, запыхавшись, в ту самую минуту, когда его десять товарищей стояли уже на месте? По правде говоря, их пришлось связать. Командовал я. А тогда он их отвязал сам, чтобы занять их место, несмотря на то, что они не хотели этого. Но он был непреклонен. О, какой молодец. А еще помните, господин капитан, как он стоял прямо, точно собирался плясать, и как его пес, вот этот самый Раск, поняв, что хотят с ним делать, вцепился мне в горло?..
– Обыкновенно, Тад, – прервал капитан, ты никогда не забывал в этом месте своего рассказа приласкать бедного Раска; смотри, как он глядит на тебя.
– Вы правы, – сказал в смущении Тадэ, – бедняга Раск глядит на меня; но… дело в том, что старуха Малагрида сказала мне, что ласкать левой рукой приносит несчастье.
– А почему же не правой? – спросил с удивлением д’Овернэ, впервые заметив теперь и спрятанную под шинелью руку и бледность лица Тадэ.
Смущение сержанта, казалось, еще возросло.
– С вашего позволения, господин капитан, видите ли… У вас уже есть хромая собака, а теперь я боюсь, что у вас заведется и сержант с одной рукой.
Капитан сорвался с места.
– Как? Что? Что ты говоришь, старина? Покажи-ка руку. Однорукий. Боже мой!
Д’Овернэ дрожал; сержант медленно распахнул шинель и показал своему начальнику руку, обмотанную окровавленной тряпкой.
– Ах, боже мой! – прошептал капитан, приподнимая осторожно тряпку. – Но расскажи же мне, старина…
– Дело очень простое. Как я сказал уже вам, я заметил, что вы горюете с тех пор, как проклятые англичане увели вашего славного пса, бедного Раска, собаку Бюга… Ну, да, довольно. Я решил привести его вам обратно, хотя бы ценою своей жизни. Я удрал тайком из лагеря, захватив только саблю, и стал пробираться прямо сквозь изгороди к английскому лагерю, потому что это – самый близкий путь; не успел я еще добраться до первых окопов, как вдруг, с вашего позволения, господин капитан, я увидел слева в небольшой рощице большую толпу красных солдат. Я пошел вперед, чтобы разведать, в чем дело; на меня никто не обращал внимания, а я успел разглядеть Раска, привязанного к дереву, тогда как двое молодцов, оголенных до пояса, точно язычники, изо всех сил тузили друг друга кулаками так, что кости трещали. Вообразите себе, что англичане дрались из-за вашей собаки. Но тут Раск увидал меня и так рванулся вперед, что веревка лопнула и он очутился в один миг подле меня. Я кинулся в лес. Раск за мною. Несколько пуль просвистели у меня над ухом. Я уж миновал чащу и собирался выйти из нее, как вдруг передо мною очутились два красных мундира. Моя собака покончила с одним из них и, конечно, покончила бы и с другим, если бы его пистолет не был заряжен пулей. Взгляните на мою правую руку. Ну, да все равно. Раск кинулся к нему на шею, как к старому знакомцу, и ручаюсь вам, что плотно его обнял – англичанин свалился как сноп, задушенный Раском. Сам виноват: зачем так привязывался ко мне-пристал, точно нищий к семинаристу! Ну, словом, Тад вернулся в лагерь, и Раск тоже. Вот и все.
– Тадэ!.. – крикнул капитан гневно, но сейчас же добавил мягче: – С ума ты, что ли, сошел, что рискуешь жизнью ради собаки?
– Да я не ради собаки, господин капитан, а ради Раска.
Лицо д’Овернэ окончательно смягчилось. Сержант продолжал:
– Ради Раска, ради друга Бюга…
– Довольно, довольно, Тад! – вскричал капитан, закрывая глаза рукой. – Ну, – добавил он после короткого молчания, – обопрись на меня, и пойдем на перевязку.
После некоторого почтительного сопротивления Тадэ повиновался. Собака последовала за ними обоими.
II
Эпизод этот возбудил живейшее любопытство веселых собеседников.
Лишь только капитан д’Овернэ вышел из палатки, завязался следующий разговор.
– Я готов держать пари, – вскричал поручик Анри, вытирая свой красный сапог, на котором виднелось большое грязное пятно, оставленное собакой, – я готов держать пари, что капитан не отдал бы сломанной лапы своей собаки за те десять корзин мадеры, что мы видели на днях в большой генеральской фуре.
– Тише! Тише! – сказал весело адъютант Паскаль. Это было бы невыгодно. Корзины уже пусты – это мне доподлинно известно; и, – добавил он серьезно, – согласитесь, поручик, тридцать пустых бутылок, разумеется, не стоят лапы этого пса, тем более, что, в сущности, из этой лапы можно сделать ручку для дверного звонка.
Серьезный тон последних слов адъютанта рассмешил всех. Только Альфред, молодой офицер баскских гусар, не засмеялся; у него был недовольный вид.
– Не вижу, господа, что вы находите смешного в том, что только-что произошло. По-моему, и собака и сержант, которых я всегда видел подле д’Овернэ, должны скорее возбуждать к себе участие. Наконец эта сцена…
Паскаль, задетый за живое недовольством Альфреда и веселостью остальных, перебил его:
– Очень сентиментальная сцена. Скажите пожалуйста! Найденная собака и сломанная рука.
– Капитан Паскаль, вы не правы, – сказал Анри, выбрасывая из палатки только-что опорожненную им бутылку, – этот Бюг, по прозвищу Пьерро, возбуждает во мне огромное любопытство.
Готовый уже рассердиться, Паскаль утих, заметив, что его стакан еще полон. Д’Овернэ вернулся и сел на прежнее место, не говоря ни слова. Он был еще задумчив, но лицо стало уже спокойнее. Озабоченный чем-то, он не слушал, о чем говорили вокруг него. Раск улегся у его ног, следя за ним тревожным взором.
– Ваш стакан, капитан д’Овернэ. Попробуйте, хорошее винцо.
– Слава богу! – сказал капитан, воображая, что отвечает на вопрос Паскаля. – Рана оказалась не опасною, рука не сломана.
Только невольное уважение, которое внушал капитан своим соратникам, сдержало взрыв смеха, уже готовый сорваться с губ Анри.
– Раз вы перестали тревожиться о Тадэ, – сказал он, – и раз мы условились рассказать по очереди какое-нибудь из своих приключений с целью скоротать ночь, я надеюсь, дорогой друг, что вы сдержите свое слово и расскажете нам историю о вашей хромой собаке и Бюге… не знаю дальше имени этого Пьерро, как называл его ваш Тад.
Д’Овернэ не ответил бы ничего на этот полушутливый, полусерьезный вопрос, если бы все остальные не присоединили к нему свои настояния. В конце концов он уступил их просьбам.
– Так и быть, господа; но не ждите ничего, кроме рассказа об очень простом происшествии, в котором лично я играю совершенно второстепенную роль. Если вы ожидаете чего-нибудь необычайного, то вы ошибаетесь, предупреждаю вас. Я начинаю.
Наступило глубокое молчание. Паскаль выпил залпом свою флягу водки, Анри завернулся от ночного холода в изодранную медвежью шкуру.
Д’Овернэ задумался, припоминая события, давно уже вытесненные из его памяти. Наконец он заговорил медленно, тихим голосом, деля частые паузы.
III
Родился я во Франции, но еще юношей был отправлен в Сан-Доминго к одному моему дяде, очень богатому колонисту, на дочери которого предполагали меня женить. Постройки жилища дяди были расположены по соседству с фортом Галифе, а его плантации занимали большую часть Акудских равнин.
Это-то несчастное местоположение, подробности которого, вероятно, кажутся вам мало интересными, и было одной из первых причин бедствий и разорения, постигших мою семью. Восемьсот негров возделывали огромные поместья моего дяди. Признаюсь вам, что печальное положение этих невольников ухудшалось еще бесчувственностью их господина. Мой дядя принадлежал к числу тех плантаторов, сердце которых очерствело вследствие долголетней привычки к неограниченному деспотизму. Он так привык, чтобы ему повиновались по одному его взгляду, что малейшее колебание со стороны невольника жестоко наказывалось, и зачастую вмешательство его детей только разжигало его гнев. А потому мы чаще всего бывали принуждены ограничиваться оказанием тайной помощи, не будучи в состоянии предотвращать все беды.
Из всех рабов только один снискал милость дяди. То был испанский карлик, отдаленная смесь негра и белой женщины, подаренный дяде лордом Эффингэмом, губернатором Ямайки. Дядя долго прожил в Бразилии, усвоил себе привычку португальской пышности и любил окружать себя дома великолепием, соответствовавшим его богатству. Толпа невольников, выдрессированных как европейская прислуга, придавала его дому блеск настоящего дворца вельможи. В довершение всего он сделал невольника лорда Эффингэма своим шутом, на манер прежних феодалов, державших при себе паяцев. Нельзя не признаться, что выбор дяди был необыкновенно удачен. Хабибра (таково было его имя), представлял собою одно из тех существ, физическое сложение которых таково, что они казались бы чудовищами, если бы не были так смешны. Этот отвратительный карлик бы толст, у него были короткие ноги и большой живот, ходил он с необыкновенной быстротой на своих жидких, худых ногах, которые складывались под ним, когда он садился, точно лапы паука. Его огромная голова, как бы вдавленная между плеч, обросшая торчащими рыжими курчавыми, похожими на шерсть волосами, была украшена ушами такой величины, что товарищи его утверждали, что когда Хабибра плакал, то утирал этими ушами свои слезы. Лицо его вечно гримасничало, но гримасы его постоянно менялись; эта странная подвижность его черт вносила, по крайней мере, некоторое разнообразие в его уродливость. Мой дядя любил его безобразие и невозмутимую веселость. Хабибра был его любимцем. Тогда как остальные невольники изнемогали под бременем тяжкого труда, Хабибра не имел другого дела, как носить за своим господином большой веер из перьев райской птицы, чтобы отгонять им комаров и мух. Ел он всегда у ног дяди на камышовой циновке, и дядя всегда передавал ему на тарелке остатки какого-нибудь особенно любимого им блюда. Зато Хабибра был, видимо, благодарен дяде за его доброту и пользовался своими привилегиями шута, своим правом говорить и делать все, что угодно, только для развлечения своего господина; он потешал его всякими шутками и гримасами, и стоило подать ему знак, как он бежал к дяде с проворством обезьяны и покорностью собаки.
Я не любил этого невольника. В его раболепстве было что-то пресмыкающееся, а ведь если рабство не позорно, то раболепство унизительно. Я чувствовал искреннюю жалость к несчастным неграм, которые целыми днями работали у меня на глазах почти нагими; но этот безобразный шут, этот бездельничающий раб в своей дурацкой одежде, пестревшей галунами и усеянной бубенчиками, внушал мне презрение. К тому же карлик не пользовался тем влиянием, которое он приобрел с помощью своего раболепства перед дядей, для облегчения участи своих братьев. Никогда не выпросил он прощения ни для кого из них у своего господина, весьма часто наказывавшего их; наоборот, как-то раз один невольник подслушал, как он внушал дяде быть по строже с его несчастными товарищами. Однако же остальные невольники, которые, казалось, должны бы были остерегаться его и завидовать ему, не выказывали никакой к нему ненависти. Он внушал им какой-то почтительный страх, нимало не похожий на враждебность; а когда он проходил мимо их хижин в своем большом островерхом колпаке, увешанном колокольчиками и испещренном странными узорами, нарисованными черными чернилами, они испуганно шептали друг другу: «Это-колдун!»
Все эти подробности, на которых я теперь останавливаю ваше внимание, очень мало меня в то время занимали. Всецело поглощенный волнениями любви, которой, По-видимому, не грозили никакие превратности, любви, разделяемой с детства, я относился рассеянно ко всему, что не было Марией. С самого раннего детства я привык смотреть, как на свою будущую жену, на ту, которая была мне почти сестрой, и между нами зародилось чувство довольно странного характера: это была какая-то смесь братской преданности, страстной экзальтации и супружеского доверия. Немногим довелось провести более счастливые годы молодости, чем те, которые выпали на мою долю; немногим случалось расцветать душою под более прекрасным небом, при таком чудном сочетании счастья в настоящем с надеждою в будущем.
В августе 1791 года мне должно было исполниться двадцать лет, и дядя назначил на этот день мое бракосочетание с Марией. Вы легко поймете, что мысль о таком близком счастье поглощала меня всецело, а также что у меня осталось лишь самое смутное воспоминание о тех политических спорах которые волновали колонию уже целых два года. Я видел с радостью, что минута, когда Мария будет моею, приближается, и пребывал в стороне от все возраставшего возбуждения, которое кружило всем вокруг меня головы. Не видя перед собою ничего, кроме своего надвигающегося счастья, я не замечал угрожающей тучи, которая уже закрывала политический горизонт и которой было суждено, разразившись, разбить всем нам жизнь.
Между белыми людьми, невольниками и свободными мулатами существовала уже настолько сильная ненависть, что этот клокочущий вулкан грозил перевернуть всю колонию своим пробуждением. В самом начале этого августа, которого я так пламенно ждал, случился один странный инцидент, внесший непредвиденную тревогу в мои мирные надежды.
IV
На берегу живописной речки, омывавшей плантации моего дяди, он выстроил небольшой павильон из ветвей, окруженный чащей густых деревьев, куда Мария приходила ежедневно подышать мягким морским воздухом, приносимым легким ветерком, который дует в Сан-Доминго с утра до вечера даже в самые жаркие месяцы года и свежесть которого возрастает и уменьшается одновременно с жарой.
Каждое утро я заботливо украшал этот уголок самыми прекрасными цветами, какие только мог найти. Однажды Мария выбежала мне навстречу с испуганным лицом. Войдя по обыкновению в свой цветущий уголок, она увидала с удивлением и ужасом, что все цветы, принесенные мною утром, оборваны и растоптаны, а на том месте, где она всегда сидела, лежит букет свежесорванных ноготков. Не успела она еще оправиться от изумления, как из самой чащи, окружавшей павильон, до нее долетели звуки гитары; вслед за тем какой-то голос, совершенно незнакомый ей, запел песню, по-видимому, испанскую, в которой она разобрала только свое собственное имя, часто повторяемое. Тогда она поспешила убежать, и бегству ее, к счастью, никто не помешал.
Этот рассказ вызвал во мне взрыв негодования и ревности. Успокоив бедную Марию, я дал себе слово бдительно оберегать ее до той недалекой уже минуты, когда мне будет дозволено не разлучаться с нею. Предполагая, что смельчак, чья дерзость так напугала Марию, не ограничится первой попыткой открыть свою тайную любовь, я в тот же вечер, как только в плантации все заснуло, спрятался поблизости от того флигеля, где почивала моя невеста. Я ждал, притаившись среди густых, высоких сахарных тростников. Ожидание мое не было напрасно. Посреди ночи мое внимание было внезапно привлечено грустной, величественной прелюдией, прозвучавшей в нескольких шагах от меня. Я так и вздрогнул: то был звук гитары, и прямо под окном Марии. Вне себя, размахивая кинжалом, я бросился туда, откуда шли эти звуки, ломая по пути хрупкие стебли сахарного тростника. Вдруг меня кто-то схватил и бросил оземь с силой, показавшейся мне исполинской; из рук моих выхватили кинжал, который засверкал над моей же головой. Совсем близко вспыхнули надо мною в темноте два огненных глаза, и сквозь два ряда белевших во мраке зубов вылетели по-испански слова, выражавшие торжествующее бешенство: «Попался, попался!» Скорее удивленный, чем испуганный, я тщетно отбивался от моего грозного противника, и уже острие кинжала вонзилось в мою одежду, когда Мария, разбуженная гитарой и шумом, внезапно показалась в окне. Она узнала мой голос, разглядела блеск кинжала, и у нее вырвался крик ужаса и отчаяния. Этот раздирающий крик точно парализовал руку одолевшего меня противника; он остановился, словно околдованный, провел нерешительно еще несколько раз кинжалом по моей груди, но потом вдруг швырнул его прочь и сказал, на этот раз по-французски: «Нет, нет! Она пролила бы слишком много слез!» Произнеся эти странные слова, он бросился в тростники и, прежде чем я успел подняться на ноги, измученный этой неравной и страшной борьбой, он бесследно исчез.
Затрудняюсь передать свое душевное состояние в ту минуту, когда я оправился от столбняка в объятиях кроткой Марии, так непонятно пощаженный тем самым, который, казалось, намеревался оспаривать ее у меня. Более чем когда-либо негодовал я на этого неожиданного соперника, и мне было стыдно, что я ему обязан жизнью. В сущности, подсказывало мне мое самолюбие, я обязан ею Марии, раз кинжал упал от одного звука ее голоса. Однако же я не мог не сознаться, что чувство, которое заставило моего неведомого соперника пощадить меня, было не лишено великодушия. Но кто же был этот соперник? Я переходил от подозрения к подозрению, при чем одно противоречило другому. Человек, с которым я боролся, показался мне обнаженным до пояса. Одни лишь невольники так одевались в колонии. Но мне казалось – то не мог быть невольник; я не считал возможным встретить у невольника чувство великодушия, заставившее его отбросить кинжал; кроме того, все во мне возмущалось от одного предположения о возможности соперничества с рабом. Кто же это был?
Я решил выждать и наблюдать.
V
Мария разбудила свою старую мамку, заменявшую ей мать, которая умерла, когда Мария была еще грудным ребенком. Я провел остальную часть ночи подле нее, и, как только настало утро, мы сообщили дяде о необъяснимых событиях. Он крайне удивился, но в своей гордости, подобно мне, не мог допустить и мысли, что неизвестный обожатель его дочери мог быть невольником. Мамке было приказано не отходить больше от Марии ни на шаг, а так как беспокойство, причиняемое колонистам все более угрожающим положением колониальных дел, и работы на плантациях совсем не оставляли дяде свободного времени, то он разрешил мне сопровождать его дочь во всех ее прогулках до самого дня нашей свадьбы, назначенной на 22 августа. Кроме того, предполагая, что новый поклонник его дочери был человек со стороны, он отдал приказание строже, чем когда-либо, охранять днем и ночью границы его владений.
Приняв меры предосторожности сообща с дядей, я вздумал провести опыт. Я прошел к павильону у реки, привел все в порядок и вновь украсил его цветами, как делал всегда для Марии. Когда наступил час и она отправилась туда, я взял карабин, заряженный пулей, и предложил кузине проводить ее до павильона. Старая мамка последовала за нами. Мария, которой я не сказал, что уничтожил все следы разрушения, так напугавшие ее накануне, вошла первой в зеленую беседку.
– Видишь, Леопольд, – сказала она мне, – моя беседка в том же беспорядке, в каком я оставила ее вчера; видишь, твоя работа уничтожена, твои цветы оборваны, измяты. Меня удивляет, – добавила она, беря букет ноготков, лежавший на дерновой скамейке, – меня удивляет, что этот гадкий букет все еще не завял со вчерашнего дня. Взгляни, милый друг, его точно только-что нарвали.
Я так и окаменел от удивления и гнева. Действительно, вся моя утренняя работа была уничтожена, печальные цветы, свежесть которых изумляла мою бедную Марию, вновь дерзко заняли место моих роз.
– Успокойся, – сказала Мария, видя мое волнение, – успокойся; это – дело прошлое, и дерзкий, конечно, больше не покажется; отбросим воспоминание о нем, как этот противный букет.
Я не стал ее разубеждать из опасения встревожить и, не говоря ей, что тот, кто по ее мнению не должен был более показываться, уже вновь побывал здесь, я предоставил ей растоптать ноготки в порыве невинного негодования. Затем, надеясь, что теперь я узнаю наконец, кто же мой таинственный соперник, я усадил ее между мамкой и собою.
Едва мы уселись, как Мария, чтобы не дать мне говорить приложила свой пальчик к моим губам: до ее уха донеслись какие-то звуки, заглушенные ветром и плеском воды. Я прислушался: это была та же самая грустная и медлительная прелюдия, которая взбесила меня предыдущей ночью. Я хотел вскочить со скамьи; Мария удержала меня жестом.
– Леопольд, – сказала она мне шепотом, – сдержи себя; может быть, он запоет, и, вероятно, слова его откроют нам, кто он.
И действительно, через минуту из глубины леса донесся голос, звук которого был и мужествен и жалобен; голос этот, сливаясь с низкими нотами гитары, пел испанский романс, каждое слово которого так глубоко проникало в меня, что в моей памяти до сих пор сохранились почти все выражения.
«Почему бежишь ты от меня, Мария? Почему бежишь ты от меня, девица? Откуда этот страх, едва ты услышишь мой голос? Правда, я страшен! Я умею любить, страдать и петь. Когда я вижу сквозь стройные стволы кокосовых прибрежных пальм твой легкий и чистый облик, глаза мои затуманиваются, о, Мария, и мне чудится, что передо мною проходит дух.
А когда я слышу, о, Мария, чудные звуки, исходящие из твоих уст, точно мелодия, мне кажется, что мое сердце бьется в самом мозгу и что его жалобный трепет сливается с твоим гармоничным голосом.
Увы! Твой голос для меня слаще пения птиц, реющих в небе и прилетевших из того края, где находится моя отчизна.
Моя отчизна, где я был царем, моя отчизна, где я был свободен. Я был свободен, я был царем, о, девица! Но для тебя я готов забыть все это, забыть все: царство, семью, дом, месть – да, даже самую месть! – хотя близка минута, когда можно будет сорвать этот горький и чудный плод, который так поздно созрел».
Эти строфы голос пропел с частыми тяжелыми паузами, но при последних словах он сделался грозным.
«О, Мария! Ты подобна прекрасной пальме, стройно колеблющейся, и ты смотришься в глаза своего молодого возлюбленного подобно тому, как пальма смотрится в прозрачную воду ручья. Но разве ты не знаешь? – Порой в глубине пустыни таится ураган, завидующий счастью любимого ручья; он мчится, и под взмахом его тяжелых крыльев песок сливается с воздухом; он окутывает дерево и ключ вихрем пламени; и ручей высыхает, и на пальме, под мертвящим дыханием свертываются зеленые листья, окружавшие ее венцом, величественным как корона и прелестным как волосы.
Трепещи, о, белая дщерь Испаньолы [Так Христофор Колумб назвал впервые Сан-Доминго в эпоху своего открытия Америки, в декабре 1492 г.]! Трепещи, как бы все вокруг тебя не превратилось скоро в ураган и пустыню. Тогда ты пожалеешь, что не вняла голосу любви, который мог привести тебя ко мне! Почему ты отвергаешь мою любовь, Мария? Ты белая, а я черный; но разве день не сливается с ночью, чтобы породить зарю и закат, которые прекраснее его самого».
VI
Последние слова сопровождались продолжительным вздохом и тягучей нотой трепетных струн гитары. Я был вне себя: «Черный! Невольник!» Тысяча бессвязных мыслей, пробужденных необъяснимой песней, только-что мною услышанной, кружились в моем мозгу. Мною овладело страстное желание покончить с незнакомцем, осмелившимся примешивать имя Марии к песням любви и угроз. Я судорожно сжал в руках свой карабин и выбежал из павильона. Испуганная Мария протягивала еще руки, чтобы удержать меня, но я уже был в глубине чащи, откуда слышался голос. Я обшарил лес повсюду, я обошел вокруг всех толстых деревьев, перебрал все высокие травы, но не нашел ничего, ровно ничего! Бесполезные поиски в связи с бесполезными размышлениями о только-что слышанном романсе внесли в мой гнев некоторую долю стыда. Неужели дерзкий соперник останется для меня и недостижимым и непостижимым! Неужели мне его не открыть и не встретить? В эту минуту меня вывел из задумчивости звон бубенчиков. Я обернулся. Подле меня стоял карлик Хабибра.
– Здравствуйте, господин, – сказал он, почтительно кланяясь, но самый взгляд, которым он смотрел на меня искоса, с каким-то неопределенным выражением хитрости и торжества, словно подчеркивал мое смятение.
– Отвечай, – вскричал я внезапно, – не видал ли ты кого-нибудь в этом лесу?
– Никого, кроме вас, мой сеньор, – отвечал он спокойно.
– А не слыхал ли ты голоса? – снова спросил я.
Невольник помолчал с минуту, как бы спрашивая себя, что ему отвечать. Я кипел негодованием.
– Скорей, – сказал я, – отвечай скорее, несчастный, не слыхал ли ты здесь голоса?
Он взглянул мне смело в глаза своими круглыми, как у хищного ястреба, глазами.
– О каком голосе говорите вы, господин? Голоса есть всюду и во всем: есть голос птиц, есть голос воды, есть голос ветра и листвы…
Я прервал его, сильно встряхнув его за плечо.
– Низкий шут! Перестань издеваться надо мной, а не то ты увидишь вблизи дуло моего карабина. Отвечай в нескольких словах. Не слыхал ли ты в лесу мужского голоса, певшего испанскую мелодию?
– Да, сеньор, – отвечал он мне, нимало не взволнованный, – и слова на эту мелодию слышал… Послушайте, я расскажу вам, как было дело. Я гулял по опушке этой рощи, прислушиваясь к тому, о чем звенели мне на ухо серебряные бубенчики моего колпака. Вдруг ветер донес до меня несколько слов на языке, который вы называете испанским-первый язык, на котором я лепетал, когда мой возраст определялся месяцами, а не годами, и когда моя мать подвешивала меня к себе на спину тесемками из красной и желтой шерсти. Я люблю этот язык, он напоминает мне то время, когда я был еще только ребенком, а не карликом; я пошел в сторону голоса и слышал конец песни.
– Ну, что же, разве это все? – спросил я нетерпеливо.
– Да, господин, но если вам угодно, то я скажу вам, кто пел там в лесу.
Я чуть не расцеловал бедного шута.
– О, говори, – вскричал я, – говори, вот мой кошелек, Хабибра! И я дам тебе десяток других кошельков, лучше этого, если ты мне скажешь, кто этот человек.
Он взял кошелек, открыл его и улыбнулся.
– Десять кошельков лучше этого, господин. Помните, сеньор, последние слова песни: «Ты белая, а я черный; но и дню приходится вступить в союз с ночью для того, чтобы породить зарю и закат, которые прекраснее его самого». Так вот, если эта песня говорит правду, то Хабибра, ваш смиренный раб, родившийся от негритянки и белого, красивее вас. Я – плод союза дня и ночи, я та заря или тот закат, о котором говорится в испанской песне. Значит, я прекраснее вас.
Карлик перемешал эти странные речи с раскатом смеха.
Я опять прервал его:
– К чему эти нелепости? Что ты хочешь сказать? Объяснишь ли ты мне, кто пел в роще?
– Вот именно, сеньор, – возразил шут с насмешливым взглядом. Очевидно, человек, певший такие, по вашему выражению, нелепые вещи, не может быть ничем иным, как таким же шутом, как я! Я заслужил свои десять кошельков!
Я поднял уже руку, чтобы наказать за дерзкую шутку Хабибру, как вдруг в роще раздался страшный крик со стороны реки, где находился павильон. Это был голос Марии. Я пустился бежать, я летел вперед, с ужасом спрашивая себя, какое новое несчастье могло грозить мне. Едва переводя дыхание, я добежал до зеленой беседки. Там меня ожидало страшное зрелище. Чудовищный крокодил, тело которого было наполовину скрыто прибрежными тростниками, просунул свою огромную голову в одну из зеленых арок, подпиравших крышу павильона. Его отвратительная полуоткрытая пасть угрожала молодому негру колоссального роста, поддерживавшему одной рукой обезумевшую от ужаса девушку и смело вонзавшему другой рукой железный топор в острые челюсти крокодила. Крокодил бешено отбивался от этой смелой и могучей руки, сдерживавшей его натиск. Когда я показался у порога беседки, Мария радостно вскрикнула, вырвалась из рук негра и упала в мои объятия, восклицая:
– Я спасена!
При этом крике негр стремительно обернулся, скрестил руки на своей вздымавшейся груди и, вперив в мою невесту взор, замер неподвижно, точно не замечая, что крокодил тут, подле него, и готов уж пожрать его. И храбрый негр непременно погиб бы, если бы я, опустив Марию на руки ее кормилицы, застывшей в ужасе на скамье, не подошел к чудовищу и не всадил ему в упор прямо в пасть весь заряд своего карабина. Зверь открыл и закрыл еще два или три раза свою окровавленную глотку и потухшие глаза, но это уже была агония, затем он опрокинулся с шумом навзничь, вытянув свои огромные чешуйчатые лапы. Он был мертв.
Негр, которого я так удачно спас, повернул голову и увидал последние судороги чудовища; он потупил тогда глаза в землю, потом посмотрел на Марию, снова прижавшуюся к моей груди, и сказал по-испански голосом, в котором звучало большое отчаяние:
– Зачем ты убил его?
И, не ожидая моего ответа, он исчез, углубившись в рощу.
VII
B голове моей царил хаос от этой страшной сцены, этой странной развязки и всех разнообразных волнений, предшествовавших, сопровождавших и последовавших за моими поисками в лесу. Мария не оправилась еще от страха, и прошло довольно много времени, прежде чем мы были в состоянии обменяться своими бессвязными мыслями иначе, чем посредством взглядов и пожатий рук. Наконец я нарушил молчание.
– Уйдем отсюда, Мария, – сказал я. В этом месте есть что-то губительное!
Она поспешно встала, точно только и ждала моего разрешения, оперлась о мою руку, и мы вышли. Тогда я спросил ее, откуда явилась чудесная помощь в лице этого негра в минуту, как она подвергалась страшной опасности, и знает ли она, кто этот невольник, потому что грубые штаны, едва прикрывающие его наготу, ясно показывали, что он принадлежит к низшему классу островитян.
– Это, вероятно, один из невольников моего отца, – сказала мне Мария. Он работал поблизости в ту минуту, когда появление крокодила вырвало у меня тот крик, который известил тебя, что я в опасности. Негр выбежал ко мне на помощь из леса в самую критическую минуту.
– С какой стороны он явился? – спросил я.
– Ты побежал в ту сторону, откуда мы слышали голос, а он явился с противоположной стороны.
Эта подробность отклонила то невольное сопоставление, которое возникало в моем уме – сопоставление между фразой, сказанной мне по-испански уходившим негром, и романсом, пропетым на том же языке моим неведомым соперником. Я делал уже и другие сопоставления. Этот негр, почти гигантского роста и необыкновенной силы, мог быть вполне тем могучим противником, с которым я боролся предыдущей ночью. То, что он был обнаженным, служило, впрочем, поразительной приметой. Лесной человек сказал: «Я негр». Еще одно сходство: тот объявлял себя царем, а этот был только невольником, но я мысленно не без удивления припоминал выражение суровости и величия на его лице рядом с характерными чертами африканской расы – блеском его глаз, белизной его зубов, высоту его лба, презрительную мину, придававшую его толстым губам и ноздрям что-то гордое и могучее, благородство его осанки, красоту его мощных членов, несмотря на их худобу, на унизительный и изнуряющий ежедневный труд, вызывая в уме весь этот величественный облик этого невольника. Я находил эту пышность царственной.
Я подобрал массу других подробностей, и подозрения мои останавливались с гневным трепетом на этом дерзком негре; я хотел уже разыскать и наказать его. Но потом я опять поколебался. В сущности, где было основание для всех этих подозрений? Так как остров Сан-Доминго на значительном пространстве принадлежал Испании, то многие негры, или первоначально принадлежавшие здешним колонистам, или родившиеся здесь, примешивали к своему наречию испанский язык. И разве только потому, что этот невольник сказал мне несколько испанских слов, следовало считать его автором испанского романса, несомненно, свидетельствовавшего о такой степени умственной культуры, которая, по-моему, была совершенно неведома неграм? Что же касалось его странного упрека за то, что я убил крокодила, то это просто доказывало присущее этому невольнику отвращение к жизни, объяснимое его положением, и для этого, конечно, незачем было прибегать к невероятной гипотезе любви негра к дочери его господина. Его присутствие в роще около беседки могло быть вполне случайным; его силы и роста было еще далеко не достаточно для того, чтобы установить тождественность его личности с моим действительным соперником. Мог ли я, опираясь на столь шаткие доказательства, обвинить так тяжко перед моим дядей бедного невольника, храбро спасшего Марию, и предать его неумолимой мести гордого дяди.
В ту самую минуту, как мой гнев боролся с этими мыслями, Мария окончательно успокоила меня, сказав громко:
– Леопольд, мы должны быть благодарны этому бедному негру, не будь его, я погибла бы. Ты бы опоздал.
Эти слова произвели на меня решительное действие. Мое намерение разыскать невольника, спасшего Марию, от этого не изменилось, но изменилась цель моих поисков. Сначала я его хотел наказать, а теперь я намерен был вознаградить его.
Я передал дяде, что он обязан спасением жизни своей дочери одному из своих невольников, и он обещал отпустить его на свободу, если мне удастся найти его в толпе несчастных.
VIII
До того дня я держался всегда вдали от плантаций, где работали негры. Мне было тяжело смотреть на страдания людей, которым я не мог ничем помочь. Но когда на следующий день дядя предложил мне обойти вместе с ним работы, я поспешил принять его предложение, надеясь отыскать среди рабочих спасителя моей Марии.
Во время этой прогулки я мог убедиться, какую власть имеет взгляд господина над невольниками, но также и в том, как дорого покупается подобная власть. Негры, дрожа в присутствии дяди, удваивали, когда он проходил мимо, свои старания и свое рвение; но сколько ненависти было в этом страхе!
Вспыльчивый по привычке, дядя готов уже был рассердиться из-за того, что придраться было не к чему, как вдруг его шут Хабибра, всюду следовавший за ним, указал ему на какого-то негра, заснувшего от усталости под группой финиковых деревьев. Дядя подбежал к несчастному, грубо разбудил его и приказал вновь приняться за работу. Испуганный негр вскочил, обнаружив молодой кустик бенгальских роз, на который он нечаянно лег и который дядя выращивал с особенной любовью. Кустик был измят. Уже взбешенный тем, что он считал леностью со стороны невольника, дядя пришел при виде измятого куста в окончательную ярость.
Вне себя, он снял с пояса кнут из ремней с железными наконечниками, который всегда носил с собою, и поднял уже руку, собираясь ударить негра, упавшего на колени. Но поднятый кнут не опустился. Я никогда не забуду этой минуты. Могучая рука остановила руку колониста, и другой негр (тот самый, которого я искал) крикнул ему по-французски:
– Накажи меня, оскорбившего тебя сейчас, но не трогай моего брата, прикоснувшегося только к твоему розовому кусту.
Это неожиданное вмешательство человека, которому я был обязан спасением Марии, его жест, его взор, повелительный тон его голоса повергли меня в оцепенение. Но его великодушный поступок не только не заставил дядю покраснеть, а, напротив, удвоил его ярость, обратив ее с негра, измявшего розовый куст, на его защитника. Совершенно не помня себя, дядя осыпал угрозами высокого негра, и поднял вновь свой кнут, чтобы ударить его. На этот раз кнут был вырван у него из рук. Негр, точно соломинку, сломал кнутовище, усеянное гвоздями, и растоптал ногами это гнусное орудие мести. Я застыл на месте от удивления, а дядя от бешенства; подобное оскорбление его власти было для него чем-то неслыханным. Глаза его, казалось, были готовы выскочить из орбит, посиневшие губы дрожали. Невольник посмотрел на него с минуту со спокойным видом и вдруг, подавая ему с достоинством свой топор, сказал:
– Уж если ты хочешь меня ударить, белый, то возьми, по крайней мере, топор.
Дядя был в таком бешенстве, что, конечно, исполнил бы его желание и уже был готов схватить топор, как в дело вмешался я. Быстро отняв топор, я швырнул его в соседний колодец.
– Что ты делаешь! – сказал мне запальчиво дядя.
– Я избавляю вас, – ответил я, – от несчастья ударить спасителя вашей дочери. Вы обязаны жизнью Марии этому невольнику; это тот самый негр, которому вы передо мной обещали дать свободу.
– Ему-то свободу! – возразил он мрачно. – Да, он заслуживает того, чтобы его рабству пришел конец. Ему свободу! Посмотрим, какую свободу подарят ему судьи военного суда.
Мольбы Марии и мои остались тщетными. Негр, небрежность которого была первой причиной этой сцены, был наказан палками, а его защитник брошен в тюрьму форта Галифе, как виновный в том, что поднял руку на белого. А для невольника это было уголовным преступлением.
IX
Вы можете себе представить, господа, до какой степени все эти обстоятельства должны были пробудить во мне участие и любопытство. Я стал собирать сведения о заключенном и узнал много странного, особенного. Мне рассказали, что товарищи этого молодого негра относились к нему с самым глубоким уважением. Хотя он был таким же невольником, как и они, все повиновались ему по первому его знаку. Он родился не в невольничьем поселке, никто не мог указать, кто его отец и мать; говорили даже, что на берег Сан-Доминго его высадило какое-то негроторговое судно всего несколько лет тому назад. Это обстоятельство делало еще более замечательной власть, которую он имел над всеми своими товарищами. Этот негр, охваченный какой-то тайной мрачной грустью, отличался необычайной силой и удивительной ловкостью. Случалось, что он исполнял за один день работу десятерых товарищей, чтобы спасти их от наказания за небрежность и леность. А потому невольники его боготворили; благоговение, с которым они относились к нему, совершенно отличное от суеверного страха по отношению к Хабибре, тоже, По-видимому, имело какое-то тайное основание; это было нечто в роде культа. Странно было также, как говорили мне, что он был настолько же мягок и прост с равными себе, считавшими честью повиноваться ему, насколько он был горд и высокомерен со своими надзирателями. По правде говоря, эти привилегированные рабы, представлявшие собою, как бы промежуточные звенья, связывавшие цепь рабства с цепью деспотизма, присоединяли к низости своего положения дерзость своей власти и с каким-то особенным удовольствием обременяли его трудом и преследовали дурным обращением. Тем не менее и они как-то невольно уважали в нем чувство гордости, которое заставило его оскорбить дядю. Никогда ни один из них не посмел подвергнуть его какому-либо унизительному наказанию. Если же им случалось приговорить его к такому наказанию, то десятка два негров сами вызывались стать на его место, и он присутствовал при их экзекуции, не шевелясь, точно они только исполняли таким образом свой долг. Странный человек этот был известен во всех хижинах под именем Пьерро.
X
Все эти подробности воспламенили мое молодое воображение. Мария, полная благодарности и жалости, поддерживала мой энтузиазм, и Пьерро до того овладел нашими думами, что я решил повидаться с ним и помочь ему. Теперь я обдумывал средства поговорить с ним. Несмотря на мою молодость, я был уже, в качестве племянника одного из самых богатых колонистов Капа, капитаном местного ополчения. Форт Галифе находился под охраной ополчения, а также под охраной желтых драгун, начальник которых, обыкновенно унтер-офицер, командовал фортом. Случилось так, что в ту пору командиром был брат одного бедного колониста, которому мне посчастливилось оказать большие услуги и который был всецело предан мне…
Здесь слушатели прервали д’Овернэ восклицанием: «Тадэ».
– Вы угадали, господа, – продолжал капитан. – Вы понимаете, что мне было нетрудно получить его согласие на посещение в темнице негра. Как капитан ополченцев, я имел право бывать в форте. Тем не менее, не желая внушать подозрений дяде, гнев которого еще не остыл, я отправился туда только в час послеобеденного отдыха. Все солдаты спали, кроме караульных. Тадэ привел меня к тюремной двери, открыл ее и удалился. Я вошел. Негр сидел, потому что низкий потолок не позволял ему выпрямиться во весь рост. Он был не один: при моем входе с пола поднялся огромный дог и, рыча, направился ко мне.
«Раск!» – крикнул негр. Молодой дог смолк и снова улегся у ног своего господина, доедая остатки какой-то жалкой пищи.
Я был в мундире; слуховое окно, освещавшее эту тесную темницу, давало такой слабый свет, что Пьерро не мог рассмотреть меня.
– Я готов, – сказал он мне спокойным тоном, наполовину приподнявшись.
– Я думал, – сказал я, удивленный свободой его движений, – я думал, что вы в оковах.
Мой голос дрожал. Узник, казалось, не узнал его. Он толкнул ногой железные обломки, которые зазвенели.
– Вот мои оковы, я разорвал их.
В тоне его последних слов звучало что-то неуловимое, как бы говорившее: «Я не рожден для цепей». Я заговорил снова:
– Мне не сказали, что к вам пустили собаку.
– Я ее сам впустил.
Удивление мое все возрастало. Дверь тюрьмы была заперта извне тройным засовом. Слуховое окно было всего в шесть дюймов шириною и снабжено двумя железными перекладинами. Очевидно, он понял, о чем я думаю, выпрямился, насколько позволял это слишком низкий свод тюрьмы, вынул без усилий огромный камень из слухового окошка, снял обе перекладины, и таким образом получилось отверстие, в которое легко могли пролезть два человека. Отверстие это выходило прямо в банановую и кокосовую рощу, покрывавшую гору, к которой примыкал форт. Я просто онемел от удивления; вдруг на мое лицо упал луч света: узник выпрямился, точно наступил нечаянно на змею, и стукнулся лбом о каменный свод. В глазах его быстро промелькнуло неуловимое сочетание тысячи противоположных чувств – странное выражение ненависти, доброжелательства и скорбного удивления. Но он сейчас же овладел собою, в одно мгновение лицо его приняло холодное, спокойное выражение, и он остановил на мне равнодушный взгляд. Теперь он глядел мне прямо в лицо, точно на незнакомца.
– Я могу прожить еще два дня без пищи, – сказал он.
У меня вырвался жест ужаса, и в эту минуту мне бросилась в глаза худоба бедняги. Он добавил:
– Собака моя ест только из моих рук; если бы я не мог расширить окошко, бедный Раск умер бы с голоду. Пусть лучше умру я, чем он, так как я все равно должен умереть.
– Нет, – вскричал я, – нет, вы не умрете с голоду.
Он меня не понял.
– Разумеется, – заговорил он, горько улыбаясь, – я мог бы прожить без пищи еще два дня; но я готов, господин офицер: сегодня лучше, чем завтра; не делайте только зла Раску.
Тогда я почувствовал, что значили его слова: «Я готов». Обвиненный в преступлении, наказуемом смертью, он думал, что я пришел за ним, чтобы вести его на казнь; и человек этот, одаренный колоссальной силой, имевший под рукой все средства к бегству, спокойно и кротко повторял стоявшему перед ним юноше: «Я готов».
– Только не делайте зла Раску, – повторил он снова.
Я не выдержал.
– Как, – сказал я, – вы не только принимаете меня за своего палача, но сомневаетесь даже в моем человечном отношении к этой бедной, ни в чем неповинной собаке?
Он растрогался и сказал изменившимся голосом, протягивая мне руку:
– Прости меня, белый, я люблю свою собаку; а твои сородичи, – добавил он после короткого молчания, – сделали мне много зла.
Я обнял его, пожал ему руку.
– Разве вы меня не узнали? – спросил я.
– Я знал, что ты белый, а ведь для белых, как бы они ни были добры, всякий негр – ничтожество. Впрочем, я имею кое-что и против тебя.
– Но что же? – спросил я удивленный.
– Не спас ли ты мне два раза жизнь?
Это странное обвинение заставило меня улыбнуться. Он заметил это и продолжал с горечью.
– Да, я должен бы сердиться на тебя за это. Ты спас меня раз от крокодила, другой раз от колониста и, что еще хуже, ты отнял у меня право ненавидеть тебя. Как я несчастен!
Странность его речей и его образа мыслей почти уже меня не удивляла. Она вполне гармонировала с его личностью.
– Я обязан вам более, чем вы мне, – сказал я. Я обязан вам жизнью моей невесты Марии. Он вздрогнул, точно пронзенный электрическим током.
– Мария, – сказал он глухим голосом, и голова его упала на судорожно стиснутые руки, тогда как широкая грудь его вздымалась от тяжких вздохов.
Признаюсь, что заснувшие было во мне подозрения пробудились вновь, но без гнева и ревности. Я был слишком близок к счастью, а он слишком близок к смерти, для того чтобы подобный соперник, если он был им, мог возбудить во мне иные чувства, кроме доброжелательства и жалости.
Наконец он поднял голову и сказал.
– Не благодари меня, – и добавил после паузы: – А ведь по своему званию я не ниже тебя. Слова эти зажгли мое любопытство, и я стал настоятельно просить его рассказать мне, кто он и что выстрадал. Но он замкнулся в мрачное молчание. Однако попытка моя его тронула; мои предложения услуг и просьбы победили, По-видимому, его отвращение к жизни. Он вылез в окно и принес несколько бананов и огромный кокосовый орех. Затем он вновь заделал отверстие и стал есть. Разговаривая с ним, я убедился, что он свободно говорит по-французски и по-испански и не лишен некоторого умственного развития: он знал несколько испанских романсов и пел их с выражением. Человек этот был до того необъясним во многих отношениях, что с этой минуты чистота его речи меня не поражала. Я снова попытался узнать причину всего этого, но он не отвечал. Наконец я оставил его, поручив его заботливости и вниманию моего верного Тадэ.
XI
Я стал видеться с ним ежедневно в тот же самый час. Меня тревожило его положение, потому что, не взирая на мои мольбы, дядя упорно требовал суда над ним. Я не скрывал своих опасений от Пьерро, который выслушивал меня равнодушно.
Часто во время моих посещений являлся Раск с большим пальмовым листом на шее. Негр отвязывал лист, читал начертанные на нем на неизвестном мне языке слова, а потом разрывал на куски. Я привык не расспрашивать его. Раз, когда я вошел к нему, он не обратил на меня внимания. Сидя спиной к двери, он пел меланхолическим тоном испанскую песню: «Я – контрабандист…» Кончив песню, он быстро обернулся и крикнул мне:
– Брат, обещай мне, что если ты когда-либо усомнишься во мне, то отбросишь все сомнения, как только я запою эту песню.
Взгляд его был полон величия. Я обещал исполнить его желание, не зная хорошенько, что он подразумевал под этими словами: «Если ты когда-либо усомнишься во мне…» Он взял скорлупу ореха, сорванного им в день моего первого посещения, наполнил ее кокосовым вином, предложил мне хлебнуть из нее, а затем выпил залпом все вино. С этого дня он не стал звать меня иначе, как братом.
