Как творить историю бесплатное чтение
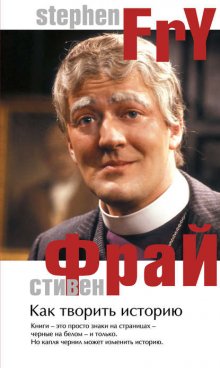
Часть первая
Как делать кофе
Все начинается со сна…
Все начинается со сна. Эта история, которая может, подобно окружности, начаться везде и нигде, начинается для меня – как-никак это моя история и больше ничья, да и быть никогда не могла ничьей, только моей, – со сна, который привиделся мне одной майской ночью.
Сон был самый что ни на есть дурацкий. В нем присутствовала Джейн, чопорная и негнущаяся, как перекрахмаленная ресторанная салфетка. Он тоже там был. Разумеется, я его не узнал. Я с ним и знаком тогда толком не был. Просто старик, которому киваешь на улице или улыбаешься, чинно придерживая перед ним дверь библиотеки. Сон омолодил его, обратив из безликого старого бородача с усеянной печеночными звездочками кожей в подобие бармена Мака Сеннетта[1] – обвислые черные усы, прилепившиеся к вытянутой, белой от недоедания физиономии висельника.
При всем том физиономия-то была его. Хоть я тогда этого и не знал.
Во сне он находился вместе с Джейн в лаборатории, в лаборатории Джейн, разумеется, – сон оказался не настолько пророческим, чтобы предсказать размеры его лаборатории, ставшей известной мне лишь позже, – то есть это если мой сон вообще следует считать пророческим, каковым он вполне мог и не быть. Надеюсь, вы меня понимаете.
Похоже, мне предстоит попотеть.
Так или иначе, Джейн смотрела в микроскоп, а он стоял сзади и тискал ее. Поглаживал между бедрами, сунув руку под длинный белый халат. Она-то не обращала на это внимания, а вот я оскорбился – оскорбился, когда рука, скользившая по нейлону, замерла и я понял, что пальцы его добрались до самого верха длинных ног Джейн, туда, где чулки заканчиваются и начинается мягкая, жаркая, укромная плоть – жаркая, укромная плоть, принадлежащая мне, начнем с этого.
– Оставь ее в покое! – кричу я с некоего незримого режиссерского места, находящегося позади кинокамеры, так сказать, сна.
Он поводит в мою сторону грустными глазами, цепенящими меня, как они всегда это делали, яркой лучистостью своей синевы. Вернее сказать, делали впоследствии, поскольку к тому мигу я, в моей реальной, наяву протекавшей жизни, еще не обменялся с ним ни единым взглядом.
– Wachet auf,[2] – говорит он.
И я подчиняюсь.
Сильный свет майского солнца отбеливает землистую кремовость грязноватых штор, которые мы собирались сменить еще месяц назад.
– С добрым утром, малыш, – бормочу я. – Два куска «Глостерского»… мама всегда говорила – это не сыр, а блаженный сон.
Однако ее нет. Джейн то есть нет, не мамы. Впрочем, и мамы, строго говоря, тоже. Ее-то уж нет точно. Ту т у нас история совсем другого толка.
Та половина постели, на которой спит Джейн, холодна. Я напрягаю слух, пытаясь различить шипение душа или бряцание чайных чашек, неуклюже сваливаемых на сушильную доску. Все, что делает Джейн вне работы, она делает неуклюже. Ей свойственно обыкновение отворачиваться от собственных рук на манер брезгливой студентки-медички, подбирающей свежеотрезанный аппендикс. К примеру, рука, держащая сигарету, может тянуться влево, а Джейн при этом смотрит вправо, давя окурок о блюдце, книгу, скатерть, тарелку с едой. Женщины с плохой координацией, близорукие женщины, долговязые, неповоротливые, неловкие женщины всегда казались мне чудовищно привлекательными.
Вот теперь я начинаю просыпаться. Последние крохи сна улетучиваются, я готов взяться за утреннюю головоломку – переизобретение себя самого. Я смотрю в потолок и вспоминаю то, что имею вспомнить.
На миг оставим меня лежащим в постели, собирающим себя по кусочкам. Я как-то не уверен, что рассказываю эту историю правильно. Я уже говорил, что она подобна окружности, в которую можно войти в любой ее точке. Она подобна также окружности, в которую нельзя войти в любой ее точке.
Мой бизнес – история.
Ну-ну, нашел начало… история для меня никакой не бизнес. Спасибо и на том, что воздержался от поименования истории своим «ремеслом», – полагаю, это дает мне право записать на мой счет пару очков. История – моя страсть, мое призвание. Или, если быть болезненно точным, это сфера моей наименьшей компетентности. То, чем я пока что занимаюсь. Будь я человеком терпеливым и дисциплинированным, я выбрал бы литературу. Однако, хоть я и способен читать «Мидлмарч» и «Дунсиаду» или, не знаю, Джулиана Барнса либо Джея Макинерни[3] с удовольствием, не меньшим того, что получают от них другие, в мозгу моем отсутствует тот маленький участок, дополнительная доля, которая безусловно имеется у студентов литературного факультета, доля, позволяющая им сохранять отстраненность и наделяющая отвагой, необходимой, чтобы рассуждать о книгах («текстах», сказали бы они), как иные рассуждают о статьях договора или структуре клетки. Помню, как в школьном классе мы читали какую-нибудь оду Китса, сонет Шекспира или главу из «Скотного двора». Внутри у меня все тряслось, мне хотелось плакать – только от слов, от простого чередования звуков, ни от чего иного. Однако, когда доходило до написания Сочинения, я сбивался и терпел неудачу. Я так и не смог уразуметь, с чего полагается начинать. Как можно выдерживать дистанцию и писать в академически одобренном стиле о том, что заставляет тебя ежиться, дрожать и всхлипывать?
Я вспоминаю дитя из романа Диккенса, по-моему, из «Тяжелых времен», девочку, выросшую в цирке, проводившую все дни с лошадьми, ухаживая за ними, кормя их и любя. В романе есть сцена, в которой Грэдграйнд (точно, «Тяжелые времена», только что проверил), желая похвастаться своей школой перед визитером, просит эту девочку определить, что есть «лошадь», и, разумеется, малышка тут же лишается слов, запинается, мнется и беспомощно таращит глаза, что твоя дворовая собачонка.
«Ученица номер двадцать не знает, что такое лошадь!»[4] – объявляет Грэдграйнд и с широкой презрительной улыбкой поворачивается к маленькому, разбитному проныре Битцеру, самоуверенному уличному мальчишке, который за всю свою жизнь и лошадей-то видел разве что частями, – полагаю, когда швырял в них камни. Поросенок, самодовольно осклабясь, встает и выпаливает: «Четвероногое. Травоядное. Зубов сорок…» – и так далее, заслуживая бурные овации и всеобщее одобрение.
«Ученица номер двадцать, теперь ты знаешь, что есть лошадь», – говорит Грэдграйнд.
Так вот, всякий раз, что меня просили написать сочинение на тему вроде «“Прелюдия” Вордсворта как самолюбование в отсутствие возвышенного», я, получая мою работу назад с отметкой «1», или «0», или уж не помню какой, чувствовал себя так, словно я-то и есть запинающаяся обожательница лошадей, а весь остальной класс состоит из нахальных, попугайствующих поросят, каждый из которых уже умудрился лишиться души. С успехом писать о книгах, поэмах и пьесах можно, лишь если они тебя не волнуют, не волнуют по-настоящему. Конечно, все это бред истеричного школьника, позиция, порожденная не чем иным, как самовлюбленностью, тщеславием и трусостью. Да, но до какой глубины прочувствованная. Все школьные годы я сохранял убежденность в том, что «литературные исследования» есть вереница аутопсий, произведенных бессердечными лаборантами. Хуже, чем аутопсий: биопсий. Вивисекций. Даже с кино, которое я люблю больше всего на свете, больше жизни, даже с ним поступают ныне подобным же образом. Теперь без методологии о кино и заикаться-то нечего. Как только нечто становится темой университетского курса, ты понимаешь – оно мертво. История, как я обнаружил, область для меня более безопасная: я не люблю Распутина, или Талейрана, или Карла Пятого, или кайзера Вилли. Да кто же их любил? Историку дарована приятная роскошь – он сидит, ничем не рискуя, за письменным столом и указывает, где обмишурился Наполеон, как можно было избежать вот этой революции, свалить вон того диктатора или выиграть то сражение. Я обнаружил, что могу относиться к истории, в которой все и впрямь мертвы, с совершенно упоительной бесстрастностью. До известных пределов. Что и возвращает нас к нашему повествованию.
Как историк, я должен, вообще-то говоря, обладать способностью дать простой и ясный отчет о событиях, происшедших в… ну-ка, ну-ка, и где же они произошли? Все это очень спорно. Когда вы углубитесь в мой рассказ, то поймете, сколь огромные стоят передо мной проблемы. Историк, сказал кто-то – по-моему, Берк, а если не Берк, то Карлайль,[5] – это пророк, обращенный в прошлое. Я к моей истории подходить таким манером не могу. Загадка, которая меня донимает, лучше всего формулируется посредством следующих утверждений:
А. Ничего из нижеследующего никогда не происходило.
Б. Все нижеследующее – чистой воды правда.
Вот и вертись тут. Получается, что моя задача – рассказать вам историю, которая никогда не происходила. Возможно, это и есть определение художественной литературы.
Готов признать, мое вступление выглядит несколько игриво: меня, как и любого читателя, выводят из себя авторы, норовящие привлечь внимание к своей технике письма, – само это предложение глубже, чем большинство прочих, погрязло в нечистой эластичности прямой повествовательной кишки, но тут уж я поделать ничего не могу.
Я видел на прошлой неделе пьесу (пьесы с фильмами несравнимы, то есть совершенно. Театр мертв, однако я люблю понаблюдать иногда за расчленением трупа), в которой одна из героинь выдала примерно следующее: правда о чем бы то ни было, сказала она, походит на чашу с рыболовными крючками – ты пытаешься рассмотреть одну малюсенькую правдочку, а вытаскиваешь на свет божий всю их черную и опасную гроздь. Я не могу допустить, чтобы нечто подобное произошло и со мной. Я должен как-то разделить и распутать крючки, дабы они, даже если им предстоит вытащиться на свет всем сразу, появились, по крайней мере, аккуратно сочлененными, подобием цепочки из канцелярских скрепок.
И потому я чувствую, что могу с достаточной уверенностью начать с такого маленького ряда сцепок: если бы не ослабевший замочек, не алфавитное соседство и не дикий, изнуряющий похмельный сушняк, донимавший Алоиза, мне и рассказать-то вам было нечего. Так что мы в полном праве начать с того, что я уже объявил началом (хоть потом от объявления и отрекся). Вот я и лежу, гадая, подобно Китсу: Мечтал я? – или грезил наяву? Проснулся? – или это снова сон?[6] И гадая также, почему, о Иисусе, Джейн не лежит рядом, свернувшись теплым калачиком?
Часы сказали мне – почему.
Времени – четверть десятого.
Она никогда еще так со мной не поступала. Никогда.
Я полетел в ванную, вылетел из нее с пузырящейся в уголках губ зубной пастой.
– Джейн! – забулькал я. – Какого хрена? Уже больше половины десятого!
В кухне я сцапал кастрюльку и принялся лихорадочно искать кофе, кусая в панике мятно-фтористые губы. Пустая банка «Кенко» и пачки, пачки, пачки чая.
«Розмариновое рандеву», господи ты боже мой! Рандеву? «Апельсиновый блеск». «Бананово-лакричная мечта». «Ночное наслаждение».
Иисусе, да что это с ней? Все чай, чай, чай. И ни зерна, ни пакетика кофе.
И вот, в глубине буфета… триумф, блаженство. Ууф! Большой аквафрешный поцелуй тебе, дорогая.
«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров».
Ат-лично!
Назад в спальню, запрыгиваю в джинсы. Трусы, носки – нет времени. Вбиваю в туфли босые ступни, шнурки потом.
Снова на кухне, как раз и кастрюлька зарокотала, шипит, потому что воды мало, ничего, на чашку хватит, на чашку хватит вполне.
Нет!
Ах, проклятие, нет!
Нет, нет, нет, нет, нет!
Сука. Свинья. Корова. Ангел. Дважды сука. Сладость. Стерва.
– Джейн!
«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров. Обескофеинен органическим способом».
– Блин!
Спокойно, Майкл, спокойно. Bleib ruhig, mein Sohn.[7]
Ничего, с этим я справлюсь. Я аспирант. Мне скоро докторскую защищать. Этим меня не проймешь. Только не такой ерундовиной.
Ха! Нашел! Свет, вспыхнувший над головой, щелчок пальцами – эврика, ну, кто у нас умница? Да…
Таблетки, таблетки для бодрости. «Про-Доза»? «Не-Доза»? Что-то похожее.
При пролете через ванную мозг мой наполовину зарегистрировал нечто. Важное обстоятельство. Какое-то несоответствие. И отложил в сторону. Потом разберусь.
Куда они подевались? Куда подевались?
Вот вы где, сволочонки маленькие… да, идите к мамочке…
«Не-Доза. Для поддержания бодрости. Идеальное средство для тех, кто готовится к экзаменам, поздно ложится спать, водителей и т. п. Каждая таблетка содержит 50 мг кофеина».
На кухонной доске, уподобясь лондонскому кокаинисту, хихикающему в туалете ночного клуба, я давлю их, дроблю и мельчу.
Белые кусочки тускнеют и меркнут в кофейной грязи, пока я поливаю ее кипящей водой.
«Колумбийский кофе “Надежный путь”, тонкий помол для фильтров. Обескофеинен органическим способом».
Вот теперь это кофе. Малость горьковат, быть может, но настоящий кофе, не питательный отвар «Клубничная пустышка» или «Крапива с ромашками». Так, говоришь, Джейн, смекалки мне не хватает? Ха! Подожди, пока я не расскажу тебе нынче ночью об этом. Да я самого Пола Ньюмена из «Харпера» обскакал. Он-то всего-навсего второй раз использовал старый бумажный фильтр, так?
Без четверти десять. Занятия начнутся в одиннадцать. Без паники. Теперь я торжественно и уверенно вступаю с чашкой в руке в комнату для гостей, я овладел ситуацией. Я показал ей, чего стою.
«Эппл» остыл. Никакой тебе больше бурчливой воркотни. Кто знает, когда я снизойду до того, чтобы включить тебя снова, моя Мэкки Тэтчер?
А там, на столе, сложенный опрятной стопкой, величаво, непристойно толстый – сам Das Meisterwerk.[8]
Держусь на расстоянии, только шею вперед вытягиваю: нельзя допустить, чтобы хоть крохотная капелька не-кофе запятнала великолепие титульной страницы.
Тпру, приехали! Четыре года. Четыре года и двести тысяч слов. Вот она, стерва-клавиатура, такая пластмассово немая, такая комически праздная.
QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890 Больше выбирать не из чего. Только эти десять цифр и двадцать шесть букв, образующие в различных сочетаниях двести тысяч слов, ну еще кое-где запятую вставишь или точку с запятой. И тем не менее шестую часть моей жизни, целую шестую часть жизни, клянусь большим блаженным Буддой, эта клавиатура вгрызалась в меня, точно рак.
Э-хе-хе! Теперь потянуться немного – вот и вся утренняя разминка.
Я удовлетворенно вздыхаю и перетекаю на кухню. 150 мг кофеина пронеслись по кровеносным сосудам и, воздев руки над головой, пересекли в моем мозгу финишную черту. Я проснулся. Проснулся, накачанный бодростью.
Да, теперь я проснулся. Проснулся и готов ко всему.
Готов к тому, чтобы увидеть: В Ванной Что-то Не Так.
Готов к тому, чтобы заметить листок бумаги, зажатый на кухонном столе между огрызком вчерашнего сыра и пустой винной бутылкой.
Готов к тому, чтобы сообразить – тютелька в тютельку в восемь никто меня, как оно следовало, не разбудил.
«Посмотрим правде в глаза, Пип. Ничего у нас не получится. Попозже, днем, я вернусь за остальными моими вещами. Заодно выясним, сколько я должна тебе за машину. Поздравляю с завершением диссертации. Тем временем подумай обо всем, и ты поймешь, что я права».
Даже пока я прохожу через положенные стадии потрясения, гнева и воплей, какая-то часть моего сознания регистрирует облегчение, мгновенно регистрирует облегчение, – ну, если не облегчение, то отчетливое сознание того, что эта изящная записочка затрагивает куда меньшую, гораздо менее значительную часть моих чувств, чем обнаруженное чуть раньше отсутствие кофе, или возможность того, что мне позволили проспать все на свете, или – вот в эту минуту – вздорное, наглое предположение, будто моя машина должна достаться ей.
Вспышка ярости – разыгранная мной главным образом проформы ради – это, строго говоря, подобие комплимента в адрес Джейн. Летящая через всю кухню винная бутылка – особая винная бутылка, праздничная, винная бутылка, со тщанием выбранная мною вчера вечером в «Оддбинс»: «Шатонёф-дю-Пап», ради которого я протрудился шестую часть всей моей жизни, – есть, таким образом, следствие жеста, необходимого театрального признания того, что завершение нашего трехлетнего сожительства заслуживает хотя бы некоторого шумства и драматического представления.
Вернувшись за своими «вещами», она обнаружит на кухонной стене изысканно изогнутый подтек ржавоватого винного отстоя, и под большими ступнями ее прохрустит стекло, и она ощутит некоторое удовлетворение при мысли, что я «разволновался». Союз Джейн и Майкла распался, Джейн теперь сама по себе, а Майкл сам по себе, и Майкл стал наконец Кем-то. Кем-то, кто, по выражению Леннона, Пишет Как Может.[10]
Так.
В кабинете, снимая со стола «Meisterwerk», взвешивая его в руках, уже готовый аккуратно уложить его в кейс, я вдруг вытаращиваю глаза, точно Кролик Роджер при громком звуке клаксона, на крохотное пятнышко, севшее на титульный лист. Оно вылезло невесть откуда, подобное меланоме на коже завзятого серфера, за то недолгое время, что я провел на кухне, предаваясь метанию винных бутылок. Это не кофе, тут я совершенно уверен; возможно, просто дефект бумаги, выявить который оказалось способным лишь мощное майское солнце. Времени загружать компьютер и перепечатывать страницу у меня нет, поэтому я хватаю пузырек со «штрихом», прикасаюсь кончиком кисти к гадкой веснушечке и мягко дую на нее.
Держа лист за края, выхожу наружу и подставляю его под солнце. Ну и хватит. Сойдет.
Вон оно, место у телеграфного столба, на котором должен стоять «рено».
– Ну, сука!
О господи. Какая оплошность.
– Извините!
Девочка-газетчица закладывает вираж и уносится прочь, сжимая руль велосипеда и вспоминая все страшные истории, когда-либо попадавшиеся ей на глаза на первых страницах газет, которые она каждодневно забрасывает на коврики у наших дверей. Все про тебя маме расскажет.
О господи. Пусть лучше отъедет немного, не то решит еще, что я за ней гонюсь, а мне это совсем ни к чему. Я вообще не понимаю, зачем нам газеты. Джейн подсела на них, вот в чем штука. Нам доставляют даже «Кембридж ивнинг ньюс». Каждый вечер. Ну на что это похоже?
Я поворачиваюсь, выкатываю из коридора велосипед. Стрекот колес наполняет меня блаженством. Черт, я же молод. Волен делать все, что захочу. У меня чистые зубы. В моем благородном старом школьном кейсе сокрыто будущее. Сокрыто Будущее. Солнце сияет. И плевать мне на все остальное.
Как готовить завтрак
Запах крыс
Алоиз вскочил в седло, поправил на плечах вещевой мешок и, ритмично работая ногами, поблескивая под солнцем зелеными лампасами форменных брюк и золотым орлом на шлеме, покатил вверх по холму. Клара, глядя ему вслед, гадала, почему он никогда не привстает в седле, как делают дети, чтобы усилить нажим на педали. Неизменно одни и те же совершенно механические, пугающе регулярные, намеренно скованные движения.
Она поднялась в пять, чтобы разжечь печь и отскоблить кухонный стол еще до того, как проснется служанка. Клара всегда испытывала потребность отчищать стол от винных пятен, липких лужиц шнапса и осколков стекла, словно надеясь, что вид чистого стола заставит Алоиза забыть, как много он выпил прошлой ночью. Да и не хотелось ей, чтобы дети увидели руины проведенного их отцом «вечерочка в кругу семьи».
Поднявшаяся в шесть служанка, Анна, по обыкновению своему хмыкнула, и наморщенный нос ее словно сказал Кларе за спиной начищавшего у печи сапоги Алоиза: «Я знаю тебя. Мы с тобой – одно. Ты тоже была когда-то служанкой. Даже не горничной. Просто кухонной девкой. Такой ты и осталась, и останешься навсегда».
Как обычно, Клара, наблюдая за мужем, надраивающим сапоги, завидовала той любви, дотошности и гордости, с какими он лелеял свое обмундирование. Убаюканная ритмичными взмахами щетки, она, по своему обыкновению, томилась желанием снова вернуться в Шпиталь с его полями, подойниками, запахом силоса, снова оказаться среди своих братьев, сестер, их детей, подальше от респектабельности, жесткости, жестокости дяди Алоиза, от мундиров и от людей, чьих разговоров и повадок она понять не могла.
Дядя Алоиз! Он запретил ей называть его так.
– Я тебе не дядя, девчонка. Разве что кузен, да и то по браку. Поняла?
Однако, разговаривая с самой собой, она ничего тут поделать не могла. Он всегда был дядей Алоизом, и навсегда им останется.
Прошлой ночью он напился не сильнее обычного и не сильнее обычного был зол, жесток и груб. Неизменно одни и те же совершенно механические, пугающе регулярные, намеренно скованные движения.
Когда муж мучил ее, Клара старалась не кричать, потому что боялась разбудить Анджелу и маленького Алоиза – мысль о том, что дети узнают, как обходится с ней их отец, казалась ей невыносимой. Особым умом она не блистала, однако была женщиной тонко чувствующей и понимала, что ее приемные дети, узнав, с какой покорностью она принимает побои их отца, ощутят не жалость к ней, но презрение. В конце концов, как это ни смешно, годами она была ближе к детям, чем к Алоизу. Наверное, потому, полагала она, ему так хочется иметь детей и от нее. Он желал сделать ее взрослой, обратить из глупой деревенской девчонки в Мать. Отнять у нее запах силоса. Нарастить на ней немного жирка, придать ей немного основательности, респектабельности. О, респектабельность Алоиз обожал. А с другой стороны, сам-то он был ребенком незаконным. Это единственное, в чем Клара превосходила его. Она, может быть, и глупая деревенская девчонка, но по крайней мере знает, кто ее отец. А дядя Алоиз Ублюдок не знает. И все-таки она тоже хотела детей от него. Как сильно она их хотела!
Три года назад их сын Густав умер, прожив всего одну синюшную, полную непрестанного кашля неделю. На следующий год Клара родила мертвую девочку, а всего год назад их сын Иосиф проборолся, отважный, как бойцовый петушок, целый месяц, прежде чем и его забрали на небеса. Вот тогда и начались побои. Дядя Ублюдок купил плеть из бегемотовой кожи и, ужасно улыбаясь, повесил ее на стену.
– Это Пнина, – сказал он. – Pnina die Pietsche. Пнина Плеть, наш новый малыш.
И вот теперь Клара стояла в дверях и смотрела, как прямая, затянутая в мундир фигура поднимается на вершину холма. Только Алоиз умел придать столь нелепой машине, как велосипед, исполненный достоинства вид. И до чего же Алоиз любил его. Каждое новое достижение по части патентованных шин, педалей и цепей приводило его в восторг. Вчера он взволнованно зачитал маленькому Алоизу газетную статью. В Мангейме инженер по фамилии Бенц построил трехколесную машину, которая развивала скорость в пятнадцать километров в час – без всяких усилий со стороны человека, без лошадей, без пара.
– Вообрази, мой мальчик! Это как маленький личный поезд, которому не нужны рельсы. Когда-нибудь и мы заведем такой самодвижущийся экипаж и поедем с тобой, точно принцы, в Линц или в Вену.
Клара вернулась в дом, посмотрела, как Анна жарит детям яичницу.
Ей хотелось сказать: «Давайте я сама». Но теперь она умела сдерживаться и потому с немедля вспыхнувшим чувством вины быстро подошла к пустому ведру у задней двери, скорей ощутив, чем увидев, как Анна оборачивается на взвизг ведерной ручки.
– Давайте я… – начала Анна, однако Клара была уже снаружи, и кухонная дверь захлопнулась, не дав пискливой фразе закончиться.
Клару позабавило, что ее появление у колодца совпало, как то нередко случалось, с прохождением инсбрукского поезда. Она представляла себе путь, уже проделанный им по лугам – мимо ферм, – и мысленно видела, как ее шпитальские племянники и племянницы подпрыгивают и машут машинисту. Она принялась жать на ручку насоса быстрее, заставляя воду бить в ведро в одном ритме с мощным локомотивом, распушившим в небе белые императорские усы.
И тут она услышала запах. О, мой бог, запах.
Клара зажала рот и нос ладонью. Но тщетно. Рвота потекла между пальцами, тело ее пыталось отогнать вонь, ужасный, жуткий смрад. Смерть и разложение наполнили воздух.
Как достичь приятного расположения духа
Парковки и парки
Пренебрежение, оказанное мною носкам, было большой ошибкой. Ко времени, когда я миновал Милл, ступни мои уже были потны и изранены. Как, если на то пошло, и я сам.
Пока я устало тащился по мосту, что на Силвер-стрит, вокруг весело болтали первокурсники – уворачиваясь от машин и выставляя напоказ то сочетание хвастливой энергичности с вялой усталостью от жизни, что является их дурацкой, от рождения получаемой привилегией. Я даже студентом никогда себя так не вел. Слишком стеснителен. Чего стоит одна их манера перекликаться через улицу:
– Луций! Так пойдешь ты, в конце концов, на вечеринку?
– Кэйт!
– Дэйв!
– До скорого, Марк, дружище!
– Бриджит, оу, бэби!
Будь я проклят, если когда-либо участвовал в этом.
Помню огромное граффити, тянувшееся вдоль Даун-стрит, – намалевано оно было примерно в пору крушения Коммунизма, но еще оставалось различимым, вызывающее и крикливое, на кирпичной стене Музея археологии и антропологии.
Вряд ли можно винить юношу, выросшего в Кембридже, за то, что он изображает из себя классового воителя. Представьте, что вас всю жизнь окружали одни только длинновласые фабианцы да интеллектуалы в бейсболках – с их деньгами, и румяными лицами, и деньгами, и долговязостью, и деньгами, и приятной наружностью, и деньгами, и книгами, и деньгами, и деньгами. Дрочилы.
Нам подрочи! – футбольным хором орут на тебя классовые воители. На-ам! Сопровождая крики соответственной жестикуляцией.
Мертвоград 85. Музею археологии и антропологии следовало бы отреставрировать эту поблекшую надпись и сохранить ее, как драгоценнейшее приобретение, аль фреско, говорящее куда больше, чем все его коллекции разложенных по постаментам кельтских амулетов, подсвеченных инкских сосудов да костей, которые носили в носах туземцы Борнео.
Коллега из Оксфорда (какое это чудо – состоять в аспирантах, в младших недоученных сотрудниках, и иметь возможность прибегать к словам вроде «коллега»), коллега, да, вот именно, коллега, собрат-историк, рассказывал мне о фотографии, виденной им на выставке в тамошней галерее. На самом-то деле фотографий было две, помещенных бок о бок, и обе изображали контейнеры для сбора пустых бутылок. Левый снимок был сделан в Каули, на окраине города, неподалеку от автомобильного завода. Этот контейнер состоял, как легко догадаться, из трех отделений, выкрашенных в разные цвета, указующие, какие бутылки куда надлежит совать. Белое отделение – для прозрачных, зеленое – для зеленых, а коричневое, втрое превосходящее первые два по ширине, – для коричневых. Вторая фотография, на первый взгляд неотличимая от первой, изображала другой контейнер, но только эта была сделана в центре Оксфорда, в университетском квартале. После того как вы некоторое время озадаченно разглядывали обе фотографии, в сознание ваше вдруг с треском вламывалось различие между ними. Белое отделение, коричневое и, заметьте, втрое превосходящее их шириной зеленое. Что еще нужно человеку знать о нашем мире? Им следовало бы – при закрытии, пока звучит государственный гимн, – выводить эти снимки на большой экран.
Не то чтобы я принадлежал к поколению, гневающемуся, узрев социальную несправедливость, – всем известно, что нам на нее начхать. Я хочу сказать, черт побери, у нас здесь город из породы «ищи-работу», и к дьяволу всех обывателей. Кроме того, я историк. Историк я. С прописной буквы, если позволите.
Я распрямился, скрестил на груди руки и покатил мимо «Юниверсити-Пресс», мурлыча песенку «Ойли-Мойли».
- Не быть мне девицей,
- Не быть мне тобой.
Я полагаю, что и счет уже потерял велосипедам, которые переменил за последние семь лет. Так уж получилось, что вот эта модель сбалансирована достаточно хорошо, чтобы я мог ехать, сняв руки с руля, – клевая манера, которая очень мне нравится.
Воровство велосипедов распространено в Кембридже в той же мере, в какой воровство автомагнитол в Лондоне или выхватывание сумочек из рук во Флоренции; иными словами, оно является эн-мать-его-демичным. У каждого велика имеется номер, изящно и бесполезно нанесенный краской на заднее крыло. Было даже время, каковое следует счесть для города унизительным, когда здесь попытались осуществить План. Оборони нас боже от каких бы то ни было Планов, верно? Отцы города закупили тысячи велосипедов, выкрасили их в зеленый цвет и расставили по всему Кембриджу на маленьких велопарковках. Идея состояла в том, что вы запрыгивали на велосипед, катили куда вам требуется, а там оставляли его на улице для следующего пассажира. Такая остроумная идея, ну чистый Уильям Моррис,[11] чистая Утопия, тупость.
Читатель, ты будешь изумлен, услышав, ты будешь поражен, ошеломлен ты будешь, узнав, что за одну лишь неделю все зеленые велосипеды сгинули. Все до единого. В Плане присутствовало нечто до того хитроумное, и доверчивое, и исполненное надежды, и благородства, и ээээх! – что в конечном итоге город, по завершении этой истории, проникся лишь пущей гордыней, а не смирением, как ему следовало. Мы же только хихикали. Однако, когда городской совет объявил о новом, доработанном Плане, мы уже просто катались по полу, взревывая от хохота и в перерывах умоляя его переcтать.
Горе в том, что в Кембридже на роликах особо не раскатишься – слишком много булыжных мостовых. Существует жалостное маленькое «Общество одного скейт-трека», существует «Общество двора», притворяющееся, будто Мидсаммер-Коммон[12] – это самый что ни на есть Центральный парк, однако все это не пляшет, ребята. Велики, и только велики, причем горные велики – в самых равнинных местах Британии, где даже куча, наваленная собакой, привлекает взволнованное внимание «Общества альпинистов», – не пляшут тоже.
Члены Кембриджского городского совета обожают два слова – «парк» и «парковка». Это то единственное, чего в нашем городе устроить ну никак невозможно, и потому они суют эти слова куда ни попадя. Кембридж был едва ли не первым городом, предложившим систему автобусов «Паркуйся-и-кати».[13] Он гордится своей Научной парковкой, Бизнес-парковкой и, разумеется, незабвенными и оплаканными Велопарковками. Не удивлюсь, если на рубеже веков у нас появятся Секс-парковки, Интернет-парковки, Шопинг-парковки, а быть может, и Парк-парковки – с качелями и детскими горками.
Парковаться в Кембридже невозможно по самым разным причинам. Это маленький средневековый город, ширина улиц ограничена рядами глядящих друг на друга колледжей, неколебимых и недвижимых, как горные кряжи. В пору отпусков его битком набивают туристы, зарубежные студенты и участники всякого рода симпозиумов. Сверх всего, это главный город «Болот», единственный серьезный торговый центр для сотен и тысяч жителей Кембриджшира, Хантингдоншира, Хертфордшира, Суффолка и Норфолка, разнесчастные они сукины дети. Однако в мае – в мае Кембридж принадлежит студенчеству, всем этим юным хлыщам с их ничтожными бороденками и опрятными бачками. Ворота колледжей закрываются, а над центром города возносится лишь одно слово, раздувающееся так, что его того и гляди разорвет, точно налитый водой воздушный шарик.
Экзамены.
В мае Кембридж обращается в Экзаменационный парк. По берегам реки, лужайкам, библиотекам, дворикам и коридорам распускаются разноцветные юные бутоны, ломающие свои головки над книгами. Паника, подлинная паника того рода, о котором до 1980-х никто и не слыхивал, окатывает студентов третьего курса подобно прибою.
Экзамены – дело нешуточное. Степень, которую ты на них получаешь, – тем более.
Если, конечно, ты, подобно мне, не сдал выпускных экзаменов годы назад, не зубрил, как последний очкарик, не получил Первую степень, не дописал докторскую диссертацию и не обрел наконец волю.
Воля! – кричу я себе.
Вуаля! – отвечают мне катящий по инерции велосипед и летящая мимо панорама домов.
Господи, как я себе нравился в тот день.
Наслаждайся зудом и болью в твоих лежащих на педалях ступнях. Ради какого черта ты обязан впадать в уныние? Многие ли могут, подобно тебе, встать и объявить себя вольными людьми?
Вот и Джейн тоже дала мне вольную. Хоть я и не вполне покамест уверен в том, какие чувства мне это внушает. Я вот к чему – надо все же признать, что она была моей первой настоящей подружкой. В студентах мне ни разу не пришлась по душе ни единая из полнотелых, обалденных красоток нашего мира, потому что я… чего уж тут крутить… я стеснительный. Мне трудно встречаться с людьми глазами. Как говорила обо мне (и при мне) моя мать, «он, знаете ли, в компании краснеет». Ясное дело, высказывание это здорово мне помогало.
Мне было всего семнадцать, когда я поступил в универ, – круглолицый, легко краснеющий и неуверенный ни в ком, не говоря уж о девушках. Школьных друзей, уже учившихся здесь, у меня не было, поскольку школу я окончил бесплатную, в Кембридж до меня ни один выпускник ее не попадал, а что касается спорта, журналистики, игры на сцене – в общем, всего, что позволяет человеку выделиться, – то я почитал их дерьмом. Почитал дерьмом, потому что они позволяют выделиться, я так полагаю. Нет, будем честными, почитал дерьмом, потому что дерьмово в них выглядел. Так что Джейн была… словом, она была моей жизнью.
Однако теперь, ого-го! Если я смог за четыре года написать докторскую диссертацию и лично окофеинить обескофеиненный органическим способом «Надежный путь», так мне никто и не нужен.
Все Фионы и Фрэнсисы, морщившие лбы над своими Флоберами, казались теперь совсем иными новому, вольному мне, привольно летевшему без рук на велосипеде, привольно соскочившему с него у ворот Св. Матфея и вкатившему, всей душой ощущая волю, привольно пощелкивавший 4857М в сторожку привратника.
Как читать газеты
Мы, немцы
Алоиз протолкнул велосипед сквозь ворота, а следом и в сторожку привратника.
– Grüß Gott![14]
Веселость Клингермана при таких инспекционных наездах неизменно раздражала Алоиза. Предполагалось все-таки, что тому надлежит нервничать.
– Gott![15] – пробормотал он тоном, средним между приветствием и ругательством.
– Нынче утром все тихо. Герр Зоммер позвонил по телефонной машине, сказать, что сегодня прийти не сможет. Летняя простуда.
– Ну, зимней в июле и не бывает, не так ли, юноша?
– Нет, сударь! – подмигнул ему Клингерман, принявший сказанное за добрую шутку, чем еще пуще раздражил Алоиза. А тут еще эта его боязнь телефона, который Клингерман именует Das Telefon Ding,[16] как будто перед ним не Будущее, а некий дьявольский аппарат, посланный, чтобы сбить его с панталыку. Деревенщина. Деревенщина, вот что не позволяет нашей стране вырваться вперед.
Алоиз холодно миновал Клингермана, уселся за стол, извлек из вещмешка газету, бутылку шнапса и приступил к чтению.
– Прошу прощения, сударь? – произнес Клингерман.
Алоиз, проигнорировав его, отодвинул газету. Он только одно слово и пролаял: «Scheiße!»[17]И, основательно хлебнув шнапса, уставился в окно, за пограничные столбы, в Баварию, в Германию, прошу, вашу мать, прощения. В Германию, где уже сейчас, в Мангейме, совершенствуют самодвижущиеся машины. Где создают телефонные сети, которые опутают всю страну, где эта свинья Бисмарк вот-вот получит то, что ему причитается.
«Мы, немцы, боимся Бога, а больше никого на свете», – бахвалился Старый Боров в Рейхстаге, полагая, что русские с французами, узрев мощь его новомодного Тройственного союза, наложат полные штаны. «Мы, немцы!» Какого дьявола это может означать? Потачливый ублюдок с его Датскими войнами и показанным Австрии языком – а тебе-де к нам нельзя. Конечно, только Старый Боров и вправе решать, что такое «мы, немцы!» Пруссаки. Юнкера дерьмоголовые. Это они все решают. Вестфальцы могут быть немцами, о да. Гессенцы, гамбургцы, тюрингцы и саксонцы могут быть немцами. Даже долбаные баварцы и те – пожалуйста. Но только не австрийцы. О нет. Эти пускай себе чухаются с чехами, словаками, мадьярами и сербами. Я о чем толкую-то, разве не очевидно, не очевидно даже такому Arschloch,[18] как Бисмарк, что у австрийцев и немцев всегда было… а, что проку? Теперь уж неважно, Старый Боров свое все равно получит.
Вильгельм с его желтой, точно моча, рожей того и гляди окочурится, и, когда закончится траур, на троне уже будет сидеть Фридрих-Вильгельм. А Фридрих-Вильгельм с Бисмарком на дух друг друга не переносят, ха-ха! Прощай, Железный Канцлер! Дерьмовой скатертью дорога, Старый Боров. Твои деньки сочтены.
К посту приближалась повозка. Алоиз встал, расправил мундир. Хорошо бы в ней сидел баварец, а не возвращающийся домой австриец. Немец. Всякий раз, инспектируя пограничный пост, Алоиз с наслаждением устраивал немцам веселую жизнь.
Как ожидать лучшего
Почтовый ящик
Привратник Билл смотрел, стоя у окна, как я борюсь с велосипедом. Я давно уже подозревал, что он относится ко мне с неодобрением.
– Доброе утро, мистер Янг.
– Это ненадолго.
Он принял недоуменный вид:
– Погоду обещали хорошую.
– Да нет, это «мистер» ненадолго, – со смущенной улыбочкой пояснил я и показал ему кейс, в котором лежал «Meisterwerk». – Я дописал диссертацию.
– А, – промямлил Билл и уперся взглядом в свой стол.
Ожидать, что мой триумф доставит ему удовольствие – это было бы слишком. Кто и когда смог проникнуть в запутанные отношения, сложившиеся под конец двадцатого века между слугами и хозяевами? У привратников имеются их «сэр» и «мэм», их котелки, у нас – глупые, дружеские, подхалимские улыбки, посредством коих мы пытаемся все исправить. Нам никогда не узнать, что говорят они о нас за нашими спинами. Им, предположительно, никогда не узнать, чему мы на самом деле посвящаем все наши дни. Не исключено, что именно сыновья и дочери привратников и писали на стенах «Мертвоград 85». Билл знал, что одни студенты остаются здесь, пишут докторские диссертации и становятся членами колледжей, как знал и то, что других отчисляют или они сами уходят в просторный мир, дабы разбогатеть, прославиться либо кануть в забвение. Быть может, его это волнует, быть может, нет. И все же чуть больше Денхолма Эллиота из «Поменяться местами» и чуть меньше Джудит Андерсон из «Ребекки»[19] – это можно было бы только приветствовать. Вы понимаете, о чем я? Да? Вот именно.
– Конечно, – с выражением, как мне казалось, удрученной скромности я взвесил на ладони кейс, – ее сначала должны рассмотреть…
Все, что я получил в ответ, это подобие хрюканья, и потому поворотился – посмотреть, что принесла мне почта. Из моего ящика торчал толстый желтый конверт. Клево! Я с нежностью вытянул его.
На адресной бирке красовался логотип немецкого издательства, специализирующегося по истории и научным трудам, «Seligmanns Verlag». Я хорошо знал это название по моим исследованиям, но откуда они-то мое имя узнали? Я им никогда не писал. Очень странно. И книг я у них точно не заказывал… разве что они, прослышав обо мне от кого-то, обладающего солидной репутацией, решили поинтересоваться, не соглашусь ли я опубликовать у них мой «Meisterwerk». Кле-ево!
Издание диссертации было, натурально, величайшим, глубочайшим, дражайшим и сокровеннейшим желанием моего сердца. «Seligmanns Verlag», ничего себе, вот это будет номер.
Мечты, видения, все мыслимые конструкции будущего начали разрастаться в моей голове подобием сделанного ускоренной съемкой фильма о возведении небоскреба: балки и стропила, фермы и опоры мигом вставали по местам под разухабистый клекот ксилофона. Я пребывал уже там, в Башне Майкла Янга, принимая награды и профессорские посты, подписывая изящно изданные «Seligmanns Verlag» экземпляры моей диссертации (я даже видел цвет переплета, картинку на супере, фотографию исполненного достоинства автора и аннотацию). Все это произошло за бесконечно малую долю секунды, отделившую первый взгляд на адрес отправителя от осознания – под вой тормозов, визг покрышек и вздувание воздушных подушек – имени, стоящего в адресе получателя. Я тут навалил дерьмовую кучу метафор, но вы меня поймете.
«Профессору Л. Г. Цуккерману,– гласил этот адрес. – Кембридж, колледж Св. Матфея. СВ3 9ВХ».
О. Стало быть, не Майклу Янгу, магистру искусств.
Я глянул на ящик, расположенный прямо под моим. Ящик был забит письмами, рекламными листками и извещениями. Алфавитное, так сказать, соседство.
– Черт, – сказал я и попытался хоть краешком втиснуть конверт в положенное ему место.
– Сэр?
– Нет, ничего. Просто в мой ящик попало письмо к профессору Цуккерману, а его переполнен.
– Если вы отдадите конверт мне, сэр, я прослежу, чтобы профессор его получил.
– Да все в порядке, сам отнесу. Он может помочь мне в… познакомить с какими-нибудь издателями. Он где проживает?
– Двор Боярышника, сэр. 2А.
– А он, собственно, кто? – спросил я, опуская конверт в мой кейс. – Ни разу с ним не встречался.
– Он – профессор Цуккерман, – последовал чопорный ответ.
Чинопочитание. Чш-ш.
Как устроить веселую жизнь
«Диаболо»
– Но я же немец!
– Вы никто. Эти документы говорят мне – вы никто. Абсолютное никто. Вас не существует.
– Один день! Они просрочены на один день, вот и все.
– Сударь, этот господин всегда тут проходит. – Во взгляде, который послал Алоизу Клингерман, читалось смущение. – Я… я хорошо его знаю. Могу за него поручиться.
– А, так вы можете за него поручиться, Клингерман. А как по-вашему, зачем имперское правительство в Вене что ни месяц расходует целые состояния на документы, печати, паспорта и поручительства, а? Смеха ради? Что такое, по-вашему, поручительство? Это снабженный печатью лист бумаги, который надлежит носить с собой постоянно, ибо он узаконивает носителя. Или этот несуществующий гражданин пустого места воображает, будто он сможет носить с собой вас, своего поручителя?
– Однако, как немец, я имею право свободного доступа в Австрию!
– Никакой вы не немец. Вчера, если верить этим бумагам, вы, возможно, и были немцем. Но сегодня, сегодня вы никто и ничто.
– Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья!
– «Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья»?…
– Я же должен зарабатывать на жизнь, у меня семья, сударь!
– Так ведь и австрийским столярам нужно зарабатывать на жизнь, у них тоже семьи, сударь! А каждый безвкусный кусок немецкого дерьма, который вы к нам протаскиваете, отнимает кусок хлеба у австрийского столяра.
– Сударь, при всем моем уважении, это не дерьмо, это игрушки, изготовленные вручную, с любовью и тщанием, и, насколько мне известно, в Австрии никто их не делает, так что обо мне вряд ли можно сказать, будто я отнимаю у кого-то кусок хлеба.
– Тем не менее деньги, которые бедные, респектабельные австрийские родители расходуют на эти развращающие немецкие бирюльки, они, не будь вас, потратили бы на здоровую пищу, произведенную австрийскими же крестьянами. И я не вижу причин, по коим мне, официальному представителю Императора, следует допускать подобное положение дел.
– Развращающие? Но, сударь, это же совершенно невинные…
– Как они называются? М-м-м? Скажите мне. Как они называются?
– Сударь?
– Каково их название?
– «Диаболо», сударь. Вы наверняка и прежде видели их…
– Вот именно, «диаболо». «Диаболо» означает по-итальянски «дьявол». Сатана. Развратитель. И вы именуете их невинными?!
– Но, Herr Zollbeamter,[20] их назвали «диаболо» лишь потому, что с ними… с ними дьявольски трудно справиться. Трудно овладеть этой игрой. Они заставляют человека потрудиться, испытывают его координацию и сноровку. Это же забавно!
– Забавно, Herr Tischlermeister?[21] Вам представляется забавным то, что австрийское юношество тратит на сатанинскую немецкую бирюльку время, которое оно могло бы отдать учебе или подобающим мужчине упражнениям?
– Сударь, может быть… может быть, вы испробуете ее сами? Вот… это в подарок. Надеюсь, вы увидите, насколько они безвредны и занятны.
– О боже. – Алоиз облизал губы. – О боже, боже, боже. Подкуп. Вот горе-то. Подкуп. Боже ты мой. Клингерман! Форму КИ 171, побольше сургуча и имперскую печать!
Как заводить друзей
Муза Истории
Дьявольская Мысль Номер Один явилась мне как раз на пути к профессору Цуккерману.
Пройдя через сторожку привратника, я огибал Старый Двор, направляясь к арочному проходу, что ведет в Двор Боярышника. Вполне возможно, что мне дозволялось и законным образом пересечь двор, а не обходить его кругом, однако я не был вполне уверен, дано ли мне право ходить по траве. Табличка гласила: «Только для членов колледжа», а я так ни разу и не набрался храбрости спросить, входят ли в их число и младшие недоученные сотрудники. Я к тому, что, задавая такой вопрос, ты вроде как выставляешь напоказ свое слабое место. Знаете, как если бы ты, учась в школе, стал первым ее учеником и решил выяснить, можешь ли ты теперь являться на занятия в кроссовках или называть учителей по именам. Как-то оно глупо, нет?
Самоутвердись, Майкл, вот что главное. Посуди сам, что еще должно выпасть на твою долю, чтобы ты уверился – у тебя имеется ровно столько же прав жить на этой планете, сколько и у любого другого человека? Нам требуется новое мировоззрение – больше достоинства, больше важности, больше созвучности нашему новому положению в мире…
Приятные размышления эти прервал грохот, быстрый перестук шагов и какой-то клекот, все это вырвалось из расположенного в том углу двора, которым я как раз проходил, открытого дверного проема лестницы «Е». Из проема с писком выскочила и засеменила по лужайке, слегка размытая скоростью, фигура, державшая в руках стопку компакт-дисков, гипсовый бюст, три бархатные подушки и свернутый в трубку плакат. Фигуру я узнал – Эдвард Эдвардс, Дважды Эдди, имевший куда меньше моего прав попирать ногами траву. Он делил жилище и жизнь с еще одним второкурсником, Джеймсом Макдонеллом. Им нравилось конфузить меня, освистывая и выкрикивая «задницу хочешь?!» или «сосунок!», когда я проходил мимо. На самом-то деле парой они были очень милой, обладающей, однако, склонностью разыгрывать истерические сцены и рассуждать втихаря о якобы недосягаемых для всех прочих совершенствах присущей им сексуальности.
Диски так и посыпались из рук Дважды Эдди на траву.
– Эй! – крикнул я ему вслед. – Ты кое-что уронил.
Дважды Эдди не повернул назад и не сбавил ходу. Он лишь обратил ко мне рассерженное лицо, выпалил: «Ну и пусть!» – и шмыгнул носом.
О боже, подумал я. Опять разругались. Я двинулся следом за ним, с опаской ступая по траве, точно проникнутый чувством ответственности отец, проверяющий, выдержит ли лед его детишек.
За спинами нашими послышался крик, тонкий и чистый, отразившийся эхом от каменных стен и окон двора. Оглянувшись, я увидел в дверном проеме лестницы «Е» Джеймса – глаза горят, руки уперты в бока.
– Просто вернись! – воззвал он. Однако Дважды Эдди несся себе дальше.
– Никогда, – на ходу объявил он. – Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда.
– Ой ли!
В дверях сторожки уже обозначился мрачный Билл Привратник.
– Сойдите с травы, джентльмены, будьте так любезны.
Дважды Эдди почти уж достиг дальнего края лужайки, но Билл тем не менее прибег к несомненному множественному числу, вот вам и ответ на мой вопрос насчет лужаек и младших недоученных сотрудников. Verboten.[22]
Когда Дважды Эдди прошел сквозь сторожку, пытаясь, без особого, впрочем, успеха, насвистывать что-то, я, неудержимо краснея под взглядом привратника, принялся собирать рассыпанные диски.
– Извините! – мямлил я. – Вот только подберу и…
Билл, хмуро кивнув, продолжал наблюдать за моим чрезмерно торопливым и все-таки недостаточно быстрым копошением. «Festina lente.[23] Eile mit Weile[24]», – лепетал я себе под нос. Если вы ученый и кто-то на вас давит, вы ухватываетесь за потасканные латинские и прочие иные иноязычные фразочки, дабы напомнить себе о своем превосходстве. Правда, это вам никогда не помогает. Неловко собрав «Кабаре», «Джипси», «Карусель», «Суини Тодда» и прочее, я вприпрыжку направился к Джеймсу, так и стоявшему с полными слез глазами, прислонясь к дверному косяку.
– М-м, возьми тогда ты. Рука его оттолкнула диски:
– Я в этой дряни не нуждаюсь. Хоть сожги их, мне наплевать.
Я положил ладонь на его ходящее ходуном плечо.
– Ладно, я пока подержу их у себя. Слушай, мне правда очень жаль, – сказал я. – Такой тяжелый удар. Ну, то есть, когда от тебя уходят. – Он молчал, и я продолжил, на сей раз предлагая ему воспользоваться всеми преимуществами моего недавнего опыта: – Уж я-то знаю, друг. Меня и самого бросили, понимаешь?
Он уставился на меня как на сумасшедшего. Я подумал: он скажет сейчас, что мой случай – совсем другой. Но он, причитая, что все это просто нечестно, повернулся и забухал вверх по лестнице, оставив меня с дисками.
Конечно, нечестно, горестно думал я, проволакивая мои незавязанные шнурки под арочным проходом и выходя на парковку, просто нечестно, и все. Когда тебя покидают, это и вправду самый что ни на есть ударнейший удар. Главная хитрость тут в том, чтобы отделить унижение от утраты. Никогда ведь не знаешь наверное, что терзает тебя сильнее – боль существования без человека, которого любишь, или смятение, вызванное тем, что тебя отвергли. Я уже начал подумывать, как бы мне уговорить Джейн вернуться, – чтобы я мог потом ее бросить и тем самым сравнять счет.
И вот он – красуется посреди парковки – «рено-клио» ценой в четыре тысячи фунтов. С моими, заметил я, «Петлями киллера» на приборной доске. И их, черт подери, захапала. Я уронил кейс на землю рядом с моей машиной, отрыл в кармане мой комплект ключей, отпер дверцу и напялил очки. Самоутверждается ли, в той или иной степени, человек, надевающий темные очки? Ты скрываешь под ними глаза, что можно счесть признаком слабости и боязливости, но, с другой стороны, приобретаешь вид хладнокровный и отчасти непроницаемый. Вот только ни черта в них внутри машины не видно. Я кое-как различил в кармане дверцы тубус с мятными лепешками, уж точно мой. Отлично помню, как покупал его на заправочной станции. Если на то пошло, так и половина кассет тоже моя. Я загреб столько, сколько уместилось в ладони. Обычную мешанину: «Палп», «Портишед», «Кинкс», Верди, «Блёр», сборники Морриконе и Альфреда Ньюмена[25] и, разумеется, всех моих обожаемых «Ойли-Мойли». Мэрайю Кэри, Кэй Ди Лэнг, Вагнера и Баха пусть уж, так и быть, оставит себе. В нашем возрасте разрыв бездетных отношений сопровождается спорами по поводу прав на музыкальные записи, поэтому важно предъявить таковые первым.
Вот тогда-то в голове моей и возникла Дьявольская Мысль Номер Один. Потянувшись, я сорвал с изнанки ветрового стекла разрешение колледжа на парковку и изодрал его в мелкие клочья. Хе-хе!
Дьявольская Мысль Номер Два поразила меня в тот миг, когда кассеты присоединились в моем кейсе к дискам Дважды Эдди, а мне под руку подвернулся пузырек со «штрихом».
Для человека поколения клавиатуры я, надо признаться, обладаю почерком первостатейным. Незадолго до моего четырнадцатилетия бабушка подарила мне на Рождество каллиграфический набор «Осмироид», и я какое-то время помногу с ним возился. Ну, знаете, правильное формирование букв, «о» выводится в два взмаха пера, нарядные, устремленные вверх курсивные засечки на верхних и нижних выносных элементах, жирно-тонко, тонко-жирно, и изящество пропорций, присущее всей этой музыке. Видели бы вы мои поздравительные письма за нынешний год. Высший класс.
Я оперся о капот «рено» – в позе задержанного американским патрульным подозреваемого, – высунул кончик языка и углубился в работу. Мне представлялось, что содержащиеся в «штрихе» растворители сотворят с краской капота нечто сказочно коррозивное, отчего устранить мое маленькое любовное послание без нудной перекраски, требующей немалых затрат времени и денег, будет никак нельзя. И отлично. Вот уж теперь перед нами точно тот самый утверждающий себя Майкл Янг, которого мы так долго искали. Когда я выпрямился, дабы обозреть свое творение, сердце у меня гулко ухало. Ничего похожего мне никогда прежде делать не приходилось. Ощущение такое, точно я в магазине что-то слямзил или порнографии накупил.
Буквы получились мельче, чем хотелось бы, однако с маленьким пузырьком «штриха» особо не разгуляешься, тем более на компактном капоте «клио». И все-таки на красной краске «Дюбонне» белая надпись моя просто била в глаза, да и слова, сказал я себе, самые что ни на есть подходящие.
Я постоял немного, любуясь надписью и размышляя, не отодрать ли заодно – для, мать его, порядка – жалкий, абсолютно жалкий стикер «ГЕНЕТИКИ ДЕЛАЮТ ЭТО IN VITRO[26]», прилепленный к заднему стеклу, но тут сообразил вдруг, что время уже близится, надо полагать, к одиннадцати. А мне еще нужно было доставить чертов конверт Цуккерману, забросить «Meisterwerk» в кабинет Фрейзер-Стюарта и добраться до собственного, где ожидает моих руководящих указаний первокурсница. Если я правильно помню, она уже запоздала с эссе о Каслри и Каннинге,[27] срок представления коего я благодушно сдвигал целых два раза. Вот пусть снова его не сдаст – тут же получит от меня кратчайший из наикратчайших нагоняй с епитимьей. Я, завершивший диссертацию в двести тысяч слов, диссертацию, отличающуюся строго обоснованной, потребовавшей напряженных исследований, новаторски поданной и элегантно сформулированной исторической аргументацией, – я не желаю и впредь возиться с ленивыми, бестолковыми первокурсниками, в каком бы добром расположении духа я ни пребывал. Мистер Душа-Человек свое существование прекратил. Познакомьтесь с доктором Душителем.
Я нагнулся, чтобы поднять кейс, и вот тут-то случилось ЭТО. Самое страшное, что только могло случиться. Происшествие поистине дерьмовое само по себе, оно подготовило дерьмовейшее, возможно (хоть и замалчиваемое властями), событие в истории человечества. Разумеется, тогда я об этом ведать не мог. Тогда меня занимала одна только личная катастрофа, олицетворяемая этим дерьмовым происшествием; уж поверьте, оно было достаточно гадостным и без сознания, что происшествие это определяет участь миллионов людей, без самомалейшей мысли о том, что я подготавливаю взрыв, который уничтожит все, что мне знакомо.
А случилось следующее. Я потянул кейс за ручку, и запор его, изнуренный годами эксплуатации, перемещений, дерганий, мотаний, тяганий, пинков, падений и переносов, выбрал именно этот миг, чтобы сломаться. Быть может, причиной тому было непривычное бремя дисков Дважды Эдди, моих музыкальных кассет, «Meisterwerk’а» и попавшей не в тот почтовый ящик бандероли из «Seligmanns Verlag». Какая разница? Трехзвенная латунная пластина, принимавшая в себя язычки замка, выдралась из ее непрочного скобчатого крепления, кейс раззявил изношенную пасть, и четыре сотни несброшюрованных страниц строго обоснованной, потребовавшей напряженных исследований, новаторски поданной и элегантно сформулированной исторической аргументации достались гулявшему по парковке майскому смерчику.
– О нет! – истошно взвыл я.
«Пожалуйста, нет! Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» – с таким припевом метался я из угла в угол, ловя летучие страницы, точно котенок снежинки.
Есть на телевидении программа, в которой то же самое проделывают знаменитости – только за деньги. Ветродуйная машина выбрасывает в воздух тысячу банкнот, а какой-нибудь томный прохиндей должен наловить их столько, сколько сумеет. «Тяни тыщонку», так она называется. А ведет ее малый, смахивающий на Кеннета Брана в его бородатом шекспировском варианте. Эдмундс, Ноэль Эдмундс. Или, может быть, Эдмондс.
Бoльшая часть оглавления опрятной стопкой устроилась под колесами моего/Джейниного «рено». Все же прочее, могучий корпус благородного труда, включая приложения, таблицы, алфавитный указатель и благодарности, привольно порхало по воздуху.
Согнувшись вдвое, прижимая спасенные листы к груди, я ковылял от одного завихрения страниц к другому, ловя и когтя их, точно серебристая чайка рыбешку.
– Блин господень распроадский, нет! Ко мне, ублюдки! – голосил я. – Ну пожалуйста!
Впрочем, я был не одинок.
– Боже, боже! Какое несчастье.
Я обернулся и увидел старика, который медленно вышагивал по парковке, подбирая листок за листком.
Как ни был я благодарен за помощь, мне, в моем испуге и спешке, показалось, что ему эта помощь ничего не стоит, поскольку куда бы он ни поворачивался, воздушные потоки, казалось, смирялись и страницы безжизненно опадали на землю и лежали, смиренно дожидаясь, когда он их подберет. Этого, конечно, быть никак не могло. Однако, остановившись и приглядевшись, я понял – именно это и происходит. Действительно происходит. Действительно. Куда бы ни направлялся старик, ветер стихал перед ним. Совершенный колдун, усмиряющий метлы и плошки в «Фантазии», – эпизод про ученика чародея. Что, разумеется, обращало меня в Микки-Мауса.
Старик повернулся ко мне.
– Лучше подходить с наветренной стороны, – изрек он, выговаривая «в» на немецкий манер, – тогда ваше тело заслонит бумаги от ветра.
– О, – отозвался я. – Спасибо. Да. Большое спасибо.
– И возможно, вам стоило бы завязать шнурки?
Какой-нибудь умник непременно отыщется, верно? Кто-нибудь, выставляющий вас человеком, напрочь лишенным здравого смысла. Вот и отец мой был точно таким, пока не смекнул, что пытаться обучить меня даже самым начаткам плотницкого дела или хождения под парусом – затея пустая. А после он умер, прежде чем я успел вознаградить его усилия, проявив ко всему этому хоть какой-то интерес. Сегодняшний умник, бородатый, явно предпочитавший толстовскую модель брана-шекспировской, продолжал мирно разгуливать по парковке, подбирая страницы, которые при его приближении опадали на землю и притворялись мертвыми.
«Наветренная» метода сослужила службу и мне, теперь мы оба сновали туда-сюда между павшими страницами и выброшенной на сушу дохлой рыбиной – моим разинувшим пасть кейсом.
После того как все бывшие на виду листки оказались собранными, я заглянул под каждый автомобиль, обратясь наружно в такое же достойное, чумазое, ободранное и оборванное существо, каким ощущал себя внутренне. Последняя страница, которую мне суждено было найти, лежала текстом вниз на капоте «клио», прилипнув к подсыхающему «штриху». Я нежно ее отлущил.
Конечно, катастрофа задержала меня лишь на день. Я к тому, что все же сохранилось на жестком диске в нашем доме, в деревушке Ньюнем, и тем не менее случившееся не было, знаете ли, никак уж не было добрым предзнаменованием. Ну, то есть, снова покупать пятьсот листов бумаги для лазерного принтера и… в общем, случившееся подсодрало позолоту со свиной кожи, так я это ощущал. Вчерашнее ночное празднество, «Шатонёф-дю-Пап» за 62,00 фунта, ощущение воли, с которым я прикатил на велосипеде в город… все оказалось преждевременным.
Солнце ушло за облако, я задрожал. Старик стоял совершенно неподвижно, глядя на одну из страниц «Meisterwerk’а».
– Большое спасибо, – сказал я, отдуваясь и розовея. – Такая глупость. Придется обзавестись новым кейсом.
Он взглянул на меня – во взгляде его присутствовало нечто такое, что я даже тогда отчетливо ощутил монументальность старика. Нечто абсолютно вечное, невыразимое.
Он протянул мне листок, который читал, морща чело. Это была страница 49 из первой части «Meisterwerk’а», той, где Алоиз добивается законного права взять Клару Пёльцль в жены.
– Простите, а что это? – спросил он.
– Это, э-э, моя докторская диссертация, – ответил я.
– Вы аспирант?
В его голосе прозвучало удивление, но я давно уже к этому привык. Если честно, я временами выгляжу слишком юным даже для первокурсника. Может, стоит еще раз попробовать бороду отпустить. То есть если у меня хватит на это тестостерона. В прошлом году я предпринял такую попытку, и порожденная ею едкая критика окружающих едва не довела меня до самоубийства. Я покраснел еще пуще и кивнул.
– Почему? – спросил он, кивком указывая на листок, который так и держал в руке.
– Простите?
– Почему такая тема? Почему?
– Почему?
– Да. Почему?
– Ну…
Я что хочу сказать, всем же известно, как выбирается тема докторской диссертации по истории. Ты лихорадочно носишься по библиотекам, отыскивая такую, за которую никто еще не брался – или, по крайней мере, не брался в последние, скажем, двадцать лет, – а отыскав, вцепляешься в нее мертвой хваткой. Стараешься застолбить участок. Это же всем хорошо известно. Однако взгляд, устремленный на меня стариком, был исполнен такой невыразимой серьезности, что я, не сумев даже сообразить, как подступиться к ответу, лишь беспомощно пожал плечами да глупо улыбнулся, потупясь. Джейн вечно устраивала мне выволочки за столь жалкую тактику, но поправить в ней что-либо было мне не по силам.
– Как ваше имя? – спросил он – не резким тоном человека, надумавшего донести на тебя властям, но с подобием замешательства, с повышающейся к концу вопроса тональностью, как если бы его удивляло и отчасти пугало то, что я ему все еще не представился.
– Майкл Янг.
– Майкл Янг, – повторил он все так же недоуменно. – И вы аспирант? Здесь? В этом колледже?
Я покивал, а он устремил взгляд на укрывающие солнце облака за моей спиной.
– Никак не могу разглядеть ваше лицо, – сказал он.
– О, – отозвался я. – Извините.
И сдвинулся в сторону, чтобы он мог получше меня разглядеть.
Ну полный сюр. Он кто, пластический хирург? Портретист? Какое отношение имеет мое лицо к чему бы то ни было?
– Нет-нет. Солнечные очки, – с ударением на втором слоге, солнечные, определенно немецким – немного восточным, возможно, или южным.
Я сорвал с лица «Петли киллера», отчего лишь сильнее смутился, и мы постояли немного, вглядываясь друг в друга. Ну то есть это он в меня вглядывался, а я лишь бросал из-под ресниц вороватые взгляды, совершенно как юная леди Ди.
Он был, как я уже упоминал, стар и брадат. Лицо морщинистое, усталое, но сказать по нему что-либо о возрасте было трудно. Годы вообще сказываются на ученых не так, как на обычном человеке. Кое-кто из них и на восьмом десятке лет сохраняет неестественно гладкую кожу и моложавость – некое мальчишество, песчанистость волос, что-то от Элана Беннетта,[28] – полагаю, и я, остепенясь, буду выглядеть именно так. Другие, не дожив и до сорока, преждевременно дряхлеют и начинают щуриться, моргать и горбиться, что твои маленькие библиотечные кроты. Этот человек напоминал мне фотографию… вождя Джозефа, что ли? Или Джеронимо?[29] Одного из них. У. Х. Оден, переваливший за шестьдесят, это во всяком случае. Что в свой черед напомнило мне слова, которые Дэвид Хокни[30] произнес, впервые увидев старого Одена: «Мать честная, если у него такое лицо, на что же похожа его мошонка?» У этого старика, судя по рытвинам и разломам его чела, должно было болтаться в штанах подобие савойской капусты. Борода была белой у корней, однако, переходя к их жестким, истертым окончаниям, градировала, если существует такое слово, к оттенку средней серости.
Не знаю, что именно он увидел, разглядывая меня: двадцать четыре года, все волосы целы, на лице ни единый из них не растет, и, да, все верно, черт подери, бейсболка. Однако, что бы он ни увидел, ему этого оказалось достаточно, дабы протянуть руку и пожать мою.
– Лео Цуккерман.
– Профессор Цуккерман?
Уматывай полным ходом. Это он самый и есть.
– Я профессор, да.
– О. Хорошо. Вообще-то у меня кое-что есть для вас. – Конверт от «Seligmanns Verlag» лежал лицом вниз на земле. Стряхнув комочки грязи, я вручил его старику. – Это засунули в мой почтовый ящик, он прямо над вашим. Ваш был переполнен, так что я…
– Ах да. Ксенакис, Янг, Цуккерман, X, Y, Z. – Сейчас он тянул гласные, что сообщало его выговору оттенок отчасти американизированный. – Мне так жаль. Я самым прискорбным образом пренебрегаю очисткой моего почтового ящика.
– Все в порядке. Никакого беспокойства.
– Надеюсь, не единственный ваш экземпляр? – сказал он, указав на свалку в моем кейсе. – В компьютере сохранилась, конечно, копия?
– Нет, не единственный. Но все равно неприятно.
– Божья кара.
– Виноват?
– За то, что вы столь неизящно отреагировали на отставку. – И он с улыбкой взглянул на капот «клио», на мое любовное послание.
– Да, – сказал я. – Ребячество.
Старик внимательно вглядывался в мое лицо.
– Вы, я бы сказал, человек кофейный.
– Кофейный?
– Судя по тому, как вы подпрыгиваете, разволновавшись. Кофейный человек. А я человек горячего шоколада. Не согласитесь ли вы как-нибудь – в скором времени – посетить мое жилище? Выпить кофе?
– Кофе? Правильно. М-м-м. Да. Отчего же нет? Конечно. Спасибо. Вполне. Прекрасно. – В этой бессмысленной литании вежливого английского мне удалось избежать лишь слов «здорово» и «прелестно».
– В какой день? В какое время? Сегодня я свободен после трех.
– Э… о… сегодня? Конечно! Да! Прелестно. Это будет отлично. Я… мне придется заново отпечатать все это, однако…
– Так когда же? Скажем, где-то после половины пятого?
– По-моему, превосходно. Спасибо. И спасибо, что помогли мне с… ну, вы знаете. Спасибо.
– Мне кажется, что вы, пожалуй, поблагодарили меня уже достаточное число раз.
– Что? А. Да. Извините.
– Tshish! – произнес он.
Во всяком случае, это прозвучало как «tshish» и, полагаю, должно было выразить приятное удивление, внушаемое иностранцу английским недугом – неспособностью, начав извиняться и благодарить, хоть когда-нибудь да остановиться.
Мы на несколько ярдов отступили, пятясь, один от другого – как это принято у ученых мужей.
– Значит, в половине пятого, – сказал я.
– Двор Боярышника, – ответил он. – Два-А.
– Правильно, – сказал я. – Спасибо. То есть извините. Здорово. Клево.
Как делать любовь
Перья, копыта и шкуры
Лежа под ним, Клара думала о маргаритках. О маргаритках, коровьих колокольчиках, коромыслах молочниц, пасхальном пении в Мондзее – о чем угодно, о чем угодно, лишь бы не о смраде, грузности и хрюканье вздымавшегося над ней Ублюдка.
Должно быть, две прежние его жены обладали способностью выносить все это, так же как обладали способностью вынашивать для него живых детей. Быть может, на этот раз получится и у нее, думала она. На этот раз. Не как у бедной Фриды Браун, которая выкинула как раз сегодня под вечер, после того, как накачала воды из цистерны и учуяла ту жуткую вонь, и увидела червей, потоком стекавших ей в ведро. Бедная Фрида. А теперь цистерна пуста, и им приходится, точно крестьянам, занимать воду у тех, кто живет через улицу. Бедная Фрида. Она тоже так хотела ребенка.
Девочку, молилась Клара. Сладкую малышку, Лилли, которую она втайне научит любить поля и горы, а ненавистные, душные города не ставить ни во что. Ублюдок сказал этим вечером, что собирается вскоре перебраться со всем семейством в Линц. В Линц, который по сравнению с Браунау просто огромен. Линц, который навевал Кларе мысли о перьях, копытах и шкурах. Перьях на женских шляпках; ярко-голубых страусовых перьях в вазах, стоящих на цветных плитках коридоров; перьях, расходящихся веерами в витражных окошках над входными дверьми; перьях птичьих чучел под стеклянными колпаками, что стоят в гостиных на верхотуре черных дубовых буфетов. Перья, копыта и шкуры. Оленьи копыта со вставленными в них дорогими камнями – броши. Лисьи шкуры на шеях сгорбленных вдовьей долей женщин; не просто шкуры – цельные лисы: лапы, голова, глаза, зубы, осклабленная в ухмылке клиновидная мордочка; животное, расплющенное и высушенное, точно картон, точно соленая треска, которую и разорвать невозможно.
Так приводят они в город деревню, думала Клара. Убивают животных, чтобы носить их на себе, или держать под стеклянными колпаками, или сдирать с них кожу и шить из нее лакированные городские туфельки либо желтоватые чемоданы. Лошадей они заставляют всю жизнь таскать по городам конки, а после вываривают на клей или свежуют, чтобы набивать их волосом диваны или делать смычки для скрипок. Деревья швыряют в топки, чтобы приводить в ход машины и обогревать дома, или же из них вырезают кисти дубовой листвы с желудями и орешками или трубки, и все это потом зарастает темными пятнами, печалится и умирает. Цветы высушивают, подкрашивают и выставляют букетиками на роялях, на квадратиках бахромчатого шелка. Весь просторный, светлый сельский мир пишут маслом на холстах – темные грозные горы, мглистые, гулкие ущелья и тревожные темные тучи, а после холсты развешивают по мрачным коридорам, освещенным тусклыми, шипящими газовыми горелками, и картины эти пугают детей, поселяя в них вечный ужас перед миром, что лежит за пределами городов. Город, как его одолеешь? Кровь, железо и газ. Маргаритки. Думай о маргаритках. Но маргаритка – цветок гусиный, гусиная кожа. Кожа, по которой ползут мурашки, в которой покалывает от его мокрых прикосновений.
Клара знала, что ей предстоит ночь любви, как он их называл. Liebesnacht. Знала, потому что он не избил ее и, судя по виду его, бить не собирался, даже после того, как она за обедом пролила суп ему на колени. Ни единого взгляда на стену с Пниной, лишь мертвенная улыбка да игривый шлепок по руке, сопровождавшийся словом «гадкая!», произнесенным шутливым гувернантским фальцетцем. И с подлой ухмылочкой, как если б он знал, что любовь мужа для нее бесконечно ужаснее жестоких его кулаков.
Господи, как же долго он возится! Клара вспомнила сестру, шутившую по поводу невозможной, никакой радости не доставляющей стремительности ее мужа, Германа.
– И влезть не успел, а уж выскочил!
Но Герман был деревенским парнем, напивавшимся только в дни всяких там святых да по выходным, а не пятидесятилетним мужчиной – господи! Пятидесятиоднолетним. В прошлом месяце Алоизу стукнул пятьдесят один год – Алоизу, говорившему, что пьет он только по средам да по дням, в названии которых есть буква «G». Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sontag.[31]
Клара, изогнув шею, с тоской смотрит на Деву над изголовьем кровати. Алоиз, раз семь-восемь выйдя из нее и снова войдя, похоже, добирается все-таки, потея, как ломовой возчик, до желанного конца. Она узнает новое неистовство ритма и ждет последних животных содроганий.
Небо, думает она. Небо, озера, леса, кролики и орлы. Да, огромная орлица слетает из горного гнезда и уносит этого визжащего борова. Парящая в великой выси, всесильная, всевидящая, всепобеждающая орлица с пронзительными глазами, с могучими крыльями, с когтями, с которых капает свиная кровь!
Как надо мириться
Оранжевые пилюльки
Красная жидкость стекала по капле в одну из тех закрученных винтом, спиральных штуковин, которые так по душе этой братии. Работа Джейн всегда оставалась для меня темной загадкой, и Джейн это нравилось, однако я не стал бы отрицать влекущей миловидности сопутствующих ей принадлежностей. Метры и метры стоек с ретортами, капилляров, прозрачных пластиковых трубок, тянущихся повсюду, вверх и вниз, внутрь и наружу, против и по часовой стрелке, зигами и загами. Что до центрифуг, те были и вовсе сексуальными до невероятия. Я часто наблюдал, как Джейн набирает в шприц крошечную подкрашенную каплю чего-то яркого, до крайности комковатого и затем с нежным «плип» выстреливает жидкость в пробирочки, плотно, точно голодные птенчики, стоящие в круглом барабане. Когда каждый стеклянный клювик получал свою порцию пищи, барабан начинал вращаться. От хромированной точности и низкого гудения барабана у меня захватывало дух. Он был намного массивнее своего подобия из какой-нибудь посудомоечной или стиральной машины. Никакой вибрации, все прочно, гладко, научно – как и в самой Джейн. А на другом испытательном стенде мне нравилось разглядывать предметные стеклышки с цветными гелями, пронизанными посередке изысканными прожилками иных цветов, – нечто похожее можно увидеть в кладовке кондитера, нечто, напоминающее кровяные нити, какие встречаются иногда в яичном желтке. Джейн называла свою лабораторию «Кухней»; зрелище собранных здесь воедино нержавеющей стали, стекла с клейкой и красочной органикой, ярких жидкостей воскрешало во мне мальчишку, услужливого, томящегося ожиданием сына, которому нравится наблюдать, как мама, взбив жидкое тесто, сворачивает сдобный рулет.
Охота за генами – занятие, естественно, прибыльное. Перед всем прочим миром ты делаешь вид, будто исполняешь великий план, именуемый проектом «Геном человека», что и достойно, и благородно, и попахивает Нобелем – Высокая Наука, Достижения Человечества, Передний Край Знания и все такое, – на самом же деле ты пытаешься отыскать новый ген, и застолбить права на него, и выжать из бедняги все возможное, пока на ген этот не натолкнулся кто-то еще. В одном только Кембридже существуют десятки коммерческих «биотехнологических» компаний. И бог весть какая продажность и скверноты в них процветают. Конечно, Джейн подкупить невозможно. Ни в коей мере.
Временами я задираю Джейн, распространяясь насчет характера ее работы.
Что станешь ты делать, обнаружив существование геевского гена? Или установив, что у черных меньше способностей к языкам, чем у белых? Или что азиаты обращаются с числами более умело, чем люди белой расы? Или что все евреи скаредны? Или что женщины глупее мужчин? Или что мужчины глупее женщин? Или что религиозность есть генетическая предрасположенность? Или что вот этот ген определяет преступные наклонности, а вон тот – болезнь Альцгеймера? Сама ведь знаешь, во что это обратит страхование жизни, какое оружие даст расистам. Вот это все.
Она отвечает, что пройдет по этому мосту, когда до него доберется, да и вообще она работает в другой области. И кстати, если ты, историк, обнаружишь, что Черчилль всю войну трахал королеву, будет ли это твоей проблемой? Ты сообщаешь факты. А истолковывать их – дело человечества в целом. То, что Бог не создавал Адама и Еву, стало затруднением не для Дарвина, а для епископов. Не надо валить всю вину на вестника, спокойно говорила она, лучше подрасти немного и научись заботиться сам о себе.
Я щелкнул ногтем по трубочке, из которой что-то сочилось. Десять минут назад Дональд, лаборант Джейн, отправился, шаркая, искать ее. Услышав, как стукнула дверь в коридор, я распрямился. Джейн не любила, когда в лаборатории что-нибудь трогали.
– Ах, черт возьми! Оно и вправду здесь. Ему действительно хватило наглости явиться сюда и предстать перед нами.
– Привет, малыш…
– Ты что-нибудь трогал? Покажи мамочке, с чем ты здесь играл, где что испортил, чтобы нам не пришлось самим потом разбираться с этим.
– Ничего! Ничего не трогал… ну, разве вот по этой трубочке слегка прищелкнул. Там жидкость немного застряла, я и помог ей пройти. Это все.
Джейн в ужасе вытаращилась на меня:
– Все? Это все? – И она, повернувшись к двери, завопила: – Дональд! До-ональд! Иди сюда! Нам придется все начинать сначала. Десять недель работы псу под хвост! О господи!
Влетел Дональд.
– Что? Что такое? Что он сделал? Что?
– Джейн, клянусь, я просто прищелкнул ногтем, совсем чуть-чуть…
– Этот тупой засранец всего-навсего протолкнул метилоранж через трубку с тартратом.
– Да какого черта, Джейн? – взвыл я. – Не может же какая-то капелька все испортить.
Дональд не отрывал взгляда от трубок.
– Иисусе, – наконец выдавил он. – Нет! Нет! И он, привалившись к стенду, закрыл ладонями лицо.
Я со вздохом облегчения повернулся к Джейн:
– Чертовски жестокий трюк, вообще-то. Не будь Дональд таким бездарным притворщиком, я бы и вправду огорчился.
Брови Джейн взлетели вверх.
– О, – сказала она, – так это был жестокий трюк, вот оно как. Понимаю. И ты бы того и гляди огорчился.
– Послушай, я прекрасно знаю, что ты собираешься сказать…
– Изгадить мою машину, добиться, чтобы ее отбуксировали из колледжа за незаконную парковку, – это все не жестокие и огорчительные трюки, верно? Это лишь милые проявления любящей, истерзанной души. Романтические забавы, порождения прекрасного и сложного ума. Не ребячливости, но зрелости. Иронический комментарий к превратностям любви. Дивный комплимент. Мне следовало бы таять от благодарности.
Ну просто ненавижу, когда она становится такой. Еще и Дональд хихикает, как будто ему известно, о чем речь.
– Да, да, да, – сказал я, поднимая руку. – Очень клево.
– Оставь-ка нас, Дональд, – сказала, усаживаясь на высокий табурет, Джейн. – Мне нужно поговорить с этим штучным изделием.
Дональд, который, подобно мне, легко краснеет, начал по-дурацки пятиться к двери.
– Ага. Ну да. Верно, конечно. Я… да. Идет? Я подождал, когда стихнут хлопки дверей, и лишь после этого набрался смелости, потребной, чтобы взглянуть в ее насмешливые глаза.
– Прости, – сказал я.
Слово это с гулким стуком упало в мучительно долгую тишину.
Собственно, взгляд ее не был насмешлив. Я мог бы приписать ему любое свойство. Мог бы назвать его взглядом холодным, взглядом ироническим. Или оценивающим. То был взгляд Джейн, и кому-то другому он мог бы представиться а) дружеским, b) добрым, с) приятно удивленным, d) вызывающим, е) эротичным, f) неприветливым, g) скептическим, h) восхищенным, i) страстным, j) блудливым, k) тупым, l) интеллектуальным, m) презрительным, n) смущенным, о) испуганным, р) неискренним, q) отчаянным, r) скучающим, s) удовлетворенным, t) исполненным надежд, u) вопрошающим, v) стальным, w) выжидательным, х) разочарованным, у) проницательным или z) полным новой жизни.
Все это в нем присутствовало. Я хочу сказать, это же были человеческие глаза, зеркало души. Не ее души зеркало – моей. Я гляделся в него, ощущая себя олухом всех разновидностей сразу, и потому, естественно, получил в ответ взгляд насмешливый.
И вдруг она, к великому моему удивлению, склонилась и погладила меня по затылку.
– Ах, Пип, – сказала она. – Ну что мне с тобой делать?
Насчет «Пипа».
Меня многие так называют.
Ту т вот какая история.
В солидный университет полагается являться в пиджаке, при галстуке и в летних брюках, специально для такого случая купленных мамой. Вас зовут Майклом. Вы на два года моложе всех остальных и к тому же впервые, по сути дела, покинули дом. Как вы поступаете? Поездка по железной дороге из Уинчестера в Кембридж означает, что вам приходится пересекать Лондон, перебираясь с одного вокзала на другой. И вы, попав в Вест-Энд, выходите оттуда с добротной стрижкой, облаченным в поношенные мешковатые брюки, футболку с надписью «Отсоси Мою Душу», парку цвета хаки и с именем «Пэк». И в поезд, идущий до Кембриджа, вы уже садитесь нехилым малым. Восемь лет назад слова «нехилый» и «малый» были более-менее приемлемыми. Теперь-то ими, конечно, пользуются одни журналисты да рекламщики. Какие нынче обороты в ходу на улицах, я ни малейшего понятия не имею. Я выбыл из этого забега довольно рано – после того, как мне пару раз дали от ворот поворот и порекомендовали угребывать туда, откуда пришел.
Имя «Пэк» я выбрал потому, что играл его в школьной постановке «Сна в летнюю ночь» и полагал, что оно мне вроде как подходит. Спайк, Джеш, Бласт, Спит, Физзер, Джог, Стрик, Флик, Бойлер, Заг, Клют, Граулер – я перебрал их все. Пэк показался мне клевым и при этом лишенным особой агрессивности. Увы, при первом же моем обеде в Холле все и запуталось.
– Привет, – сказал, садясь со мной рядом, решительно неклевый субъект в пиджаке и при галстуке. – Я Марк Тейлор. Ты, похоже, из новеньких, так?
Я сообщил ему мое клевое новое имя, но, поскольку рот у меня был набит едой, в перепелесой башке моего собеседника утвердилось впечатление, будто я назвался Пипом Янгом.
– Пип? Ну да, понятно. Пиппи. Отлично.
И сколько я потом ни брызгал слюной, все отрицая, я так и остался Пипом, или же Пиппи. Это был удар, от которого я так и не смог бы оправиться, даже обратившись в распродолбанного, здоровенного, зловредного, драчливого, супер-пупер, клево-расклевого бандюгана, чего я достичь даже и не рассчитывал. Возможно, какой-нибудь Снуп-Догги-Дог из Южного Централа, Лос-Анджелес, штат Калифорния, и сумел бы отбиться от клички Снуп-Пиппи-Пип, но у Майкла Янга из Ист-Дин, Эндовер, графство Гэмпшир, ни малейших шансов на это не было.
Разумеется, Джейн мое прозвище нравилось. Ей нравилось называть меня Пипом, Пиплом и Пиппи. Что отчасти и объясняет маленький бунт, вследствие коего я украсил той надписью ее «рено».
Ее «рено»? Я хотел сказать – наш «рено». Вот видите? Она уже брала надо мной верх.
Это означает – да, мне нравилось, что моя женщина старше меня. Вообще говоря, два года разницы в возрасте еще не делали ее Женщиной, Которая Старше Меня, однако и столь малое различие наполняло меня упоением. Да, мне нравилось, что она по-матерински меня опекает. Да, мне были приятны острые уколы ее нежных насмешек, но НЕТ, я не евнух и не мазохист. Какая-то часть моей личности желала обращения, хотя бы недолгого, в Мужчину. И я чувствовал, честно, я чувствовал…
– Я знаю, что ты чувствовал прошлой ночью, – сказала она. – Ты решил, что я тебе завидую. Думал, будто мне не нравится, что ты дописал диссертацию. Мы оба теперь станем докторами, окажемся ровней. И ты полагал, что меня это злит.
– Ничто не может быть дальше от истины! – ответил я, и дальше этих моих слов от истины быть ничто не могло.
– И наверное, ты полагал, что изучение истории представляется мне, в сравнении с моей работой, занятием далеко не серьезным.
– Ничего подобного! – снова соврал я.
– О, – брови Джейн удивленно поползли вверх, – правда? Потому что я именно так и думала. Все перечисленное. Меня злило, что ты вот-вот станешь доктором. Раздражало, что ты расхаживаешь по дому павлин павлином. Знаешь, милый, женщину послабее от этого просто вырвало бы.
– Я был счастлив, только и всего.
– И я думала: ну что такое докторская по истории? Каждый, у кого есть хоть половина мозгов, способен несколько месяцев обжираться плодами библиотечного знания, а после прогадиться длинной, блестящей диссертацией. Размышлять при этом не нужно, расчеты проводить не нужно, трудиться тоже. Это же не работа. Просто претенциозное дилетантское кривляние.
– Ну спасибо! Огромное тебе спасибо.
– Да знаю я, Пиппи, знаю. Но это прошло. Я действительно завидовала тебе. Мне было обидно.
– О.
– Прости меня. Я рада, что ты закончил диссертацию. И горжусь тобой.
Абсолютный гений притворства, уклончивости и ускользания, вот кто она такая, наша Джейн. Ты еще рта не успеваешь раскрыть, как она сама выдвигает против себя все пункты обвинения, а после просит прощения, да так мило, так отважно, оставляя тебе лишь одну возможность – благодушно его даровать.
– Насчет машины, – сказал я, опуская глаза, – я поступил как глупое дитя.
– Да хрен с ней, с машиной. Подумаешь, машина. Это всего лишь машина, не живой котенок, не декларация прав человека. И даже рискуя вновь пробудить в тебе мужественное негодование, скажу – то был один из очень немногих твоих забавных, храбрых и независимых поступков, согласись. Опять же, про то, что ее отбуксировали с парковки, я наврала, а надпись твоя исчезла при первом же дуновении «Фреона», так что ничего вредоносного ты не учинил.
– И что же, получается, мы… э-э… мы по-прежнему вместе?
– Иди сюда, – ответила она и притянула мою голову к своей.
Мы целовались долго, страстно, и я, отрываясь, чтобы глотнуть воздуху, все лепетал слова благодарности. Я уж было и свыкся с мыслью, что меня бросили, предали и послали куда подальше. Душевные раны, возникающие от обид и иного дурного с нами обращения, не лишены некоторой приятности. Но я, видите ли, любил ее. Я ее действительно любил. «Я все еще дрожу, когда ты трогаешь меня». «Ойли-Мойли» не врут никогда. Всякий раз, как ее тело прижимается к моему, я ощущаю трепет. И мы, стало быть, целовались, а я – да какого черта! – я прощался с моей свободой.
Ростом Джейн повыше меня – это не так уж и важно, люди в большинстве своем выше меня ростом. Она смугла, я белокож. Ее нередко принимают за итальянку или испанку. Я называю ее моей черноволосой гитаночкой-совратительницей, на что Джейн отзывается добродушными стенаниями. Она большая чистюля. Странно, но так. Она не просто почти, как выражаются в телерекламе, чиста, она чиста по-настоящему. Ладони у нее неизменно свеженькие, ухоженные, лабораторный халат и прочие ее наряды нигде не морщат, не обвисают. Присущая ей милая, подкупающая неуклюжесть, намек на косноватость движений подобен намеку на косину у Ингрид Бергман – этот крошечный, почти неуловимый изъян лишь подчеркивает ее красоту.
– Послушай, – сказал я, – давай я заеду в «Сайнсбериз» и мы с тобой устроим вечером по-настоящему хороший обед. На сей раз все будет без дураков. Согласна?
Она взглянула на меня сверху вниз.
– Знаешь, Пип, – сказала она, – будь ты хоть на йоту милее, я бы точно замариновала тебя в формальдегиде.
– Да ладно, – ответил я и, взяв со стола плексигласовое, наполненное оранжевыми пилюльками блюдце, потряс им в смущенном южноамериканском ритме. – Гм, – промычал я, беря двумя пальцами одну из облаток. – И какого же рода кайф мы ловим, глотая вот это?
– А, дьявол, поставь на место! – Джейн, с внезапно обуявшим ее бешенством, вырвала у меня блюдце – да так неловко, что пилюльки рассыпались по полу и лабораторному столу.
Такой я ее еще не видел. Разъяренной, поистине разъяренной.
– Эй! – протестующе вскричал я, когда она грубо оттолкнула меня от стола.
– Когда же ты научишься ничего здесь не трогать?
Джейн соскочила с табурета и принялась собирать рассыпанные пилюли, попутно кляня себя, меня, жизнь и Господа Бога.
Все это казалось мне выходящим за пределы реальности. Я присел рядом с ней и тоже стал подбирать оранжевые облатки.
– Послушай, малыш, я просто…
– Заткнись и постарайся не проглядеть ни одной. Я не хочу с тобой разговаривать.
В третий раз за такое же количество часов я подбирал сегодня с земли что-то упавшее. Диски, листы бумаги, а вот теперь пилюли. Каждому иногда выпадают подобные дни. Тематические.
Когда все пилюли вернулись в блюдце, а само оно было убрано подальше от шаловливых детских ручонок, Джейн повернулась ко мне, и грудь ее, должен вам доложить, вздымалась и опадала, переполненная гневными чувствами.
– Господи, Пип, ну что с тобой такое?
– Со мной? Со мной? Черт, да что я сделал – всего лишь взял одну облаточку…
– Ты хоть знаешь, что они собой представляют? Хоть какое-то понятие о них у тебя есть? Нет, разумеется. В них могут содержаться носители сибирской язвы, полиомиелита, бог знает чего. Все это способно абсорбироваться сквозь кожу. Они могут вообще состоять из чистого цианистого калия, тебе же ни черта не известно.
– Ну так и что это?
– Противозачаточное средство, вот что.
– Да? – Я с интересом взглянул на пилюльки.
– Для мужчин.
– Для мужчин? Клево. Но ведь оно не опасно.
– С какой стороны взглянуть, дурья твоя башка, и смотря что ты называешь опасным. Начать с того, что на людях их еще не испытывали.
– А, ну тогда, может, возьмешь меня в подопытные кролики?
– Ни в какие клепаные кролики я тебя не возьму! – грянула она. – Действие этих таблеток необратимо.
– Ну-ка, еще разок.
– Еще разок, это именно то, на что ты окажешься уже неспособным, по меньшей мере в смысле оплодотворения. Они раз и навсегда стерилизуют мужчину.
Я сглотнул слюну.
– О.
– Вот именно. О.
– Выходит, я был на волосок от гибели.
– Был, хотя, с другой стороны, мир сколько-нибудь рациональный навряд ли пожелал бы широкого распространения твоих генов.
– Тебе следует держать их под замком.
– Мне тебя следует держать под замком. Давай установим правило, Пиппи. Ты не лезешь в мою работу, я не лезу в твою. Так нам удастся избежать катастрофы, идет?
– Ладно, – сказал я, отодвигаясь от нее. – Извини. Слушай, я бы чего-нибудь пошамал.
Джейн смотрела на меня, и лицо ее расплывалось в улыбке.
– Как по-твоему, существует хоть один шанс, что после утверждения твоей диссертации ты научишься изъясняться на человеческом языке?
– О чем ты?
– Все эти твои «клево», «кайф» и «оу»… ну что это такое? Не исключено, что в следующем году ты станешь членом твоего колледжа. Ты что, думаешь, Тревор Роупер[32] тоже разгуливает по своему, восклицая: «Оу, мужик… типа, того, клево»?
– Ну, так, – сказал я, снова садясь. – Ту т вот какая штука, история – это, видишь ли, вопрос образа.
Такова моя излюбленная теория, о которой я Джейн ничего еще не рассказывал. Я провел ладонями по поверхности лабораторного стола, словно отодвигая одну от другой две горки соли.
– Существует два типа историков, да? Вот тут у нас тип А, приятный тебе молодой консерватор – Хайек,[33] Питерхаус,[34] круглая шапочка на голове, читает только «Спектейтор», Тэтчер у него богиня, а предел его мечтаний – пост личного секретаря какого-нибудь члена парламента от тори, так? А тут, на этой стороне, тип Б, преисполненный серьезности, тяжеловесный, Христофер Хилл, Олтассер, Э. П. Томпсон, постструктуралист, охочий резать правду-матку, индивидуальность побоку и полна-жопа-истории.
– И к какой же кучке относишься ты, Пип?
– Ни к той ни к другой.
– Ни к той ни к другой. Угу. В таком случае моя научная подготовка приводит меня к мысли, что типов должно существовать не два, а больше. Есть еще тип В.
– Да, да, да. Очень умно. Я, собственно, вот о чем – если принять два эти образа за данность, что тогда остается делать? Понимаешь, историк консервативного типа стилистически принадлежит к сороковым и пятидесятым годам, а тип тяжеловесный – к шестидесятым и семидесятым. Так что оба они вроде как устарели, а сама история окостенела. Согласно моей теории, тут ты права, историк должен принадлежать к собственному времени, и куда сильнее, чем к какому-либо еще. Как сможешь ты историфицировать прошлый век, если не отождествляешь себя полностью со своим собственным, да? Ты должен отталкиваться от своего времени. Поэтому я – я принадлежу к «сейчас».
– Я принадлежу к «сейчас»? – переспросила Джейн. – Я принадлежу к «сейчас»? Не могу поверить, что ты это сказал. Да еще и историфицировать?
– Ладно, похоже, чтобы свыкнуться с жаргоном, тебе понадобится какое-то время.
– М-м. Хорошо, стало быть, ты проделал следующее: изобрел третий тип, В, историка-серфера. Ты зажимаешь пальцами ног доску и летишь на гребне волны вчерашнего дня. Киану Янг, доктор хилософии.
– Да. Грустно, правда?
– Есть немножко, дорогой, есть немножко. Но пока ты сам это сознаешь, оно не так уж и плохо. На факультетах и в профессорских нашего мира обитает множество стареющих хиппи, и я не вижу причины, по которой в них не могли бы прижиться и стареющие серферы.
– До старения мне пока далеко, сучка!
Мы поцеловались еще раз, и я поспешил смыться из лаборатории, пока Джейн опять на меня за что-нибудь не окрысилась.
Направляясь к навесу, под которым стояли велосипеды, я немного уклонился в сторону. Да, вот она. Наша маленькая «клио». Никаких следов моих каллиграфических усилий на капоте не осталось. Чертовы ученые. И кстати, что это за гадость такая, «Фреон»? Я нагнулся, чтобы завязать шнурки. Весь день проходил с развязанными – знаете, как оно бывает с полуботинками? – боковины их становятся от долгой носки мягкими, отвисают, и шнурки то и дело заваливаются внутрь, тебе под пяту, обращая тебя в вечную принцессу на горошине.
Привет! Концы шнурка правого ботинка оказались снаружи, ни один внутрь не улез. Значит, это ко мне в башмак какой-то камушек заскочил, что-то же впивается там в ступню.
Мать честная! Одна из оранжевых пилюлек Джейн. Месть Жермена. Надо бы вернуться и…
На хрен. Я сунул таблетку в бумажник. Может, скормлю ее соседскому кролику. Тихий смешок.
Я ехал, с накрепко завязанными шнурками, по Мэдингли-роуд и составлял в уме список. Еда, вино, настоящий кофе, бумага для принтера, потом домой, снова отпечатать «Meisterwerk», вернуться с отпечатанным в город, к Фрейзер-Стюарту, а после, ну да, заскочить к этому типу, к Цуккерману…
Как обрести свободу
Приземление орлицы
– Тужьтесь, женщина! Тужьтесь! Четвертые, вы говорите?
Алоиз кивнул и с отвращением взглянул вниз.
– Послушай меня, Клара… послушай!
Клара его не слышала.
– Клара! – самым строгим своим тоном произнес, склоняясь над ней, Алоиз.
Но Клара пребывала во множестве миль отсюда. Снимаясь с гор, паря над озерами и деревнями, опускаясь на шпили церквей, на миг сжимая когтями яркие золотые купола и вновь отдаваясь ветру, взмывая все выше и выше.
Подошел и встал рядом с Алоизом доктор.
– Если она уже рожала три раза, сильной боли быть не должно – даже без столь почтенной порции лаунданума.
Вот этим словам проникнуть в замутненное опиумом сознание Клары удалось. Боль? Да никакой боли и нет, внутренне усмехнулась она. Никакой боли, один лишь восторг! Радость! Чистая, вольно парящая радость!
Новая колоссальная схватка спирально вознесла ее превыше самой высокой горы. Вся Европа лежала под ней, без таможенных постов, без рубежей и границ. Звери рыскали там на приволье. Как ни высоко залетела она, движение малейшей полевки или бабочки различалось ею с совершенной ясностью, Клара слышала шуршание земли, с которым в двенадцати милях под ней вылезал из норы кролик, вглядывалась в каплю росы, свисавшую с крошечной травинки. Повелительница пространства и времени, владычица всего сущего. И Клара, испустив пронзительный вопль радости, понеслась кругами, с востока на запад, с севера на юг, и земля летела под ее великанскими крыльями, купаясь в чистой, безграничной свободе.
– Бог мой, Шенк, кровь! У нее никогда раньше не было столько крови! Что-то не так?
– Ничего, сударь. Ничего, уверяю вас. Головка у младенца большая, простой разрыв гименальной мышцы, не более того.
Клюв орленка яростно бьет о стенки яйца. Эта будет жить. Я чую ее силу. Ее железную волю. Моя дочь, орлица, которую я выращу способной одарить меня свободой.
– Клара! Ради всего святого! Как она кричит! Вы уверены, что дали ей достаточно?
– Для первого раза доза была просто огромной. Чуть больше, и она впала б в бесчувствие. Ага, выходит. Да, выходит! Еще одно усилие, Клара.
Она свободна! Она вышла в мир! Свободна! Вслушайтесь в ее страстные вопли! Сила! Воля! Воля к жизни, воля к страсти. Она будет жить, сильная, а я буду любить ее сильнее, чем какое-либо живое существо любило когда бы то ни было свою дочь.
– Ха-ха! – гоготнул Алоиз. Он, никогда не смеявшийся, теперь хохотал. Он тоже почувствовал это. Проникся величием момента.
Доктор Шенк пригладил влажные пряди волос, оставив на лбу Клары полоску крови шириной в большой палец.
– Поздравляю, дорогая моя. Вот ваше дитя. Крепенькое, как дуб.
– Либлинг! Клара! Mein Schatz![35]
– Она спит, сударь.
– Спит?
– Право же, доза была огромной. Все это время Клара спала. А когда она проснется, то почувствует себя освеженной. И ничего не вспомнит о боли. В этом смысле Природа добра.
Алоиз наклонился и поцеловал окровавленный лоб.
– Посмотри на него, умница моя. Посмотри! Вот он! Мой мальчик! Мой чудный мальчик!
Как вести беседу
Кофе и шоколад
– Мой мальчик! И точно по часам! Вода уже пошла через кофе, миг, и все будет готово. Входите, входите! Здесь не так чисто, как следовало бы, но место, чтобы присесть, найдется. Быть может, сюда? Хорошо. Я Augenblick.[36] Вы говорите по-немецки? Ну да, разумеется, говорите. Сейчас достану чашку. Чашку для вас, Майкл Янг!
Я сижу, положив на колени руки и, пока он, готовя кофе, возится в кухоньке, оглядываюсь вокруг.
– Вообще-то не так чтобы говорю, – громко произношу я ему в спину. – Читаю, более или менее. У меня есть друг, который помогает мне… ну, знаете, со сложными оборотами.
Не уверен, что он слышит меня сквозь дребезжание чашек.
А неплохой он разжился квартиркой, отмечаю я. Выходящее во Двор Боярышника двустворчатое эркерное окно с видом на реку и Мост Сонетов за ним. Две стены, закрытые книжными полками. Я встаю, чтобы взглянуть на книги.
Ух ты!
Примо Леви, Эрнст Клее, Джордж Стайнер, Барух Фидлер, Лев Бронстейн, Вилли Дрессен, Марта Венке, Фолкер Рисс, Эли Визел, Джорджи Конрад, Ханна Арендт, Дэниэль Иона Голдхаген и так далее, и так далее. Ряд за рядом, все посвященные этой теме книги, о каких я слышал, и еще десятки, дюжины, сотни не известных даже мне.
Если Цуккерман занимается современной историей, как получилось, что я нигде на него не наткнулся? Несколькими полками дальше характер книг становится более общим. Тут есть одна хорошо мне знакомая – «Корни немецкого национализма» Снайдера, издательство Университета штата Индиана. Я едва ли не способен назвать ее ISBN, содержащийся, разумеется, в библиографии «Mei-sterwerk’а», составленной мной всего два дня назад. Я вытаскиваю эту книгу, подчиняясь странному порыву, который подталкивает попавшего в чужой дом человека первым делом осматривать то, что есть дома у него самого. Помню, я где-то прочел, что создатели автомобильной рекламы установили: человек с большей охотой читает рекламу машины, которую только что купил, чем какой-либо иной. Здесь, я думаю, тот же синдром. А может быть, нам кажется, что, разглядывая вещи, тождественные тем, какими владеем сами, мы не так сильно вторгаемся в чужую жизнь, как суя нос в нечто, нам незнакомое. В общем, как вам будет угодно.
– «Политический национализм стал для европейца нашего века, – цитирует Цуккерман, появившись с подрагивающим в руках подносом, – важнейшей вещью в мире, более важной, чем гуманность, достоинство, доброта, набожность; более важной, чем сама жизнь». Так?
– Слово в слово, – удивленно отвечаю я.
– И когда же он это сказал, Норман Энджелл?[37] По-моему, незадолго до Первой мировой. Пророчество.
– Позвольте, я помогу.
– Ничего-ничего. Я его вот здесь пристрою. Итак! Молоко? Сахар?
– Только молоко, я человек не сахарный, – вылезаю я с каламбуром.
– Сахарный человек, Цуккерман! Как забавно!
Он хохочет – скорее, кажется мне, из-за краски, залившей мое лицо после этого рокового усилия, чем от блеска самой шутки. Дернул же меня черт.
– О, вижу, вы сделали вашему багажу перевязку. Весьма разумно.
Я опускаю взгляд на стоящий рядом со мной на полу перетянутый толстой резинкой старый кейс.
– Да. Думаю, в конце концов все-таки придется порадовать себя новым. Этот старичок у меня еще со времен начальной школы.
– Вот, возьмите. А теперь, извините, я отвлекусь на секунду. – Он вручает мне кофе и снимает со стоящего на письменном столе ноутбука фаянсовую кружку, наполненную чем-то другим, горячим шоколадом, полагаю. – Я развлекаюсь, – сообщает он, щурясь на экран и водя пальцем по панельке управления курсором, – игрой с американским коллегой.
Через плечо его я вижу, что Цуккерман скачивает некую почту. Все сообщение, отмечаю я, состоит из трех-четырех букв. Он прочитывает его, хихикая, и отходит к окну, к столику, на котором стоит шахматная доска с фигурами.
– Опля! – восклицает он, переставляя черного коня. – Вот до этого я не додумался. Вы играете, Майкл?
– Нет… э-э, не играю. Ну, то есть, ходы-то я знаю, однако игра со мной вам, боюсь, большого удовольствия не доставит.
– О, наверняка доставит, не сомневаюсь. Я в шахматы играю ужасно. Просто ужасно. Друзья посмеиваются надо мной за это. Хорошо. С этим покончено. – Он возвращается к столику и усаживается напротив меня. – Ну-с. Как вам кофе?
Я приветственно поднимаю чашку:
– Очень клевый. Спасибо.
– Клевый? Ах да. Вы хотите сказать – хороший? Клевый. Вот слово, которое меня неизменно смешит. Сколько уж лет оно то входит в моду, то выходит из нее, совсем как роликовые коньки. Помню премьеру «Вестсайдской истории» в Нью-Йорке. «Разыграй это клево, Джонни, клевый Джонни». Когда же это было-то? Постойте… ну да, верно, в пятьдесят седьмом, почти сорок лет назад, мой первый год в Колумбийском. А люди и поныне говорят «клево»! Только клевых «стариков» теперь уже больше не встретишь, а? Нынче нам все больше клевые «чуваки» попадаются. Я поерзал на стуле.
– Вообще-то тут я не в курсе, профессор, мне ведь двадцать четыре, для меня все это далекое прошлое.
– Называйте меня Лео. О, разумеется, далекое прошлое, еще бы. Двадцать четыре! Скоро вам придется сменить фамилию, с Янга на Стара. Н-да, двадцать четыре вам исполнилось, сколько я помню, в апреле.
Я вытаращил глаза:
– Откуда вы знаете?
– Да уж поинтересовался. Посмотрел вашу домашнюю страницу в Вор-р-рлд Вайд Веп! – Он сопровождает эти комически исковерканные слова эффектным, как у престидижитатора, взмахом руки.
В наши дни у каждого, кто подвизается в каком угодно университете, имеется во всемирной паутине собственная домашняя страничка. Моя слабовата, скучна, ее написала для меня Джейн, хорошо разбирающаяся во всяких компьютерных штучках – фреймах, «Хот-Джаве», апплетах и тому подобном. Страница состоит из тощего биографического раздела; нашего с Джейн, сделанного на берегу реки, снимка, который она как-то там отсканировала, или оцифровала, или что с ними делают, и ссылок на сайт исторического факультета и ее собственную страницу, куда более навороченную, чем моя, – там у нее и молекула ДНК вращается, и вообще много чего напридумано.
– И в какой же день апреля это произошло, хотелось бы знать? – продолжает Цуккерман. – Позвольте мне догадаться…
– Не понимаю, какая…
– Как насчет… как насчет, скажем… двадцатого? Двадцатого апреля?
Я, вытирая ладони о штанины, киваю.
– Ну, как вам это понравится? В самую точку! Двадцать девять шансов к одному, и я попадаю с первого раза! А место рождения? Я было решил, что это описка, что вы родились в английском городе Хертфорде. Но нет, возможно, отец ваш служил в армии. Возможно, вы родились в Херфорде, Германия, где еще несколько лет назад располагалась база британской армии?
Я снова киваю.
– Так. Вы родились в Германии, в Херфорде, 20 апреля 1972 года.
Цуккерман вглядывается в меня поблескивающими глазами. На одну жуткую секунду он обращается в двойника того нелепого старикашки в подтяжках из «Смарфов», который имел обыкновение подпевать, упершись подбородком в столик, приплясывающим синим человечкам, следя за ними блуждающим взглядом.
– А вы? – спрашиваю я, спеша сменить тему. – Вы ведь не историк. Чем именно вы занимаетесь?
Он прослеживает мой направленный на книжные полки взгляд.
– Боюсь, делами довольно скучными. Я просто ученый. Мой предмет – физика, но у меня, как видите, имеются и… другие интересы.
– Шоа?[38]
– А, вы, похоже, решили сделать мне приятное, прибегнув к еврейскому слову. Да, главным образом Шоа. – Взгляд его возвращается ко мне. – Скажите, Майкл, вы еврей?
– Э-э… нет. Нет, вообще-то, не еврей.
– Вообще-то. Вы уверены?
– Ну да. Я хочу сказать, не то чтобы это имело для меня какое-то значение, однако я не… еврейской крови во мне нет.
– Знаете, в тридцатых Форстер[39] написал эссе о том, что он назвал «еврейским самосознанием». Откуда нам знать, говорит он там, что мы не евреи? Можем ли мы, любой из нас, назвать имена восьми наших прадедов и прабабок и с уверенностью заявить, что все они были арийцами? А ведь если хоть кто-то из них был евреем, жизни наши абсолютным образом определяются им или ею, точно так же как и всей мужской частью нашего рода, которой мы обязаны фамилиями и личностями. Интересное, на мой взгляд, замечание. Сомневаюсь, что даже принц Уэльский смог бы назвать имена восьми своих прадедов и прабабок.
– Ну, я-то своих определенно не назову, – говорю я. – Я, собственно, даже имена четырех моих дедушек и бабушек точно назвать не сумею. Но, насколько мне известно, я не еврей.
– И не то чтобы это имело для вас какое-то значение.
– Нет, – подтверждаю я, стараясь, чтобы голос мой не прозвучал раздраженно. Во всем разговоре, в этой череде вопросов явственно присутствует нечто, внушающее мне гадливость. Цуккерман внимательно вглядывается в меня, словно придя к какому-то выводу, хотя что это за вывод, я сказать не берусь.
Проводя мои исследования, я обнаружил, что в нашей области подвизается множество людей по-настоящему странных и кое-кто из них полагает само собой разумеющимся, что вы разделяете их странные взгляды. Была одна группа в Лондоне, непонятно каким образом прознавшая о теме моей диссертации и приславшая мне образцы своей «литературы», которые заставили нас с Джейн тут же позвонить в полицию.
Выражение, застывшее на моем лице, вызывает у Цуккермана смешок.
– Я вижу, мои беспорядочные вопросы сердят вас.
– Нет, но я не понимаю, к чему…
– Хорошо! Больше никаких скачков, обещаю. Перехожу к сути. – Он наклоняется в кресле вперед. – Вы, Майкл Дункан Янг, написали диссертацию на тему, которая сильно меня интересует. Очень сильно. Поэтому. Два пункта. Альфа, я хотел бы ее прочитать. Бета, я хотел бы понять, почему вы ее написали. Вот и все. Очень просто.
И он откидывается на спинку кресла, ожидая моего ответа.
Я с трудом сглатываю слюну. Это глубокие воды, Ватсон. Ступайте осторожно. Очень осторожно.
– Первое, что вы должны понять, – я говорю медленно, стараясь, без особого, впрочем, успеха, не отрывать взгляда от его пронзительных синих глаз, – так это, что я… ну, знаете, я не какой-нибудь там извращенец, не… не подобие Дэвида Ирвинга,[40] если вы об этом. Я не коллекционирую Железные кресты, свастики, «люгеры», эсэсовские мундиры, не утверждаю, будто жертвами холокоста стало всего лишь двадцать тысяч человек, – никакого дерьма в этом роде.
Он кивает, закрыв глаза, словно вслушиваясь в музыку, и взмахом руки предлагает мне продолжать.
– И вы правы, я действительно родился двадцатого апреля. Думаю, с тех самых пор, как я узнал, что двадцатое апреля – это… ну, знаете, что его можно назвать красным днем календаря, я проникся… любопытством или, не знаю, ощущением вины, что ли.
Я отпиваю, дабы увлажнить быстро пересыхающее горло, кофе.
– Вины? Это интересно. Вы, может быть, верите в астрологию?
– Нет-нет. Дело не в этом. Не знаю. Все так, как я сказал. Ну, вы понимаете.
– Угу. А кроме того, обычные биографии в эту тему особо не вдаются, и потому она более чем пригодна для докторской диссертации, автор которой предпочитает разбивать свой шатер в чистом поле, да?
– Ну и это тоже, конечно. Он открывает глаза:
– Одного Слова мы с вами так и не произнесли, верно?
– Простите?
– Имени. Мы избегаем Имени. Как будто это ругательство.
– А, вы имеете в виду, э-э, Гитлера? Ну…
– Да, я имею в виду «э-э, Гитлера». Адольфа Гитлера. Гитлер, Гитлер, Гитлер. – Он повторяет это все громче. – Он пугает вас? Гитлер? Или вы, может быть, думаете, будто я считаю недопустимым упоминание Гитлера в моем доме, – примерно как слова «рак» в будуаре дамы?
– Нет, я просто…
– Разумеется.
Мы умолкаем и молчим, пока я не соображаю, что Цуккерман ожидает от меня продолжения.
– М-м… насчет возможности прочитать ее. Диссертацию то есть. Она сейчас у моего руководителя, у доктора Фрейзер-Стюарта, и он, понятное дело, просмотрит ее, ну, знаете, все проверит, а после отошлет профессору Бишопу. Потом, я думаю, она отправится в Бристоль. Там работает одна такая дама, профессор Уорд. Эмили Уорд. У вас здесь есть ее книга… во всяком случае, мне пришлось сегодня днем отпечатать для доктора Фрейзер-Стюарта новую копию после… ну, знаете, после того, что произошло на парковке и так далее, однако, если хотите, я готов сделать еще одну, для вас. М-м. Ясное дело.
– Ладно, Майкл, давайте начистоту. Те страницы, которые я видел, все еще при вас?
– Да, но только они перемешаны и вообще не в самом лучшем виде.
– Мне настолько не терпится прочесть ваш труд, что я готов взять их у вас и самостоятельно разложить по порядку. Полагаю, они пронумерованы?
– Конечно, – говорю я, протягивая руку к кейсу, – пожалуйста.
Он принимает от меня толстую стопку украшенных отпечатками шин, надорванных, измятых, припорошенных песком страниц и аккуратно опускает ее на столик, разглаживает титульный лист и произносит:
– Итак, Майкл Янг. Готовы ли вы заявить, что знаете о юности Адольфа Гитлера больше, чем кто бы то ни было из живущих ныне людей?
Я помаргиваю, стараясь обдумать этот вопрос со всей доступной мне честностью.
– Полагаю, это было бы сказано слишком сильно, – выдавливаю я наконец. – В прошлом году я ездил в Австрию, пересмотрел все документы, какие смог отыскать, однако не думаю, что наткнулся в них на что-то, никем до меня не виденное. Понимаете, меня интересовало очень узкое временное окно. Наверное, я вправе сказать, что узнал кое-что новое о происхождении его матери, Клары Пёльцль, выяснил кое-что о доме в Браунау, в котором он родился, однако все это относится к временам очень ранним, не оказавшим на его жизнь серьезного влияния. Видите ли, ему был всего год, когда они перебрались в Гросс-Шонау, и еще через пару лет – в Пассау, а когда ему исполнилось пять, семья переехала из Фишльхама в деревню под Линцем; ну а все, что можно узнать о его школьных годах, известно и без меня, я бы так сказал. У историков конца сороковых и пятидесятых было одно преимущество – они могли разговаривать с людьми, знавшими его еще мальчиком. А в моем распоряжении имелись, понятное дело, лишь документы. Так что…
– Вы по-прежнему избегаете имени.
– Правда? Это я не намеренно, уверяю вас, – говорю я, совсем уж охрипнув. Все предыдущее было слишком длинной для меня тирадой. – Так вот, чтобы ответить на ваш вопрос: я думаю, что знаю о детстве АДОЛЬФА ГИТЛЕРА не меньше кого бы то ни было, а в некотором смысле и больше.
– Угу.
– А зачем?
– Виноват?
– Зачем вам так уж необходимо это знать?
– Если позволите, я сначала прочту ваш труд. – Он встает и направляется к двери, давая понять, что визит окончен. – А после вы, быть может, окажете мне услугу и навестите меня еще раз?
– Конечно. Непременно. Пойдет.
– Прекрасно.
– Я к тому, – говорю я, еще раз взглянув на его книжные полки, – что вы, как я понимаю, и сами большой знаток, так что ваше мнение было бы для меня чрезвычайно ценным.
– Вы очень добры, однако я не профессионал, – произносит он, отвечая мне столь же неубедительной академической учтивостью.
Я неловко переминаюсь у двери, не зная, какими словами с ним попрощаться.
– Вообще-то, – вдруг выпаливаю я, – моя девушка – еврейка.
На сей раз я не просто краснею, я багровею. Я чувствую, как краска заливает мне спину и грудь, выплескиваясь на шею и затопляя лицо, пока оно не обращается в большой и яркий бакен смущения и муки. Ну что за дерьмо! Вот зачем я это сказал? Зачем я сказал это?
Он удивляет меня, ласково обняв рукой и похлопав по плечу.
– Спасибо, Майкл, – говорит он.
– Она занимается биохимией. Здесь, в колледже. Возможно, вы с ней знакомы?
– Возможно. И она по-прежнему ваша девушка? После того, что вы учинили с ее машиной?
– О. Да. Она очень отходчива. Собственно, ее это позабавило.
– Меня тоже. Столь рыцарственный, если говорить начистоту, комплимент. Так вы навестите меня снова? И может быть, в следующий раз – придете посмотреть мою лабораторию, а?
– М-м! – отвечаю я. – Было бы очень интересно.
Он откидывает голову назад, смеется:
– На самом-то деле, мой мальчик, я тоже, хоть оно вас и удивит, полагаю, что это было бы очень интересно.
– Да, хорошо. И спасибо за кофе… о, я его не допил.
– Неважно. Каким бы ни был он поначалу, уверен, сейчас он отнюдь не клевый.
Как запугивать ребенка
Табель успеваемости: I
Клара, сделав над собою усилие, с мольбой коснулась руки Алоиза.
– Ты будешь добр с ним? Не станешь злиться?
– Поди прочь, женщина. Пришли его ко мне, и все.
Уныло понурясь, она вышла из комнаты. И, закрывая двойные двери, увидела, что Алоиз берет со стола трубку. Клара прикусила губу: трубка предназначалась для строгих отеческих бесед.
В коридоре Анна смахивала пыль со стеклянного колпака, из-под которого, в навечном торжестве растопырив крылья, бодро взирали два щегла. Клара смущенно кивнула ей и полезла по лестнице вверх – плотный, черный, поблескивающий дуб погогатывал под ее ногами голосом старой карги.
Он лежал на кровати, на животе, и читал, прикрыв ладонями уши. Как ни скрипели ступени, он ее не услышал, и Клара какое-то время любовно вглядывалась в мальчика. Читал он с огромной скоростью, переворачивая страницы и постоянно что-то сам себе бормоча, усмехаясь, коротко вздыхая, недовольно всхрапывая над каждым абзацем. Наверное, еще одна книга по истории, решила она. Недавно – дело было на дне рождения школьного товарища – он поразил библиотекаря из Линца, заведя с ним, пока прочие дети танцевали и играли под бренчание пианино в чехарду, полный обстоятельных подробностей разговор о Римской империи. Клара расслышала его слова: «Гиббон[41]совершенно не прав», – библиотекарь в ответ расхохотался и похлопал его по плечу. От такого обращения он съежился, помрачнел, а по дороге домой горько сетовал: «Почему они вечно обращаются со мной, как с ребенком?»
– Но, милый, они и видят в тебе ребенка. Люди считают, что дети должны вести себя по-детски, а взрослые – по-взрослому.
– Что за чушь! Истина остается истиной, кто бы ее ни высказывал – десятилетний деревенский мальчик или дряхлый венский профессор. Какая разница, сколько мне лет?
И он был совершенно прав. В конце концов, разве Господь наш еще ребенком не спорил в храме со священнослужителями? И разве не сказал Он: «Пустите детей приходить ко Мне»? Впрочем, об этом Клара в тот раз говорить не стала. Такие слова могли подтолкнуть его к каким-нибудь дерзостям, способным лишний раз обозлить Алоиза.
Теперь же, пока Клара смотрела на него, он вдруг перестал переворачивать страницы и приподнял голову.
– Мутти, – без тени сомнения произнес он, даже не оглянувшись.
Клара рассмеялась:
– Как ты узнал? Он повернулся к ней.
– Фиалки, – сказал он. – Знаешь, ты приходишь ко мне по воздуху.
И, подмигнув ей, сел.
– Ах, Дольфи! – неодобрительно воскликнула Клара, увидев, что кожаные короткие штаны его надорваны, а одно колено покрыто ссадинами. – Ты опять подрался.
– Пустяки, мутти. К тому же я победил. А тот мальчик был старше и больше меня.
– Ладно, почистись, приведи себя в порядок. Тебя хочет видеть отец.
Пока он ополаскивался в ванной, Клара выложила для него на постель один из давних костюмов Алоиза-младшего. Немного великоват, однако сын выглядел в нем таким нарядным, серьезным. Она взяла книгу, которую он читал, и с удивлением обнаружила, что книга детская – «Остров сокровищ», про пиратов, попугаев и ром.
Он вышел, опоясанный полотенцем, из ванной, нахмурился, увидев в ее руках книгу. «Мне нужно переодеться», – сказал он. Клара вздохнула и покинула комнату. Год назад он позволил бы ей искупать его, а теперь даже одеваться при ней не хочет. Вот уж и голос у него ломается, и он с каждым днем становится все более замкнутым, обособленным; что ж, так уж устроены мальчики, вырастая, они отдаляются от тебя. Клара медленно спустилась по лестнице, прошла на кухню. Анна заваривала для маленькой Паулы чай. Клара решила выйти наружу, покопаться в саду. Под окном кабинета Алоиза имелась очень удобная клумба, как раз нуждавшаяся в прополке.
– Прошу! – произнес Алоиз своим исполненным ледяной вежливости офицерским тоном. Клара опустилась близ открытого окна на колени, сжала в руке усик вьюнка и услышала, как открылась и закрылась дверь.
Последовало долгое молчание. Детский трюк Алоиза – он притворяется, будто читает, пока бедный Дольфи стоит посреди ковра, не зная, как ему быть.
– У тебя что, башмаки грязные?
– Нет, сударь.
– Тогда почему ты вытираешь их о штанины? Стой на обеих ногах, мальчик. Ты же не аист, верно?
– Нет, сударь. Не аист.
– И сию же минуту оставь этот наглый тон!
Вновь тишина, нарушаемая лишь театральным шелестом страниц и сухим покашливанием – перед тем, как Алоиз начинает читать вслух.
– «Не лишен сообразительности, однако отличается недостатком самодисциплины… неуживчив, своенравен, дерзок и вспыльчив. С явным трудом приспосабливается к жизни школы. Сочетает энтузиазм с рьяной энергией, кои улетучиваются, едва он осознает, что от него потребуются работа мысли, прилежание и учеба. Более того, он с плохо скрываемой враждебностью реагирует на любой совет или неодобрение. В этой четверти работал совершенно неудовлетворительно». Ну-с? Что ты на это скажешь?
– Доктор Гумер. Это отчет доктора Гумера, верно? Он меня ненавидит.
– Чей это отчет, тебя не касается! Ты хоть представляешь, сколько дерет с меня Realschule[42] за сомнительную честь обучать тебя? И чем ты мне платишь? «Влияние, которое он оказывает на других учеников, здоровым назвать никак нельзя. Создается впечатление, что он требует от них безоговорочного подчинения, воображая себя их лидером». Лидером? Да ты бы и в детском саду лидером стать не сумел, мальчишка!
– А что доктор Потш? Что говорит он?
– Потш? Потш говорит, что тебе присущи одаренность и энтузиазм.
– Ну вот!
– Однако и он винит тебя в недисциплинированности и лени.
– Я вам не верю! Он никогда бы такого не сказал. Доктор Потш понимает меня. Вы это выдумали.
– Да как ты смеешь! Подойди сюда. Подойди сюда!
Слезы наполнили глаза Клары, слушавшей свист рассекающей воздух плети, удары по плотной ткани старого костюма Алоиза-младшего. А Дольфи кричал, кричал и кричал: «Я ненавижу вас, ненавижу, ненавижу!» Почему он никак не научится покорности, которой научилась она? Разве мальчик не понимает, что чем больше он протестует, тем больше удовольствия доставляет Ублюдку?
– Отправляйся к себе в комнату и сиди в ней, пока не научишься просить прощения!
– Очень хорошо. – Надтреснутый, наполовину мальчишеский, наполовину мужской голос Дольфи остался твердым. Гнев и боль выдавало лишь хлюпанье, с которым мальчик втягивал текущую из носу влагу. – Тогда я останусь в ней до вашей смерти.
– Нет, нет, милый! – прошептала Клара, в отчаянии обхватывая себя руками, в страхе, что Алоиз снова возьмется за Пнину.
Но, к удивлению своему, она услышала лишь фальшивый смешок мужа:
– Мать может баловать тебя, льстить твоему отвратительному тщеславию, но поверь мне, Адольф, я тебя все равно усмирю. О да. А теперь убирайся.
– Не… не смейте, – она услышала, как дрогнул голос силящегося сдержать слезы Дольфи, – не смейте ее трогать. Я убью вас. Я вас убью.
Теперь он уже рыдал открыто. Алоиз вновь рассмеялся:
– Ладно, катись отсюда, мальчишка, пока твои сопли ковер не закапали.
Как совершать ошибки
Табель успеваемости: II
Пот капал с кончика моего носа на пол. Этим его не проймешь, думал я, не на такого напал.
Доктор Ангус Александер Хью Фрейзер-Стюарт любил забирать свои длинные белые волосы в сетку. Что касается одежды, он предпочитал шелковые кимоно, белые хлопковые хламиды и просторнейшие штаны из черного атласа. В его жилище, веренице огромных комнат в угловой части Франклин-билдинг, глядящего фасадом на Кем, проникал снаружи обильный свет: в окна било слепящее солнце, на потолке и стенах рябили блики отраженных водой лучей, свет фар, долетавший с шоссе, заливал продуманно развешенные по простым белым стенам картины и гравюры. В этой комнате повсюду – на подоконниках, полочках, столах и циновках из копры – аккуратными рядами стояли кактусы. Огромный аризонский экземпляр, словно позаимствованный из ковбойских комиксов Ларсена, занимал целый угол комнаты, топыря две асимметричные руки, точно увечный дорожный патрульщик. С висевшего над камином закопченного портрета таращился на пару перекрещенных на противоположной стене кавалерийских турецких сабель веселый, поддавший, по всему судя, Бэкон. И все это купалось в подобном удушающему туману страшенном зное. День снаружи стоял палящий, безоблачное небо отливало зловещей, научно-фантастической синевой, а в комнате конвекционные обогреватели гнали на кактусы сухой, горячий воздух. Подмышки мои источали все больше пота, стекавшего в трусы и на бедра. И я, угрызаемый ужасом, вдруг понял – худшее еще впереди.
Фрейзер-Стюарт, усевшийся, скрестив ноги, на полу, протянул, не отрывая глаз от пристроенного им себе на колени «Meisterwerk’а», руку к сигарной коробке. Пять лет назад, точь-в-точь в такой же безумно знойный день, я, впервые сидя в этой комнате и утопая в океане плотного дыма «гаваны», спросил, нельзя ли открыть окно. Старик скорбно глянул на кактусы, выпустил разочарованное облако дыма и осведомился, не из тех ли я людей, что только о своем удобстве и думают. Сукин сын, подумал я тогда, и сейчас – сукин сын, думал я.
Я смотрел, как мягкие, округлые голубые валы дыма обращаются в продолговатые желтые эллипсы, схожие с верхушками кедров, и застывают – высоко, под потолком, – а он все продолжал читать.
– Мне нужно просмотреть кое-что еще раз, – сказал он, когда я вошел. – Садитесь.
Этим я теперь и занимался: сидел. А также потел, задыхался, зудел и чесался.
Возможно, вам известно, как все устроено с докторской диссертацией. Вы приносите свой опус научному руководителю, руководитель передает его внутреннему оппоненту, а тот в свою очередь отсылает оппоненту внешнему. Оппоненты приходят к согласию насчет того, что труд ваш обладает требуемыми кондициями, а затем, в ходе простой, но волнующей официальной процедуры, проводимой в Доме Сената, Канцлер[43] университета или благодушный его заместитель посвящает вас в доктора. Затем, немного попресмыкавшись и полизав правильно выбранные задницы, вы обращаетесь в члена вашего колледжа, лектора вашего факультета и получаете пожизненную ученую должность. Диссертацию вашу публикуют на предмет единодушного ее одобрения; вы даете знать о ней радиорежиссерам и тележурналистам всего англоязычного мира, дабы попасть на рынок экспертов, чьи мнения начинают пользоваться спросом, когда в новостях появляется нечто, относящееся к сфере их научных интересов; продуманная череда учебников и руководств, предназначенных для прибыльного школьного рынка, навсегда избавляет вас от финансовых затруднений; вы венчаетесь в по-средневековому пышной капелле колледжа с вашей возлюбленной; у вас подрастают дети, светловолосые, умные, занятные, обладающие намного более нежели средними познаниями по части горных лыж; прежние ваши студенты добираются до должности премьер-министра, и им хватает доброты, чтобы вспомнить, когда дело доходит до раздачи таких королевских даров, как председательства в комиссиях, рыцарские звания и руководящие посты в университетах, своего любимого старого преподавателя истории, – короче говоря, жизнь ваша складывается на славу.
И сейчас я наблюдал, как куется первое звено этой цепи. Фрейзер-Стюарту полагалось еще неделю назад передать «Meisterwerk» профессору Бишопу, но ведь Фрейзер-Стюарт ленив, как кот. Бывший военный, обладатель «блестящего ума», что бы сие ни означало, он принадлежит к числу тех помешанных, что специализируются по военной истории. Подобно Паттону, Орди Уингейту[44] и многим иным исполненным самоуважения милитаристам до него, он полагает, что присущее ему сочетание любви к оружию с начатками философии и сомнительного свойства тайных знаний должно производить на окружающих неизгладимое впечатление. Полковник Джек-потрошитель Стерлинга Хайдена и мистер Курц Марлона Брандо[45] – вот его прямые прародители. И мелодраматический-то генерал уже достаточно гадок, а если он к тому же гордится знанием даосизма, музыки французского барокко и сочинений Дунса Скота,[46] то составляет подлинную угрозу вашему мировому порядку. Уж если шлете меня в сражение, так хотя бы дайте мне полковника Блимпа[47] – доброкачественного, высокомерного старого олуха с колючими усами, читающего Джона Бакана[48] и верящего, что Кьеркегор – это главный аэропорт Швеции, – а не самовлюбленного болвана, который голышом играет в поло и пишет на постклассической латыни комментарии к «Пизанским песням» Эзры Паунда.
Наконец – я уж решил, что он никогда не закончит, – Фрейзер-Стюарт поднял на меня взгляд и этак припукнул губами, выпустив в мою сторону струйку дыма, точно сбивающая добычу рыбка-брызгун.
– Да, так что же, юный Янг, вы пробовали обращаться за помощью?
– Простите?
– Я о ваших проблемах с наркотиками.
– С чем?
– Вы же пропитаны героином, милейший! Меня вам не обмануть. Сидите на «эйфории» или другом каком новомодном зелье. Я знаю, это всегдашняя проблема молодых людей ваших лет. Думаю, вам следует что-то предпринять на сей счет. И как можно быстрее.
– Э-э… вы случайно не спутали меня с кем-то другим, сэр?
– О, не думаю. Нисколько не думаю. Чем же еще можно объяснить вот это?
– Что именно?
– Вот это, юноша. Вот это! – И он сердито помахал «Meisterwerk’ом».
Мир мой начал разваливаться на куски.
– Вы хотите сказать… вам не понравилось?
– Это? Понравилось? Это макулатура. Мусор. Не диссертация, а куча фекалий! Гной, нравственные отбросы, похабщина.
– Но… но… мне казалось, вы согласились с тем, что моя работа идет в правильном направлении?
– Насколько то было известно мне, шли вы в направлении правильном. До того, как принялись набивать нос снежком, или бегать по девкам, или к чему вы там пристрастились? А виноват во всем фильм «На игле», не так ли? Не думайте, будто я в подобных делах ничего не смыслю. Господи, меня просто тошнит от всего этого! Наизнанку выворачивает. Целое поколение ввергнуто во мрак и гибнет, срезается косой танцулек под кайфом и веселящих порошков.
– Послушайте, уверяю вас, я наркотики не принимаю. Даже травку не курю.
– Тогда что же? Как? А? – Фрейзер-Стюарт зашелся в жутком сухом кашле. Я испуганно наблюдал, как он, с брызжущими из глаз слезами, все машет и машет мне рукой, показывая, что сейчас оправится, что говорить – очередь все еще его. – Мы… мы говорим о вашей работе, – продолжил он, пыхтя и отдуваясь, – вы создаете у меня полное впечатление того, что отличнейшим образом все контролируете, а после приносите эти… эти помои. Это не научные доводы, это роман, да еще и совершенно отвратный. Что? Что?
– Вы уверены, что прочитали именно мою работу? – Я наклонился к нему, исполненный скорее упований, чем надежд. Нет, в том, что рука его сжимала именно «Meisterwerk», сомневаться не приходилось.
– За кого вы меня принимаете? Разумеется, вашу! Итак, если вы не перебравший наркоты торчок, галлюцинирующий, наглотавшись неких шутовских грибов, в чем тогда состоит ваша проблема? О… ха… конечно! – Лицо его просветлело, он игриво осклабился, показав мне желтые зубы. – Это же шутка, не так ли? Настоящую диссертацию вы где-то припрятали! Розыгрыш в духе майской Гребной недели. Ха! Ну-ка, честно!
– Но я не понимаю, что в ней не так! – в отчаянии едва ли не взвыл я. Последней моей надеждой как раз и было, что это он меня разыгрывает.
Секунд, должно быть, шесть он смотрел на меня, не веря услышанному. Шесть секунд. Отсчитайте их сами. Раз-аллигатор-два-аллигатор-три-аллигатор-четыре-аллигатор-пять-аллигатор-шесть. Я, разинув, как золотая рыбка, рот, выпучился на него, стараясь не позволить горестным слезам хлынуть из моих глаз.
– О Иисусе, – прошептал он. – Так он это всерьез. Совершенно всерьез.
Я продолжал таращиться, думая в точности то же самое.
– Я допускаю… – произнес я, – допускаю, что некоторые ее части… необычны, однако…
– Необычны? – Он взял одну из страниц и прочитал вслух: – «Парящая в великой выси, всесильная, всевидящая, всепобеждающая орлица с пронзительными глазами, с могучими крыльями, с когтями, с которых капает свиная кровь!» И вы утверждаете, что не впрыскиваете себе в вены гашиш? «Новая колоссальная схватка спирально вознесла ее превыше самой высокой горы. Вся Европа лежала под ней, без таможенных постов, без рубежей и границ. Звери рыскали там на приволье». Вы провели исследования столь обширные, что и в самом деле отыскали сведения о мельчайших подробностях родов этой Пёльцль и даже о видениях, которые ее при них посещали? Она что же, дневник вела? Наговаривала свои мысли на магнитофон? Вы, как я заметил, утверждаете, что муж ее ухитрился шагнуть в двадцатый век и лично присутствовал при родах. Очаровательно, коли так! Но где же ссылки? Где источники?
– Нет, ну это же просто связующие звенья. Согласен, они не ортодоксальны, однако я полагал, что они придают работе… знаете… красочность и драматичность.
– Красочность? Драматичность? В диссертации? Подыщите-ка для себя реабилитационный центр, юноша, пока еще не поздно! – Он перелистнул в изумлении несколько страниц, брови его грозили покинуть лицо и воспарить в горние выси. – Я замечаю, что вы не удосужились уведомить изумленного читателя и о том, как попал в ваши руки табель успеваемости юного Гитлера.
– Согласен, я допустил некоторое количество вольностей. Однако учитель Адольфа, Эдуард Гу – мер, действительно говорил, что Адольф недисциплинирован и воображает себя лидером.
– А, так он уже Адольф, вон оно как! Похоже, вы с ним довольно близко сдружились?
– Ну, говоря о мальчике двенадцати лет, затруднительно все время называть его по фамилии, не так ли?
– А мамочка Адольфа, качающая воду из колодца, между тем как мимо проходит, чух-чух-чух, поезд «с мощным локомотивом, распушившим в небе белые императорские усы»? Мамочка Адольфа, сжимающая в руке усик вьюнка? Мамочка Адольфа, пахнущая фиалками? Это что?
– Просто я думал, что такие детали облегчат чтение текста, н у, знаете, когда его издадут…
– Издадут? – Богом клянусь, мне показалось, что его сейчас разорвет на куски. – Издадут? Хрень господня, дитя, да даже «Миллс и Бун»[49] покраснели бы при мысли об этом.
– К ним я не обращался, – сказал я, норовя уцепиться за эту тему. – Вот «Seligmanns Verlag» определенный интерес проявило.
– Видимо, имея в виду свои издания по психопатологии. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ваша диссертация попросту неприемлема.
– Ну, я мог бы убрать эти места, – без всякой надежды проблеял я. – Они ведь составляют всего лишь двадцатую часть целого. Если не меньше.
– Убрать? Хм… – Он ненадолго задумался.
– Я к тому, что… как вам все остальное?
– Остальное? О, компетентно, по-моему. Скучно, но компетентно. Дело, прежде всего, в том, что я просто не могу понять, зачем вы напихали сюда все это не поддающееся точному описанию дерьмо. Даже если оно исчезнет из диссертации, я все равно не смогу читать ее так, как читаю другие. Она уже изгажена. Можно, конечно, выудить из бака с водой какашку, но всякий, кто знает, что она там была, пить из него не станет, ведь так, а? Гм? Что? Разве не так? А? Гм?
– Но ведь никто же и не узнает, правда? – В моей голове нарисовалась вдруг жуткая картина: Фрейзер-Стюарт в приступе честности и фанатической ревностности посылает двум моим оппонентам скорбные письма, извещая их о налипшей на «Meisterwerk» грязи.
– Я просто гадаю, вполне ли вы уверены в вашей пригодности для карьеры ученого? Не были б вы счастливее в какой-то иной атмосфере? В средствах массовой информации, к примеру? В рекламе? В газете? На Бип-бип-си?
– Это моя атмосфера, – ответил я со всей твердостью, на какую был способен. – Я уверен.
– Очень хорошо, очень хорошо. Тогда возвращайтесь к себе и перепечатайте все заново, опустив на сей раз вымышленные и гипотетические нелепости. Возможно, что-то из-под обломков спасти и удастся. Но меня просто-напросто удивляет, что вы могли подумать, будто я соглашусь передать подобную околесицу моим коллегам. – Он вдруг громко рыгнул и похлопал себя ладонями по бедрам, раскачиваясь взад-вперед. – Нет уж, простите, да они решили бы, что я с ума соскочил, верно?
Я встал, собираясь уйти.
– Боже оборони, – сказал я, оглядывая Фрейзер-Стюарта от волос под сеткой до веревочных сандалий, – нам это вовсе ни к чему, не так ли?
Вырвавшийся из удушающего зноя его квартиры, я стоял, облокотясь о парапет Моста Сонетов, позволяя ветерку, какой уж он ни был, овевать, если можно так выразиться, влажный жар, скопившийся в укромных уголках моего тела, и пыл негодования, бушевавший в укромных уголках сознания. Подо мной скользили вверх и вниз по реке плоскодонки с оглушительно горланившими счастливыми сукиными детьми, только что покинувшими экзаменационные залы. Господи, думал я. Блин, банан и большая булка! Жизнь может быть такой гадостью.
– Эй!
На берегу с удобством устроились Джейми Макдонелл и Дважды Эдди, оба в плавках «спидос», воссоединившиеся и счастливые. Я робко помахал им рукой.
– Давай, Пиппи! Ныряй, тебе же хочется.
– Я, э-э, у меня все еще лежат ваши диски, – крикнул я вниз. – Забросить их как-нибудь?
Они расхохотались, рука каждого обвивала талию друга.
– О, забрось! Конечно, забрось. И сам вниз бросайся. Просим, просим! Забрось, забрось, забрось! Сбрасывайся!
За спиной моей вдруг раздался, напугав меня, голос:
– В счастливой молодости есть нечто, нагоняющее тоску, вы не находите?
Лео Цуккерман в немыслимой, надвинутой на лоб панаме, смотрел вниз, на Джейми и Дважды Эдди, корчившихся от хохота на речном берегу.
– Настало лето, – сказал он, – осень уж в пути?[50]
– Им нет до нее дела, – с мрачным удовлетворением отозвался я. – Они второкурсники. Ни вступительных экзаменов, ни выпускных. Одно лишь вино да Гребная неделя.
– И разумеется, быть геем, как это теперь называется, так модно.
– Ну, наверное…
– Красный треугольник – эмблема гордости.[51] А известно ли вам одно обстоятельство, Майкл? Известно ли, что в лагерях существовали и треугольники лиловые?
– Правда? Для кого же?
– Догадайтесь.
– Лиловый треугольник?
– Лиловый.
Я поразмыслил. Такие вещи я, предположительно, должен был знать.
– Не для цыган?
– Нет.
– Э-э… тогда для уголовных преступников?
– Нет.
– Лесбиянок?
– Нет.
– Коммунистов?
– Нет-нет.
– Черт. Дайте подумать…
– Странная игра, не правда ли? Пытаться думать на манер нациста. Пытаться представить совершенно новую категорию людей, которых вам следует ненавидеть. Ну-ка, еще разок.
– Художники по интерьеру?
– Нет.
– Душевнобольные?
– Нет.
– Словаки?
– Нет.
– Поляки?
– Нет.
– Э-э… мусульмане?
– Нет.
– Казаки?
– Нет.
– Анархисты?
– Нет.
– Журналисты?
– Нет.
– О боже. Сдаюсь.
– Сдаетесь? Не можете ничего придумать?
– Магазинные воришки? Хотя нет, вы сказали, не уголовники. М-м, группа расовая?
– Лиловый треугольник? Нет, не расовая.
– Политическая?
– Нет, не политическая.
– Тогда какая же?
– Хорошо. Я скажу вам, для кого предназначались лиловые треугольники. Скажу, когда вы посетите меня в моей лаборатории. Итак, когда же это случится?
– О. Ну, видите ли, у меня появилась дополнительная работа, и…
– Возможно, вам удастся прийти завтра утром? Я был бы очень рад. Мы бы поговорили заодно и о вашей диссертации.
– Так вы ее уже прочитали?
– Разумеется.
Я ожидал хоть какой-нибудь похвалы, однако Лео ничего больше не прибавил. Вот чего мы, писатели, терпеть не можем. Я хочу сказать, ну, сами понимаете, господи боже, ведь это же мое детище. Представьте, вы лежите в родильном отделении и все ваши друзья набились туда, чтобы посмотреть на только-только рожденного вами младенца.
– Так это он, что ли?
– Да, – вздыхаете вы, заливаясь румянцем материнской гордости.
Молчание.
Я хочу сказать, ну, право же… так нельзя. Я ведь не говорю, что вы обязаны благоговейно преклонять колени, предлагая чаши с ладаном и сосуды со смирной,[52] но хоть что-то, хотя бы тихое «аааааах»… что угодно.
– Хорошо, – сказал я, поняв наконец, что никакого упоенного бульканья и восторгов мне не дождаться, и покраснев немного от мысли, что и Лео тоже счел полеты моей образной мысли неприемлемыми и нескромными.
– Значит, завтра утром в вашей лаборатории?
– «Нью-Резерфорд», третий этаж. Там вам любой дорогу покажет.
– Франкмасоны? – спросил я.
– Виноват?
– Их не франкмасоны носили? Лиловые треугольники?
– Нет, не франкмасоны. Завтра скажу. Всего доброго.
И он оставил меня, понурившегося под жгучим солнцем на мосту. Подо мной Дважды Эдди и Джейми, склонясь с бережка к воде, тянули из нее за рыболовную лесу бутылку белого вина. Что бы с ними ни приключилось в дальнейшем, думал я, у них останутся дни наподобие этого – останутся, как нечто, достойное воспоминаний. В промозглых февральских провинциальных библиотеках, полысевшие и ожесточенные, трясущиеся над своими чашками «Эрл Грея»; в местных редакциях хроники новостей, борющиеся за увеличение бюджета; в школьных классах, едва справляющиеся с хаосом, который создает презирающее их хулиганье; в театральном буфете «Ковент-Гардена», щебечущие о тесситуре оперной дивы, – куда бы их ни занесло, они навсегда сохранят воспоминания о себе девятнадцатилетних: с плоскими животами, сияющими волосами и бутылками охлажденного в реке «Сансер». Этот город, думал я, принадлежит им в куда большей мере, нежели мне; и все же именно я мог бы поселиться в нем навсегда. Для них он навек останется островом во времени, оазисом в пустыне прожитых ими лет, а для меня может вскоре обратиться в место работы, столь же гнетущее и насыщенное сплетнями, как и любое другое.
Ой, да заткнись, Майкл. Оазис в пустыне прожитых лет. Тьфу! Черт знает что за дерьмо иногда в голову лезет. Как знать, может, куда лучше прострадать всю жизнь, чем изведать хоть какое-то счастье. Как знать, может, теми, чье детство и юность состояли лишь из любви, доверия и радости, боль страданий переживается намного острее. Я о том, раз уж мы заговорили про оазисы и пустыни, что тому, кто вырос в Зеленой долине штата Вермонт, приходится в Сахаре куда более туго, чем туарегу, ничего другого и не видавшему. Воспоминания измученного жаждой человека о несчетных, недопитых в более счастливые времена стаканах ледяного чая – утешение так себе, верно? Скорее уж это разъедающая душу пытка. Не исключено, что детство лучше иметь несчастное, голодное и полное жестокостей. По крайней мере, оно научит тебя оценивать вещи по истинному их достоинству. Заставит до конца смаковать каждую выпавшую тебе капельку счастья. Нет, погоди, не может такого быть: страдание – травма, а стало быть – серьезная проблема. Нынче все так считают. Страдание травмирует человека, убивает наслаждение как таковое. Отупляет его, умерщвляет способность чувствовать, отдаляет от людей. Да все что угодно. Джейми и Дважды Эдди наслаждались собой, упивались мгновением, срывали цветы удовольствий, со страстью переживали каждый удар своих сердец – тонко чувствующие, неразрывно связанные с миром. Вот и отлично, что бы их там ни ожидало в будущем.
Теперь насчет моего будущего. Возможно, Фрейзер-Стюарт прав, возможно, я не создан для карьеры ученого. Я хочу сказать, да ну ее в задницу. Я знал, знал в самой глубине души, что подсовывать ему весь этот конский навоз – безумие. Черт, да ведь знал же. И все-таки некий засевший во мне бес науськал меня включить в диссертацию эти пассажи и показать их ему. Возможно, я хотел спровоцировать его на то, чтобы он меня завалил.
Может ли кризис среднего возраста произойти в двадцать четыре года? Или это всего-навсего кризис взросления, нечто такое, к чему мне придется привыкать и привыкать, пока я не удалюсь тряской походкой в вечное забвение? Весь последний год, сообразил я, мне приходилось переносить эту боль, это струение расплавленного свинца в моем желудке. Каждое утро, стоило мне проснуться, вглядеться в потолок и вслушаться в тихое похрапывание Джейн, как он затоплял мое нутро, – темный прилив понимания того, что мне предстоит прожить еще один убогий день. Можно ли как-нибудь выяснить, что это такое – заскок или самое обычное дело? Никак нельзя. Безостановочно плодящиеся в университете Христианские общества назвали бы это признаком того, что тебе необходимо найти в твоей жизни место для Христа. Что боль твоя порождена душевной пустотой. Да, правильно. Еще бы. Именно эту пустоту, я полагаю, и заполняют наркотиками. И еще я думал, что, может статься, для этого и существует Джейн. Нет, не Джейн, – Любовь. Да, но тогда получается, что либо я не люблю Джейн по-настоящему, либо перед нами еще одна лопнувшая теория. Или что – томление творческого духа? Быть может, душа моя стремится выразить себя в Искусстве? Но: рисовать не умею, писать не умею, петь не умею, актерствовать не умею. Отлично. И что же мне остается? Надо полагать, подобие сальерианства. Проклятие искрой божественного огня, достаточной, чтобы распознавать его в других, но не достаточной, чтобы самому создать что-либо. Ай, вздор…
Вполне возможно, тут не что иное, как страх перед вступлением в переходный период жизни. Тот самый, в который перед вами разверзается пустота. Когда вы стоите на краю, на пороге. Пустота – это дверной проем, сквозь который вам так всегда не терпелось пройти, однако, приближаясь к нему, вы невольно оглядываетесь назад и гадаете, хватит ли вам духу на это.
Самокопание, вот что это такое. Мой вечный, неизменный порок. Я все время приглядываюсь к себе. Вот он я. Шагаю по улице – что видят при этом другие? Это я, будущий доктор Янг. Я, идущий под руку с девушкой. Я, вот в этой самой шапчонке, кто я – мудак или свойский малый? Шагаю, стало быть, – под мышкой книги, ни дать ни взять многоумный историк, невозмутимый ученый муж на двух голых ногах, чувак что надо! И что получается? – комплекс Пруфрока.[53] Могу я съесть этот персик? А эти все – исподтишка смеются надо мной? Или не смеются? Или это я думаю, будто они надо мной смеются. Я, наблюдающий за собой, наблюдающим за другими, наблюдающими за мной. Как от этого избавиться? В чем тут фокус? Может, я и смогу научиться не краснеть, но самокопание-то так при мне и останется. Не-ет…
Критическим, утверждает словарь, называется то, что находится в состоянии кризиса или имеет к нему отношение. Таким образом, жизнь моя достигла критической стадии. Мы имеем точку опоры. Диссертация – это те петли, на которых держится дверь в мое будущее. Выходит, я намеренно или неосознанно не стал эти петли смазывать, оставил громко скрежещущими – просто на случай, если мне вдруг приспеет охота метнуться назад и выбрать другую дверь. Теперь же мне велено вернуться и смазать их. И дверь станет распахиваться беззвучно, и все будет хорошо и гладко. Это и есть то, чего я хочу?
В конце концов Джейми и Дважды Эдди прикончили вино, уложили вещички, встали, помахали мне на прощанье ручками и преувеличенно осторожной, притворно опасливой поступью удалились вверх по течению, совершенно как эдвардианские дети, пробирающиеся берегом моря по заводям в скалах. Слеза сорвалась с кончика моего подбородка и присоединилась к речной воде, вершившей путь к океану.
Как нарваться на неприятности
Окно в мир
Физика нынче в моде. В наши дни, увидев двух беседующих студентов литературного отделения, вы можете почти с полной уверенностью поручиться – речь у них идет о кошечке Шрёдингера, или Хаосе, или Катастрофе. Двадцать пять лет назад все молотили языками насчет Э. М. Форстера и Ф. Р. Ливиса;[54] потом их сменили Структурализм и Стивен Хит с его приживалами и фанатками, странствующими в поисках Различия и Деконструкции; ныне же здесь кишмя кишат американские туристы с портретами Нильса Бора на футболках, исполненные надежд прикоснуться к шинам кресла, в котором разъезжает Стивен Хокинг,[55] и познать тайны Вселенной, коими эти шины напичканы.
Числа есть Альфа и Омега науки. Я хочу сказать, что без них в ней ничего добиться нельзя.
Вот, скажем, предыдущие два предложения в числовом отношении неверны. Числа, следовало сказать мне, суть Альфа и Омега науки, и без них в ней нельзя добиться чего бы то ни было. Ведающая работой с числами часть моего мозга лишь ненамного больше той, что занимается проблемой новозеландской политики или исходом турнира мастеров ПАГ.[56] Французский язык у меня школьный и познания в арифметике тоже. Ровно такие, какие позволяют выходить сухим из магазинов и ресторанов. Если я расплачиваюсь за тридцатипенсовую газету монетой в один фунт, мне хватает ума ожидать семидесяти пенсов сдачи. А поставив пять фунтов на победителя дерби при ставках три к одному, я расстраиваюсь, не став на пятнадцать фунтов богаче. Но уже при ставке семь к двум лоб мой покрывается потом. Поганая штука – числа. Как и большинство людей моего поколения, я покорно читал или пытался прочесть популярные изложения основ теории относительности, квантовой механики, единых теорий поля, «Теории всего» и тому подобного. И вероятно, я не сильно уклонюсь от истины, если скажу, что мне раз двадцать объясняли, печатно и устно, что такое электрон, однако я и поныне толком не помню, какой он – отрицательный или положительный. Пожалуй что отрицательный, потому что протон звучит как-то положительнее (хоть и не так положительно, как позитрон, что бы ни представлял собою любой из этих миляг), однако какое именно качество знаменует его отрицательность, я ни малейшего понятия не имею. Все маленькие частицы, из которых состоит атом, должны каким-то образом соединяться и связываться в одно, в этом я уверен. Однако как может частица обладать отрицательным качеством или зарядом, этого я вам не скажу, хоть вытрясите из меня душу. Возможно, отрицательный заряд для того только и нужен, чтобы не дать развалиться посвященным атому книгам.
Я читал книги, специально, насколько я способен судить, предназначенные для того, чтобы позволить ничего в естественных науках не смыслящим якобы интеллектуалам вроде меня нести на званых обедах откровенную околесицу насчет ускорителей частиц, сильного взаимодействия и очарованных бозонов, книги, написанные простым языком, с большими схемами, куцыми словами и минимумом формул, – и тем не менее, закрыв любую из них, я оказывался решительно неспособным припомнить хотя бы один научный факт, не говоря уж о принципах, с ним сопряженных. И однако ж, скажите мне – тихим голосом, средь шумного бала, – что сражение при Баннокберне произошло в 1314 году, и я буду помнить это до конца моих дней. Я что хочу сказать – а в чем, собственно, дело? 1314 ведь тоже число, не так ли?
Помню, читал я однажды о том, как поссорились Роберт Гук с Исааком Ньютоном. По уверениям Гука, Ньютон спер у него мысль о том, что тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется как обратный квадрат разделяющего их расстояния. Та к никогда его и не простил. Ну вот, я отчетливо помню, как заучивал эту фразу в школе, полагая, что она будет хорошо смотреться в моей посвященной семнадцатому веку письменной работе. (Историки любят эдак мимоходом раскланиваться с естественниками – Дарвином, Ньютоном, всей этой публикой, – пара замечаний о «механистических вселенных» и «перевороте в научных взглядах викторианцев» выглядит в исторических работах столь же почтенно, как старые, надежные «нарождающиеся средние классы». Как всем нам хорошо ведомо, в истории нет периода, применительно к коему вы не могли бы с уверенностью разглагольствовать относительно нарождающегося, обретающего новую уверенность в себе среднего класса, как не существует в ней, после шестнадцатого столетия, и периодов, не позволяющих говорить о «перевороте в прежних научных взглядах».) Ну-с, я радостно заучил сентенцию Гука – Ньютона и даже записал ее. И, записывая, вглядывался в каждое слово. Совсем простые слова. «Тела притягивают друг друга…», тут ничего сложного нет. Очень легко запомнить – особенно школьнику, который, взглянем правде в лицо, в каждое мгновение своего сна и бодрствования испытывает притяжение всех и всяческих тел. Мы, однако же, знаем, что для ученого слово «тела» означает, как правило, «объекты в пространстве». «Тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется…» Тоже более-менее понятно, – в конце концов, изменяется практически все. Стало быть, Луна притягивается Солнцем, но, возможно, не так сильно, а возможно, и сильнее, чем Землей. С этим я как-нибудь слажу. «Тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется как обратный…» Привет. Обратный, да? Нас ждут неприятности. Перископ опустить. Включить сирену. «С силой, которая изменяется как обратный квадрат разделяющего их расстояния». Погружение, погружение, погружение! Я хочу сказать, ну ладно, что такое квадрат, мне известно. Четыре – это квадрат двух. Шестнадцать – квадрат четырех и так далее. Но обратный? Бросьте-бросьте, вы должны признать, что на этом мозги можно вывихнуть. Что значит «обратная сила»? И уж коли на то пошло, что такое обратное число? Или обратный квадрат – это то же самое, что квадратный корень? Дает ли обратный квадрат четырех минус четыре? Или, скажем, два? Или четверть? Или минус шестнадцать? Понимаете, в чем сложность? Хотя нет, если вы естественник, то не понимаете. Вы только одно и видите: Майкл Янг туп как дубовая планка.
«Тела притягивают друг друга с силой, которая изменяется как обратный квадрат разделяющего их расстояния…» Честно вам говорю, я уверен, что могу вглядываться в эту фразу с нынешнего дня и до второго пришествия, но так ни к чему и не прийти. Умелый популяризатор, тупой, если угодно, как Планк, смог бы, наверное, подобрать для меня хорошую аналогию, вроде: «Когда вы бросаете камень в бочку с водой, рябь расходится от него вовне, так?» Или: «Представьте себе Вселенную как бублик, так вот…» И пока он будет говорить, я, при условии, что он умело выбирает слова и образы, возможно, и смогу уяснить описываемый им принцип. Однако это ничем мне не поможет, когда я натолкнусь на новую фразу. «Тела иногда притягивают друг друга с постоянной силой, определяемой как обратный квадрат их массы» или еще чего-нибудь. Ему пришлось бы тогда начать все его изнурительные труды заново, с новой моделью или новой аналогией. Это все равно что пытаться удержать в руках живого лосося – чем крепче я его стискиваю, тем дальше он, выскользнув из моих рук, улетает. Поганая штука – числа.
В голове моей застревают лишь анекдоты. Эйнштейн любил мороженое, парусные лодки и скрипки. Музыкант, с которым он как-то играл дуэт, сказал ему: «Ради бога, Альберт, вы что, считать не умеете?» А сам Эйнштейн говорил разные разности о Боге, который не играет с Вселенной в кости. Говорил, что не знает, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, зато точно знает, каким будут сражаться в Четвертой – камнями и палками. Эсэсовская газета нападала на Гейзенберга за то, что он «белый еврей», «дух от духа Эйнштейна», и спасло Гейзенберга одно только близкое знакомство его мамочки с мамочкой Гиммлера. Как-то под вечер она, сидя в берлинской парикмахерской под сушилкой для волос, сказала: «Вели своему Генриху отцепиться от моего Вернера», на что госпожа Гиммлер ответила: «Но Генрих считает принцип неопределенности еврейским враньем». «О, Вернер, он Вернер и есть, – отозвалась госпожа Гейзенберг. – Он вовсе ничего такого не думал. Просто выкаблучивался, как обычно, пытаясь привлечь к себе внимание». Что еще я знаю о физике? Ах да, Макс Планк, отец квантовой механики, был также отцом Эрвина Планка, одного из тех, кого гестапо казнило в 1944 году, после неудачной попытки взорвать Гитлера в его бункере. Эрвином, разумеется, звали и Роммеля, тоже пострадавшего после крушения этого заговора. У Шрёдингера имелась сиамская кошка. Слово «кварк» заимствовано из «Поминок по Финнегану». Один из Боров сказал как-то, что, если квантовая механика вас не шокирует, значит, вы в ней ничего толком не поняли. Когда Крик и Уотсон создавали свою похожую на пучок перекрученных макарон модель ДНК, им помогала женщина, которой, как многие считали, следовало бы разделить с ними Нобелевскую премию. Нобель, уж если на то пошло, изобрел динамит, а Фридрих Флик,[57] поддерживавший нацистов и заработавший во время Второй мировой миллионы, используя рабский труд, владел компанией «Динамит Нобель». В 1972 году Флик оставил своему сыну-плейбою миллиард фунтов, так ни разу и не извинившись перед теми, кто все-таки выжил на его рабских фабриках, так и не пожертвовав им ни цента. Внук Флика попытался учредить в Оксфорде кафедру «Европейского взаимопонимания», но отказался от этой идеи, когда профессора этики назвали его деньги «грязными». Понимаете? Все, что я знаю о физике, сводится к истории. Нет, буду честным. Все, что я знаю о физике, сводится к сплетням.
– Ньютон-то с Лейбницем – разругались, ну просто вдрызг.
– Не может быть!
– Чистая правда.
– Лейбниц говорит, Ньютон у него метод флюксий потырил.
– Иди ты!
– Ага. Говорит, он может называть его исчислением или как ему заблагорассудится, да только это все равно принаряженный в пышный парик метод флюксий, а Исаак только до этого самого парика первым и додумался.
– А что такое, если быть точным, метод флюксий? И заодно уж, что такое исчисление?
– Да какая тебе разница? Главное, что они друг с другом больше не разговаривают.
– Фантастика!
– А то… Мало того, Вольфганг Паули с Альбертом Эйнштейном тоже расплевались.
– А эти-то с какой стати?
– Я слышал, чего-то там у них насчет нейтрино не сладилось. Альберт в него не верит, а Вольфганг злится.
– Нейтрино?
– Да, это, по-моему, такие таблетки от несварения. Альберт же теперь в Америке живет, ну и предпочитает «Ролэйдс».
– Господи!
И так далее…
Естественная наука, говорят естественники, это и есть настоящая история. Некая смесь, исходившая паром и булькавшая на плитке Космоса и х миллиардов лет назад породившая Землю, вот она – настоящая история; то, что х миллионов лет тому назад произошло в гипоталамусе и в коре головного мозга, наделив хомо сапиенс сознанием, – вот она настоящая история. Ублюдки. Поганая штука – числа. Их попросту не существует. Нет такой сущности, как Четыре. Хуже того, совсем уж нет и такой сущности, как Минус Четыре. Я это о чем – чего ж удивляться тому, что после Грешема[58] да Декарта мир начал разваливаться. Это они разрешили отрицательным числам разгуливать по планете. Тысячи лет совершенно справедливого запрета на ростовщичество, и вдруг – бац! – дебет, кредит, отрицательные числа и явление «минус одной сотни тонн кофе». Отрицательная маржа. От долга к долговой тюрьме, от кредита к кретинизму, от ипотеки к импотенции. Поганая штука – числа.
Прилив этих горестных мыслей породила очередная ссора с Джейн. Я возвратился в Ньюнем, предвкушая теплые объятия, кои вознаградили б меня за катастрофу с Фрейзер-Стюартом.
– Господи боже ты мой, – сказала Джейн. – А чего ты, собственно, ждал? Ты же не собирался и в самом деле вставить туда эту сентиментальную блевотину? В ученую-то диссертацию?
Уязвленный, я объяснил, что относился к моим вставкам как к стихотворениям в прозе.
– Отличная мысль, Пип. Стихотворения в прозе. Надо попробовать втюхать что-нибудь подобное в мою следующую статью. «Он дергался в корчах, покрывая ее, и в голове его наперегонки неслись мысли о свободе любовного акта. Чистота! Стерильность! Свобода соития без последствий! Он вдруг ощутил себя господином времени и пространства! Как если б…»
– Я привез из «Сайнсбериз» очищенные куриные грудки, – холодно прервал я Джейн. – Пойду нарежу их кубиками.
Я с подчеркнутой тщательностью обмазывал мясо горячим оливковым маслом, а Джейн между тем раскупоривала щеголеватую бутылку вина, и вид у нее был при этом куда более раздражающим, чем то способен описать какой угодно язык. Вид этот сам по себе являл то, что мы, историки, именуем casus belli.[59]
– Естественникам легко. Вы просто складываете числа. Да – нет, верно – неверно, черное – белое.
– Чушь собачья, дорогой.
– Ты сама это говорила. Все ответы запечатаны в разбросанных по Вселенной конвертиках. Тебе остается только вскрывать их. Вон тот ген делает человека музыкантом, а этот – святым. Эта частица говорит тебе о полном весе Вселенной, а та – о том, с чего все началось.
– Ну разумеется, именно так я и говорила. И если бы мы, бездушные тупицы, были столь же разумны, как вы, тонко чувствующие историки, мы бы уже столетия назад разложили все по полочкам.
– Я этого не говорю! – и я гневно пристукнул сковородкой об стол. – Я хотел сказать совсем не то, и ты отлично это знаешь. Ты нарочно притворяешься, будто не понимаешь меня, разве не так?
– Пойду-ка я телевизор смотреть. Твое вино на столе.
Пока я размешивал зеленую пасту тайского карри и ополаскивал рис, в голове моей складывались, в беспорядке снуя и сумятясь, новые доводы. Высокомерие, говорил я себе, до чего же они высокомерны, эти господа. Каждое умственно отыгранное мной очко сопровождалось ударом деревянной ложки о стол или хлопком крышки о котелок с рисом. Естественники, похоже, напрягают всю, какая им выпала, волю, чтобы нарочно отыскивать самые пустяковые в мире проблемы и решать именно их. Искусство, вот что идет в счет. Счастье идет в счет. Любовь. Добро. Зло. Я со стуком закрыл холодильник. Только они в счет и идут, и, разумеется, именно их естественные науки, в своем победном шествии, предпочитают игнорировать. Минут пять еще – и, пожалуй, можно будет добавить воды и бульона. Вся ваша публика относится к искусству так, точно оно – болезнь – мать твою, до чего же оно горячее, – или как к эволюционному механизму, или – черт, сломал-таки – мы ни разу не слышали от вас: «О, нам удалось установить, что электроны порочны, а протоны добродетельны», ведь так? В вашей вселенной все остается нравственно нейтральным, а между тем двухлетний ребенок способен сказать вам, что ничего нравственно нейтрального попросту не существует. Ублюдки. Долболобы. Задаваки, заблудшие, забубенные зубрилы.
– Готово!
– Секундочку!
Я завернул подогретые ломти хлеба в бумажные салфетки и налил себе еще стаканчик. А сколько презрения, сколько душераздирающего, надменного презрения к тем, кто пытается перейти топкое болото действительности, всю эту грязную жижу людских желаний и побуждений. Потому что наш метод, видите ли, «ненаучен», – да, разумеется, он ненаучен, дорогая моя. Настоящие проблемы ставят не числа, а люди.
– Мм-хм! Как вкусно пахнет.
– Знаю я, что ты думаешь, – говорю я, полагая, что все это время Джейн, сидя перед телевизором, тоже перебирала свои аргументы. – Ты думаешь, что понимать науку способны одни естественники. Всякому, кто не прошел через ритуал посвящения, говорить о ней автоматически запрещается. А вот естественник имеет столько же прав разглагольствовать о Наполеоне и Шекспире, сколько и любой другой человек.
– Хаа! Горячо! – Джейн, чтобы потянуть время и обдумать услышанное, отходит к раковине и наливает себе воды.
– Я только одно и говорю, – норовлю я выжать все, что удастся, из отыгранного очка, – мы проводим на этой планете лет семьдесят-восемьдесят. Что для нас важнее – понять физические принципы устройства атомной бомбы или разобраться в побуждениях человека и удержать его от ее использования?
– А почему бы не заняться и тем и другим?
– Да. Конечно. Еще бы. В идеальном мире – разумеется. Но давай, знаешь ли, смотреть правде в лицо. Для того чтобы разобраться в предмете столь сложном, как устройство ядерной бомбы, необходимо посвятить себя изучению определенной дисциплины, а это требует времени и упорства…
– Да я тебе объясню его меньше чем за четыре минуты. А вот если бы кто-то объяснил мне за столь же малое время побуждения человека, ведущие к войне и разрушениям, я бы просто взвыла от восторга. Передай мне бутылку, пожалуйста.
– Ага! Вот именно! Именно! – Я тычу пальцем в стол. – Наука с ее простотой – все равно что религия. Она вроде бы и дает тебе ответы, однако…
– Пип, ты сам только что сказал – понимание предмета столь сложного, как ядерная бомба, требует времени и упорства.
– Не говорил я этого.
– А, ну ладно, похоже, у меня начались слуховые галлюцинации. Извини.
– Послушай! – мною уже владеет лихорадочное возбуждение. – Я же не говорю, что естественные науки чем-то нехороши…
– Уф!
– …просто они занимаются не тем, что по-настоящему важно.
– Хотя, с другой стороны, занимаются тем, что по-настоящему важно для науки. Поэтому, собственно, и существуют разные научные дисциплины, не так ли?
– Да, но не следует слепо поклоняться им как вместилищам окончательной истины.
– А любая наука так себя и ведет?
– Ты и сама знаешь, именно так!
– Нет, не знаю. Ты, во всяком случае, им слепо не поклоняешься. – Джейн начинает собирать корочкой карри. – Знаешь что, Пип. В Кембридже работают тысячи ученых-естественников. Познакомь меня с теми из них, что слепо поклоняются науке как вместилищу окончательной истины, и я добьюсь, чтобы их выставили из университета за слабоумие и некомпетентность. Идет?
– Ну понятное дело, ты этого признать не желаешь! Изображаешь скромницу, которая во всем сомневается, полную благоговения, «прикосновенную к лику Господню» и так далее, однако попытайся все-таки взглянуть правде в лицо, попробуй хотя бы!
– О! Гладко изложено. Добавки не найдется?
– На плите. Я ведь что говорю-то, что я говорю… науке известно далеко не все.
– Не все. Чистая правда. Но это же не означает, что ей ничего не известно, ведь так? Будешь еще?
– Спасибо.
– Послушай, Пип, то, что наука не в состоянии объяснить, как Моцарт писал музыку, вовсе не запрещает нам рассуждать о строении живой клетки. Или запрещает?
– Знаешь, с тобой совершенно невозможно разговаривать.
– Чего не знала, того не знала. Мне очень жаль. Я вовсе этого не хотела.
Вот вам и вся Джейн. И все ее ученые. Увертки, увертки и увертки. Поганый народ – ученые.
Когда я погасил свою прикроватную лампу, Джейн читала какого-то южноафриканского романиста. «Приятных снов», – пробормотала она.
Я смотрел в потолок.
– Тот человек, Гамильтон, – сказал я. – Помнишь? В Данблэйне. Тот, что пришел с четырьмя пистолетами в спортивный зал подготовительной школы. И через три минуты пятнадцать пятилетних малышей и их учительница были мертвы. Человеческое существо целится в ребенка и смотрит, как пуля разрывает тому череп. Представь себе кровь, полное непонимание в глазах детей. А он все делает, и делает, и делает это. Прицеливается и спускает курок.
Джейн отложила книгу:
– Что ты пытаешься мне сказать?
– Не знаю. Не знаю. Но разве не именно это мы и должны попытаться понять?
– Надеюсь, ты не собираешься использовать этот кошмарный случай как доказательство того, что твое сердце больше моего или что твой предмет важнее, чем мой.
– Нет, я не об этом. Не об этом. Правда.
– Пип, ты плачешь!
– А, ладно, пустяки.
На следующее утро, катя по Куинз-роуд, я дал себе исчерпывающее объяснение происшедшего. Унижение. Все очень просто. Фрейзер-Стюарт уязвил меня гораздо сильнее, чем я готов был признать. И я, обозлившись, залился внутренне краской стыда. Я вел себя как забалованное дитя, поскольку боялся близящегося перехода из студентов в мир взрослых людей. Что клево, то клево. Все было не более чем маленькой, естественной вспышкой раздражения. Что-то похожее я уже говорил – о двери, о том, как медлишь на пороге. Говоря «прощай» долгому, счастливому времени, когда ты был правильным, умненьким мальчиком, писавшим сочинения и получавшим похвалы, и писавшим новые, после которых его снова осыпали хвалами. В семь лет я был умнее большинства десятилеток, в четырнадцать умнее семнадцатилеток, а в семнадцать – большинства двадцатилетних ребят. Теперь мне двадцать четыре, и я нисколько не умнее сверстников, которых вижу вокруг, да и вообще все это больше уже не скачки на приз за одаренность. Все они теперь идут со мной вровень, а я уяснил, понял, с резким уколом ужаса в животе, – опасность в том, что я-то останусь стоять на месте, а они понесутся дальше. Но ведь конечно же, хотя бы одну ханжескую, пуританскую вспышечку гнева перед тем, как вступить на долгий, изнурительный путь наверх – к порядку и прилежанию, совестливости и старательности, тщанию и труду, – позволить себе я мог? Разочек подергаться, покричать, глядя, как затягивается тучами слепящий, сверкающий небосвод юности?
Как я уже говорил, такая временами чушь в голову лезет.
Я плавно летел, низко склонясь над рулем, по Мадингли-роуд. Впереди вставали Лаборатории Кавендиша – не кафедральный собор антихриста, но самое обычное строение, скопление ангаров на краю города. У работавших здесь людей были сердца добрые и сердца злые, как и у всех прочих. Они не считали себя хранителями единственного ключа от человеческого разума. Просто охотились на свои частицы, гены, силы, волны, так же как историки охотятся на документы или орнитологи озирают небеса, выглядывая красного коршуна. Джейн, наверное, решила, что я рехнулся. Впрочем, нет, она все понимает, да благословят небеса ее попку. Джейн точно знает, что к чему, и ей оно нравится. Этакое мамочкино наказание.
Изначальные лаборатории Кавендиша, те, в которых Резерфорд острил топор, расколовший первый атом, расположены в центре Кембриджа, а вот новые их здания стоят на окраине, за Черчилль-колледжем, на пути к Американскому кладбищу и Мадингли.
- Закат все тот же – море меда
- От Мадингли до ферм Шелфорда?[60]
Нет, Руперт, дорогуша, нет. Боюсь, там теперь все больше туман, состоящий главным образом из окиси углерода. И церковные часы не стоят уже на без десяти три. А насчет того, подают ли по-прежнему мед к чаю, так это надо спросить у Джеффри Арчера, поскольку старым домом священника владеет теперь он. Возможно, кому-нибудь следовало бы написать новый «Грантчестер»:
- Столбы стоят ли в комьях грязи
- Немою стражей безобразий?
- А ночью ножичком пырнут,
- И бляди, свистни, тут как тут?[61]
Бог да благословит наше столетие. Главное лабораторное здание ничем не отличается от офисного: сплошное стекло, вращающиеся двери и «Приемная! Могу я вам чем-нибудь помочь?». Собственные форменные фуражки, журналы, в которых расписываются визитеры, ламинированные карточки на грудях и прочая лабуда.
Если существует слово, пригодное для описания нашего века, так это, скорее всего, Безопасность, или, говоря иначе, Небезопасность. От невротической небезопасности Фрейда, через небезопасности Кайзера, Фюрера, Эйзенхауэра и Сталина, прямиком к ужасам, подстерегающим граждан современного мира:
Вражины. Они вскроют ваш автомобиль, обчистят ваш дом, нападут на ваших детей, ввергнут вас в адское пламя, убьют вас, чтобы разжиться деньжатами на наркоту, заставят вас обращаться лицом к Мекке, заразят вашу кровь, поставят ваши сексуальные предпочтения вне закона, обесценят вашу пенсию, загрязнят ваши пляжи, подвергнут ваши мысли цензуре, украдут ваши идеи, отравят ваш воздух, а после примутся угрожать вашим ценностям и уничтожать вашу безопасность. Держите их подальше от нас! Посадите под запор! Уберите с глаз долой! Заройте в землю!
Половина моих школьных друзей уже управилась – прямая противоположность моей, описанной ранее, безуспешной попытке на этот счет – с успехом перекреститься в Спидеров, Боззлов, Во-ло, Тэтлов, Грипов и Джанг, продырявить любые свободные складки плоти, какие у них отыскались, навтыкать туда золота, серебра, меди и выступить в путь. Они проходят маршами по главным улицам южных городов – в респираторах, под флагами, на коих изображены черепа и скрещенные кости; они сражаются с автомобилями, с Актом об уголовном судопроизводстве, с хайвеями, с рубкой деревьев, со строительством электростанций… со всем на свете. Они хотят попасть под запор; им нравится выглядеть опасными; они упиваются своей отверженностью.
А меня они считают козлом.
В прошлом году я ездил к Джанге – в Брайтон, в одно из тех мест, где кучкуются она и ее друзья по скитаниям, – и могу сказать вам, о да, могу вам сказать, что эти дети свободы сочли меня совершеннейшим козлом. Заметьте, однако, что будь я настоящим козлом и козлом тошнотворным, я бы сейчас начал распространяться о том, как они никогда не возражали против того, что я покупал им в пабах выпивку за выпивкой и еще раз выпивку, как они, посылая меня в восемь утра в мини-маркет, чтобы я накупил им молока, хлеба и газет, решительно никаких угрызений совести не испытывали. Я сказал бы также, что вполне можно быть доблестной эковоительницей и не пахнуть при этом, как давно скончавшаяся старая побирушка. Я добавил бы, что, живя на благотворительные подачки, героем способен быть всякий. Однако аргументы подобного рода ниже моего достоинства, и потому я лучше ничего говорить не стану.
Теперь вот стою посреди вестибюля в озерце солнечного света и с любезным видом сношу неодобрительные взгляды тех, кто шлепает, плеща полами своих облачений, мимо. Ну да, на мне же нет лабораторного халата. Значит, меня надо убить. Э-хе-хе! Н у, народец…
– Майкл, Майкл, Майкл! Простите, ради бога, что заставил вас ждать. – Белый, покрытый в положенных местах пятнами халат Лео, рукава которого на три комичных размера короче его рук. – Пойдемте, пойдемте, пойдемте.
Послушный щеночек, я следую за ним по коридорам, на ходу приподымаясь на цыпочки, чтобы сквозь высоко прорезанные в стенах оконца разглядеть лаборатории.
Мы подходим к двери. «К. 1.54 (Д). Профессор Л. Цуккерман». Лео вставляет карточку – вспыхивает зеленая лампочка, что-то попискивает, щелкает замок, и дверь открывается. Я медлю на пороге и горестно бормочу на манер Майкла Хордерна в «Орлином гнезде»:[62] «Безопасность? Здесь ее обратили в шутку». Лео в тревоге оборачивается, и я, переигрывая, бубню себе в лацкан: «Он внутри. Дайте нам тридцать секунд и приступайте к отвлекающей атаке».
До Лео доходит, я получаю в награду натянутый смешок, и, словно в ответ на него, над нашими головами, пощелкивая, загораются лампы дневного света. Я понимаю, моя детская потребность выдать шуточку вызвана напряжением Лео, его едва ли не страхом, от которого и мне становится не по себе. Страх то накатывает на Лео, то стихает, решаю я. У него дома, когда Лео беседовал со мной о диссертации, страх исчез, сменившись добродушной шутливостью. А как только разговор закончился и Лео пригласил меня сюда, в глазах его снова возникло загнанное выражение.
Не знаю толком, чего я ожидал. Чего-то. Я ожидал чего-то. В конце концов, с какой стати кто-то вознамерится показывать тебе свою лабораторию, если лаборатория эта – офис офисом и ничего больше?
Блестящая маркерная доска без единой формулы или цепочки перевернутых вверх тормашками греческих букв. Ни осциллографов, ни генераторов Ван дер Граафа, ни длинных стеклянных трубок с пульсирующими в них лиловыми соцветиями ионизированной плазмы, ни глубоких раковин, покрытых пятнами устрашающих химических соединений, ни герметичных стеклянных шкафов с механическими манипуляторами, позволяющими перемещать из одного контейнера в другой крупицы жутко радиоактивных веществ, ни плаката с высунувшим язык Эйнштейном, ни ласкового компьютерного голоса, приветствующего нас с эксцентричным, запрограммированным дружелюбием: «Доброго утречка, Лео. Еще один дерьмовый денек, не так ли?» Коротко говоря, ничего такого, чего вы не смогли бы увидеть в офисе вашего местного агента по продаже «тойот». Еще и меньше того, поскольку у вашего местного агента по продаже «тойот», по крайности, имелся бы на письменном столе калькулятор, компьютер, горшок с цветком, электронный дневник, факс, мобиль какой-нибудь для снятия напряжения и календарь на нынешний год. Хотя нет, постой-ка. Компьютер, во всяком случае, тут есть. Небольшой ноутбук с подключенной сбоку мышкой. Имеются также, готов признать, полки с книгами и журналами, а вместо календаря – периодическая таблица элементов.
Лео замечает мое разочарование.
– Боюсь, это не то место, где творят «еще непросохшую», что называется, науку.
Я подхожу к периодической таблице и с умным видом вглядываюсь в нее – надо же выказать хоть какой-то интерес.
– Она осталась от моего предшественника, – сообщает Лео.
Ну вот, приехали.
Я оглядываюсь. Почтенно традиционные слова «Так, значит, вот где все и происходит» прозвучали бы здесь довольно глупо, поэтому я просто с силой киваю, как бы одобряя запахи и общий тон комнаты.
– Если у меня появляется нужда в оборудовании, я отправляюсь в другое помещение и арендую там время на больших машинах.
– А. Ну да. Выходит, вы в основном занимаетесь физикой теоретической?
– А разве существует еще какая-то? – Впрочем, произносится это любезно, без раздражения.
Лео подходит к ноутбуку, поднимает крышку. Я вижу теперь, что он не похож на компьютеры, какие мне доводилось видеть прежде, и по дрожанию длинных пальцев Лео понимаю – для него этот миг важен. Верхняя часть компьютера достаточно привычна – прямоугольный экран. А вот клавиатура мигом приковывает мой взгляд. Поверху ее, там, где обычно находятся функциональные клавиши, тянется ряд квадратных кнопок без каких-либо значков. Под каждой от руки нанесены желтым фломастером цифры, буквы и некие символы. Основную же часть клавиатуры – ту, которую положено занимать буквам и мышиной панельке, – покрывают квадратики черного стекла, в котором отражаются лампы дневного света.
В нижней части испытательного стенда, на котором стоит эта самоделка, – полагаю, использование слова «стенд» здесь вполне правомерно, что ни говори, мы все-таки находимся в научной лаборатории, как бы она ни выглядела, – находится тумба с двумя дверцами. Лео открывает их, и я наконец вижу надлежащую машинерию. Два весьма впечатляющих стальных шкафчика с массивными рычажками и кучей проводов, которые обвивают их на манер спагетти, – провода озадачивают зрителя настолько, что лучшего и желать не приходится. Я замечаю и два широких цветастых плоских кабеля, похожих на те, какими в стародавние времена подключали к компьютеру принтер, – оба уходят от тыльной стороны ноутбука вниз, в тумбу.
Лео перебрасывает на каждом шкафчике рычажки питания. Тут же начинает низко и удовлетворенно гудеть вентилятор. Черные стеклянные фишки клавиатуры оказываются самостоятельными жидкокристаллическими дисплейчиками – на каждом загорается зеленая восьмерка, и все они ритмично вспыхивают и гаснут, точно на панельке видеомагнитофона с не установленным временем. Бросив на меня быстрый взгляд, Лео нажимает несколько функциональных клавиш, вид у него при этом становится немного виноватый, точно у посетителя магазина, неспособного удержаться от того, чтобы не сыграть на выставленном для продажи синтезаторе «Чижика-пыжика». Мерцающие восьмерки одна за другой обращаются в устойчиво горящие цифры, и экран оживает.
Что я рассчитывал увидеть? Анимированную модель зарождения Вселенной, возможно. Вращающуюся ДНК. Фрактальную геометрию. Секретные файлы ООН, посвященные распространению новой страшной болезни. Прокручивающиеся цифры. Изображения спутников-шпионов. Голую Тери Хатчер. Папки личной электронной почты президента Клинтона. Чертеж нового оружия массового уничтожения. Крупный план Кардассианского главнокомандующего, объявляющего о вторжении на Землю.
А что увидел? Экран, заполненный облачками. Не метеорологическими – цветными облачками, словно бы газовыми. И все-таки не газовыми. Если как следует приглядеться, они походили скорее на воздушные потоки, увиденные через объектив термальной камеры. Внутри этих потоков перемещались участки более чистых цветов, окруженные радужными ореолами, которые вихрились и переливались, пробегая в своем движении весь цветовой спектр. Гипнотическая картина. И прекрасная, лучезарно прекрасная. Впрочем, у большинства персональных компьютеров имеются скрин-сейверы, не в меньшей степени радующие глаз.
– Что скажете, Майкл? – Лео смотрит на экран. Красочные массы отражаются в стеклах его очков. На лице Лео читается все то же, озадачивавшее меня прежде загнанное, голодное выражение. Одержимость. Не «Одержимость» Келвина Кляйна, но одержимость Томаса Манна и Владимира Набокова. Болезненная потребность, гнев и отчаяние старого извращенца, виновато пожирающего глазами юную красоту. Так я, во всяком случае, думал в то время. Сейчас-то я уже попривык к тому, что многое воспринимаю неправильно.
– Прекрасно, – шепчу я, словно боясь, что мой голос взорвет мягкую прелесть красок. Да, именно взорвет, потому что я уже понимаю, на что они похожи, эти очертания. Они похожи на невесомые мыльные пузырьки. Дрожащие, вращающиеся, маслянисто радужные оболочки, умиротворяющие взгляд и проникающие в самую глубь души.
– Прекрасно? – Лео не отрывает глаз от экрана. Правая ладонь его лежит на мышке, очертания движутся. Сцена меняется, и на память мне приходит кино моего детства. Я сидел один в темноте, рекламы «Бенсон энд Хеджес» и «Баккарди» оставалось дожидаться еще минут двадцать. Чтобы зрители не заскучали, владельцы «Одеона» предлагали им музыку и световое представление – текучие, психоделически розовые, зеленые и оранжевые цвета переплетались на экране. Я сидел, приоткрыв рот, безмолвно заталкивая в него одну изюмину в шоколаде за другой, и смотрел, как меняются краски, как подвешенные в жидкости пузырьки воздуха прорываются, подобно судорожным амебам, сквозь поверхность экрана.
