Афганские былинки. Война и мир бесплатное чтение
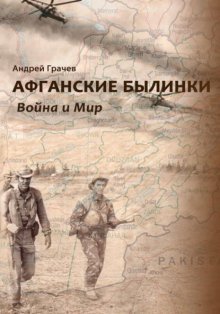
Вместо предисловия
Много лет назад закончилась последняя война Советского Союза, – долгая, странная и до сих пор не объявленная. Прошли времена, когда к окнам окружных госпиталей липли обгорелые странные солдатики и, как кино, смотрели на не стреляющий, мирный город, а город бежал мимо них, город спешил, городу было некогда. Ввод войск назвали «политической ошибкой», войну – «авантюрой». Тринадцать тысяч «ошибок» совершили на той войне и около семисот тысяч «авантюристов» пропустили через неё. Войска вывели, «ошибки» запаяли в цинк и зарыли, а что делать с «авантюристами» долго решить не могли.
Поначалу их как будто не существовало в природе, а просто попадались на вокзалах загорелые дембеля и потом куда-то бесследно исчезали. Затем одумались и приравняли их к участникам войны. Но только приравняли, – войны всё равно не было. И где умудрился солдат потерять ногу и чей орден себе привинтил, оставалось неясным.
И, действительно, разными были войны. Даже и сравнивать было нельзя огромное горе страны с маленьким обелиском на кладбище. И всё-таки в самом конце восьмидесятых сообразили, что для солдата, в конечном счёте, разница только в одном, – на той войне гробы были деревянные. И официально признали «авантюристов» ветеранами. В народе же их с самого начала и навсегда окрестили как отдельную нацию – «афганцы», и тем прочно от себя отделили.
Резкие, злые, заводные с полуоборота, они и вправду отличались от других. У них и язык был особенный. Ну, какой «душара» влетел на «бурубухайке в зелёнку» и какой «бахшиш» нашёл в этой «зелёнке» «бача»? И когда в их знаках отличия решили разобраться, то не разобрали ничего. Зато многим удалось на афганской теме отличиться. Об «афганцах» заговорили, задумались, записали, и не сказали ровным счётом ничего.
Хочешь обмануть, скажи половину. Первую половину правды об «афганцах» сказала в книге «Цинковые мальчики» Светлана Алексиевич: мародёры, насильники, убийцы и изувеченные войной наркоманы. Вторую сочинил Александр Проханов: герои, рыцари без страха и упрёка, а кто упрекнёт – сволочь. Но из двух этих половинок ничего не сложилось. Правда Светланы Алексиевич не больше её гонорара, а правда Александра Проханова закавычена и была заголовком партийной газеты. Отпетыми головорезами возвращались они домой, и последними рыцарями Союза. Как и их война, остались «афганцы» необъявленными, и говорят о них разное: от «крепких парней» до «поголовных наркоманов», от «людей долга и чести» до «за косяк мать продаст». Не складывается правда об «афганцах» оттого, что не тот в этой правде расклад. Нужно всё разложить по полочкам, всё взвесить, а в мирной жизни таких весов нет. Война не всё спишет, но всё нужно писать о войне.
Война, это когда твой друг помещается в уголке вещмешка, а всё остальное расплюснуто миной. А ты ползаешь в пыли и собираешь серые куски мяса, а мясу, как и тебе – девятнадцать. Эта правда на вес мешка, – пять четыреста по весам баграмского морга.
Первая ложь об Афгане в том, что набирали в него особенных, обученных и самых. В Афган попадали из ПТУ, со двора и через год после школы. Он приходил домой повесткой, обманывал романтикой на карантине и встречал непостижимой пятидесятиградусной жарой. Он глушил «молодых» желтухой, крутизной афганских «дедов» и скручивал колючкой беспросветной гарнизонной жизни. Но настоящий Афган начинался не сразу, а с первой кровью, с первым двухсотым грузом из твоего призыва, когда, набивая магазин, уже знаешь, зачем.
Девушка-студентка брезгливо поджимает губы: «А вам приходилось убивать?» Война – это выбор, девочка, и спрячьте ваши губки. Нужно выбрать, чья мать заплачет раньше, и если не хочешь, чтобы твоя, – стреляй. И афганцы стреляли. Стреляли охотно, с остервенением, так, что клинило раскалённые стволы. Благо, боекомплектом Родина-мать не обижала. Хлебом могла обидеть, надгробной плитой, но патронами никогда.
В отчаянной штурмовке прорывался запылённый «мобута» к дому, из которого три часа крошил его роту пулемёт. Гранатами от всей накипевшей души гасил его, и, влетая в дом, видел «погасшего» пулемётчика и «погасших» рядом с ним женщину с детьми. Но штурмовка шла, пылил «мобута» дальше. А через неделю странно задумывался, упирался в задумчивости подбородком в ствол и разбрызгивал в рассеянности мозги по потолку. И никакому следствию не удавалось установить причину, никакому дознанию найти следа. Шёл «мобута» на боевые потери, паковался в груз «двести», – не сберёг свою мать, задумавшись о чужой. «Афганцы» были убийцами.
И от всех щедрот Родины один патрон, сувенирный, до серебряного блеска отполированный в карманах, таскали с собой. Вместо положенного пустого, с вложенной в него запиской владельца, многие носили с собой боевой, чтобы в нужный момент в последний раз им «расписаться». «Афганцы» редко сдавались в плен, чаще мозги себе кроили этим «сувениром», а лучше всего гранатой, чтобы не одному и красиво. Поразительный факт, – четыреста пленных оставила армия за девять лет войны. Но героизмом это не считалось, а был здесь ледяной расчёт и прямая необходимость. Четыреста, – это тех, кто выжил. Кожу сдирали «духи» с живого «шурави» и заставляли жить без неё несколько часов, калёным маслом заливали раны. Душманы резали уши, конечности, головы, засушивали их и прилагали к погонам, и за каждый такой «комплект» щедро расплачивалась американская демократия. Это правда баграмского морга. Армия насмерть дралась с четырнадцатым веком, и секунду смерти меняли «шурави» на её часы. Но сколько смертной тоски и последнего одиночества переживал он в эту секунду! Вечная вам слава, братишки, и простите, что не было рядом!
«А, правда, что уничтожали своих, не допуская плена?» Правда. Безнадёжно зажатый на сопке взвод пускал в эфир свой квадрат, и его вверх дном переворачивала авиация. С музыкой уходили ребята, играли в звонкий цинковый дембель. А лётчики знали? А начальство знало? Они знали правду баграмского морга. И не трогайте бога афганской войны – авиацию. На чужой земле она родным для «афганцев» делала небо.
И был у «цинковых мальчиков» неписаный, железной твёрдости закон – мёртвое дороже живого. Целые войсковые операции разворачивались, чтобы отбить «двухсотых», ожесточённейшие бои кипели из-за своих мертвецов. И иногда за одного «двухсотого» падало десять, но мёртвых с поля боя выносили. «Духи» об этом знали и минировали павших, чтобы умножить их число. Рассвирепевшие сапёры платили им тем же, и начиналась изощрённейшая минная война. Кто кого? Побеждённый – в цинк.
В Союзе мальчиков цинковали торопливым военкоматовским залпом и прочерком между датами перечёркивали жизнь. Из безмолвия они уходили в небытие. Раз не было войны, то не было и героев. Целая армия пропала без вести за южным рубежом. За рубежом оставляли всю её боль и горечь потерь. Эту войну «афганцы» проиграли начисто. В Союзе были другие законы.
И, конечно, баловались афганцы наркотой. Анаши в стране больше хлеба, водки – меньше воды. Ничем другим от войны не уйдёшь. Минздрав мог не предупреждать водилу с девятью тоннами тротила за спиной, и ни к чему было задумываться о здоровье десантнику, идущему на последнюю штурмовку. Шёл косячок по кругу, чтобы не сорваться оттого, что свинцовые фонтанчики бьют из-под колёс, чтобы не думать, что горку эту взять в принципе нельзя, а только очень нужно. Травились, чтобы не думать, кому, и, отравленные Афганом, летели потом в клиники, могилы, лагеря. Судите их за желтуху, – они ею болели тоже. Самой большой хохмой Афгана была надпись Минздрава на сигаретной пачке.
И права Светлана Алексиевич, форменный разгул творился в афганских гарнизонах. Афганские мужики любили редких женщин. На приказ министра обороны быть святыми «афганцы» плевали, кто и почём мог. И причина была простой, – он был невыполним. Святым на Руси был только один воин – Александр Невский, и тот по другому поводу. Такие приказы отдают те, кто уже может их исполнить. «Афганцы» ещё не могли. И странно требовать от военного быть мужчиной меньше штатского, – он больше. И всё свободное от войны и разгула время предавались «афганцы» разнузданному, поголовному мародёрству.
С гранатой без чеки в правой руке и бумажками в левой заходил «мародёр» в духан и автоматным стволом из-под мышки обводил товар. Граната для безопасности, деньги для порядка. «Чан афгани?» – почём, – не спрашивал. Ясно, что не дорого. И, очень собой довольный, сваливал. Откуда у солдатика деньги? Не скажу. Если уж война необъявленная, то и я объявлять не стану. Но паразит Васька идёт на дембель раньше, Ваське нужнее, а ему ребята ещё добудут. Но дембель случался скоропостижным. Ехал «мародёр» грузом «сто девяносто восьмым», и вёз в лёгком шикарный осколок среднего калибра и потрясающей роскоши пулю в правом предплечье. А в госпитале ходил за мародёром дружественный араб на излечении и не верил, что месяц войны стоит девять рублей чеками, а «мародер» не верил про доллары: Родину, как женщину, за деньги не любят. И радовался, что кончился Афган, но Афган не кончался.
Выяснялось вдруг, что осколок – «травма», война – «командировка» и только на два года отрезали рассеченную ногу. Кровавой кашей хлюпал неподъёмной тяжести протез, как на красный свет летела на корочки разъярённая очередь, и никто, ну, совсем никто тебя туда не посылал. Он троих завалил на Панджшере десантным кортом, горящей БМДешкой задавил пулемётную гниду, он, сильный и знающий себе цену, от бессилия плакал, – ничего не горит, и гнида своя.
И от тупого беспросвета мирной жизни тянуло к своим, таким же, туда, где хоть немного войны. Поэтому рождённое войной братство афганцев в мирной жизни не растворилось, а сложилось в фонды, организации, союзы. Но война – характер, – вместе с ней не проходит. И, как прежде, воюют «афганцы» не за себя. У улиц и подворотен отбивают они подростков, создают лагеря, центры, клубы. По всей России действуют таких сотни, и им верят, и к ним идут, потому что «афганцы» едва ли не единственные в этой стране, кто хоть что-то знает точно. Они точно знают, что «душман» – враг, а «зёма» – друг, и учат простым и точным вещам. Тому, что национальный герой России не Арнольд Шварценеггер, что Александр Матросов не подскользнувшись упал на дот, и знамя над рейхстагом покраснело не от коммунизма. Что Родину надо любить, что в армии не служить стыдно и за державу всё-таки обидно. Учат тому человеческому и настоящему, что принесли с собой с войны. Они живы, живут вопреки всей журнальной лжи и газетной «правде» и, не оправдываясь, не лгут.
Солдат – это вечный с краю. Его профессия – убивать, и быть убитым – судьба. А если выжил, вернулся, то до конца дней своих виноват. Каемся, во всех бессмертных своих грехах каемся. Умирали, горели, выжили и вернулись. Мы вернулись, Родина, какие есть, и другими не станем. «Афганцы» старше своего народа на одну войну, и в этом их главный знак и отличие. В их войне народ не участвовал. Наедине с собой были оставлены они в Афгане и научились отмерять свою правду весами баграмского морга, самыми точными весами в мире.
И сколько уж лет прошло, другой за эти годы стала Родина, и новая нация ветеранов появилась на её вокзалах – «чеченцы». Новые солдаты липнут к окнам наших госпиталей и с изумлением рассматривают не стреляющий, мирный город, а город бежит мимо них, город спешит, городу снова некогда. Не оглядывается Россия на своих солдат, на всех «испанцев», «египтян», «афганцев». Без оглядки торопится она в новый век, и в безоглядности своей успевает только к новой войне. И столько было уже в её истории малых войн, что складываются они в одну великую. От прошлой отличаются они только тем, что остаются всегда необъявленными. И давно уже затерялась среди них афганская, заросла событиями, отошла в прошлый век. Её завалило августами и октябрями, придавило траками новых войн. Но видно, так устроена наша память, сквозь любое безмолвие прорастёт. Так и в этих строках сквозь события и времена – проросло.
Не были, а так, – былинки. Но они живые, они оттуда. Их корни в Баграме и Чарикаре, Кабуле и Кандагаре. И не нужно спрашивать: было – не было. Всё было когда-то и не было никогда. Росток никогда не похож на собственный корень, но отдельно от него не живёт. Они написаны не для истории, а для души. Но если пробились, если живые, то и в вашей душе – прорастут.
Светлой памяти необъявленных солдат посвящается эта книга, их трудной жизни, нелёгкой смерти и уже навсегда – бессмертию. Долгие годы воевали они в Афганистане: дрались под Кандагаром, штурмовали Панджшер, вместе уходили на караваны и пробивались в Союз, и только потом разделила их судьба: отправила, кого домой, кого в вечность. Автор – не судьба, он только её записал. В солдатские медальоны разложил вечность, в «повести» – жизнь, но в его книге они, как и на той войне, – вместе.
Автор
Часть I. Война
Блокнот (расказ)
Чего только не бывает в жизни, даже хорошее. С утра разносил комбат, в обед долбил замполит, а вечером завезли кино. Потрясающее – «Москва слезам не верит». Все, кто загремел в караул, застонали, остальные радостно засуетились и выслали молодых занимать места. Один только Юрка Ковалев не суетился, сел за тумбочку и стал в блокноте что-то писать. Блокнот был маленьким, писать приходилось еще мельче, поэтому разобрать чего он пишет, было нельзя, а хотелось. И любопытный Шурка Линьков спросил прямо:
– Чего пишешь?
– Да так… – неопределенно ответил тот, – про все.
– Про что про все?
– Да про это…
– Ух, ты! – догадался Линьков и зауважал. – Писатель…
И ничуть не удивился, – возможно. Ковалев всей роте письма писал. Ляжет, уставится в потолок и произнесет: «Диктую!» И дальше только за ним поспевай. И до того складно, до того красиво, сдержанно, вроде, но так, что за душу берет и после не отпускает. Переписываешь набело, и от жалости к себе сердце заходится. Некоторые эти письма и не отсылали. Перечитывали в карауле и начинали как-то себе нравиться, отчего-то себя уважать. А когда Юрка не диктовал писем, писал в блокнот, и блокнот этот всегда носил при себе. К нему приставали от скуки: «Прочитай!» И он иногда читал. Но ведь он что делал, козел? Шпарил без запинки и с выражением «Агрессивная суть блока НАТО», а на странице было совсем другое. Линьков подглядел однажды и сейчас приставать не стал. Шмыгнул уважительно носом и потопал в кино.
Кино получилось веселое. В конце первой серии, когда Родик укладывал Алентову на диван, по КПП ударили из гранатомета. Весь мужской контингент от облома взвыл. Дежурная рота сбегала пострелять, и кино все-таки продолжилось, но уже сразу со второй серии, что было значительно хуже. Поэтому в палатку Линьков вернулся без настроения. Залез к себе на второй ярус, и, задумчиво поскрипев пружинами, свесился вниз.
– Слушай, Юр, а целуются в кино по-настоящему?
– Не знаю, не пробовал, – буркнул тот.
– А почему же тогда так по-настоящему продирает?
– Это и есть искусство, когда настоящего нет, а пробирает. Надо только, чтоб пробирало по-настоящему.
– Дурак, – влез, как всегда, Поливанов, – а убивают в кино тоже по-настоящему? – и рассмеялся.
Но Поливанов что? Он только анекдотов навалом знает, а Ковалев – голова. У него такое в голове, такая пропасть! Шурка лежал с ним однажды в охранении – за перевалом пасли «зеленку», – так за ночь столько от него узнал, что потом два дня спать не мог. И про звезды, и про войну, и даже про Александра Македонского. Он потому и место себе выбрал на верхотуре, чтобы к нему поближе. Несолидно для «черпака», зато всегда можно свеситься и спросить. Но сейчас все его расспросы прервал ротный:
– Отбой, Линьков! – вмешался он. – У тебя завтра выезд.
И выключил свет. Но Шурка долго еще отключиться не мог. Лежал, ворочался и скрипел. Из головы не выходила «Москва», – почему «не верит», почему «в слезах»? И только когда снова грохнуло на КПП и привычно затрещало со всех постов, заснул.
А утром осторожно, чтобы не разбудить Ковалева, поднялся, взял в оружейке автомат и пошел с ребятами на КПП. Пока ждали БТР, смотрел, как закрашивают на воротах копоть. Дневальные спешили до подъема, потому что днем нельзя, а вечером без этого не сдать наряд. Дырки там, пробоины, куда ни шло, а копоть извольте закрасить.
– И чего, дураки, на КПП лезут? – посочувствовал Шурка. – Здесь на метр полтора ствола и все спаренные. – Но, вспомнив, что наряд будет принимать как раз Ковалев, указал:
– За окном побелите, черное!
И порадовался за себя. Вчера он за две сгущенки записал себя вместо караула на выезд. Выезжали за водой на скважину, тоже не бог весть какое путешествие, но все равно, веселее, чем караул.
И точно, повеселились. На обратном пути из «зеленки» шарахнули из ДШК. По броне как булыжниками простучало, но размениваться с паразитом не стали, сдали пушкарям. Пропустили вперед водовозку и на полном ходу проскочили. И хорошо еще, Поливанов углядел, – хлестало из водовозки, как из ведра. Пробоины, как могли, заткнули тряпками и вернулись в полк. Воды, правда, довезли половину, но зато быстро. Дежурный на боковую еще не завалился, и, сдав ему автомат, Шурка заспешил в палатку. Нужно было срочно предупредить Ковалева, что стена на КПП не забелена и наряда в таком виде не принимать. А то ведь он хоть и голова, а с ушами. Примет по доброте, а у него нет, и будет потом расхлебывать за них, простота.
Но спешил Шурка совершенно напрасно: Ковалев, накрывшись с головой, спал. Дневальный из молодых разбудить его не решался, а ротный в палатку не заходил. И, сорвав с него одеяло, Шурка за дневального заорал:
– Подъем, жор проспишь!
И осекся. Ковалев был мертв, подушка была вся бурой от крови, лицо наоборот, белым, а в брезентовом полотнище у изголовья просвечивала крохотная дыра. Шурка шагнул назад, натолкнулся спиной до дневального и дальнейшее уже слышал плохо.
Пришел начмед, потом комбат и незнакомый из особого отдела майор, и началось то ли дознание, то ли что.
– Шальная… – заполнял майор. – Между одиннадцатью тридцатью и двенадцатью ночи… Входное отверстие соответствует…
«Это когда я про «Москву» думал, – соображал Шурка, и странно так соображал, отчетливо. – И он лежал так всю ночь, и утром лежал. И когда я боялся его разбудить…» И ещё поразило, как невозмутимо спокойно осталось все кругом.
За обедом обедали, за ужином ужинали. Ели без аппетита, но ели, разговаривали тихо, но не о нем. Дорошин внизу скатал матрац и унес в каптерку.
– Теперь твоя.
Потом злее обычного пришел замполит и стал собирать из их тумбочки юркины вещи.
– Мыльница его?
Шурка кивал.
– Зубная щетка чья?
– Тоже…
– А блокнот?
И Шурка неожиданно испугался:
– Мой.
Любые записи и заметки для памяти были строжайше запрещены. Блокнот до юркиных не дойдет. Замполит недоверчиво на него посмотрел. Но блокнот был не подписан, почерк неразборчив, и он его отложил. И Шурка облегченно вздохнул, прибрал его и быстренько после замполита отбился. Но юркиного места отбивать не стал, – полез к себе. Лежал, и, прислушиваясь к себе, недоумевал.
Получалось так, как говорил Юрка. Не было его в настоящем, не существовало, а пробирало. И пробирало так, что он вроде бы существовал. И хотелось все время свеситься вниз. И выждав, когда рота заснет, Шурка без единого скрипа поднялся, притащил на тумбочку переноску, которую Дорошин приспособил под настольную лампу, и, завесив её штанами, приступил. Не задумываясь, не подбирая слов и прямо с того места, где обрывалась строка. Места в блокноте оставалось много, но писать так же мелко он не умел и поэтому экономил. Писал, шмыгая носом, и выводил неуклюжие буквы. Он хотел, чтобы пробирало, чтобы верили и по-настоящему.
– Пишешь? – свесился к нему Поливанов, посмотрел задумчиво в потолок и неожиданно попросил:
– Напиши, как мы тогда с танкистами подрались, и он за меня вписался.
– Про то, как он мне на «губу» сгущенку принес! – попросили справа.
– И про письма!
И со всех сторон вдруг посыпалось:
– Про то, как он вместо «Боевой листок» «Боевой свисток» написал!..
– И про рейды!
– И про кино!..
– И про то, как мы на скважину ездим и вообще!..
Все вокруг заскрипело, придвинулось и ожило. Уцелевшая от караула рота наперебой диктовала, и Шурка едва за ней поспевал. Строчил, дул на пальцы и снова строчил. Рота охала, вспоминая, смеялась до слез и сухими глазами плакала. Всем было грустно и отчего-то пронзительно хорошо. Никто не слышал ни стрельбы, ни грохота КПП, ни шального свиста над головой. И когда в палатку вошел для подъема ротный Фомин, все спали вперемешку на чужих местах, Линьков за тумбочкой сопел в блокнот, а на переноске тихо занимались штаны. Фомин их осторожно убрал, пролистал блокнот и на середине с удивлением остановился. Сразу после мельчайшего бисера было неумело и старательно выведено: «Блокнот», а чуть ниже, коряво, но с тою же твердостью Линьков написал: «расказ».
Кража
В полк привезли женщин. С почтовым БТРом прибыли из Кабула две официантки для офицерской столовой и новая продавщица военторга. Прежняя Маринка куда-то бесследно испарилась, и полк неделю разглядывал в тоске повисший на «Берёзке» замок. Была, правда, ещё одна – папина секретарша Рита, – но та вращалась в таких высоких сферах, что её вроде бы и не было. А тут трое.
Приехали, разместились, и над полком с невиданной быстротой разнеслось:
– Загорают!
Все были потрясены. Оказалось, что на земле ещё оставались белые люди, и им для чего-то нужно было почернеть. А то, что люди – женщины, и вовсе делало новость ошеломляющей. Выгоревший до основания личный состав не поверил и выслал на разведку Самсонова с БТРом. Но оказалось, точно, – на песочке и у седьмого поста. Артиллеристы выставили стереотрубу, у трубы немедленно собралась очередь, а гад Самсонов «сломался» как раз между парком и седьмым постом и из БТРа по рации докладывал:
– Рыженькая!.. В купальнике!.. Цвета морской волны!.. Кайф! Блондинка в голубом! Номер бюста четыре!.. Умру! И ещё светлее! С ногами! Ох, расстреляйте меня!
И его с удовольствием бы и немедленно расстреляли. Спасала Жорку ценность информации. Водила Миносян стонал, его взводный Шерстнёв побежал в общагу за новой портупеей, но там ему её не дали, потому что оказалось, теперь самим нужна. И все люто возненавидели часового с седьмого поста, который бездарно ещё что-то охранял и при этом жался от смущения к восьмому.
В офицерском модуле всё стремительно преобразилось. Запахло одеколоном, «Флореной» и обувным кремом «Люкс». Дневальные гремели и вёдрами выносили выдавленные тюбики и пустые флаконы «Шипра». Ни крема, ни одеколона офицеры из соображений тактики не жалели, заранее создавая себе предлог заглянуть в магазин, и валом повалили в столовую, куда раньше шли только под угрозой голодной смерти.
Но в палатках, глядя на офицерское оживление, приуныли, и воцарилась гнетущая тишина, потому что ни портупей, ни денег для военторга там не было, и даже самые счастливые люди на земле – дембеля, – имели только одеколон. Можно было до бесконечности начищать ботинки мазутой и в ослепительнейшую дугу выгибать пряжки ремней, ремни от этого в портупеи не превращались. Водила Миносян скис, а Самсонова лично «починил» командир полка, и он теперь делился впечатлениями с губарями. Да тут ещё, как назло, с новой официанткой прошёл мимо палатки ротный капитан Скворцов. Оба беззаботно чему-то радовались. Она была невыносимо прекрасна, он до безобразия хорош, и настроение у всех рухнуло окончательно. Поэтому, когда вернулся караул, все набросились на Старкова, который и стоял, как дурак, на седьмом посту. Все считали его лохом, тормозом и рязанским гудком. В чём он притормозил и какой просвистел случай, никто толком не знал, но про себя каждый был уверен, что он бы уж точно не упустил, и уж с ним бы непременно случилось иначе. Но Старков невозмутимо начищал автомат и молчал. Потом сунул его под матрац и заснул так, что даже не пошел на ужин. И разговор немедленно перекинулся на другое.
Не имея своих надежд, все надеялись теперь на офицеров, причем каждый на своего. Хотелось, чтобы именно своему ротному повезло, и своему ротному улыбнулась удача, чтобы таким образом приобщиться к счастью. Поэтому за событиями из палаток наблюдали с воспаленным вниманием. А события в полку разворачивались интересные.
С официантками разобрались скоро. Первую довольно плотно ухватил ротный капитан Скворцов, вторая колебалась между Шерстнёвым и Фоминым, причем Фомину в связи с его неженатостью отдавалось явное предпочтение. Но с продавщицей ясности не было никакой, между тем, как именно с ней и хотелось все прояснить. Мало того, что женщина, мало того, что молодая, она была еще и красивой. Самсонов не врал, когда просил за нее расстрела. В ней было все и немножко больше: лицо, походка и огромные, ненормально доверчивые глаза, в которых каждый видел себя героическим и большим. И страсти вокруг неё кипели нешуточные.
– Всё, Сафронов в атаку пошел! – докладывали наблюдатели. – Сейчас французские духи у нее покупает…
– Бородин заказал летунам «Клико»!
– Прапорщик Корнейчук обещал застрелиться!..
Папина секретарша Рита забеспокоилась. Заподозрив неладное, она даже приспустилась слегка с небес, – появилась как-то в кино и мелькнула на офицерском собрании. Но с маневром этим она безнадежно опоздала. Папина секретарша, – как ни крути, а почти что мать. Женщин в полку все равно оставалось трое, и все баталии разгорались вокруг одной. Приватно отозвав офицеров после развода, Папа строжайше предупредил насчет «всяких там шуры-муры». Но шуры-муры – одно, а личная жизнь – другое. Каждому хотелось жить лично.
Прапорщик Тарасенко сделал на фуражке необыкновенно высокий «аэродром». В экспериментальном, невиданной расцветки камуфляже появился лейтенант Бельцов. А комбат-три Гулько взял да и вышел на развод при полном параде, и орденов у него, кстати, оказалось два. Но ни ордена, ни камуфляж не помогали. Духи приходилось отсылать собственным жёнам, а шампанским бездарно запивать «Столичную». И не то, чтобы она задавалась, наоборот. Улыбалась так, что третий взвод нарочно скинулся на подшиву, чтобы ходить к ней по очереди каждый день и смотреть, но вела она себя как-то странно.
– Идите к нам, Светочка, здесь свободно! – кричали ей в летнем клубе.
И она подходила.
– Посмотрите, какие слайды привез из Кабула Бельцов!
И она смотрела. Но подходила без радости, и смотрела, как будто сквозь. Казалось, она напряженно высматривает кого-то, и всё время кого-то ждёт. Хотя ждать в полку было некого, даже вечно странствующая разведрота третий день томилась в полку. Все вернулись перед рейдом домой. И собравшийся почти в полном составе полк размышлял: кого?
На крохотном пятачке, где невозможно было даже вывесить бельё, чтобы весь полк не узнал в нём любимые бюстгальтеры официантки Вали, никто ничего не знал. Все задумчиво поглядывали в таинственную тень дворика, над которым трепетало бельё, и засасывали горечь сигарет. И вдруг Шевцов, командир седьмой роты, спросил:
– Мужики, а кто ей таскает розы?
Мужики подняли головы. Бойцы хозвзвода в это время как раз вытаскивали со двора контейнер с торчащими кверху рожками сухих стеблей. И всех озарило:
– Точно, это он, гад, её отбивает!
– Пряжками по заднице ему отобьем!
– Ну, если это Гулько!
И кинулись на розыски. Скворцов приналёг на Олю, Фомин на Валю, но те ничего путного им сказать не смогли. Признались только, что цветы эти Свете никто не носит, а они сами появляются через день во дворе. И стали канючить, что тоже хотят.
И, действительно, это было круто. Ничего круче и придумать было нельзя, потому что ничего похожего на розы в полку не росло. В полку росли только два дерева с подвешенными к ним направленными минами, и там, куда они направлялись, встречали отнюдь не цветами. Там ничего нельзя было нарвать, – только нарваться. А тут розы и через день, – фантастика! Это было настоящим чудом, рядом с которым смешными выглядели все достижения французского парфюма и обещания Корнейчука. Поэтому Света и улыбалась так странно. Кто-то с самого начала и здорово всех подставил. И, чтобы узнать, кто, Шевцов набрался наглости и обратился в военторг напрямую:
– Светочка, а вы не знаете, кто вам приносит розы?
Та неожиданно покраснела.
– А разве… – неуверенно улыбнулась она. – А разве это не вы?
И Шевцов впервые в своей офицерской жизни смутился. Ему так не хотелось её расстраивать, так не хотелось разочаровывать, что он не выдержал и сказал:
– Я. – И забормотал, переводя на другое, – Сегодня «Мимино»…Смешное… Хотел вас пригласить, если можно…
И оказалось, что можно, конечно, и тоже нравится. И вечером уже весь полк знал, что «женский вопрос» решен, всё разъяснилось, всё разложено по полочкам и местам. И в полку установилась тишина и завистливое спокойствие. А многие так и вовсе стали говорить, что давно обо всём догадывались и знали. Так что, когда выяснилось, что Света была временной, и её снова отзывают в Кабул, никто особенно не расстроился, тем более, что сменяла её другая и, по слухам, тоже девяносто-шестьдесят-девяносто. Поэтому в Кабул Шевцов провожал её один.
Усадил в БТР, уселся сам и скомандовал Миносяну:
– Пошёл!
Тот лихо развернулся. БТР рванул к КПП, и вдруг под колеса ему бросился с обочины целый розовый куст. Споткнулся пару раз, подбежал и тяжело задышал. Огромный букет цветов опустился в люк и открыл лицо, чумазое и смешное. Рядовой третьего взвода Старков стоял перед ними, запыхавшийся и от загара совершенно коричневый.
– Счастливого пути, – засмущался он, – извините!..
И спрыгнул на дорогу.
– Старый, закричали ему дневальные, – скажи Валерке, чтоб письма привёз!
Но тот в рёве БТРа их не расслышал. Отскочил в сторону, чтобы не обдало поднявшейся пылью, и в этой пыли исчез.
Шевцов молчал. Он сидел, придавленный цветами, и боялся поднять глаза. Но Света только лукаво погрозила ему пальчиком.
– Ай-ай-ай, Димочка! – и сразу забеспокоилась о другом.
Они говорили уже о том, как им скорее расписаться и съехаться в одной части, и по дороге наговорили столько, что уже в Кабуле, прощаясь, Шевцов, не стесняясь, её прилюдно расцеловал. Но уже потом, на развилке, оглянувшись случайно, вздрогнул. На полу растрёпанной кучей сиротливо лежал букет. Чемоданов было так много, что она его просто забыла.
Шевцов в досаде поморщился: «Сплавить бы его куда, неудобно!» И на первом же КП вывалил в люк, но удобней ему не стало. Розовый дух заполнял БТР, забивал собой запах бензина и о чём-то напоминал. «В зелёнке, у Старой Крепости, – вспомнил он, – вроде там был такой запах! – и не поверил. – Нет, там и днём-то нельзя, прибьют… невозможно…» И, вернувшись, решил проверить.
Но, оказалось, возможно. Старков заступал в караул именно через день, и оружие потом не сдавал, а всегда оставлял на чистку. И цветы тоже появлялись через день. Шевцов листал в растерянности учётный журнал и не понимал. «Значит, днём солдат как солдат, – думал он, – а ночью, после караула… – и содрогался. – В одиночку, через свои и чужие посты, по минам… А если попался здесь – трибунал… И ради чего? Зачем?» – Он искренне недоумевал.
Старков не выходил у него из головы. Тоже человек, конечно, и всё такое, но ведь солдат же, солдат, которого каждый может в приказном порядке унизить, уложить в грязь и заставить ползать у неё на глазах. Немыслимо было даже вообразить его рядом с ней, её, недосягаемую даже в мечтах, и оборвавшегося в караулах Старкова. «О чем он думал, на что рассчитывал? – не успокаивался Шевцов. И вдруг, встретившись с ним однажды глазами, понял: «Ни на что. Ни на что не рассчитывал рядовой Старков. Просто раз суждено ползать, то решил проползти так, чтобы не было стыдно даже у неё на глазах. Он сделал единственное, что мог».
И с тех пор Шевцов старался с ним не встречаться, – ни глазами, ни в толчее оружейки. Проводил тактику и ставил его взводу отдельную задачу, заступал начкаром и опасливо просматривал ведомость. Избегал его, как чумного, обходил, как будто что-то украл или обманул кого-то, хотя и украл случайно, и быть обманутой хотела сама Светлана. А иногда наоборот, срывался на него без повода и кричал: «Как стоите, Старков? Почему не подшиты? Вернитесь и отдайте честь!» Но он так старательно возвращался и так виновато на него смотрел, что становилось ещё хуже. И светины письма его не радовали, и чудом проскочивший звонок. «Господи, рожденный ползать, зачем же ты полетел?» И Шевцов оставлял его и напивался с Бельцовым в долг, но все равно, не оставляло. Точило червячком и по ночам мучило: «А ты бы смог?» И тогда Шевцов поднимался и тянулся за пачкой «Явы».
Соседи по комнате потешались:
– Что, Дима, после медового месяца пришёл хреновый?
– Влип по полной программе!
И он соглашался:
– Влип.
И однажды, не выдержав, он среди ночи поднялся и пошел прямо на седьмой пост, хотя могли в темноте пристрелить и было в принципе не положено. Подошел, не обращая внимания на окрики, и прямо в автоматное дуло вместо пароля сказал:
– Слушай, Старков… Так получилось, что цветы эти ты приносил вроде как от меня.
Старков не понял. В измученном бессонницей мозгу мысли соединялись не сразу. Потом понял и как-то судорожно вздохнул.
– Ну, так это хорошо… Я и хотел, чтобы хорошо. – Отвернулся от него и вдруг в какой-то новой надежде вскинулся. – Но ведь вы бы и сами это сделали, правда? Если бы знали, где их найти… Ведь правда же, правда?
И столько надежды было в его словах, столько неистовой веры, что Шевцов не выдержал и сказал:
– Правда.
И почувствовал себя постаревшим на двадцать лет.
А на другой день, заступив начкаром, обошёл посты, доложился дежурному и отвечать Свете на письмо, как собирался, не стал. Эту женщину солдат у него все же отбил навсегда.
Кот
Третий батальон прочёсывал «зелень», поднимался, делал рывок и подолгу отлёживался в арыках. «Зелёнка» была густой, сплошь покрытой дувалами и с ходу не давалась. Взвод лейтенанта Шерстнёва обходил её справа и с яростным матом продирался сквозь теснину дувалов. Ревели БМП, тюкали щупами сапёры, и деловито шарил носом в пыли сапёрный пёс. И вдруг Жорка Самсонов, радист, которого взводный всегда держал при себе, счастливым голосом заорал:
– Мужики, кот!
Все задрали головы, механики по пояс высунулись из люков, и движение застопорилось. По гребню разбитого пулями дувала гордо вышагивал роскошный, совершенно сибирского вида кот. Балансируя метёлкой хвоста, кот остановился, мяукнул что-то неслышное в рёве моторов и глянул с любопытством вниз.
– Ух, ты! Наш, русский! – выдохнул в восхищении Жорка.
– Почему русский? – обиделся механик Набиев. – В Узбекистане такой тоже есть!
– Наверное, из городка сбежал!.. – догадался кто-то.
И весь взвод радостно засюсюкал:
– Кис-кис-кис!..
Кот доверчиво спрыгнул на дорогу, отозвался на родной позывной, но огромный сапёрный пёс сорвался с поводка и, заливаясь счастливым лаем, загнал его в виноградник. Видно, что-то своё и знакомое вспомнилось и ему.
– К ноге, Анчар! К ноге! – всполошились сапёры. Все вскочили, гранатомётчик Пашка Кузнецов уже сорвался с брони, но Шерстнёв перехватил его за штаны и осадил:
– Увижу кого с котом, сгною на гауптвахте!
– С котом? – наивно переспросил Пашка.
– Без! – пророкотал лейтенант и одной интонацией вставил Набиева обратно в люк.
Он уважал котов, и сам дома держал такого же красавца, но становиться из-за него посмешищем всей дивизии не собирался. Просто невозможно было доводить рапортом, что операция сорвалась из-за кота.
– Сапёры, вперёд! Держать дистанцию, колонна!
Но удержаться и пройти хотя бы ещё на один бросок гранаты ему не удалось. В самой узкой расщелине дувалов взвод напоролся на засаду. Грохнув, забарабанил из дома напротив крупнокалиберный пулемёт, ударил десяток автоматных стволов, и взбитая свинцом дорога закипела пылью. Броня загудела от прямых попаданий, сапёрный пёс протащил на поводке убитого хозяина. Разрывным крупняком начисто выстригло над головой виноградник и сдуло с брони стрелков.
Сбивая пулемётчика, Шерстнёв бросил на него головную машину. Та, взревев дизелем, рванулась, понеслась, но, брызнув из-под себя обломками траков и катков, замерла. Хитрый дом обложился минами и близко к себе не подпускал. Поэтому и раскрошил он внеочерёдно сапёров, и взвод беспомощно залёг за дувалом. Оставалось лежать и крыть дом только матом. Вызвать «вертушки» или навести с дороги самоходчиков Шерстнёв не мог, потому что сам попадал тогда под своих. А подставляться, разворачиваясь в отходе, было и вовсе невозможно. И тут из виноградника неожиданно выскочил Пашка. Исчезнув куда-то в самом начале, он появился там, где его не ждали. Без бронежилета, налегке подкатился к самому дому и дал с колена выстрел. Отбросив пустую трубку, сделал второй, и, не разбирая дороги, полетел к своим. Вырубленная в стене амбразура обрушилась, пулемёт заглох, но зевнувшие Пашку автоматчики опомнились и теперь всё своё зло вымещали на нём. На голову ему посыпались виноградные клочья, комьями брызнула из-под ног земля, но землю они перепахивали напрасно. Выписывая заячьи петли, Пашка сбивал прицел и расстояние до своих стремительно сокращал. Причудливо выпятив живот, он летел, выделывая невиданные прыжки, и на землю упорно не ложился.
– Ползи, Пашка, ползи! – кричали ему из-за дувала и, как могли, прикрывали из всех стволов.
– Ползи! – не выдержал и лейтенант.
Но Пашка так и не лёг. Споткнувшись у самого дувала, на ногах всё-таки удержался и перевалился боком через гребень. И тут уже десятки рук подхватили его за шиворот и затянули под траки. Правая штанина у Пашки была бурая от крови.
– Ну, ты, Кузя, орёл! – одобрил Самсонов. Распорол штанину, закатил шприц-тюбик и, наложив бинты, постановил: – Кость цела, а мясо будет… Следующий!
Обязанности связиста Самсонов совмещал с медициной, потому что новый санинструктор крови ещё боялся и нуждался сейчас в нашатыре.
Пашка сосредоточенно думал о своём, разглядывая в задумчивости штаны. Что-то такое хотел ему сказать и лейтенант, но единственный его уцелевший сапёр рванул в это время дувал. Скованная им броня вырвалась, наконец, на свободу, и бездорожьем, через мелкие арыки и изгороди вышла на прямую наводку.
Они прошли дом почти насквозь, и, не останавливаясь, двинулись дальше. И долго ещё «зелёнка» перекатывалась короткими очередями, звонко лопалась разрывами гранат и чадила гарью пожаров и сигнальных дымов. А вечером Шерстнёв собирал раненых на своей броне и ругался. «Вертушки», на ночь глядя, грузов не брали, и транспортировку поручили ему. Последним, чавкая правым ботинком, явился Пашка. Его прямо-таки распирало от набитого за пазуху винограда.
– Это что? – нахмурился лейтенант и вытянул из-за ворота отборную гроздь.
– Дорошину… ребята просили, – насупился Пашка.
Дорошин, лучший у Шерстнёва сержант, третью неделю лежал с пулевым, и навестить его действительно не мешало.
– Ты бы хоть в мешок всё сложил, что ли, – поморщился лейтенант.
Но Пашку, чтобы не давить виноград, посадил к «тяжёлым», а сам вместе с «лёгкими» разместился на броне.
Удачно проскочив придорожную зелень, лейтенант на приёмке разругался с «медициной». «Тяжёлого» Набиева санитары в горячке посчитали убитым.
– Куда вы тащите? В какую мертвецкую? Самих вас туда перетаскать, бестолочь санитарная! – кричал он и тянулся в запальчивости к кобуре.
Пашка постоял, послушал и незаметно отошёл в сторону. Свернув за угол, он обошёл приёмный покой и заковылял вдоль колючей проволоки. Невдалеке стоял обтянутый маскировочной сетью модуль, и заметным ориентиром трепетало над ним женское бельё.
Пашку мутило, противно хлюпала в ботинке кровь, и ногу до самой поясницы простреливало болью, но маршрута он не менял и ориентира держался твёрдо.
– Стой!.. Куда?
Часовой, рослый, с бычьей шеей десантник встал у него на пути и лязгнул для порядка затвором.
– Слышь, полосатый, а где тут у вас бабы живут? – спросил его Пашка.
– Что? – не поверил десантник. Оглядел раздувшийся пашкин живот, рваные в потёках грязи штаны и ухмыльнулся:
– И этот туда же… Вали, мобута, пока не вломили!
Пашка покладисто развернулся, но как только часовой, обходя объект, исчез за углом, вернулся и подошёл к масксети. Расстегнув пуговицы, он вытряхнул виноград и бережно опустил на землю бесформенно слипшийся ком. Ком полежал, встряхнулся и оказался обыкновенным котом, одуревшим от жары и сонной таблетки. Кот покачался на нетвёрдых лапах, помотал головой и вдруг с ожесточением принялся вылизывать слипшуюся от виноградного сока шерсть.
– Ну, иди, зёма, иди!..
Пашка приподнял сеть и, втолкнув кота внутрь, затаился. За масксетью хлопнула дверь, плеснула в тазу вода, и радостный женский голос закричал:
– Девочки, кот!.. Настоящий!
– Ой, господи, красавец какой! И мокренький!
– Зина, это твоего капитана подарок?
Пашка с кряхтением поднялся, стряхнул со здорового колена пыль и от неожиданности вздрогнул. Десантник стоял всё это время у него за спиной и внимательно следил за каждым движением.
– Мог бы и сразу сказать, – обиженно буркнул он и брякнул в досаде автоматом.
Пашка постоял виновато, подумал, и, выловив из-за пазухи уцелевшую гроздь, сдул с неё прилипшую кошачью шерсть.
– На, зёма, жуй! – протянул он грязную ладонь.
И заковылял к приёмному покою, где его ждал суровый лейтенант.
Лейтенант оживлённо рассказывал кому-то о дневной операции и в горячке не попадал пистолетом в расстёгнутую кобуру.
– Отдал? – не повернул головы Шерстнёв.
– Отдал.
– Дорошину?
– Дорошину.
– Ну, бывай!
И, легко вскочив на броню, лейтенант дал отмашку.
Пашка чихнул, подался от пыли назад и обомлел. Лейтенант рассказывал об операции Дорошину.
– Снимай штаны, медицина ждёт, – хмыкнул тот.
И крепким подзатыльником завершил другую, задуманную и успешно проведенную его взводом операцию «Кот».
Пацаны
После обеда навалилась обычная плотная жара. Небо затянулось сероватой дымкой, а каменистая земля раскалилась и послушно отдавала ветру шарики сухой колючки. Третий взвод забился в палатку и, раздевшись до трусов, тихо млел. Время от времени кто-нибудь подходил к баку с питьевой водой и тайком от сержанта Дорошина блаженствовал, поливая себе шею и грудь. Дорошин растрату видел, но не пресекал. Его тоже затягивало в удушливый полуденный сон. Никому ничего не хотелось говорить и тем более делать. Не унимался один только Волошенко, худой, дочерна загоревший одессит. Сливаясь телом с цветом трусов, он лежал по обыкновению на чужой кровати и лениво притравливал анекдоты, – не оттого, что хотелось, а потому, что одессит.
– Слышь, Литкевич, – прервал он вдруг себя, – покажь свою бабу!
Сидевший напротив коренастый молчун перестал рассматривать фотографии и спрятал их в карман «хб».
– Перебьёшься.
Своих фотографий он никому не показывал, и вообще ничего не делал напоказ.
– Покажь, говорю, бабу-то! – не унимался одессит.
– Заткнись! – нахмурился Литкевич. – И она тебе не баба.
– Ну, мадама!
– И не мадама! – совсем помрачнел Литкевич и для прочности надел «хб» на себя.
– Как? – изумился дождавшийся своего одессит. – Так твоя мадама ещё мадемуазель?
Палатка радостно захихикала и, скрипнув кроватями, затаилась. Надвигалась хохма. Литкевич напрягся, мучительно пытаясь выдумать что-нибудь тоже обидное, но так и не выдумал и только медленно побагровел:
– Заткнись!
Волошенко вскочил, придал лицу выражение трогательной честности и, подхватив раструбы огромных трусов, расшаркался в изысканнейшем реверансе:
– Ах, простите! Ах, извините, наступил грубой ногой на нежное место!
Все уже хохотали. Дневальный, появившийся на пороге, улыбался, ещё не зная чему, но на всякий случай. Даже зачерпнувший было воды Дорошин не удержался и булькнул в кружку. Литкевич оглянулся беспомощно, обречённо вздохнул и, развернувшись, двинул насмешника прямым слева. Получилось без изысков, но сильно. Звон затрещины раскатился по палатке ударом грома. Волошенко отлетел в сторону, вскочил, осовело хлопая глазами, и вдруг, взвизгнув, рванул из ножен дневального штык-нож так, что ножны на ремне бешено завертелись, и, трепеща по воздуху трусами, ринулся на врага. Литкевич перехватил его табуретом. Брызнули щепки. Нож, звякнув, завалился за кровать, и оба, сцепившись, всё круша и переворачивая на пути, покатились по полу.
Противников растащили.
– Лажа! Из-за бабы драться!.. – объявил Дорошин с презрением.
Но без всякой пользы.
– Сволочь! – Злобно таращился из своего угла Волошенко.
Нос его был разбит, а скула посинела.
– Сам сволочь! – с не меньшей злобой шлёпал разбитой губой Литкевич.
– Убью я тебя, гад! – ненавистно шипел Волошенко.
– Я тебя сам убью! – твёрдо обещал Литкевич.
Их кое-как развели и к приходу ротного навели порядок, но полного порядка навести не удалось. Весь день противники после этого старательно друг друга обходили, но, встретившись случайно, снова раздувались от злобы и готовы были сцепиться, так что между ними постоянно приходилось дежурить кому-то третьему. А вечером роту подняли по тревоге и бросили на дорогу вытаскивать застрявшую в «зелёнке» колонну.
Рассадив драчунов по разным машинам, Дорошин устроился на головной и для порядка поглядывал всю дорогу назад. Литкевич сидел позади с видом гордым и независимым, а Волошенко, выказывая полное презрение к миру, и вовсе забился внутрь. Остальные курили и сокрушались по поводу последнего разгрома футбольного отечества. Прошёл слух, что проиграли то ли португальцам, то ли полякам.
Ветер сгустился, ударил в лица знакомым солярным смрадом, и за поворотом показались, наконец, горящие костры наливников. Получив по рации установку, БТРы веером развернулись на дороге и с ходу вломились в виноградник. Все горохом посыпались с брони и неровной цепью полезли наверх. Виноградник и пять-шесть домов рядом рота взяла под себя легко, но на пустом кукурузном поле, сплошь утыканном кочерыжками стеблей, попятилась, залегла и скатилась в сухой арык. Плотный огонь из-за мощного крепостного дувала заставил её залечь.
– А, вот я их! – проворчал ротный капитан Шевцов и хищно клюнул в рацию носом.
И тут же парами кружившие над дорогой вертолёты перестроились в круг. Фыркнули ракетные залпы, бомбы ухнули так, что вокруг арыка растрескалась сухая земля. И вдруг все увидели, как из последнего, самого ближнего к дувалу дома густо повалил оранжевый дым, – свои.
– А, дьявол! – ругнулся капитан и дал вертушкам отбой. – Кого туда чёрт занёс?
По роте пробежала молниеносная перекличка, и Дорошин похолодел, – чёрт занёс туда Литкевича и Волошенко. Эти двое отойти вместе со всеми не успели, а вытащить их было нечем.
Целый час пехота не могла поднять головы и только наблюдала за тем, что происходит между крепостью и домом. А события там разворачивались интересные.
Заметив оранжевый дым, крепость изо всех сил старалась неудобного соседа выжить. Дом в долгу не оставался и огрызался так плотно, что шум стоял за целую дивизию. Несколько раз там что-то оглушительно взрывалось. Дом обрушивался целыми стенами, затихал, но потом снова принимался бодренько потрескивать автоматами. Прислушиваясь к этому треску, Дорошин пытался понять, из скольких стволов работает дом, и, если казалось, что из одного, покрывался холодным потом. Он места себе не находил, грыз без нужды бесполезного снайпера Гилязова, и в голову ему лезли нехорошие мысли.
– Не боись, им трактор мозги не ездил! – успокаивал его Гилязов, но не слишком уверенно.
Все понимали, что более подходящего случая для «тракторов» и быть не может, а мозги у обоих явно набекрень.
Наконец подоспевшая с горки десантура навалилась на «зелень» сверху, и вдоволь належавшаяся рота разнесла крепость в пыль. Дорошин вломился в дом первым. Высадив дверь плечом, он влетел по осыпающимся ступенькам, и, прокатившись с ходу на куче стреляных гильз, рухнул на пол. Ветер гонял по комнате вонь пороховых газов и смятые патронные пачки. Чумазый, оборванный Волошенко сидел по-турецки на полу и набивал магазины. Засыпанная патронами каска раскачивалась перед ним, и крыльями развевались при каждом движении клочья разодранного маскхалата. Не менее грязный Литкевич стоял у обрушенного окна и контужено зевал.
– У-у-у, гад!.. – урчал кошачьим, нутряным голосом Волошенко, щелчком загоняя патрон.
– Сам гад! – свирепо скалился в зевоте Литкевич.
– Морда тамбовская! – клокотал Волошенко.
– Сам морда! – немедленно отзывался Литкевич.
Дорошин с кряхтением поднялся.
– И не надоело вам? – ухмыльнулся он, растирая ушибленный бок.
– А ты чего прискакал? – мигом развернулся к нему Волошенко. – Вали, пока не навешали! – и угрожающе засопел.
– Да ну? – не поверил сержант.
– Морда! Три лычки! – подтвердил от окна Литкевич.
И, засопев носами, оба недружелюбно надвинулись на сержанта. И ростом, и сроком службы Дорошин был выше, но тут от неожиданности попятился и только головой покачал:
– Идиоты! – сказал он сердито.
Вытолкнул из дверей подоспевшего Гилязова и побежал догонять своих. Новый их взводный всего третью неделю привыкал к жаре, и без своего заместителя нервничал.
А ночью Дорошина разбудила хлопнувшая дверь. Он открыл глаза, долго всматривался в темноту, и среди смятых простыней и голых пяток разглядел, наконец, две пустые кровати. Не спалось, конечно, Литкевичу и Волошенко.
– Ну, блин!..
Дорошин беспокойно поднялся, сунул ноги в ботинки и, шлёпая по полу шнурками, вышел.
Было тихо. Дремал под грибком дневальный, налитая, полная луна зависла над ним, и заскучавший на дальнем посту часовой пытался дотянуться до неё беззвучными малиновыми трассерами. Дорошин обошёл палатки, заглянул за каптёрку, и, поднявшись на невысокий каменный завал, замер. Удивительная картина открылась перед ним. Внизу, в клубах фантастической лунной пыли катались по земле и добросовестно молотили друг друга двое. Лунным светом лоснились животы, влажно мерцали потные спины, и только натруженное сопение нарушало необычную тишину.
Дорошин постоял, подумал, и в той же беззвучности спустившись с завала, вернулся к палаткам. У грибка дневального он остановился закурить. Дневальный прислушался.
– Что там? – спросил он тревожно, качнув стволом в сторону завала.
– Порядок, – отозвался Дорошин не сразу.
Докурил в две затяжки сигарету и вернулся к себе.
В палатке он долго не мог уснуть, ворочаясь и наматывая на себя горячую простыню. Наконец, задремал и сквозь сон услышал, как мимо палатки прошли, тихо переругиваясь и шмыгая разбитыми носами в сторону умывальника двое.
– Гад!
– Сам гад!
– Всё равно я тебя убью!
– Я тебя сам всё равно!..
– Пацаны… – пробормотал Дорошин, и уснул вдруг так крепко и безмятежно, как не спал ещё ни разу с начала своей войны.
Теоретик
Скрипнула дверная пружина, могучая, полногрудая дворничиха толкнула Витьку распахнутой дверью и заворчала:
– И ходит, и ходит, и топчет, и топчет… Охламон!
– Топчут петухи, бабка, я перемещаюсь! – бодро отрапортовал Витька.
– Какая я тебе бабка? – взвинтилась дворничиха.
– А какой я тебе охламон? – возразил Витька.
И был бы тут же со всеми своими возражениями с лица земли сметен, если бы на пороге не появилась Верка, и дворничиха сразу подобрела. Рядом с Веркой добрели почему-то все, даже милиционеры. Бойко отстреляв по ступеням каблучками, она подхватила Витьку и напролом понеслась через осень и ржавые гаражи.
– Брось ты его! – посочувствовала ей в спину дворничиха. – Такая девка и с охламоном.
– Ладно, – пообещала ей Верка на ходу, – вот только до угла доведу и брошу! Как дела?
– Да вот, дворники обижают, – пожаловался Витька и с ловкостью фокусника преподнес ей две «Лакомки», с боем взятые на вокзале.
– Тебя обидишь… – заулыбалась польщённо Верка и с увлечением принялась сразу за две. Верка вообще увлекалась: гимнастикой, медициной, кино. Она училась в университете, но мечтала отправиться в ГИТИС, для чего брала уроки у одной престарелой, но «совершенно настоящей актрисы», и Витька ее провожал. С семи до девяти Верка училась декламации, дикции и всему такому, а Витька торчал детским грибком во дворе и отбивался от подозрительных жильцов. Но Верка всегда выходила такая гордая, такая возбужденная и счастливая, что он не роптал и втайне гордился сам. И было чем.
Одним своим появлением на улице Верка нарушала правила дорожного движения. При виде её машины сбрасывали скорость, а все, что двигалось в шляпах, синхронно вращалось вслед. Легкая, затянутая в струнку Верка была отлита из того материала, из которого отливают, наверное, «лакомку». Она прямо-таки светилась светом, при котором мужики втягивали животы, а женщины решались, наконец, сесть на диету. Витька рядом с ней был совсем незаметен, но история у них была замечательной. Знакомиться с Веркой было больно, причем физически. Случилось это как-то сразу, само собой, и, конечно, глупо.
Классе примерно в восьмом он неожиданно обнаружил, что Верка Шумилина ничего, и она сразу подняла его на смех. Беда была в том, что обнаружил это не только Витька. Геннадий Сергеевич Дронов, школьный физрук, стал обращаться к ней на вы, открывать перед ней, как перед взрослой, дверь и являться на уроки в редчайших штанах «Аддидас». И туг уже все заметили, что Верка Шумилина красивая, и вокруг неё закружил целый рой. Гоше Витька налил в эти штаны кефиру. Вернее, сначала вложил, а потом прихлопнул, – у Ленки Самохиной лежал в сумке пакет. Кефир был с улицы, день холодным. И хлопнуло так, что звон раскатился по всему городу. Гоша взвыл и гигантскими кенгуровыми прыжками умчался вдаль. Все думали за грифом от штанги, чтобы Витьку этим грифом убить, но оказалось, жаловаться. Стены родной школы обрушились на Витьку, гнев педсовета и родительского комитета. Из математической шестьдесят третьей его с треском вышибли в тридцать седьмую, но репутацию Гоши он этим холодным оружием подмочил. Верка смеяться над ним перестала. И тут на пути его встал Клёпа. Знаменитый Колька Клепиков не потерпел чужой славы. Днем порядок в районе наводила милиция, ночью он, и Клёпа решил, что присутствие Витьки в его районе непорядок и попытался всё это объяснить. Но Витька с этим не согласился.
За Клёпой ходила чудовищная слава каратиста. Он делал странные движения руками и дико во время драки орал. Витька ничего такого не знал, бил как умел, и скоро так в этом преуспел, что Клёпе срочно пришлось вызывать подкрепление в составе Шурки Колыванова и Мухитдинова-Мухи. Их всех уже выперли из тридцать седьмой и не хотели брать в ПТУ. И завязалась затяжная, с переменным успехом война. Сначала они втроем ловили и били Витьку, потом их по одному отлавливал и бил он, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы однажды в их беседу не вмешались петровские. Петровские были злейшими врагами Заречья, и в битве с общим врагом родилась дружба, которую они тут же скрепили "Осенним садом", отчего Клёпу прошибла слеза, а Витьку жесточайшее расстройство желудка. И пока он безмолвно этим недугом страдал, инициативу перехватил Цыпа.
Цыплаков был воплощением девичьих грез. Он умел играть на гитаре, красиво закатывать глаза и петь по-английски «Естедей». Верка обожала «Битлов» и перенесла свое внимание на Цыпу, но торжество его длилось недолго: Цыпа заболел, как только поправился Витька. Он навесил на эти глаза такие фонари, что Цыпа целую неделю сидел дома и осваивал элементы женской косметики. А когда он привел для разборки мифического старшего брата, то никакого разбора не получилось, потому что старшим братом согласился, как оказалось, побыть за десятку Клёпа. Храня верность "Осеннему саду", Клепа червонец вернул с приложением, и Цыплаков еще неделю разучивал по-английски "Гуд бай май лав, гуд бай!"
К осени Витька убедил в своей серьезности всех. Единственной, кто все ещё не воспринимал его всерьёз, была Верка, и не мудрено. Витька был долговязым, а не высоким, донашивал третий год штаны, а вокруг неё кружился рой в голубом и фирменном. Спасла Витьку ранняя осень.
Верка панически, до ужаса боялась темноты, класс перевели во вторую смену, а вся ее свита к вечеру как-то незаметно испарялась. Спортсмены опаздывали на тренировки, поэты вдруг спешили к перу. Если Верка боялась темноты, то все остальные Клёпы.
Витька же не боялся уже ничего. И Верке, скрепя сердце, пришлось с его присутствием согласиться. Она позволяла себя провожать с видом огромного одолжения. Неделю только провожать, потом не только, а через месяц они уже вовсю целовались в подъезде. Витька увлек ее соблазнительной возможностью себя воспитать. Он притворился, что сроду ничего кроме «Букваря» не читал, никогда не сидел за приличным столом и вообще стоит на краю гибели и тюрьмы. И, спасая его от гибели, Верка запоем читала ему стихи и водила смотреть закат, а он смотрел на нее и для пущей убедительности хамил.
Скандал грянул, когда Верка познакомила его со своей мамой, и та с удовольствием узнала в нем одного из самых заядлых своих читателей. Нина Анатольевна заведовала районной библиотекой и была просто потрясена непонятным негодованием дочери. Она даже попросила Витьку помочь и спасти дочь от дурного влияния улицы, отчего Верка и вовсе взбесилась. И Витька окончательно бы погиб, если бы не выяснилось, что за столом он вести себя действительно не умеет и некоторые надежды в смысле воспитания все-таки подаёт.
Отец Верки, военный летчик, вечно где-то летал, и в доме постоянно нужно было что-нибудь забить, починить, сделать. Витька забивал, он вовсю орудовал в шумилинской лоджии и скоро освоился у них как дома, тем более, что дома получалось наоборот. Мать его пошла по второму разу тогда замуж, у Витьки появился новый отец, а в доме другие порядки. И не то, чтобы они его задевали, наоборот. Новоявленный его папа Вася был мужиком неплохим и почти не пил. Он так боялся Витьку обидеть, что в его присутствии полностью растворялся, но именно поэтому Витька старался присутствовать как можно реже, тем более, что скоро его присутствие понадобилось Верке.
Веркины родители уехали в "дикий отпуск", а Верка всю ночь бегала для соседки к автомату за «скорой». Соседка оказалась крупной и совершенно здоровой стервой, с ней ничего не случилось, а Верка подхватила воспаление легких, и, когда Витька ее в больнице нашел, несла в беспамятстве чушь и лежала в самом продувном коридоре.
Оказалось, что сиделок в больнице нет, пенициллина тоже, а если и будет, то неизвестно, можно ли ей колоть. Умудренный улицей Клёпа разъяснил, что плохих людей не бывает, плохой бывает зарплата. Витька загнал ему свой кассетник, и у Верки появилась сиделка, пенициллин и место в лучшей палате. А может, палата была и не лучшей, но Верка в ней ожила. Краснея от смущения, она просила его «кое-что» принести и объясняла, что где лежит.
– Ладно, ладно! – ободрял ее Витька. – Лифчики вверху, плавки ниже. В курсе уже!
– Идиот! – бормотала пунцовая Верка.
– Чисто теоретически! – оправдывался Витька, и по-хозяйски гремел у Шумилиных кастрюлями, ящиками и шкафами. Витька таскал ей бульоны, заставлял есть и выгуливаться в больничном сквере, и, когда подхваченные телеграммой, насмерть перепуганные родители прорвались, наконец, в Заречинск, Верка уже мыла в прихожей полы и пилила Витьку за грязь и засушенные цветы. А дома Витьке устроили грандиозный втык сначала за кассетник, а потом за то, что ничего никому не сказал. А Верка обрушила на него всю свою воспитательную мощь.
В дискотеке она учила его танцевать, в кафе не бояться официантов и во многом действительно преуспела. Отказавшись целоваться с двоечником, Верка выправила ему аттестат, и Витька неожиданно для себя поступил в авиационный, чем до основания потряс тридцать седьмую школу. Он оказался едва ли не первым выпускником, который умудрился после неё поступить в институт. Прошлогодний «Прожектор», в котором Витька ехал вместо коня на двойке, был срочно заменен доской «Наши лучшие выпускники», но Витька его собой не украсил. В доме не нашлось ни одной фотографии, на которой он был бы один. Повсюду и везде рядом с ним была Верка.
Все это было давно, почти в детстве, а теперь Верка ругает его за щетину и стесняется целоваться в подъезде.
– Вот еще, люди кругом! – вырвалась она.
Легко взлетела наверх, и там, справа над козырьком, загорелось окно. Включила свет, сейчас будет разучивать тексты… Витька с легким сердцем пошел домой и вдруг вспомнил, что никаких текстов у Верки нет, книжку она оставила у актрисы. И, обреченно вздохнув, побрел обратно. Все равно бросится звонить и требовать немедленной доставки, а иначе «никогда-никогда не будет его ни о чем просить».
На город навалилась уже полновесная, тяжелая ночь. Придавленный ею дом казался неузнаваемым, но Витька его по пружинному скрипу узнал, и, нашарив в темноте нужную дверь, позвонил. И тут же сообразил, что ошибся, – актриса жила напротив. Но дверь уже загремела, плеснула светом. Пахнуло однокомнатной духотой и бытом, и Витька оторопел. Геннадий Сергеевич Дронов стоял перед ним в рубашке на распашку, тапочках и все тех же, списанных за выслугу лет в домашние, штанах «Аддидас». Остатки пережитого торжества и недавнего праздника еще тлели в его глазах.
– Вам кого? – спросил он, не узнавая.
И страшная, ослепительная догадка вдруг ошеломила Витьку, к горлу подкатила удушливая волна. И, все проверяя, Витька неожиданно для себя сказал:
– Вера оставила у вас книгу и просила забрать.
Он еще надеялся, что Гоша удивится, не поймет, но Гоша, спокойно повернувшись, взял с подзеркальника книгу – А. Гринберг. «Уроки актерского мастерства».
– Эта?
– Эта, – кивнул ошеломленно Витька.
И дверь захлопнулась. Он долго, как зачарованный, вглядывался в ее черноту. Из этой квартиры выходила возбужденная, счастливая Верка. Потом спустился, спотыкаясь, во двор, под нудный осенний дождь. А здесь он ее поджидал, – каждый день. Спохватившись, Витька вернулся в подъезд, и, ломая спички, прочитал список жильцов. И спичка обожгла пальцы. Витька откашлялся, как будто собрался петь, повёл занемевшей шеей и хрипло рассмеялся:
– Ну, дурак! – и сам себе подивился. – Теоретик…
И ровным, размашистым шагом ушел прочь.
Дома Витька не ночевал, где пропадал днем, неизвестно, а в среду к шести появился под веркиным окном. Верка, как всегда, опаздывала. Поправляя на ходу прическу, выскочила из подъезда и сразу же заспешила.
– Как дела? Чего кислый? Идем?
И сорвалась, ожидая его за собой. Но Витька спешить не стал.
– Ты извини, – сказал он бесцветно, – но больше я к нему не пойду…
– К кому? – удивилась Верка и крашеные её ресницы дрогнули.
– К этому… – Витька неопределенно махнул рукой. – Из сорок седьмой.
Верка споткнулась, и, чтобы не упасть, ухватила его за рукав:
– Вот, блин, каблук сломала! – и запрыгала на одной ноге. – Неси на скамейку!..
Витька не шелохнулся. Потом нагнулся и аккуратно её обул. Каблук был там, где ему положено, и Верке пришлось на него посмотреть.
– Ты что подумал? – изумилась она. – Ты что вообразил? – и звонко, по-настоящему рассмеялась, – Маргарита Сергеевна живет напротив!..
– Да, – неловко подтвердил Витька, – напротив.
Сунул ей забытые «Уроки» и заспешил на подлетевший с Петровки трамвай. Взглянув на книгу, Верка покраснела.
– Витька, Литкевич, стой!.. – и вдруг озлобилась. – Ну и иди, идиот, пацан, сволочь! И всем расскажи, шпион!..
Но Витька её не слышал. У него было много дел: военкомат, институт, Клёпа.
А вечером он укладывал рюкзак и монотонно оправдывался:
– Всех забирают… И Серёжку Голованова, и Славку…
– Но ведь у тебя отсрочка была! – сокрушалась мать.
– Я летом сессию завалил.
И так же монотонно отвечал Верке по телефону.
– Витька, глупый, что ты наделал! – кричала она из автомата. – Ты попал в команду двести восемьдесят! У папы знакомый в военкомате, это Афган!..
– Опять на улицу раздетая выскочила? – вяло попрекал ее Витька.
– Да послушай ты, папа говорит, еще не поздно, еще можно все изменить! Да стань же ты хоть немного взрослей!..
Но Витька не становился.
– Не выскакивай к автомату в тапках, – наставлял он и вешал трубку.
На вокзал Витька провожать себя не позволил. Расцеловал в первый раз папу Васю, обнял мать и растворился в толпе таких же, как он, стриженных и смешных.
А осенью весь подъезд поднял на ноги страшный, звериный вой. Всполошившиеся соседи выскакивали на площадки и испуганно переглядывались.
– Что это?
– У кого?
– В девятнадцатой…
Витькина мать билась головой о стену. Перепуганный папа Вася бегал вокруг неё и капал валериану мимо стакана.
– Витя, кровиночка!
И все вокруг заметили, что мать у Витьки маленькая и седая. А внизу стояли на лестничной площадке и зло переругивались двое военных с расстроенными и черными от загара лицами.
– Ну, блин, чтобы я ещё кого согласился везти!..
– Это же надо раньше извещения успеть…
– А что мне было, в камеру хранения его сдавать? И ждать, пока бумажка придет?
Папа Вася нелепый в своей пижаме и белый спустился к ним и трясущимися губами сложил:
– А как… он?
Военные посмотрели на него хмуро и подозрительно, но, видно, сообразили, кто, и один неохотно из себя выдавил:
– Когда обложили, гранатой себя рванул… Хорошо умер.
– Хорошо, – согласился папа Вася, и, всхлипнув, сел, как был, на оплеванный грязный пол.
Хоронили Витьку быстро. Похороны старались провести раньше, чем слух о них облетит город, но город был. Пьяный Клёпа рвал на себе рубашку и кричал, что пойдёт в Афган, были учителя из шестьдесят третьей и тридцать седьмой и стайка напуганных однокурсниц. Витькину мать оттаскивали от гроба и говорили слова. Смотрели, и, придавленные медью оркестра, о чем-то неуместно громко шептались. С кладбища расходились оглушённые и растерянные, как будто не понимали, почему в гробу, почему Витька? И еще заметили, что больше всех убивается почему-то и ближе всех держится к его матери несчастная, зарёванная Ленка Самохина. А потом рядом с ним положили Голованова, и Витьку забыли.
Некоторое время к его матери ещё заходили, но с каждым месяцем реже, – событие для большого города было всё-таки небольшим.
Память о нём держалась только на страшном, упорном слухе. На кухнях, в трамваях и в очередях перешептывались, что гроб был запаян, что в нём не тот, но весной всё неожиданно разъяснил сам Витька. Мать перебирала его последние вещи – парадку и мелкий солдатский скарб, – и вскрикнула. На тяжёлой пряжке новенького солдатского ремня было глубоко и навсегда выцарапано: «Вера». И все сразу поняли, – тот.
Вредитель
Полк собирался в рейд, перекликался, пересчитывался и запускал дизеля. Перед воротами КПП уже выстраивалась колонна, а к командирам ещё приставали обиженные из оставленных:
– Ну, товарищ майор!.. Ну, товарищ майор!
– Ну, товарищ старш-нант!..
Седьмая рота скручивала матрацы, оставляла лишнее в каптёрке и дописывала письма. Чтобы в переписке с Союзом не возникало тревожных перерывов, письма писались впрок и сдавались писарю Валерке.
– На, – вручали ему очередную пачку, – отправляй раз в две недели. На три месяца хватит. – И с беспокойством добавляли:
– Только не вздумай, зараза, всей кучей отправлять! Прошлый раз вся родня обчиталась.
Валерка кряхтел, морщил облупленный солнцем нос, но письма принимал безропотно. Аккуратно перетягивал пачки аптекарскими резинками и складывал на тумбочку.
– С вас бахшиш! – бурчал он. – Взятки беру сгущёнкой.
– Давай, давай, – хохотал из угла Волошенко, – выполняй Родине план по макулатуре!
Сам Волошенко никому не писал по причине тщательно скрываемых суеверий, и потому надо всеми потешался.
Последним подошёл к Валерке «молодой» Крутов, протянул завёрнутую во «Фрунзевец» пачку и робко пробормотал:
– Возьми, Валера, если можно. Сделай раз в три дня…
– Сколько? – в ужасе вытаращился Валерка на протянутую пачку.
– Раз в три дня, – повторил неуверенно Крутов.
Валерка посмотрел на его просторное, с карантина ещё не ушитое «хб», на растрескавшиеся в нарядах руки и вздохнул:
– Давай, салага. И когда только написать успел, из кухни ведь не вылезаешь?
Крутов облегчённо вздохнул, попятился и побежал грузить на ЗИЛы ящики сухпая. А Валерка пошёл в штаб прятать от комбата почтовую кипу.
В шесть утра, в последний раз позавтракав в полковой столовой, седьмая рота пристроилась к общей колонне и выехала на дорогу. Валерка постоял у ворот, подождал, пока не затянет пылью замыкающую машину, и отправился в штаб. Нужно было ещё навести порядок. Пачки писем он уложил в стол, а свёрток Крутова, слишком для этого большой, сунул на шкаф, в дальний пыльный угол. Привычная после каждых проводов тоска уступала место ещё более привычным делам.
День у Валерки прошёл как в горячке. Прапорщик Корнейчук, непосредственный его шеф, свалился с приступом малярии, начальник штаба ушёл вместе со всеми в рейд, а только что прибывший из отпуска комбат в штабе ещё не появлялся. И Валерка ворочал делами один. Гонял за подписями дневальных, собирал из остатков рот караул и ругался со старшинами. Старшины людей в караул давали неохотно и кивали один на другого.
– Что ты ко мне привязался? – доверительно шептали ему в уютном полумраке каптёрок. – Ты к Малееву иди. Он, паразит, шесть человек больными записал, а у меня нету!
– Что? – ревел в своей каптёрке прапорщик Малеев. – Ты Дерюгина бомби и Тарасенко! Знаю я, сколько у них на срочных работах числится…
Валерка внимательно выслушивал каждого из старшин и всех выявленных таким образом людей беспощадно заносил в караул. А прапорщика Малеева, как самого недовольного, сунул начкаром. Писарские обязанности Валерку угнетали, но исполнял он их неукоснительно, и иногда, если людей всё же не хватало, сам шёл как строевой на двухсменный пост. А вечером через дневального полковой писарь Гоша пригласил Валерку на именины. Валерка заскочил перед самым закрытием в магазин, купил на все чеки, что надо, и ближе к отбою отправился в полковой штаб.
В штабном бараке было тихо. Один только часовой стоял у зачехлённого знамени и, оперевшись на денежный ящик, дремал. Гоша, давний, ещё с карантина валеркин приятель, сидел за высокой стойкой и вытюкивал на машинке какую-то бумажку.
Сколько же тебе лет, балбесу? – поинтересовался Валерка, шлёпнув его дружески по шее.
– Двадцать, – сообщил Гоша и отпихнул машинку на край стола.
– Замуж пора. Держи, будет, чем в загсе расписываться!
Валерка сыграл на губах свадебный марш и вручил имениннику подарок, – китайскую, с золотым пером авторучку.
Гоша нелегально собрал у себя всех, с кем летел когда-то в памятном самолёте из Ташкента. Ели, хрустели печеньем, тянули из банок яблочный сок и представляли, что это пиво. В самый разгар веселья промелькнул в приоткрытой двери кодировщик Вася, тоже свой человек.
– Сюда, Вася, сюда! – зашипели ему, чтобы не услышал в соседней комнате дежурный офицер.
Дежурил сегодня Скворцов, а он шутить не любил, потому что его разлюбила официантка. Но Вася только отмахнулся зажатой в кулаке бумажкой и по коридору промчался пулей. Вернувшись скоро, он плотно прикрыл за собой дверь и с ходу присосался к подставленной банке.
– Сводку носил! – перевёл он дыхание и с монотонностью телетайпа отбарабанил: – Колонна обстреляна за блоком шесть… в седьмой роте сгорело две брони… Номера забыл.
В комнате стало тихо. В открытое окно ворвался из летнего клуба какой-то фильм. Его герой оглушительно и красиво объяснялся в любви, счастливым смехом заливалась на весь полк героиня.
– Поздравили, суки, – проворчал Гоша и смахнул в корзину пустые банки.
Все осторожно поглядывали на Валерку. Тот молча рисовал новой ручкой какие-то каракули. Потом взял со стола ремень и лязгнул пряжкой.
– Кто?
Вася вытер о штаны испачканные копиркой пальцы и вяло ответил:
– Рядовые Джураев, Стригач, Волошенко ранены, рядовой Крутов убит…
И, коротко всем кивнув, Валерка нахлобучил панаму и ушёл в батальон. Рабочий день его внезапно продолжился.
Открыв батальонный сейф, Валерка из стопки военных билетов вытащил нужный. В ящике на букву «К» разыскал и приложил к нему послужную карточку. Всё это нужно было к утру замполиту. Но вспомнил, что замполит сегодня укатил вместе со всеми, и, стало быть, извещение нужно составлять ему. «При защите южных рубежей…» – писал и зачёркивал Валерка. «Верный воинскому…» – писал он и снова зачёркивал. «Проявляя…» В ящике замполита лежал образец. Нужно было только вставить фамилию и дату, но Валерке всегда казалось, что это не всё, что нужно, а что нужно, он не знал. И, смяв бумажку, к чёрту бросил её в корзину.
На вечерней проверке он стоял, пристроившись к чужой роте, и за всех своих выкрикивал:
– Рядовой Рябинин убыл на выполнение боевого задания!.. Сержант Литкевич убыл на выполнение боевого задания!..
«Надо было сразу отметить в списке тех, кто убыл!» – запоздало сожалел он. А когда дежурный по части, уткнувшись в слабо освещённый фонариком список, вызвал Крутова, Валерка на секунду растерялся, замешкался. Потом, испугавшись той пустоты и молчания, которые возникли после этой фамилии, сиплым голосом крикнул:
– Убыл на выполнение!..
Потом вернулся в свою огромную, опустевшую на три месяца палатку и, не раздеваясь, лёг. Поредевший батальон, грохоча табуретами и переругиваясь, укладывался спать. Лёг, потихоньку заснул, и вдруг снова вернулась та напряжённая, звонкая тишина, которую он нарушил десять минут назад, только теперь нарушить её было нечем, и некому врать. Он лежал один среди опустевших, голых кроватей, и было ему так же неловко и так же хотелось крикнуть. И это было впервые.
На писарскую свою должность Валерка попал не за красивый почерк. Просто, когда вернулся из госпиталя слабый и тощий, комбат, чтобы хоть как-то его пристроить, посадил в штаб. Много раз потом просился Валерка обратно, но комбат его не отпускал. Сажал для острастки на «губу» и снова прикручивал к штабному стулу. Он лежал неподвижно в клетке кроватных дужек, и среди пустых сеток было ему впервые тоскливо и одиноко. Раньше Валерка думал, что ко всему привык и всё уже видел, но оказалось, что он никогда не видел голой кроватной сетки над собой. На втором ярусе над ним ещё вчера лежал Крутов. А теперь его нет, – тихо и зарешёченная сеткой пустота.
Валерка не спал всю ночь, ворочался, курил и угрюмо жевал подаренную отпускным комбатом колбасу. А утром после завтрака отстоял развод и как всегда бодрым шагом отправился к палатке батальонного штаба. Он открыл дверь своим ключом и огляделся. Разложенные на столе бумаги белели в полумраке, а со шкафа поглядывал пожелтевшим газетным клочком свёрток. Валерка подошёл к столу, добавил к бумагам «Книгу входящих» и ещё кое-что поважней и тщательно всё переворошил. Посидел ещё немного, глядя на стол и думая, что бы ещё добавить. Потом снял с полки склянку чернил и, оглянувшись на дверь, вылил всю на бумажную кучу. Чернил хватило и на бумаги, и на стены, и даже на новенький, неделю назад выданный завскладом стул. Бросив склянку на пол, он сел на другой стул и стал терпеливо дожидаться комбата.
Комбат из отпускного настроения ещё не вышел. Он явился в парадной форме и со свету разгрома в полутёмной палатке не разглядел. Он по-стариковски тяжело опустился на стул, рассеянно взял в руки какую-то бумажку, и только тогда почувствовал под собой подозрительную сырость и пальцем нащупал лужу. Он потянул носом воздух и растерялся.
– Что это такое?
– Да вот, – спокойно развёл Валерка руками, – чернила разлил.
Комбат с ужасом посмотрел на ворох фиолетовой бумаги, заглянул, неловко извернувшись, себе за спину и побагровел.
Всё, что кричал ему майор, Валерка выслушал молча, и иногда только, чтобы ещё больше его распалить, огрызался.
– Олух! Да знаешь ли ты, что наделал? – грохотал комбат. – Бездельник зажравшийся!.. Писарюга! – и вдруг взорвался и растерявшемуся, только что вошедшему прапорщику Дерюгину прямо в лицо проклокотал: – На Панджшер вредителя! К Шевцову на перевоспитание! Исполнять!
И уже после обеда Валерка с матрацем и вещмешком стоял у КПП и загружался в почтовый БТР. Вместо Валерки в штаб был срочно отозван временно заболевший Морсанов, и теперь он его провожал.
– Валерка, ты рехнулся! – тихо шептал он. – Тебе что, мало было? Не навоевался? Тебе до дембеля месяц…
– Значит так, – перебил его Валерка. – Бланки в правом ящике стола, стандартная бумага в шкафу, а образцы как чего писать я тебе оставил. И, уже взявшись за поручень, разъяснил, – не могу я больше писать… ухожу. Точка. – И, привычно взлетев на броню, крикнул в люк:
– Поехали!
БТР взревел, Валерка помахал на прощание обшарпанным своим, дембельским автоматом и исчез в пыли. А Морсанов побрёл в штаб и в новом месте уныло огляделся. Аккуратный, подписанный Валеркой свёрток лежал на столе. «Один раз в неделю» – прочёл Морсанов, и, вздохнув, сунул его на шкаф, откуда уже свешивался жёлтым газетным ухом другой, всеми забытый свёрток.
Письмо
На марше, когда ничего хорошего уже и не ждали, неожиданно подвалил бахшиш. Бахшиш прихватил из полка Кременцов. Вывалился из попутной «вертушки», кошкой, чуть не на ходу взлетел на броню и весело заорал:
– Не ждали, гады? Службу забыли? По караулам соскучились?
И вывалил в люк сгущёнку, взводному «Яву», а остальным целую гору «Охотничьих». Все радостно засуетились:
– Валерка, гад!
– Удрал-таки, вырвался?
– Отыскал?
У него всегда и для всех что-нибудь находилось: сгущёнка, сигареты или просто привет. Такой уж он был человек, – приветливый. А Голованову прихватил письмо. Показал краешком «авиа»:
– Танцуй!
Сам же за него на броне станцевал и рухнул в люк, куда его утащили за ноги рассказывать новости. Все завистливо застонали:
– О-о-о!..
Помучили для порядка и письмо через час отдали. Но Голованов своим счастьем делиться не стал, потому что не такой был человек, а наоборот, – застёгнутый, как бронежилет. Говорил мало, думал много и писем вслух никогда не читал. А хотелось. Всех давно уже разбирало, почему другим уже через полгода писать перестали, а ему нет? И писали ему на зависть часто, всегда одним и тем же почерком и, очевидно, о чём-то важном, потому что он после этого ходил загадочный и серьёзный. И что характерно, всегда «авиа», всегда на роскошной бумаге, и благоухала эта бумага так, что принюхиваться к ней сбегались всем батальоном, и с изумлением убеждались, – духи. И каждый раз спорили, что вот это письмо – последнее. Но проходила неделя, и почтари уже с КПП кричали:
– Голованову!
Сгущёнку проигрывали из-за него ящиками и систематически приставали:
– Ну, прочитай, что тебе!.. Ну, тогда про себя, а мы просто на твою морду смотреть будем!
Но ни на морду, ни намекнуть Голованов не соглашался, потому что при других стеснялся даже про себя.
– Вот и сейчас сунул конверт под бронежилет и от смущения скомандовал:
– Пасите зелёнку, ироды! Дувалы пошли.
Хотя командовать не любил, да и лычками особо не вышел. Всего и старшего, что стрелок. Глянул искоса на смешливые рожи и в надежде на виноградник замкнул. В колонне уже вовсю высвобождали под виноград патронные цинки и предвкушали, каким получится из него вино. Миносян утверждал, что красным. Но тут сапёры впереди завозились и встревожено закричали:
– Назад подавай! Назад!
И земля у них под ногами неожиданно поднялась. Слева грохнул крупным калибром откос, справа треснула мелко «зелёнка», и закипело.
Самсонов так развернул башню, что стволами едва не смахнул всех с брони. И колонна грянула из всего, что имела.
– Пускай дымы, Кузнецов!
– Ориентир скала-скала-между… Огонь!
– Голованов, слева присмотри! Ещё левей!
Так его раскрутить и не удалось. Бегали дотемна в «зелёнке», а ночью загремели всем взводом в охранение. А там какое письмо? Приказа о демобилизации не прочтёшь. Корнюхин попробовал было забить косяк, так его самого чуть было в этот косяк и не забили. Постреливали всю ночь одиночными, чтобы не светиться, и гадали, какой паразит так ловко стрижёт с горы и чем бы его прихлопнуть. Паразита прихлопнули на рассвете «вертушкой» и ушли без раскачки в «зелень», а уж там про Голованова и вовсе забыли.
Вытаскивали из ущелья завязшую разведроту, и поначалу всё шло хорошо. Успели даже набить виноградом цинки, но дальше уже пошли крепости, мощные, с амбразурами и зелёными тряпками на шестах. А может быть, и не крепости, а просто пять или шесть домов, слепившихся общей стеной, но стена эта была такая, что прошибать её приходилось по всем правилам, с разведкой, штурмом и прочей канителью. Комбат замучил заказами «вертушки» и то и дело просил через себя пушкарей. Пушкари отзывались, «вертушки» устраивали карусель, и крепость на несколько минут умолкала. Тогда её быстренько зачищали головной ротой и шли дальше. К полудню взяли таких четыре и привалились отдышаться у разбитой стены. Прикрывшись БМП, развели костерки. Грели на шомполах сухпай и мучительно хотели жареной картошки.
– Нельзя, нельзя нам тут заглубляться, – волновался рядом комбат. – Отрежут!..
И ротный что-то ему отвечал, но отвечал как-то кисло, и вообще, выглядел в последние дни неважно. Не клеилось у него что-то с продавщицей. Поговаривали даже, что видели её в Кабуле с другим. И после картошки все заговорили о женской верности.
Всем было ясно, что её нет, – проверено экспериментально. Поливанов на всякий случай переписывался с тремя, и ровно через полгода все трое, не сговариваясь, вышли замуж. Он, было, загрустил и даже собрался стреляться, но так и не решил из-за кого. Выставил на камне три фотографии и расстрелял, после чего ему значительно полегчало, потому что раньше из-за тройной переписки недосыпал. Не было женской верности, точно. И вдруг все вспомнили, – Голованов. И обернулись. Голованов сидел, привалившись спиной к тракам, и вопиющим несоответствием белел на его колене конверт. И он так бережно его расправлял, был так несокрушимо спокоен, что все заподозрили, – неточно. И бросились уточнять.
– У тебя с ней чего, всерьёз?
– Ты, главное, скажи, ждёт?
– Что у вас, эта, как её, любовь?..
– Ты скажи, будь человеком!
Но Голованов был не просто человеком, а счастливым, и разделить своего счастья никак не мог. Даже если бы захотел, не делилось. Курил, молчал и загадочно по своему обыкновению улыбался. И всем вдруг нестерпимо захотелось узнать, – чему? Захотелось почувствовать и хоть на миг ощутить. И завелись на него уже не на шутку.
– Колись, Голова, что пишут?
– Кто такая? Познакомились как? – приставали к нему и страстно упрашивали. – Ты хоть намекни, зараза, не будь козлом!
Но Голованов был твёрд, как скала. Смотрел с каким-то странным сочувствием и печально улыбался. Но народ от него не отступал. Приставали, спорили и донимали:
– Ну, погоди, отольётся тебе наша сгущёнка!
И решили действовать методически.
Брали его, как крепость, – обстоятельно, с прикрытием и на штурм. В перекурах просто доставали, а на привалах доставали не просто, а с изворотом. Самсонов заводил страшную историю о том, как одному дембелю писали-писали, а когда вернулся, то оказалось, что уже замужем и беременны. А Косаченко рассказывал про другого дембеля, который, узнав про такое, и вовсе не вернулся и остался в армии на сверхсрочной, что было ещё страшней. И Корнюхин лицемерно вздыхал:
– Да, вся жизнь бардак, все бабы дуры!..
И коварно заглядывал Голованову в глаза, ожидая, что тот возразит: «Не все!», и тогда его можно будет поймать. Но Голованов не возражал, и вообще, держался так, как будто всё это его совершенно не касается. И закрадывалось волнующее подозрение, а, может, правда? А, может, есть? И отчего-то очень хотелось, чтобы было. И весь взвод охватило романтическое помешательство.
«Молодые» выспрашивали у «дедов», правда ли? И те с изумлением припоминали: «Правда. С самого карантина и раз в неделю письмо».
Поливанов перестал рассказывать похабные анекдоты, а Корнюхин их слушать. Волновались, спорили и галдели. Виноград надавили в рассеянности в канистру с бензином, и Миносян залил её в бак. Про войну забыли настолько, что Шерстнёв застроил взвод и вывернул у всех карманы, заподозрив у Корнюхина косяк. Но косяка никакого не нашёл, а письмо, уважительно обнюхав, вернул, сообщив поразительное:
– «Клима»!..
Отчего любопытство стало уже и вовсе нестерпимым. И, наконец, уже вечером, на привале Корнюхин не выдержал и сказал:
– Всё. Ща я буду тебя убивать. Читай, гад, или здесь оставим! – и грохнул в сердцах прикладом оземь.
Голованов посмотрел на него сначала рассеянно, а потом с удивлением.
– Да вам-то зачем? Вам-то с этого что?
И все возмутились:
– А ты думал, всё тебе? А нам, значит, ничего?
И, почувствовав слабину, залебезили:
– Нам бы только проверить! Нам бы только хоть краешком… Нам узнать!..
И Голованов, улыбнувшись чему-то, вздохнул:
– Ладно, достали, сволочи… Только я сначала себе.
И, привалившись спиной к дувалу, осторожно распечатал конверт. Но ни себе, ни людям, прочитать не успел.
– Подъём, седьмая!
– Давай, давай, мужики!
И они дали в последний раз так, что «зелёнка» треснула и брызнула во все стороны клочьями рваных корней. По сигналу навстречу пошла в прорыв разведрота, и скоро, пристроив её в середину, колонна попятилась и, прикрывшись «вертушками», отошла.
Но выйти из ущелья оказалось непросто, всё произошло так, как говорил комбат. На выходе пришлось разжимать «клещи». И они ещё долго бегали по «зелёнке» и мучили заказами пушкарей, а в сумерках прорвались и притащили на себе Голованова. У него было два сквозных и слепое в шею.
– Всё, дембель! – объявил медик Пашка. – Сухожилие начисто и позвонок…
Снял с него бронежилет, распорол «хб» и, сорвав дрожащими пальцами колпачок, мгновенно всадил шприц-тюбик.
Вещи и всё, что было в карманах, чтобы не пропало в санбате, оставили. Потом выломали в развалинах дверь и, положив на неё Голованова, понесли к «вертушке». «Вертушка», присев на минуту, спешила до темноты, и ни проститься толком, ни уложить его как следует не успели. Вернулись молча и сели вокруг костра. Разбухший от крови конверт лежал на земле, и никто не знал, что с ним делать Обратный адрес уже расплылся, да и нельзя было ему такому обратно. И тогда Самсонов его взял и решительно протянул Кременцову:
– Читай… Он ведь и сам нам хотел.
Валерка его взял, развернул осторожно слипшийся листок и, поглядев на всех странно повлажневшим взглядом, прочёл:
– Серёженька, милый мой, желанный, дорогой, здравствуй!..
И всё вокруг возликовало:
– Бывает, мужики, бывает!
И возбуждённые, озарённые чужим счастьем лица потянулись к костру.
– Милый, желанный мой, жду тебя каждый день…
– Ждёт! – ликовали вокруг и пробовали губами, – Желанный!..
– Всё, – решительно объявил Валерка, – дальше не разобрать.
Но этого было достаточно. Всем было немыслимо спокойно и хорошо.
– Так-то вот! – удовлетворённо вздохнул Самсонов. – А вы – «не бывает, не бывает»!
И, заглянув Валерке через плечо, вздрогнул. На разбухшем и расползающемся от крови листе не сохранилось ни слова. Всё расплывалось бурой и маслянистой влагой.
– Что, правильно прочитал? – в упор посмотрел на него Валерка.
И Самсонов, не задумываясь, подтвердил:
– Правильно.
И, отобрав у него листок, бережно опустил в костёр. Листок от прикосновения огня съёжился, но потом кровь на нём высохла и, стремительно расправившись, он вспыхнул и, уже распадаясь серыми хлопьями, всё вокруг себя осветил.
Варяг
Перед выездом посадили медика-Пашку, ни за что посадили, прямо за ерунду. Подумаешь, взводного послал и подержал за воротник, так он всех посылал и каждого подержал: и замполита, и ротного, и старшину. А комбат уже не знал, куда его и послать.
И куда только не посылали Пашку: на Панджшер, под Файзабад, в Кандагар, пробовали даже перевоспитать в образцовой четвёртой роте, но Пашка отовсюду возвращался неперевоспитанным. С Панджшера вернулся он округлившимся и весёлым, из Файзабада не вернулся – привезли под конвоем, а четвёртая образцовая начинала образцово курить гашиш. И Пашку срочно переводили в седьмую, которую испортить было уже нельзя, а потому и не жалко. Замполит о нём прямо сообщал: «Мечин – единственный, на кого я похоронку напишу с удовольствием!». Но Пашка ему удовольствия не доставлял, и даже, когда его перевели в самую гиблую сапёрную роту, не загнулся, а с такой бесшабашностью глушил на Панджшере рыбу, что третий взвод едва не оглох. Но взвод за это на Пашку не обиделся – рыбы получилось навалом, – а в ушах позвенело чуть-чуть и прошло. И всё, совершенно всё у него проходило: кишмишовка, самоходы, бражка, бахшиш. Прошла однажды даже целая канистра вина, которую произвели самопально и хранили для безопасности под кроватью комбата. Канистра эта от жары взорвалась, до смерти перепугав командный состав, но кто её сунул, комбат так и не установил, и Пашку посадил только на всякий случай. И всё ему было, как с гуся вода. Один только раз зацепили его в Файзабаде, но из госпиталя скоро выгнали, – то ли сестричку с врачом не поделил, то ли наоборот, поделил. Сам он подробностями не делился, сказал только: «С свинцом в ноге и жаждой мести!..», и утолил жажду привезённым спиртом. А мстить никому не стал, потому что такой был человек – немстительный. И давно уже не был он никаким санинструктором, а кем только уже и не был, и бродил со своими сапёрами по всему Афгану, но так и оставался для всех Пашкой-медиком. Потому что так уж повелось – если плохо, иди к Медицине. К нему и приходили, и становилось неплохо, а некоторым даже и хорошо, Голованову, например, или Полоскову. И вот, посадили. Замполит посадил, – он-то был наоборот, очень мстительный. Сказал: «Пока человеком не станет, не выпущу». И всем стало нехорошо, потому что для него в батальоне существовал только один человек – воин с плаката «Ты защищаешь Родину».
И что только с этим воином не вытворяли: и усы ему рисовали, и украшали фингалом глаз, и пересобачивали первую «щ» на «ч», замполит всё равно плакат после скандала переклеивал и снова заводил про моральный облик. И вот, значит, решил сделать человека из Пашки: «С гауптвахты у меня только человеком выйдет!». Отсидит Пашка трое суток, появится.
– Ну что, Мечин, стал человеком?
Пашка ответит – и снова с треском на трое суток, потому что, как следует, отвечал, как положено, и так ровно месяц, подряд десять раз, штаны просидеть можно. Упёрлись оба – и ни в какую, на принцип пошли. Точнее, замполит на принцип, а Пашка на «губу». Губари, конечно, только обрадовались: Пашка для них и вовсе родной, а батальон загрустил: некому стало старшину послать или достать ротного, а надо бы, потому что они уже достали всех: подъём, зарядка, отбой. Раньше хоть Пашка заряжал, а теперь замполит:
– Дисциплина…Служение…Долг…
А чего дисциплина, и задолжали кому? И так жизни нет, одна служба. Ротный во всю наслаждался строевой, непрерывными тренажами мордовал старшина; только в караулах и отдыхали и с нетерпением ожидали Пашку.
– Ладно, ладно, будет вам дисциплина!..
– Пашка вернётся – наладит!
Ему, конечно, помогали: приносили кое-что и как могли, навещали. Полосков нарочно «присел» на сутки, чтобы его навестить. Вернувшись с губы, сообщил:
– Лепит из клейстера замполитов бюст. Похоже – страсть!
А позже удалось доставить и бюст. Вонючий, загустевший от жары замполит был и вправду удивительно похож, и все наслаждались им, пока стало невозможно нюхать, но позже разнеслось – перевели в одиночку. И тут уже загрустили даже губари. В общей камере воцарилась тоска, а в батальонных палатках старшина. На кроватях стали отбивать табуретками уголки и выравнивать ниткой полоски на одеялах. Оказывается, так полагалось делать в нормальной армии, а до этого армия была ненормальной. Начальство безнаказанно наводило порядок, и порядок установился такой, что третий взвод захотел на «губу», для чего завалился на кровати в чём был и в полном составе. Но на губу его не пустили: прогнали марш-броском и пропесочили на разводе. Седьмая рота становилась похожей на четвёртую, а точнее, не похожей на себя, и встречала Пашку только по утрам, когда губарей выводили на работу.
– Пашка! Привет!
– Держись, Медицина!
И Пашка держался, ковылял бодро на хромой ноге и приветственно помахивал киркой.
– Врагу не сдаётся!.. Пощады никто!..
И губари, по его указанию, делали героические лица и, чеканя строевым, запевали «Варяга». Пели они вдохновенно, с поразительной слаженностью, а чеканили так, что старшина только головой качал:
– Вот сволочи, а! Ведь могут же, могут, когда захотят!.. – И не понимал, отчего не хотят, если в принципе могут.
А мог Пашка ещё и не такое. Все помнили, как он брал караван под Файзабадом и какого матёрого душару приволок на Панджшере. Замполит устал наградные заворачивать:
– Пока человеком не станет, не получит!
Но Пашка не становился. Получал следующие трое суток и горланил:
– Я сижу на берегу, не могу поднять ногУ!
И могучий губариный хор запевал:
– Не ногУ, а нО-гу!
– Всё равно не мОгу!
И действительно, не мог, приволакивал ногу Пашенька. Хромал с каждым днём всё больше. Четвёртую неделю сидел, осунулся, почернел, на лице оставались только нос и глаза. Но нос он по-прежнему держал кверху, а в глазах плясали прежние черти. Прихрамывал, распевал «Варяга» и держался. И так прошёл месяц, потянулся второй, и все вдруг почувствовали, что держится на нём что-то совсем другое, то, чего даже табуретами не отбить, и по нитке не выровнять. Даже старшина почувствовал, даже ротный, и, самое странное, отбивать этого не хотелось. А хотелось, как прежде, обругать, застроить и от души разнести. И отчего-то было на этой душе неспокойно. И надо бы застроить, и обругать стоило, но ведь это же Пашка, особый случай. А если его заравнять, зашнуровать, – что останется? – ничего особенного.
– Петрович, брось, – уговаривали замполита. – Чего взъелся? Нормально наказал!
– Ну, Александр Петрович, ну в караул же некому заступать! – приставал взводный. И даже комбат, который Пашку иначе как «раздолбаем» не называл, неожиданно вспомнил:
– А этот, как его, Мечин… Что за эксперимент? – и поморщился, но отменять ничего не стал, не стал отменять авторитета своего заместителя, – это было всё равно, что армию отменить или алфавит. А сам он, даже если бы захотел, отменить уже ничего не мог.
Весь личный состав наблюдал за ним, весь батальон. Немыслимо было отступление на глазах у всех, и замполит неотступно преследовал свою цель:
– Ну, что, Мечин, стал человеком?
Но и Пашка на попятную не собирался:
– Только после вас, – вежливо отвечал он и получал следующий «трояк».
Пашка дерзил и ещё громче горланил «Варяга» и создавал полное впечатление, что «губа» – санаторий, и, подхваченный этим впечатлением, начинал дерзить батальон. Какая-то бесшабашность появлялась в нём и необузданная, задиристая лихость. Батальон переставал бояться «губы» и вообще, бояться. Полоски на одеялах стали называть «извилиной старшины», поэтому табуретами их отбивали с удовольствием. Воинственный плакат мастерски поправляли одним штрихом так, что утром все с изумлением узнавали фамилию замполита: «Воин, ты защищаешь Родина». А воин, украшенный таинственно проросшими за ночь усами, становился подозрительно похож на комбата. Дело принимало серьёзный оборот. Что-то раскалённое повисло в палатках, неопределённо гнетущее, и уже не об отдельном Пашке шла речь, а о самой возможности быть Пашкой и им оставаться. Батальон напряжённо следил за событиями, и каждые трое суток облегчённо вздыхал: остался.
– Послал! – ликовали в палатках. – Снова врезали три по сто!
И оказывалось, возможно, получалось, что может быть. И всё в этот день получалось и удавалось так, что было жалко спать. А отосланный Пашкой замполит торопливо строчил сопроводительную записку, в которой «считал невозможным» и полагал, что «не может быть». А Пашка всё равно был и на записки глубоко плевал, шёл ко дну несокрушимым «Варягом», и всем было ясно – не сдастся, потому что такой он, Пашка, и всё ему как с гуся вода. Но «губа» вовсе не была санаторием, а воду «губарям» приносили раз в сутки.
Начальство затеяло зимний клуб и назначило новую работу – ломать камень. Губари возвращались с неё запылёнными, серыми от усталости, а во дворе гауптвахты их встречал замполит. Прежде он начкаром почти не заступал – некому было проводить политзанятия, а теперь зачастил.
– Ну, что, походим вместо Мечина? Он ведь у нас ходить не любит, – объяснял он и начинал гонять строевым.
Три дня объяснял по три часа, и Пашка сломался. Выводной приник жадным ухом к двери и не поверил.
– Ну, что, Мечин, стал человеком?
– Так точно.
– А будешь нарушать устав?
– Никак нет.
И Пашку отпустили. Почерневшего, худого, вернули его в палатку, но было такое ощущение – не вернули. Он стал молчаливым, сосредоточенным и серьёзным, на все вопросы отвечал «так точно» и «никак нет» или не отвечал совсем. Никуда не рвался, ничего не хотел, и целыми часами смотрел в одну точку, а в точке этой ничего не было – пустота. Это был совсем другой Пашка, а прежнего, заводного, оставили на «губе», на «губе» осталась бесшабашная, непотопляемая его лихость.
Ему, конечно, сочувствовали, и всё понимали, но и сочувствовали другому, прежнему Пашке, а этого понять не могли. Молчит, сидит и думает, – непонятно. И батальон заскучал, некому стало заряжать и горланить «Варяга». Единственным, кто выглядел довольным, был замполит:
– Вот видите, даже Мечин справляется, а вы?.. – подгонял он на марш-броске.
И Пашка действительно справлялся, не смотря на хромоту, справлялся, не смотря ни на что. Ни единого замечания не нашлось для него у старшины, ни малейших нареканий не высказал ротный. Поэтому, когда стали думать, оставить его с караулом или зачислить на выход в рейд, замполит возражать не стал. Наоборот, поддержал:
– А что? Солдат как солдат…Я думаю, не подведёт.
К новому, притихшему Пашке он относился почти с симпатией, выделял его как хорошую работу. Но сам Пашка себя не выделял. Молча собрался, тихонько влез на броню и стал совершенно незаметным, – солдат как солдат. Но едва батальон углубился в «зелёнку», едва поднялся с первого привала, замполит вдруг заметил взгляд – тяжёлый, пристальный, исподлобья. Рядовой Мечин смотрел ему в спину – рука на спуске, предохранитель вниз – вот-вот и шарахнет. «Вот паразит! О чём только думает! – поёжился замполит и похолодел. – Об этом и думает, и всё время думал! Сволочь какая, скотина, гад!». И, главное, ничего не скажешь: у всех на спуске, и предохранитель у всех.
– Чего уставился?
– Никак нет, – ухмыльнулся Пашка.
– Давно не видел?
– Так точно, – обрадовался он и загорланил «Варяга».
И в тот же день рванул в одиночку ДШК, набил морду танкисту и приволок откуда-то барана, да такого огромного, что даже взводный не выдержал:
– Ну, чёрт медицинский! – восхитился он. – Медицина хренова!
И все вдруг узнали – Пашка, бесшабашный, весёлый, свой, а замполита наоборот, не узнали. Каким-то дёрганым стал замполит, нервным, от малейшего звука вздрагивал, от каждой чепухи психовал, и всё время оглядывался, всё время чего-то ждал. А дальше – больше.
Чем глубже батальон уходил в «зелёнку», тем веселей и развязнее становился Пашка, и, наоборот, угрюмее и задумчивее был замполит. Он злился, срывался на пустяках, но поделать ничего не мог. Необъяснимый и подлый страх охватывал его, унизительный, навязчивый, липкий. «Этот может, – объяснял он себе. – Этот всё может», но другим объяснить не мог. Не мог же он сказать, что Мечин смотрит, а Пашка смотрел, и всегда ненароком, всегда как бы вскользь. Он дышал в затылок, висел над душой, и только капитан знал, что не смотрит он, а присматривается, выжидает момент и подходящий случай. А случай подходил – начинались штурмовки, прочёски и неразбериха, в которой случиться могло всё, и, чтобы не случилось, капитан перестал спать. Перестал проверять посты и садиться на головную броню. Издёрганный, взвинченный замполит перестал быть собой. Ожидание становилось кошмаром, а кошмар – обрывистым сном. Пашка уже начинал сниться, и каждый раз снилось, что он производит случайный в спину, и никто уже не может доказать, что не случайный. «А может, самому? – закипал замполит. – Чего ждать?». Но и самому было нельзя, – Пашка ведь только смотрел, а в остальном – «так точно» и «никак нет». Оставалось только унизительное, мерзкое ожидание, и он ждал, ждал, ждал. И после штурмовки в развалинах дождался: двинулся в одиночку к седьмой и нарвался. Пашка сидел на мине и играл гранатой. Мину он снял с дороги, а граната в ладони была без чеки. Ободранный, почерневший Пашка смотрел в глаза и белозубо скалился.
– Ну, что, замполит, стал человеком?
И замполит понял. Была «зелёнка», чёрными дымами догорали БМП, потрескивало очередями с постов и здесь никого не волновали полоски на одеялах, не волновали гауптвахта и строевой шаг. Даже его, замполита, не волновали, а волновало, что в седьмой остался последний сапёр – Пашка, а Пашку даже и это не волновало. И замполит сломался:
– Так точно.
– А будешь ещё людей мордовать?
– Никак нет.
– Эх, ты, – укорил Пашка и неожиданно, по-стариковски вздохнул. – Грохнуть бы тебя, полудурка!..
Но убивать никого не стал, а сунул чеку в гранату, мину подмышку и заковылял, не оборачиваясь, к постам, безмятежно и во всё горло распевая «Варяга», потому что такой он был человек – немстительный.
Хор имени Пятницкого
После выезда, едва выбравшись из палаток, образцово-показательный полк стремительно преобразился. Некому стало показывать, пылью покрылись образцы. Вырвавшись из гарнизона, всё стало принимать свой обычный, походный вид и входить в нормальную колею. С автоматов свинчивались для удобства приклады, к уставным штанам присобачивались вместо заплат неуставные карманы. Неуклюжие, тяжёлые подсумки сменялись самопальными «лифчиками», мобуты – кедами, и все, поголовно все оказались бородатыми.
Бриться было и нечем и некогда. Воду за полком тащили на водовозке и выдавали по фляге в день: хочешь пей, хочешь брейся, и больше хотелось пить. Обросший, бородатый комбат стал удивительно похож на царского полковника. Курчавый Миносян разросся так, что старшина уже дважды угрожал побрить его штык-ножом. Какое-то время держался ещё замполит. Дня три он ходил только слегка небритым и жужжал на привалах механической бритвой «Спутник». Но бритва была отечественной, «Спутник» на четвёртом привале сломался, и замполит молниеносно оброс.
– Сломался, сломался замполит! – ликовал личный состав и, воодушевлённый поломкой, внешний вид запустил окончательно.
Могучей щетиной покрылся Косаченко. Безобразными островками заколосился Линьков. На людей стали похожими все дембеля и даже некоторые из молодых, а у Корнюхина не росло. Под носом ещё туда-сюда, а на подбородке ни грамма. И уже неделя прошла, и другая, а у него не росло. Раздражение росло и расстройство чувств. И Лёшка прыгал в расстройстве на чью-нибудь подножку, заглядывал в зеркало заднего вида и содрогался, – вид безобразный: уши, щёки и нос. И хоть бы чепуховина какая выросла не щеках, хоть бы чего приросло под носом, так нет. Три волоска в два ряда и четвёртый с краю. И каждый день доставал Лёшку замполит:
– Ну, хоть один на человека похож! – радовался он.
И мужики добивали:
– Человек… – разглядывали они и удивлялись, – гляди, похож!
И чем дольше это безобразие тянулось, тем больше он чувствовал себя непохожим, и, что самое противное, другие чувствовали. Обманутые внешней молодостью танкисты запахивали чистить ствол. Дембель из девятой роты норовил послать за водой. И Лёшка посылал за водой дембеля, и тут же у ствола раскрывал танкистам обман, но обман не раскрывался.
Лейтенант оглядывал с тоской взлохмаченный взвод и печально просил:
– Корнюхин, хоть ты, что ли, за водой сходи…
Потому что за водой нужно было проходить мимо штаба, а у всех борода, которую комбат разрешал только себе, и у штаба он его неизменно замечал:
– Ну вот, внешний вид! А вы – условия, условия…Плохому солдату война мешает!
И, чувствуя себя хорошим, Лёшка невыносимо страдал, тем более, что комбат, насмотревшись на него, выбрил личным «Брауном» всех штабных, а мимо штаба приходилось ходить. И ни «лифчик» не помогал, ни кеды, ни хипповое, переделанное из панамы, кепи. Так и мучился. Чтобы хоть как-то успокоиться, пошёл снова к танкистам, но танков на прежнем месте не нашёл, а нашёл десантуру, и тут уже, конечно, расстроился капитально.
Сидел, приложив к глазу гранату и прямо-таки изнемогал. Жить не хотелось совершенно. Да тут ещё мужики, как назло, затеяли фотографироваться всем взводом на фоне гор. Раздобыли где-то фотоаппарат, выставили противно подбородки и принялись зазывать:
– Лёха, айда!
– Корешок, задница прорастёт!..
Но Лёшка в ответ только мрачно сопел:
– Не могу, – глаз!
Потому что истинную причину скрывал, и, чтобы скрыть окончательно, влез на подножку к Дмитренко и зашаркал всухую китайским станком.
– Да хрен с ним, с глазом! Завтра таких четыре набьём, – уговаривали его.
Но Лёшка упёрся – и ни в какую, шаркал мрачно и пучил глаз, так, что многих это даже удивило. И чего он так из-за глаза? Всё равно под грязью не видно. Молчит, сопит и морду скоблит.
– Брось, Корешок! Бабы больше бородатых любят!
И тут уже Лёшка психанул, – его прямо-таки пронзило. Но не сразу психанул, а тактически.
– Ладно, паразиты, побрею я вас! – мрачно решил он. После бритвы стал старательно натираться «Гвоздикой» и поразил всех расчёской, от которой сразу отлетели два зуба, и лёгким облачком поднялась пыль.
– А носки в парфюме замочил? – заинтересовался личный состав.
Но Лёшка не откликнулся и на носки. Извлёк из заначки ослепительную подшиву и хладнокровно прикрыл её свежестью грязь воротника, отчего все завелись уже окончательно – подшива была страшным дефицитом и применялась только в случаях большого начальства и великой радости. Но начальство, вроде бы, отпадало, а последней радостью была сгущёнка, и ту на прошлом привале съели.
– Для кого бигуди? – не выдержал Линьков.
Лёшка неспешно застегнул «хб», помолчал загадочно:
– Для искусства!
И коварно пошёл спать.
И все взволновались, взвод остался с ощущением тайны, и чем больше над ней размышлял, тем крепче становилось ощущение. Ковалёв объяснил, что для искусства – это вроде как для себя, но в «для себя» никто не поверил: для себя Лёшка ленился даже разогреть сухпай. А тут «на человека похож», и, вообще, в последние дни «внешний вид». Кто его здесь увидит? Зачем это надо? Каждый забеспокоился, что, может, и ему надо, а он не знает, и, чтобы узнать, пошли в штаб.
Штабом были два БТРа: один простой, а второй не простой, а «Чайка». К нему и направились. Выставив часового, подошли, поскреблись в броню и остолбенели – из люка выставился на мгновенье сонный и совершенно бритый Морсанов. Одеколоном «Наташа» веяло от него и военной тайной. И тайна раскрылась.
– Юрчик, кого ждём?
– Как это – кого? – удивился он. – Хорымина и Пятницкого.
И все обалдело переглянулись – хор имени Пятницкого! Дышать перестали в принципе. Чтобы переварить, помолчали, а, помолчав, не поверили. Сюда – хор? Да здесь через день штурмовка, через неделю обед. Какой там Пятницкий, – бред! И перевели дух. Но тут из второго БТРа отрывочно донеслось. Комбат устраивал кому-то разнос:
– Артисты!.. Театр!.. Самодеятельность!.. Прекратить!..
И все окончательно помертвели: артисты с театром и какая-то самодеятельность. А из БТРа возбуждённо и громко неслось:
– Циркачи, блин!.. Бригада!.. Согласовать!..
И тут уже задышали:
– Ну, блин, дела!
– То-то Лёха у штаба вертелся!
– Сидят себе, набриваются, а мы не при чём?
И через пять минут ошеломляющая перспектива открылась всем. Батальон возбуждённо загудел:
– Артисты приезжают, циркачи и какой-то хор!
И уточняли:
– Женская труппа! Бригада типа фронтовой!
Ковалёв взахлёб затосковал о театре, Самсонов заспорил, что лучше цирк, и только Корнюхин продолжал спать. Но будить его никто не стал: что нужно делать, знали уже и без него. Скакали зайцами по броне, потому что ходить по обочине запретил сапёр, и меняли лезвия на воду. Но если вода ещё у кого-то оставалась, то лезвий не было ни у кого, а если и были, то за ними выстраивалась такая очередь, что к её концу они становились действительно безопасными. Косаченко, оказавшись шестнадцатым, ревел навзрыд. Миносян начал уже всерьёз присматриваться к штык-ножу. Спарывали карманы, возвращали подсумки, торопливо и наспех возвращались в мирную жизнь. Дневную норму воды истратили полностью, и счастливые, ободранные, принялись ждать.
– Мужики, вы чего? – испугался, проснувшись, Лёшка.
Но до него даже не снизошли: знаем, знаем, мол, можешь не заливать. Глядели в небо, откуда должно было спуститься искусство, и беспокоились, что ему некуда сесть. Но тут сапёры впереди что-то рванули и колонна, лязгнув, пошла и присыпала пылью свежую красоту.
Чтобы не опоздать, воевали наскоро. Наспех взяли какую-то сопку, потом ещё, а третью не взяли и испугались – с сопки работал по «вертушкам» ДШК. Но напряглись и пулемёт сбили. Задыхающиеся, чуть живые, поставили на прикрытие свои, и вертолёт действительно прилетел. Завис на минуту, присел, и из него вывалились два аккуратных, отутюженных майора. Мокрый, полумёртвый от усталости комбат к ним подошёл, и они козырнули:
– Майор Хорымин!
– Майор Пятницкий!..
– С проверкой из штаба армии.
И батальон отвернулся. В тот вечер никто и ничего не говорил, даже Корнюхину ничего. Жевали вяло сухой паёк и понимали, отчего он сухой.
Вечером, когда, наконец, вышли к реке, заговорили:
– Ну, лохи, ну, кретины!
– Чуть не сдох без воды, всю морду себе ободрал!
– Какая сволочь пустила дезу?
И началось следствие. Каждому хотелось эту сволочь найти. У одного погибли в панике дембельские усы, другой располосовал себя так, что до сих пор истекал кровью, и всем хотелось на эту сволочь просто посмотреть. Но всем сразу посмотреть было нельзя. Дознание проводили самые крутые и конкретные дембеля: Федотов из девятой роты, Налейко из восьмой, Ходынин и Корнеев из автовзвода. Поднимали, отводили в сторонку по одному и опрашивали:
– Ты про хор от кого узнал?.. А тебе кто сказал? А он?..
И очень скоро вышли на третий взвод, но взвод железно стоял на своём: деза пришла из штаба. И тут же извлекли из БТРа, и только потом разбудили ни в чём не повинного Морсанова, но тот только выпучил в изумлении глаза:
– Да вы что, мужики? Я сам от девятой узнал!
И круг замкнулся, пришлось всё начинать сначала. Будили, трясли и вытряхивали правду, и к утру снова вышли на третий взвод. Но взвод опять-таки указывал на Морсанова. И тут уже завелись по-настоящему. Неизвестная сволочь снова кинула и выставила лохами лучших людей. Распалились до того, что не сразу догадались спросить, а зачем пошёл к Морсанову целый взвод, и кто первым произнёс это слово «искусство»? Но потом спросили, и правда открылась – Корнюхин. И тут уже его разбудили. Нарочно-ненарочно не разбирались:
– Что, спишь, тварь? А мы вот не спим… Подъём, сейчас деды тебя будут жизни учить!
Лёшка поднялся, оглянулся растерянно на своих, но все крепко и старательно спали. Спал Косаченко, спал Миносян и даже Линьков. Чтобы не шуметь, повели его к внешним постам, и часовые тоже старательно пялились в темноту и ничего не замечали. Только ракеты перестали пускать, чтобы не засветить случайно место суда, поэтому и лёшкиного лица в это время никто не видел.
Били его долго, люто и с наслаждением. За то, что кинул, за то, что поверили, и никто не прилетел. За напрасно потраченную воду и подшиву и вообще за всё. Лёшка, как ни странно, оказался крепким: не оправдывался, не просил. Раза два попробовал даже отмахнуться и не падал, пока не свалили его крепким, кованым ударом в живот. Но и тогда молчал, пускал кровавые пузыри и со странной жалостью смотрел в небо. А на небе уже загоралась заря и розовыми отблесками отражалась в его глазах.
Таким и нашёл его на заре Миносян и испугался неподвижности глаз:
– Да что же это они, а? Ара, ты как?
Но Лёшка и ему ничего не сказал. Поднялся молча и неловко, боком полез на броню. Лицо у него было землисто-бледным, а взгляд тусклым и немножко больным. Но синяков под грязью было не видно, поэтому никто и ничего не заметил. Он только двигался слишком медленно, опаздывал отвечать на вопросы, отставал. Поэтому, когда колонна попала под обстрел, не успел. Спрыгнул неловко с брони, сделал неуверенно два-три шага и упал. Снайпер срезал его, когда все давно и надёжно залегли за скалой. Вытащить его сразу не смогли, и ещё полчаса все смотрели, как он пытается подняться из пузырящейся красной лужи. Потом, когда подошла и прикрыла своей бронёй БМП, его смогли вынести. Отбились кое-как, расчистили пятачок, и комбат заказал вертушку. Вертушка ушла, и все попрятались: в машины, в люки и в свои дела. На колонну как будто опустилась тишина, и ни рёв моторов не нарушал её, ни грохот дизелей. Взорвал тишину комбат. Выскочил на стоянке из связного БТРа с бледным, перекошенным лицом:
– Подонки, сволочи!.. Перевешаю, как собак! Мерзавцы!
И перепуганный Морсанов объяснил:
– Оказывается, пулевое у него туфта, у него три ребра сломаны и селезёнка…
И в звенящем напряжении стал не слышен даже комбат. Курили, молчали и с нарочитой скукой смотрели вдаль. Страшный, трясущийся Миносян пошёл со стволом вдоль колонны:
– Убью, всех убью! – хрипел он.
И, конечно же, никого не убил, потому что убивать бы пришлось действительно всех. Все были виноваты и зависели от того, сдаст их Лёха или не сдаст. Знали, что теперь каждый день будет трясти его особист. А он такой, он вытрясет. И потянулось тяжёлое, томительное ожидание: со дня на день, с часу на час, вот-вот и подлетит особист. Но Лёшка не сдал.
Он лежал в медсанбате и прожигал неподвижным взглядом потолок, как будто дыру в нём хотел прожечь и испепелённое зноем небо. Таким и застал его Миносян и засуетился, выкладывая бахшиш, – пустили его не надолго.
– Виноградик, сгущёнка, халам-балам! – и отдельно от всего положил бережно на кровать кассету. – И вот ещё от мужиков бахшиш…
Но Лёшка на него даже не посмотрел: повернулся, закашлялся и прошептал:
– Федотова… когда вернусь… убью…
И Миносян ответил:
– Не надо, Лёшик, убили его уже…Под Файзабадом в девятой две машины сожгли…
И, неловко цепляясь халатом за углы, вышел.
Лёшка долго лежал неподвижно, потом осторожно задышал, потянулся нетвёрдой рукой к кассете и замер, дожидаясь, когда растает боль. И, когда всё прошло, всё растаяло, всадил кассету в магнитофон и на всю палату, на весь медсанбат величественно и распевно грянул хор имени Пятницкого.
Злоумышленник
За перевалом седьмой день шла войсковая операция, седьмой день в ущелье трещало, лопалось и рвалось. Над головами бесконечными парами заходили вертушки, и шла, сотрясая горы, тяжёлая техника. Сбивая сопки и оседая на блоках, батальон за неделю наполовину растаял и, напоровшись на особенно плотную «зелень», запросил подкрепления. Через час мимо него прошла на штурмовку десантная разведрота. Проплыли каски, нагрудники и укороченные стволы и с обшарпанных БМД понеслось:
– Эй, мобута, вали с дороги!
– Воду кипятите, черномазые! Вечером носки подвезём для стирки!..
И над дорогой, едва не вздымая пыль, покатились могучие раскаты воздушно-десантного юмора.
Потрёпанная, подавленная пехота униженно молчала. Все чувствовали на себе заплатанные штаны и несмываемую, уже недельную грязь поражения. И только тощий, всегда незаметный Черепанов не слишком громко сказал:
– Давай, давай, полосатые, вали, пока не навешали!
Замыкающая БМД от изумления остановилась. Потом снова пошла, но с неё на ходу соскочил и приблизился вразвалку могучий сержант в плавжилете на голом теле и с синим дембельским орлом на плече. Лычки у него были наколоты непосредственно под орлом.
– Ну, – недобро прищурился он, – и кто это вякнул?
Пехота невольно съёжилась, попятилась потихоньку назад и оставила перед собой одного Черепанова. Тот с тоской оглянулся, лизнул пересохшие губы, но довольно твёрдо ответил:
– Я.
– Ты? – не поверил сержант. Оглядел хилую в штанах пузырями фигурку, но даже не улыбнулся. – Вешайся! Вечером приду учить воздушно-десантные войска уважать.
– И, догнав без особой спешки свою БМД, исчез в клубах пыли.
– Ну, Череп, тоска! – посочувствовали Черепанову сзади.
– Может, в санчасть его до завтра заныкать? – предложил кто-то. – Его вон как вчера осколками полоснуло…
Но без особой веры. Санчасть была далеко. Она давно и безнадёжно застряла на перевале, а десантура был рядом и, по всему видно, за слова отвечал.
Сочувствовали Черепанову до самого вечера. Отлёживаясь в сухих арыках и пережидая в домах обстрелы, рассуждали, есть ли у Черепа шанс, и признавали, – ни одного. Он всегда был тише воды и выделялся из всех только носом. Он у него был такой маленький, что, можно сказать, и не было. Надеялись только, что сержант не придёт. На сопках, по слухам, тоже шло туго, и ждали на прорыв десантуру. Но сержант пришёл. Оглядел по-хозяйски расположившуюся на привале пехоту и, высмотрев, кого искал, поманил пальцем:
– Пошли!
Спасти Черепанова было некому. Всё командование, включая десантное, собралось на совещание у комбата. Сидевший у костерка Черепанов встал, одёрнул под ремнём полинявшую «хб» и обречённо пошёл следом. Нахохленная, встревоженная пехота потянулась за ним. Вступиться за него никто не решался, но присутствовать решили все.
Разведрота расположилась на площади у мечети и, выставив по периметру БМД, обедала.
– Во! – оживились десантники. – Ща Миронов на мобуте приёмы отрабатывать будет!
Потеснились и выставили вперёд свой молодняк, чтобы учились и знали как. В стороне бесшумно от деликатности приземлилась пехота.
– Держись, Череп! – зашелестело оттуда.
– Ремень на кулак намотай, ремень!
Но Черепанов не отвечал. Смотрел сосредоточенно на врага и ждал неприятностей. Миронов подождал, критически его оглядел и снисходительно хмыкнул:
– Ладно, один раз можешь ударить… Для заводки… Ну?
И Черепанов ударил. Он ударил один только раз, но так, что пехота ахнула, а у десантников округлились глаза. Миронов как подкошенный рухнул и, нелепо раскинув руки, застыл. Обшитая сеткой каска грянула оземь и описала вокруг него полукруг. А Черепанов, оглядев свой кулак, дунул на него, как на оружие и спрятал в карман. Гробовая тишина нависла над ним, кто-то совершенно явственно подавился сухпаем.
– Да я тебя!.. – взорвался, мгновенно рассвирепев, огромный, как БМД, десантник, и, намотав на кулак котелок, двинулся на мобуту.
Но тут взвилась и разом психанула пехота:
– Назад! По правилам!..
– От винта!
– Не трожь Черепушку!
И над площадью поднялся невообразимый гвалт. Назревал скандал. Десантники хватали за грудки пехотинцев, пехотинцы пачками повисли на десантниках, но тут от поверженного гиганта оторвался и разом всё прекратил санинструктор:
– Ну, всё! – объявил он как приговор. – Он Мирону челюсть сломал!
И сразу же над головами у всех грозно разнеслось:
– Кто?.. Где?.. Миронову?
Командир разведчиков ввинтился могучим плечом в толпу. Подоспели расходившиеся с летучки офицеры, и скандал грянул. Всех застроили, Миронова сдали «медицине», и летучка в командирской «броне» получила неожиданное продолжение. Дым из люков валил такой, что некурящий писарь Морсанов вылетел пробкой наружу и, как из воды, выдохнул:
– Всё, крышка Черепу! Замполит говорит сдать под суд!..
Но Черепанов под суд не сдавался, за него насмерть резался взводный Шерстнёв. Кроме того, на каждого, кто был на вчерашней сопке, командование затребовало наградные, а первым на неё поднялся, как назло, Черепанов. Да и замполит на лишнем «чепце» в своём отчёте особенно не настаивал. И командиры стали уже смутно припоминать, что как раз на это время у них намечался совместный тренаж, и что травма, стало быть, во время тренажа и произошла. Но тут в люк с шумом ввалился начальник особого отдела Лукин. Про него все знали, что личность он загадочная, а мужик неплохой. Но когда дело доходило до службы, мужик исчезал, и сейчас перед всеми предстал загадочный и серьёзный хозяин «особняка».
– Дознание провести по всей форме! – объявил он. – Моральное разложение прекратить! – И грохнул, как топором, люком.
Благодушных настроений командования он не разделял, да с ним особенно и не делились. И дознание началось.
В обтянутую масксетью палатку стали таскать десантников, офицеров, мотострелков, но то, что случилось всего час назад, на бумагу ложилось плохо. Мотострелки молчали, десантники огрызались, а офицеров комбат предусмотрительно задвинул на огневые, откуда вытащить их не представлялось возможным. Да и самому Миронову, как оказалось, челюсть благополучно вправили, и он уже вовсю шуровал в «зелёнке». Складывалось впечатление, что если кто-то и приходил, то только для того, чтобы выгородить Черепанова и рассказать, какой он замечательный и незаменимый солдат. Но Лукин не сдавался. Он терпеливо сводил концы с концами, выявлял, уточнял, сравнивал. Он упрямо гнул свою линию, и после мучительно долгих расспросов на бумаге сошлось: «Нанесение телесных при отягчающих…». Дело было простое, как помидор, – обыкновеннейший неуставняк, но Лукину оно безобидным не представлялось. Любой мордобой в подобных обстоятельствах мог запросто перейти в перестрелку, и что бы ни говорил комбат, как бы ни косился на него личный состав, он решил это дело раскручивать до конца.
– От обязанностей отстранить и препроводить в полк! – приказал он.
И утром Черепанова повели на «вертушку». Его вытащили прямо из «зелёнки», взмокшего и почерневшего от пороховой гари. Он шёл, спотыкаясь, и стыдливо отводил глаза, как будто без ремня чувствовал себя голым. Вместе с ним к «вертушке» шел и Лукин. Счастливого пути ему, понятно, не пожелали, но он этого и не ждал. Прошёл с каменным лицом мимо всего, и через час «вертушка» высадила их в полку.
На гауптвахту и прочие формальности Лукин времени терять не стал. Провёл Черепанова прямо к себе и, усадив на скрипучий стул, приступил:
– Фамилия, имя, отчество?.. Дата и место рождения?.. Звание?
И тут его постигло первое и внезапное разочарование. Черепанов оказался совсем не прост. Внятно ответив на ничего не значащие вопросы, он неожиданно и всерьёз замкнул.
– Ну, кто виноват? Кто начал? – допытывался Лукин.
Черепанов не отвечал.
– Кто первым ссору затеял?
Но Черепанов не издавал ни звука. Он сидел, по-школьному сложив на коленях руки, и молчал.
– Да ты что, в несознанку пошёл? Напрасно, – увещевал Лукин, – известно всё, а признание, сам понимаешь, облегчает!
Но Черепанов не облегчался, виновато сопел и упрямо рассматривал на столе чернильную кляксу. А Лукин заводился всё больше и больше.
– Да глупо же! – страдал он. – Ты пойми, всё, что от тебя требуется – раскаяние!
Его потрясала чудовищная, непробиваемая косность солдата, беспросветная его тупость. Он искренне и изо всех сил пытался ему помочь, подсказывал формулировки, смягчал акценты, но достучаться, пробиться к нему не мог.
– Да ты понимаешь, что это дизель? – бушевал он. – Дисциплинарный батальон, понимаешь? И после ещё дослуживать год. Это же вся жизнь под откос! Ты пойми, полгода скостят!..
И вдруг, приглядевшись, оторопел, – Черепанов давно и безмятежно спал. Он спал с открытыми глазами, сидя и впервые за четыре последних дня. Худые его рёбра почти не выдавали дыхания, руки на коленях застенчиво прикрывали заплаты, а глаза хранили прежнее выражение раскаяния и вины. И что-то накатило на Лукина, подхватило что-то глупое и неосторожное. Он вскочил, как ужаленный, и, схватив сигарету, забегал по комнате.
– Идиотизм!.. Детский сад! Глупость!..
Сигарета занялась не с того конца, одна за другой гасли спички, и никак не удавалось найти китайскую, изъятую у губарей, зажигалку.
Дел у него была куча. Весной он нашёл в кишлаке человечка, и нужно было его встретить, хадовцы обещали вывести на Хайруллу, чёрти что творила в военторге продавщица Маринка, а тут это… Свирепо схватив с аппарата трубку, он по своей линии и через все шумы рявкнул:
– Слушай ты, комбат, что вы там лепили про совместный тренаж?.. И чтобы завтра же я твоего охламона не видел!
Собачник
Мишка Карнаков стал собачником. Стал неожиданно, второпях и так, что отвертеться было никак нельзя. И не то, чтобы профессия была не та, наоборот, собачников в полку уважали и относились к ним с полным почтением. Но уже само название – «собаковод», – Мишке не нравилось. Да и не водился он с собаками. Не любил.
У него и без того был в жизни облом. Мечтал до армии стать десантником, готовился чего-то и даже имел три прыжка, а сиганул в сапёры. Когда «купец» на пересылке объявил: «В инженерно-сапёрный», Мишку едва в строю удержали. Он чуть не выскочил, чтобы дать этому прапору в лоб, но потом сообразил – ничего и тоже вполне серьезно. И отлегло. Десантура после него вечно вторая. Это потом ты для них «мобута» и всё такое, а в горах они смирные и в затылок дышать боятся. И успокоился. Когда первую мину тащил, даже не испугался. Его тогда так долбили, что не успел, а потом привык. И пошло, поехало. За год до того приспособился, что даже в полку ходил и под ноги поглядывал, но в полку бывал редко. Работал чисто, советчиков позади посылал, невзирая на звания и вполне себя уважал. И вдруг, на тебе, здрасьте, приехали.
Взводный старлей Савинчук сказал:
– За сопку пойдешь… с Николаевым. Пехоту на горку проведёшь и обратно.
А Николаев этот и был собачником. И всё бы ничего, дело обыкновенное, но на сопке этой их здорово обложили. Сначала грамотно и прицельно сапёров, потом пехоту, да так, что только щебёнка посыпалась. Мишка успел завалиться за камень, а Николаева пёс протащил с перепугу на пятачок, и с пятачка этого его долго снять не могли. И не оттого, что кто-то мешал, – сопку эту довольно быстро замяли «вертушками». Стерёг Николаева и никого не подпускал к нему пёс. У Лехи было сквозное, он пускал пузыри и не выходил из отключки, а пёс стойко держал оборону. Он то зализывал хозяину рану, то снова обрушивался на «медицину». А Мишку так просто зажевал, штаны располосовал от пояса до ботинка.
– Грохнуть его! – предложил санинструктор, злой и заляпанный чужой кровью.
Но тут зашевелился Лёха.
– Я тебе грохну!.. – включился он. – Сюда иди, Карнаков! – и похлопал его по колену. – К ноге, Анчар, к ноге!..
Пёс растеряно заюлил, пытаясь пристроиться рядом, но Лёха, слабея, толкнул его к Мишке:
– К ноге!.. К этой ноге! Слушать!..
И когда его унесли, Мишка остался на горе с собакой, двойным комплектом и чужими проблемами. Пёс жался к ноге и тоскливо повизгивал, а от радиста по громкой связи неслось:
– Работать, Карнаков, работать! На рубеж выводи!..
И Мишка повел. Укоротил кое-как поводок и двинул вперед. Но работать оказалось совсем непросто. Пёс то тащил его волоком напролом, то всеми лапами упирался и изо всех сил рвался туда, куда унесли Лёху. Мишка орал на него, как на лошадь, и, не зная толком команд, материл:
– Тпр-р-у, зараза!.. Да стой, стерва, ищи!
Пёс иногда искал, крутился беспорядочно по тропе, но находил всякую дрянь: кучи стреляных гильз, тряпьё и патронные цинки. Весной здесь была заваруха, начинались поля, а с псом можно было запросто навернуться. И Мишка твердо решил вон за тем камнем его пристрелить. Но за камнем пехота объявила привал, развернула кто спальники, кто брезент, и, укладываясь, долго над ним потешалась.
– Эй, лопата, валяй в кавалерию!
– Тпр-р-у, верхом, аллюр три креста!
– Чего собаку мучишь, водила?
А утром пса захотели пристрелить уже пехотинцы. Он загнал на скалу радиста, тяпнул гранатомётчика и насмерть перепугал комбата, который дремал себе в спальном мешке и видел жену, а, проснувшись, увидел над собой чудовищные клыки и бездонно-красную пасть.
– Убить скотину! – решил он. – Он мне из строя целый расчет АГС вывел!
Но тут в Мишке неожиданно проснулся сапёрный понт. Пёс был все-таки свой, не посторонний.
– Вот ещё! – возмутился он. – А ночью вас кто, святой дух проведет? – И скомандовал:
– В колонну по одному! Полсотни дистанция!
И колонна послушно поднялась и от него на полсотни отстала, потому что на тропе каждый знает, что главнее сапёра нет, а если не знает, то дурак и первый раз замужем. Майор замужем был не впервой, с чужим сапёром цепляться не стал, потому что последнего из своих уже неделю как оформил «двухсотым», но сам Мишка проклинал себя целый день.
Пёс работать по-прежнему не хотел. Мишка выдохся, рука у него от поводка одеревенела, но теперь уже приходилось держать марку и притворяться, что всё путём, хотя было всё наоборот.
С утра он едва не прозевал с ним растяжку, потом только чудом не сдвинул «сюрприз», а на привале пёс оставил его голодным. Вытащив из мешка две тушёнки, Мишка вспомнил, что собак на работе не кормят, и оставил одну. Но съесть ничего не смог. Пёс так на него смотрел и так умильно колотил хвостом, что кусок в горло не шёл. Мишка вылил ему в каску последнюю воду и в бессилии прошептал:
– Ну, чего же ты, дурак, не работаешь? Ведь работать надо, искать…
И вдруг что-то случилось, произошло. Пёс понимающе глянул, встряхнулся и деловито затрусил по тропе. Он заработал так, что Мишка за ним едва поспевал. Взрыватель в одну сторону, корпус в другую и флажок. Осторожничать было некогда. А пёс тянул и тянул наверх. Он работал, как часики: находил, садился и ждал. А Мишка безоглядно за ним спешил.
«Это ж надо, какое чудо! – дивился он. – И ведь как работает, как идёт! – и восхищался, – Ещё одну взял! Ну, зараза!..» Раньше он ни технике всякой, ни собакам не доверял. Видел, сколько народу на доверии подлетело, но в этого пса уверовал бесповоротно, потому что работал он так, что хотелось ещё чище, ещё быстрей. Он ловил настоящий саперный кайф и безостановочно гнал вперед. Пехота хрипела позади и просила привала, что-то тревожно кричал комбат, но Мишка не слышал. Он спешил, пока получается, пока пёс ведет, и привала никому не давал.
Пёс вывел их к самому гребню и там под скалой упал, задышав часто и тяжело. «Высота! – сообразил Мишка. – Да и нельзя его совсем не кормить…»
– Ну, что же ты, пёсик, вставай!
Но пёс только виновато скулил, поднимался и снова падал. Из носа у него пошла тонкой струйкой кровь. А снизу уже неслось:
– Давай, давай, сапёрик, засветимся здесь!
И тогда Мишка нагнулся и взвалил пса на шею. Нехорошо было его оставлять, как-то не то.
– Ты что? – ахнули за спиной. – А мины как искать будешь?
– Ногами! – прохрипел Мишка.
И с тропы круто свернул на осыпь, где мин точно быть не могло. А может, и были, но это он сейчас поглядит.
Он спотыкался, раскачивался, как на ветру, задыхаясь, валился на бок, но пса из рук не выпускал.
– Оставь, – кричали ему за спиной, – оставь его!.. Мы донесем!
Но Мишка не верил. «Как же, донесёте, – думал он, – как будто знаете, как будто понимаете, что такое пёс!..» Да и нагружена была пехота так, что едва виднелась из-под тюков. Единственный, кому верил он сейчас, был этот пёс, а тот лежал на нём, свесив безвольно морду, и иногда сухим языком лизал. И только, когда пёс завозился и напрягся, чтобы соскочить, Мишка его выпустил и повалился без сил на осыпь.
– Вот и ладненько, – свалился рядом комбат, – вот и хорошо! Сейчас привалимся на минутку, и дальше…
Но привалиться им не удалось. С горки напротив заголосил пулемёт, сухим веером рассыпалась очередь, и пошло, и запело.
– Седьмая рота, ко мне!
– Восьмая, вниз!
– Девятую сюда!..
Растянутый в колонну батальон стягивался, торопливо закладывался камнями и на ходу разбирался. Малиновыми строчками понеслись к горе трассера, рявкнул по их наводке АГС, и всё ущелье загрохотало и заполнилось разнокалиберным, оглушительным гулом.
Навесив «море огня», батальон бросил в прорыв головную роту, и та, растянувшись в цепь, побежала. Но тут же дважды плеснуло среди камней оранжевым, раздробленные сухим эхом, донеслись два хлопка. «Подстриженная» с флангов рота в минном поле завязла, и по цепи понеслось:
– Сапёра вперёд, сапёра!
Но Мишка и без того был впереди. Он по должности находился к неприятностям ближе всех, и лучше всех видел, что дело – дрянь. Горит пехота, и некому погасить. А огонь всё усиливался, становился всё более плотным. С горки включились миномёты, и, похоже, что безоткатка. Воздух раскалялся от близких и всё более частых разрывов. Рявкнув в последний раз, замолчал АГС, восьмая на правом фланге уже резалась на ножах, а «вертушек» всё не было и не было. Разъярённый, взмокший от беготни комбат прибежал оттуда и рухнул рядом.
– Христом-богом, сапёр, выводи!..
И саданул из автомата от живота и куда-то совсем уже рядом. И Мишка повел.
– Не дрейфь, комбат, – сказал он, – с тебя пачка «Явы».
И, сбросив рюкзак, перевалил через камень. Пёс, зафырчав, зашарил носом в пыли, и всё для них прекратилось, всё оставило их одних. Что-то гораздо более прочное, чем поводок, связало их, такое, что разорвать уже было нельзя. И всё у них получалось, всё было легко, – пёс садился, Мишка снимал. Ощущение удивительной легкости подхватило его, и странного, небывалого счастья. И, подхваченный им, он не чувствовал уже ни усталости, ни скрестившихся на спине трассеров. «Всё, сапёр, всё, – кричали ему, – насквозь их прошли!..» Но Мишка уже не слышал и слышать уже не хотел. Он хотел, чтобы не осталось больше оранжевой дряни, чтобы можно было ходить, а не ползать и не вздрагивать, сдвинув случайно камень. А пёс вел его, как заводной. «Ещё одна… Так её… И флажок. И что же я, сволочь, его не покормил? Да с ним хоть до дембеля, да так хоть на край света, хоть до края земли!..»
Когда его нашли, он лежал на земле, неловко подвернув под себя перебитую, с оборванным поводком руку. Ветер ворошил на спине лохмотья распоротого бронежилета, под ним пузырилась кровь, а рядом бесновался и никого не пускал к нему пёс. Головной взвод в растерянности застыл.
– Грохнуть его? – предложил радист, но как-то не слишком смело.
Ему никто не ответил. Все молчали и нерешительно смотрели на пса. И тут Мишка, закряхтев, приподнялся:
– Ща я тебя самого грохну!.. – пообещал он и обвел мутным взглядом обступившие его лица.
Изо всех ему хотелось выбрать самое доброе. Но лица у всех были одинаковые, усталые и в грязных подтеках. И тогда он позвал того, кто просто был ближе.
– Иди сюда, долговязый! Ногу давай!.. Да смотри, зараза, бошки за него поотгрызаю!
Его успокаивали, говорили, что сами отгрызут и пришлют в бумажке, а собачку в целости доставят в полчок, но Мишка не успокаивался. Ворочался в плащ-палатке и всё пытался оглянуться назад. Ни боль, ни огромные дозы промедола не брали. И даже потом, когда его затаскивали в БМП, он не унимался и ещё цеплялся за кого-то рукой.
– Собаку кормили? Кормите, сволочи! И смотрите, чтоб лапы не стер!.. И не бить! Морды поотшибаю! Его Анчаром зовут, ясно?
Механик втащил его через задний люк, спросил без любопытства у старшего:
– Контуженный?
Старший группы, рослый, стриженный на стодневку сержант глянул, подумал и покачал головой:
– Да нет. Сапёры они все такие… Просто собачник, – и, щёлкнув рацией, прямо в шлемофон скомандовал:
– Гилязов, паси собаку, убью!.. А я знаю? Ты их обходи, если найдёт! С завтрашней вертушкой сапёра сбросим.
Счастье
Первухин решил застрелиться: головой – на ствол, пальцем – в спуск. Лежал среди камней, ворочался, – так и решил. А чего? Всё равно жизнь не задалась. На разводе комбат «раздолбаем» назвал, Косаченко наехал, да ещё от Люськи письмо: «прости, не грусти, так вышло…» И как это у них так выходит: сначала «не грусти», потом «прости». Но Люська что? Если честно, до лампочки. Он и целовался-то с ней всего два раза, и то милиционер спугнул. День любил, на второй забыл, а вот с Косаченко обидно.
Он ведь с ним на Панджшер ходил, бахшиш ему на дембель подарил – цепочку, и всегда за него вписывался. А тут котелки заставил мыть, как молодого, при всех. И комбат тоже: «Ты у меня зимой на дембель пойдёшь командой сто!» А за что? За сон на посту. В боевом охранении заснул, а где же ещё и спать, как не там? Время есть, духов нет, – там все спят, и Косаченко тоже. А ему сразу – котелки. Душа горела, горело подбитое сержантом ухо, и вообще, накипело всё: «красная рыба», пыль и свирепый комбат. И Первухин решил застрелиться немедленно и всерьёз. Нужно было только найти автомат, потому что своего у него не было. По штату Генка числился пулемётчиком, и всюду таскал с собой здоровенный ПК. Его он и потащил.
Отошёл за бугорок, примерился. И боком к нему пристраивался, и животом, но до спуска так и не дотянулся – ростом не вышел. «Ногой! – сообразил он. – Разуться – и большим пальцем!» И уже потянул себя за шнурок, но тут с гор рванул такой ветер и такой прошёл по всему телу озноб, что разуваться сразу расхотелось. Стреляться захотелось ещё больше, а разуваться нет. Босым, на ледяных камнях, – бр-р! И Генка пошёл к Самсонову, – всегда у него одалживался, когда в караул.
Тот сидел на камне в одних трусах и штопал, натянув на каску, штаны.
– Жорик, дай автомат!
Но Самсонов как раз в это время вогнал в палец иглу, расстроился и не дал:
– В прошлый раз давал – ты его чистил?
И зажал. А ещё друг, на губе вместе сидели, Люськины письма ему читал. И пришлось спать не застрелившись.
Батальон был на выходе. Отбой застал его на горе, и каждый завалился, где смог: в бушлатах, спальниках и просто так. Укладываясь, для тепла ложились в притирку и подло оставили Генку с краю. Сапёры обтягивались «сигналками», и, забивая колышки, не давали уснуть. Бесчувственно храпел в больное ухо Поливанов, и долго бубнил с сапёрным зёмой Старков. Автоматы все старательно прятали под собой. Сопели, укладывались, смеялись, и никому никакого дела не было до Генки. Никому не приходило в голову, что вот эта ночь, может быть, для человека последняя. И Генка тосковал. «Ну, погодите, – страдал он. – Спохватитесь завтра, увидите!..» И страстно завидовал взводному. У взводного был не только автомат, но и пистолет, который по идее и ему бы не помешал. Но ведь нет правды на земле, и лежит его пистолет где-то на складе. А он здесь на камнях и с тяжеленным ПК. И никто, небось, не помнит, что ему не только пистолет, но и второй номер полагается. А он третий день таскается один и с пулемётом. И с коробками, и с запасным стволом. «Стволом! – озарило вдруг Генку. – Вместо палки, и нажать на спуск! Застрелиться хватит»! Можно было, конечно, и гранатой, но это ещё хуже, чем разуваться. Не хотелось совсем гранатой, как-то не то. И оттого, что завтра стреляться, Генке неожиданно полегчало. И сапёры перестали стучать, и в душевный свист перешёл Поливанов. Одним словом, до утра ещё можно было как-то прожить, а утром – всё. И пусть все подавятся своими автоматами! И Генка стремительно, как в пропасть, свалился в сон. Знакомая дорога снилась ему, просёлок и запах бензина.
Проснулся он тоже легко, поднялся бодро, но застрелиться утром ему не удалось. Обидно было, что пропадает пайка – пришлось позавтракать. А потом выяснилось, что будет «вертушка», и, возможно, письма. И не то чтобы он их от кого-то ждал, – в прошлый раз получил и целую пачку, но мало ли? Может, вспомнил кто, может, чего написал? Просто невозможно было застрелиться и не узнать. Пришлось для очистки совести ждать. И дождался.
Через час подлетела и зависла в облаке пыли «вертушка». Приняла раненых, оставила груз, и скоро вдогонку головной роте понеслось:
– Первухину!..
– Третий взвод, Первухину!
И хорошо ещё, что не заставили плясать – как раз в это время проходили минное поле. Надрали только уши, отчего снова запылало больное. Письмо вручили захватанным и от множества рук лохматым. Генка на ходу его прочитал и стало ясно: всё, окончательно и бесповоротно. Лучше бы он застрелился вчера. Мать писала, что продала мотоцикл, новенький его и необкатанный ещё «Минск». Перед самой армией купил, всё лето работал, а она продала. И зачем? Чтобы костюм какой-то купить, какие-то туфли. «А то ты придёшь и будешь совсем раздетый!». А он ведь его под кроссовый переделал, глушитель переставил и вилку. И ведь просил же, просил! «Костюм! – упивался горечью Генка. – Вместо глушака – туфли!» И даже обиды теперь не чувствовал – только горе.
До этого он о матери старался как-то не думать, – неприятней было, чем разуваться на камнях. А теперь подумал и решил: нет в жизни смысла, ни грамма! И соглашался уже и на гранату, и босиком. Но гранаты он, как назло, вчера раскидал: то ли баран ночью прошёл, то ли что. Новых набрать из цинка поленился, а стреляться на ходу не хотел. Да и стыдно как-то на глазах у всех, всё равно, что на глазах у всех целоваться. И вдруг, вспомнив, как он тогда, у военкомата, на глазах у всех целовался, Генка пронзительно и с неожиданной ясностью понял, – Люська! Чепуха всё: и комбат, и Косаченко, и даже мотоцикл, потому что всё-таки не до лампочки она ему, эта Люська. Запах её духов вспомнился ему, и удивительное, трепетное дыхание. И такой это был запах, такое дыхание, что щемящей, невыносимой болью сдавило сердце, и Генка, застонав, повалился набок. Потом, поднявшись, рванул из чехла запасной ствол, и тут же услышал:
– Поливанов, гад, возьми у Первухина ствол и коробку! Пойдёшь за второго!..
Косаченко наводил порядок. И Поливанов заныл, что и без того под завязку, что хотя бы ствол, а коробку другим. Только потом пахло вокруг и хриплым чужим дыханием, и ни секунды не было, ни мгновения, чтобы остаться одному, и хотя бы это мгновение – побыть. Сипел простуженным горлом Поливанов, бесконечными командами подгонял комбат, и одна только радость оставалась на тропе – мины, когда можно было привалиться и перевести дух.
Батальон бесконечной цепочкой шёл на подъём, и вместе с ним поднималась и нескончаемой, сухой горечью разливалась тоска. И никакой возможности не было остановиться, чтобы её прекратить. Комбат гнал так, что пар валил от взмокших спин, и Генка не понимал уже, куда идёт и зачем, и не радовался, когда сапёр останавливал колонну. А рядом волновался и безостановочно суетился взводный. Отслеживая колонну, он то отставал, то снова забегал вперёд, без нужды снимая с предохранителя автомат. Автомат у него был новенький, необтёртый, и сам взводный тоже был новеньким и необтёртым. Поэтому, когда по камням защёлкало, и взвизгнул над головами первый рикошет, никто от него команды ждать не стал. Быстренько разобрались, и, как положено, залегли. Потом куда-то стреляли, потом снова куда-то шли, и снова переползали, стреляли, шли – и так целый день. Бесконечными парами заходили и фыркали ракетными залпами «вертушки». Проседая целыми пластами, сползал горный склон, и батальон тут же поднимался и по оползню шёл наверх. Несколько раз лопались под ногами у кого-то мины, и взрывной волной накрывало так, что больно становилось дышать. Но Генка уже ни боли, ни усталости не чувствовал. Привычно ложился, равнодушно вставал, и только вечером понял – один.
Поливанов пошёл искать коробку, которую понёс за него кто-то другой, и не мог найти. Зачехлённый ствол остался на земле, и Генка с наслаждением его расстегнул. Удивительное, странное спокойствие охватило его, и необыкновенная тишина. Это было похоже на счастье: не волноваться, не чувствовать, никуда не спешить. Немножко жалко было своих: как они его понесут? Но нести было недалеко: за горкой сапёры расчистили пятачок, и туда время от времени подлетали вертушки. Генка глубоко, как свободный человек, вздохнул, подтянул к себе пулемёт, и тут же снизу донеслось:
– Генка! Справа работай, справа!
И он заработал. Прострелял правый склон, завал и притих, сосредотачиваясь на своём, но на своём ему не пришлось. Пришлось снова гасить завал. А сверху, снизу уже неслось:
– Шугни слева!
– Сапёра прикрой!
– Геноссе, сволочь, прикрой!
И Генку уже по-настоящему разобрало: «Вот гады, а, – возмутился он. – Застрелиться по-человечески не дадут! Ну, ничего без меня не могут!» И вдруг заволновался, – не могут. Весь его взвод был плотно прижат к земле и жил на длину пулемётной ленты, потому что ни отойти, ни остаться никакой возможности не было. Неприятные серые горошины набегали со всех сторон, и до того они были неприятные, что Генку прошиб озноб. «А я ведь ещё на письма не ответил, – вспомнил он. – И от матери не дочитал. И вообще, чего, собственно, взъелся? Ну, разлюбила, ну, замуж пошла, и дай Бог! А мне бы, Господи, до камушка добежать! И патрончиков бы… И ещё вон до того», – просился он. Добегал, отстреливался и перекатывался к следующему. А навал продолжался. Невыносимо близко щёлкало по камням и брызгало в лицо каменной крошкой. Сначала он работал на триста, потом – на двести пятьдесят, и чем короче становилась дистанция, тем яснее и определённее складывались мысли: «Сволочь ты, раздолбай! – мучился Генка. – На посту спал. Да за такое не бить, а убивать нужно! И с мамой… Она, может, без копейки сидит, а ему мотоцикл»! Вот только с Люськой до конца не складывалось, всё равно оставалось где-то и где-то болело. Генка резал короткими, считал с ужасом, сколько ещё осталось, и жалко было себя до слёз.
Когда Поливанов притащил коробку, в ленте оставалось всего три патрона. Поливанов увидел и виновато засопел.
– Тебя, Поливан, за смертью хорошо посылать, – простил его Генка.
Вставил ленту, загнал патрон и с наслаждением перевёл на сто. «Хорошо-то как! – думал он. – Часики! Швейцария! Ураган»! Потом, когда подлетели и в очередной раз устаканили всё вертушки, взвалил на плечо пулемёт и пошёл к своим.
– Ну, – предстал он, – заценили механизм? – И горделиво качнул стволом.
И все с чувством подтвердили:
– Отпад, Геныч!
– Убой!
– Застрелиться и не жить!
– То-то! – успокоился Генка.
Выбрал камень поудобнее, повалился и молниеносно заснул, крепко обняв своё единственное и личное счастье – пулемёт.
Леннон жив!
Дорошин спускал с горы раненых. Не хотел идти, упирался, с ротным разлаялся до того, что мат без всякой рации слышен был по всей сопке. Мужики ржали, а Дорошин закипал и отвешивал без микрофона тем же калибром. Но ротный что? Он если упёрся, – всё. «Спускай или спущу до ефрейтора!» А кому же охота на старости лет в ефрейторы? Возвращаться домой ефрейтором, это прямо-таки садизм. Так его и не уломал. Собрал второпях раненых и свалил. И теперь злился. Во-первых, оттого, что ротный сплавил вместе с ним весь молодняк, а во-вторых, влип он с этим молодняком по самые уши. Известно же, что залетают чаще по молодости и под дембель. Так он и залетел – глухо.
Всего-то и делов было, что найти условленное местечко, пересечься по рации с «вертушкой» и делать ноги. И местечко это он знал, и раненых было всего двое, из тех, кого не успели к первому рейсу. Но на спуске их плотно накрыл бродячий снайпер. Толком никого не задел, но рацию разбил вдребезги и на гребне продержал до темноты. А в темноте они и вовсе напоролись на целый табор, и теперь уходили: без воды, среди бела дня и неизвестно куда. Молодые, правда, вели себя прилично. Не скулили, и за спиной украдкой не хныкали. Но смотрели на него так, как будто он мог вызвать «вертушку» свистом и устроить всем немедленный дембель. А всё, что он мог им устроить – привал, да и то короткий, потому что надолго привалиться им не давали. Да и «тяжёлый» ждать не хотел: ворочался, ругался бессвязно и медленно доходил. Несли его в смену два по четыре. Прислушивались, кололи время от времени промидолом и скоро замучились до того, что сами стали похожи на доходяг. Круглова впору было колоть самого, Макеева вели на пинках, и хорошо ещё, что второй – невесть откуда приблудившийся сапёр, – топал сам. Раненную свою забинтованную руку нёс «собственноручно». А больше ничего хорошего не было. Наоборот, нехорошо было, прямо сказать, паршиво.
Духи за ними тянулись вяло. Поднимали дальними выстрелами, не спешили, но следом шли неотвязно. Дорошин закладывался пару раз на тропе, и вроде бы их отгонял, но на следующем привале снова щёлкал о камни звонкий рикошет, и все с хриплой руганью поднимались. Крюков впереди, Дорошин – замыкающим, а между раскачивался в плащ-палатке «тяжёлый». И хоть бы «вертушка» какая пролетела, хоть бы грохнула где для ориентира крупным калибром. Но если что и пролетало, то стороной, а в горах несерьёзно трещало сухой, неопределимой мелочью. Да тут ещё однорукий. Взъерошенный, шебутной, он Дорошина прямо-таки доставал.
– Ты кто? – спросил он его сразу.
– Сапёр, – открылся тот. И больше не закрывался.
Шлёпал бодро рваными кедами и отчаянно всю дорогу скандалил.
– Леннон жив! Макаревич бессмертен! – орал он Крюкову. – А ты – «колхоз» и «фуфайка»!
– Это какой Макаревич? – изумлялся тот. – Из третьего взвода?
– Сам ты из тридцать третьего! – страдал сапёр и размахивал мохнатой от бинтов грязной лапой. – Колхоз!
– Сапёр, прикройся! – пробовал наехать Дорошин.
– Авиация прикроет! – обещал тот, и во всё горло заводил:
– Естедей, оу май трабл синс он фэруэй!
– Шире шаг! – настаивал сержант.
– Шире штаны порвутся! – отстреливался тот и развивал:
– Мотострелки – мотнёй мелки! Бычки стреляете, а козла на гребне завалить не смогли. Это потому, что сами козлы!
И так весь день: поёт, скандалит, радуется неизвестно чему, потом ненадолго заткнётся, попросит у Крюкова уколоться «для кайфу». И по новой:
– Какая фантастика! Какая книжка? «Машина времени» говорю! Со-олнечный остров, ска-азки обман!..
Дорошин его уже и слышать не мог. Его и самого мутило. На горке едва не приложило гранатой. Поэтому ротный и сплавил его с горы. В ушах звенело, звучало всё как сквозь вату, но и сквозь вату всё равно звучало:
– Естедей, оу май трабл синс он фэруэй!
И так далее, и тому подобное, и всё в этом роде. Крюков хихикал, молодые от смеха сбивались с шага, а Дорошину хотелось его прибить, потому что и без того на душе кошки скребли.
«Чего прилипли? Чего не берут?» – вертел он беспокойно головой. Ведь как бы он сделал, – разбился на два, обошёл по склону, и всё. Положили бы, как прошлой весной, разведку. Говорили, что только один из всего взвода тогда и ушёл, и того всем полком неделю искали. Ещё чудная у него была какая-то фамилия. «Да, похоже, здесь всё и было», – узнавал Дорошин. – «И сопочка эта, и распадок…» И похолодел. Прямо над собой, на склоне, увидел последнюю свою собственную закладку, и камушки узнал, и кучу стреляных гильз. Это значило, что он полдня водил всех по кругу. «Всё!» – понял он. «Теперь голыми руками возьмут!» И от досады чуть не сказал вслух. И как получилось, как зевнул? Шли по солнцу и только вниз. Но в горах так: идёшь вниз, а остаёшься на месте. И хорошо ещё никто не заметил. Совсем бы расклеилось войско, обленилось вконец. И чтобы не заметили, прикрикнул:
– Шире шаг!
И кольнул для маскировки сапёра:
– А тебя, чумазый, что, приглашать?
И тот уж подхватил, завёлся с пол-оборота:
– Опух? Обурел? Лысый?.. Ишак тебе шире шаг! На мне пот войны и героизм сражений! Я, между прочим, на дембель иду, а тебе до него как до солнца лысиной! Дай в зубы, чтобы дым пошёл!
И Дорошин дал, чтобы заткнуть, и даже зажигалку поднёс. И вдруг сквозь блаженное причмокивание и дым услышал:
– Сухим руслом греби, полководец! Кругаля даём.
Заметил, паразит, углядел! Дорошин взглядом его испепелил, но сообразил – верно. И разозлился на себя. Правильно его ротный спустил, совсем мозги вышибло. Склон был весь изрезан сухими руслами, но это они сейчас сухие, а весной по ним стекает вода, и стекает, конечно, в реку, а им туда и надо. Там пехота на блоках, пушкари, и даже если нет никого – вода. И Дорошин, всё сообразив, крикнул:
– Левое плечо! Шире!
И, действительно, руслом пошло веселее. Петляли, конечно, крутились, но это только кажется, что короче всего по прямой, а в горах лучше верить воде, она знает и выведет. И ведь вывела вода, не обманула, хорошая. На поворотах дважды показалась зеленой жилкой река. И увидев её, все разом подтянулись, повеселели даже и почти посвежели. Никого не нужно «застраивать», никого подгонять, – воюй – не хочу. Да и спокойней стало в сухом каньоне. И Дорошин начал уже успокаиваться, но, поднявшись для страховки на скалу, понял – всё. Каньон отвесными стенами расходился далеко впереди. Огромная пустошь открывалась перед ними, километра два. И проскочить её безнаказанно никакой возможности не было. Накроют как раз посередине. И Дорошин сел обречённо на камень. Нужно было кого-то оставлять, – себя оставлять. А себя оставлять нельзя. Это всё равно, что оставить без себя, забьют без него, завалят. А Крюков что – «медицина». Бьёт без промаху, но шприцом. Круглова, Макеева, Лиховца? «Соображай, Серый, соображай», – уговаривал себя Дорошин. Но как ни тряс головой, ничего путного вытрясти из неё не мог. Только шум сплошной и «вечерний звон».
– Растяжку, – сообразил за него сапер. – Напорются, поосторожней пойдут. Отстанут.
Сказал, как вставил. И снова не при чём. Скандалит, задирается и поёт. И ведь опять в точку! Растяжку вместо себя – шанс. И Дорошину даже стало немножко стыдно.
– А ты ничего, – неопределенно протянул он. – Шаришь!
– А то! – согласился сапёр.
И подставил карман, из которого вывалилась среди прочего тугая, гитарной струной скрученная растяжка. И Дорошин с удовольствием её в самом узком месте поставил. Последней «эфки» не пожалел, усилил для убедительности второй, но всё равно не успевал. Каких-то минут ему не хватало, какого-то мгновения. Когда позади ахнуло и с сухим треском рассыпалось, они были только на середине, и на последний рывок ничего не осталось.
Круглов хрипел, у Макеева пошла горлом кровь, и темная какая-то, нехорошая. «Свалятся!» – ужасался Дорошин. – «Ей-богу свалятся! Троих ни за что не вытащить!» И чувствовал, что самого заводит от слабости вправо и перетягивает своей тяжестью автомат. Но сапёр был уже там, в горловине, и, взобравшись на камень, приплясывал:
– Река! Река! Рвите штаны, мужики, река!
И какой-то свежестью пахнуло в лица, послышался снизу неясный шум. И такая это была свежесть, такой шум, что они поднажали. Влезли на карачках в горловину и только там повалились. И когда сзади запоздало забарабанило и зашуршало по камням, они уже снова были в каньоне. И тут уже Дорошин не торопился. Обложился, как следует, и обстоятельно, со вкусом, отстрелял пустошь.
– Хорошо! – одобрял сапёр. – А вон ещё справа таракан ползёт. И того прибери за камушком. Да планку передвинь, дальнобойщик!
– Естедей, оу май трабл синс он фаруэй!
И, загнав всех обратно, Дорошин поднялся.
– Шаришь! – окончательно определил он.
И замер. Никакой реки позади не было. Камни, обкатанная весенней водой галька, и ничего.
– Ну, ты гад! – невольно восхитился он.
– Психология, – горделиво объяснил сапер. – Да бросьте вы, мужики, из-за штанов! Начальство новые купит.
И целый час никто не думал об усталости и не вспоминал о воде. Все без устали и с удовольствием материли сапёра. И Дорошин был рад, потому что почувствовал: не отстали «духи», не отошли. Незаметными, серыми камушками висят над душой. Заметил краем глаза, как странно переместились эти камушки с одного склона на другой. Но всё равно – шансы всё-таки подравнялись. Теперь и у них не сахар, и им идти не порожняком. Нагрузил он их под завязку.
А река действительно приближалась. У воздуха появился запах, особенный какой-то, утренний. Галька под ногами становилась всё мельче и переходила местами в зернистый песок. И когда река за поворотом открылась, Дорошин даже не поверил, – так много было воды и совсем рядом. Оказалось, давно шумела, только он не слышал. Пологий, зернистый склон тянулся к речному броду, террасами спускалась с того берега яркая зелень. И, увидев её, Дорошин втопил, чтобы не дать молодым нахлебаться и свалиться от избытка воды. И вдруг остановился так резко, что Макеев отлетел, отброшенный ударом назад, и рявкнул:
– Стой!
Проржавевший, покосившийся флажок торчал перед ним из песка и всё объяснял – поле. Как баранов, как скотину прогоняли через поля! Живым тралом, чтобы пройти по следам в тылы! И, наверное, не первое это было поле, просто везло, но что совершенно ясно, – последнее. Потому что их всё равно прогонят и с удобством из-за камушков перебьют. И назад ходу нет – приехали.
– Вот сволота! – сплюнул в сердцах Дорошин.
– Тампон, амба! – оцепенело подтвердил Крюков.
Вывернул неторопливо карманы – фотографии, письма какие-то и бумажки, – и, сложив аккуратной кучкой, поджёг. Письма съежились на огне и вспыхнули, фотографии сворачивались чёрной трубкой. Молодые не поняли, опустив «тяжелого» на песок, затоптались. Почему привал, когда вода и рукой подать? Потом поняли и растерянно переглянулись, лица у всех стали серыми и от общей тоски одинаковыми. Но всё равно молодцы, не скисли. Круглов только судорожно вздохнул и сунул в костерок новенький, не затертый долгой службой билет. А Макеев огляделся и старательно, как на карантине, принялся устанавливать свой ПК. Не учили на карантине, как нужно стреляться, учили только стрелять. И глядя на него, Крюков затосковал:
– Может шомполами как-нибудь протыкать, а? – Но и сам понимал, – легче сразу ногами, и обреченно вздохнул:
– Сапёрика бы нам, сапёра!
И все невольно посмотрели на сапёра. Украдкой посмотрели, исподлобья, но все. Тот сосредоточенно молчал, пыхтел важно услужливо вставленной сигаретой, и думал. Потом как-то болезненно от её дыма поморщился и сплюнул:
– Вяжи шомпола, салаги!
И ему сразу и с необыкновенной быстротой связали. И встали в полной готовности, и взвалили на Крюкова «тяжелого». Все чувствовали себя сволочами. Понимали, что раненый, и шомполами совсем не то, но ведь не было выхода, а сапёр был, и он им издалека кричал:
– Со-олнечный остров, ска-азки – обман!.. Поливанов, мать твою, в след иди! Со-олнечный остров скры-ылся в туман!
И они шли, стараясь не спотыкаться и боясь, что вот ещё один шаг и скроются. Иногда сапёр останавливался и разгребал под ногами песок. Черные резиновые крышки проступали наружу, и на солнце мгновенно делались серыми. И они с замирающим сердцем их обходили. А Дорошин снова их присыпал и тащил по следам палатку.
– У, сволота! – урчал он. – Я вам устрою след!..Прямиком на тот свет!
И ждал, что вот-вот рванет. Или у него под руками, или впереди, где идет сапёр. Но рвануло потом, когда они уже сидели в «зеленке» и мокрые отплёвывались от воды. Сначала раз, потом второй. И наступила тишина, да такая, какой Дорошин в жизни не слышал, прямо-таки гробовая. Только река шумела, и тоненько звенело в ушах. И в этой тишине Круглов испуганно прошептал:
– А я военный билет спалил!
И всех прорвало, приступ неудержимого, судорожного веселья свалил их.
– Ну, всё, хана!
– Суши сухари!..
– Теперь тебя в армию не пустят!
Ощущение праздника и небывалого счастья подхватило их. Они прыгали, смеялись, бестолково размахивали руками, Макеев просто лежал, Крюков утирал слёзы и мог уже только хрюкать. А сапёр отбивал кедами невиданную чечётку и блаженно на всю зелёнку горланил:
– Что, взяли? Съели, сволочи? Подавились? – и грозил в пространство мохнатой лапой. – Леннон жив! Бессмертен Макаревич! Понятно? Естедей, оу май трабл синс он фаруэй!
А Дорошин улыбался, как дурак, и тыкал его неловко в живот:
– Сапёр, сапёрик, сапёрище!
И вдруг услышал:
– Да не сапёр я, – Копёр! Фамилия такая – Копёр, а сапёр вон он – в палатке лежит!
– Подожди! – не понял Дорошин. – Ты же сам сказал.
– Я и сказал: Копёр. Это ты всё заладил: сапёр да сапёр… Глухомань!
– Так это что… – перехватило дыхание у Дорошина. – Так значит мы… Так это любой мог вместо тебя провести?..
– Нет, – заулыбался тот, – за любым бы так не пошли. Тут именно сапёр нужен. Психология, брат! Понимаешь?
И Дорошин согласился:
– Не пошли.
И попробовал раскурить мокрую, совершенно раскисшую от воды «охотничью». Но сигарета в задрожавших пальцах разваливалась и оставляла на губах табачную горечь.
А по берегу уже шла, осторожно поводя стволом, БМП, прыгали на землю свои, в родном и выгоревшем добела. Наводчик, высунувшись из люка, махал радостно шлемофоном. И, вяло ему кивнув, Дорошин отобрал шлемофон и вышел на своих: сначала на взвод, потом – на роту. Ротный долго и восторженно его разносил. Понятное дело, – обыскались.
– Порядок!.. Норма!.. Хоккей!.. – отстреливался Дорошин.
И вдруг в эфирных шумах различил:
– А самострела, самострела ты сдал?..
И не понял:
– Какого самострела?
– Да этого, как его, Копёра, что ли, или Копра?
– Сдал! – растерянно повторил Дорошин. – Сдал!
И вдруг вспомнил: Копёр – тот самый, единственный из разведки. И в изумлении обернулся. Тот сидел в люке и лучезарно всем своим чумазым лицом улыбался. И впервые к нему присмотревшись, Дорошин увидел, что не так уж ему и весело: глаза ввалились, растрескавшиеся губы сочились кровью.
– Зачем, зёма, зачем? – не поверил он. – Это же дизель, тюрьма!
– Да как ты не понимаешь, старшой? Это же кайф – тюрьма! Охраняют, заботятся, берегут, сами выведут, сами проведут. Леннон жив, понимаешь? Бессмертен!
И Дорошин понял. Спрыгнул тяжело на землю и дал отмашку. БМП, лязгнув люками, отошла, закипела траками в мелководье и скоро за поворотом исчезла. А Дорошин всё ещё стоял и ошеломленно смотрел ей вслед.
– Сдал, – бормотал он, – сдал.
И тряс беспомощно головой. Но в голове от этого все равно не вмещалось и становилось ещё больней.
А из «зеленки» вывалился и заспешил к нему угрюмый, взволнованный Крюков.
– Ну? – спросил Дорошин, приготовившись к тому, что или десантура наехала, или припухший танкист, и что, стало быть, вечером нужно идти на «разбор».
Но Крюкова волновало совсем другое:
– К Макаревичу ходил в третий взвод. Говорит, убили Леннона, придурок какой-то из ствола завалил!
– Что? Леннона? – скривился Дорошин и возмутился. – Врёт! Жив-здоров и песни поёт! А что подранили его, так это верно. Просто скрывается теперь… от придурков.
И Крюков завистливо вздохнул:
– Ну, хоть там хорошо! А то я всё ношу, ношу, а они умирают… А точно?
– Леннон жив! – приказал Дорошин. И глядя на свою задубевшую от крови, просветлевшую «медицину», подумал: «Господи, и какая это тоска – психология!».
Ностальгия
Никак не удавалось батальону пожить без войны. Неделю только постояли на блоках – и снова вперёд. Вроде бы уже и горку взяли, и перевал прошли, а всё равно: ночью фейерверк, днём прочёска. На выносных постах работали так, что третий взвод запарился чистить стволы. Матвиенко и не чистил: колотил изо всех сил стволом о камень, пока из него сам собой не высыпался нагар. А потом Дорошин колотил его по загривку с той же целью – почистить и привести в порядок «извилину». Но старались они оба совершенно напрасно. Извилина оставалась прямой, ствол грязным, но, как ни странно, рабочим. С темнотой всё начиналось по новой, и автоматы за ночь обрастали так, что непонятно было, как из них ещё можно стрелять. Но, оказывалось, ничего, можно. И батальон стрелял до изнеможения и мучил тылы требованием боекомплекта, который тоже подвозили с большим треском и потому не всегда.
И вдруг прекратилось. Замерла канонада, рассеялся многодневный, слоистый дым. Десантура как-то особенно удачно прошла на гребень, и вся война перекочевала туда. На гребень ушли пушкари и скандальные, пропитанные солярой, танкисты. В «зелёнке» наступила звенящая тишина, под стеной зажурчал бесшумный прежде арык, а в винограднике совершенно явственно запели птицы. И вообще, выяснилось, что уже осень, и в садах появились кое-где золотые заплаты. Воздух посвежел, осела пыль, и третий взвод решил, наконец, пожить, – как следует, решил, на широкую ногу.
Шагать, правда, приходилось осторожно, жили преимущественно на крышах, потому что вокруг были мины, а прикомандированные сапёры кончились. Все окрестности были украшены размашистой, нацарапанной мелом «М», и особенно много их было в винограднике. «М» была на калитках, дувалах и древесных стволах, поэтому по земле старались не ходить, а делали всё как птицы.
На крышах ели, на крышах спали и на землю спускались только в случае крайней необходимости. А некоторые и в этом случае не спускались, чем доводили Дорошина до белого каления. И он снова бил Матвиенко по загривку и безуспешно прочищал «извилину»:
– Ты видел, что это каска? Ты знал, что моя?! Ты человек или кто?..
– А чё, воробей? Я на лету не могу.
– Ну, я тебя научу! – И учил ко всеобщему удовольствию и восторгу.
А в остальном тихо: птички, воздух и арык. Вот такая настала красота. Комбат чихал, батальон слышал. Крыши были сплошные, плоские, и по ним можно было запросто сходить в гости, что в первую очередь и сделали. За две сгущёнки выменяли у соседей сапёра, и тот расчистил под стеной пятачок. На пятачке расставили квадратом броню и натянули брезент. Место для начальства получилось не место, а Ставка Верховного. Расположились, осмотрелись, разобрались. Наварили в патронных цинках супу и наелись. Потом завалились на крыше спать и совсем было уже что-то разнежились, совсем задремали, и вдруг почувствовали – запах. Неуловимый какой-то, неясный, но приятный и щемяще-родной. Какой-то грустью повеяло в воздухе, дразнящей, как цветущий дембель и май. Лейтенант в своей «ставке» заворочался и забормотал сквозь сон:
– И я тебя, Люсь, и я!..
– Это чем? – заволновались на крыше.
– Не знаю, на свадьбах так пахнет!
– Да нет, после сессии!
И тогда все проснулись и стали нюхать, но как ни принюхивались, определить не смогли. Пахло то ли дембелем, то ли наоборот. Получалось у всех по-разному, а у Морсанова вообще не получалось. Сказал только, что воняет и голова кружится. А лейтенанту приснились отчего-то отпуск, жена и Крым, причём такой отпуск и такая жена, что прямо-таки невыносимо потянуло в Крым.
– «Агдам»! – догадалась вдруг и охнула крыша.
– Сам ты «Агдам»! Венгерский «Рислинг» по рупь-шесят!
– Хрен вам! «Гымза», молдавское! В плетёнках продавалось!..
Но никакой «Гымзы» поблизости не продавалось ни на разлив, ни в плетёнках. А запах был, и такой это был запах, что на крыше всё заворочалось, задвигалось и застонало:
– Ох, блин, до чего на родину потянуло!
– Какой садюга вино в кишлаке разлил?
– Дожили, от сухой жизни глюки пошли!..
И поскольку глюк оказался массовым, то решили разобраться, откуда, но не разобрались, потому что запах был отовсюду. Его источали горы, стены домов и даже арык. А сходить и поискать было нельзя. Сходил на прошлой неделе один, а принесли половину, – лейтенант видел и рассказал. Сапёр за две сгущёнки расчистил пятачок, а за всё захотел ящик, который давно и безнадёжно съели. Да тут ещё Кременцов рассказал, что в ту войну выдавали норму, бесплатно и каждый день. И наступил полный сквозняк. Всех сразила внезапная ностальгия. Было ясно, что война не та. Лежали, постанывали и томились:
– Господи, и за что нам истязание такое?
– Ну «Агдам», чистейший «Агдам»!..
– Застрелюсь, принципиально застрелюсь!
Поливанов почти рыдал, Самсонов грыз в исступлении сухари и сгрыз всё, что не успели убрать, а Матвиенко рухнул в задумчивости с крыши. Но его, посовещавшись, решили не поднимать, а предложили не рыпаться, а ждать до утра. Матвиенко и не рыпался: лежал себе тихонько, ворочался и вдруг, уже на рассвете, заорал:
– Нашёл, мужики, нашёл!
Но поднимать его всё равно не стали, потому что уже и сами нашли. Стояли в изумлении, озарённые солнцем, и в полном потрясении молчали. Никакой садюга вина в кишлаке не разливал, – оно само везде было разлито. Вся земля под ногами была густо усыпана прокисшим, раздавленным виноградом. Сами же его на штурмовке и раздавили, только в спешке не заметили, а теперь заметили, и оказалось – вино. И сразу всё стало ясно: средство от ностальгии висело гроздьями до земли. Осталось только его достать.
– Кто пойдёт? – спросил осторожно Полосков.
И наступила тишина. Каждый соображал, во что обойдётся сходить, и понимал, что не рупь-шесят.
– А чего ходить, когда Мотя там? – сообразил вдруг гениальный Самсон.
И все радостно загалдели:
– Точно! Он же с вечера там лежит!
– Если лежит, значит, можно!
– Главное – собирать, где упал!
И весь взвод, свесившись с крыши, взволновано засюсюкал:
– Мотя, ты как?
– Ты когда упал, до арыка докатился?.. До самого?.. А потом?..
– Мотик, мы сейчас, только задание есть.
И на крыше забурлила бесшумная и сразу повеселевшая жизнь. Мешки соорудили в два счёта. Застегнув на все пуговицы, стянули через головы «хб» и завязали рукава. Вместо верёвки приспособили снятые сапёром растяжки, и работа закипела. Вино давили там, где варили суп и сливали в канистру, для чего вылили из неё воду и потом мучились без неё целый день. Мотю в горячке снова поднять забыли, но к обеду вспомнили, подняли, и он сходу всех обломил:
– Да вы чё, оно до градуса через неделю дойдёт!
А недели никакой не было: через трое суток нужно было сдавать позиции. И всем захотелось сбросить Мотю обратно.
– Разве сахару, – забеспокоился он и опасливо глянул вниз. – И дрожжей.
На том и постановили, повеселили и снова взялись за дело. Дрожжи оставались с тех пор, как сами пекли хлеб, сахар наколупали из коробок «нз», а лейтенанту решили не говорить. Взводный, конечно, человек, но не совсем, потому что правильный, а вина по правилам не полагалось: меньше знает – лучше спит. Постановили: пусть спит. А сами спать не легли – выставили канистру на солнце и стали ждать, но недолго. Сразу выяснилось, что трое суток – срок совершенно невыносимый. Вынесли два часа, добавили сахарку и снова застыли в ожидании. Каждый любовно поглядывал на ребристые жестяные бока. И что-то там, вроде бы, уже начиналось, закипала какая-то неизвестная жизнь. Но к вечеру стало известно, что и трёх суток у батальона нет, а есть только сутки, чтобы собраться и уйти на рубеж. Пришлось добавить дрожжей, а после совещания и сахару, так, что утром в канистре уже что-то булькало и шипело. Из горлышка пыхало чудесным и всем родным, и каждый нюхал и предвкушал:
– Вот она, жизнь!
– Естество своё берёт!
– Меняю вторую пайку на пачку сахара!
Но на пачку, конечно, не соглашался никто, даже те, кто в жизни никогда не пил: теперь они хотели, как все, и гневно подобные предложения отвергали, вспоминая, как целую рюмку выпили на выпускном и даже две на отправке.
– Кто же на отправке рюмками пьёт?
– Понюхал – и отвали!
– Сам отвали! А я, может, полтора года не нюхал!
И с трудом, превозмогая себя, отваливали, по-собачьи урча и шмыгая носами.
Чтобы не светиться, нюхать подходили по очереди – у лейтенанта тоже был нюх. А чтобы только нюхали, выставили на охрану Морсанова, для которого всё это продолжало вонять. И решили уже, кто будет первым, Дорошин, конечно. Он сам и решил, но попробовать не успели. Коварно подошли броня и приказ отправляться в дозор. Канистру пришлось закрыть. Её заботливо, чтобы не прострелили, привязали к корме, но тут вышла осечка. Броня пошла головной, и началась мука. Весь день канистра раскачивалась перед глазами, дразнила, булькала и звала, а приходилось не замечать. Она вроде и была, а вроде нет, потому что рядом с ней сидел лейтенант, и он-то уж точно был. Поэтому все старательно и сурово смотрели вдаль, да и нужно было смотреть. На третьем километре шарахнул пулемёт, какой-то паразит пустил гранату, и все в ужасе за канистру продавили «зелёнку» так, что комбат в восторге по рации прокричал:
– Молодец, молодец, Шерстнёв! Так держать!..
И пришлось держать так до вечера.
На перекрёстке долго и нудно лежали в арыке – ждали вертушек, потом поднялись и завязли на минном поле. Миносяну оторвало колесо, и пришлось снова ставить и ждать. И хорошо ещё, не потеряли канистру. Каждый проверил и подтвердил:
– Нормально, выше прошло!
– Вот сволочь! Чуть ниже – и всё!..
– Да гасите вы, черти, справа! Пробьёт ведь! У, снайперюга! Пробьёт!..
Однако, обошлось, – не пробили, хотя нервов извели килограмм. И к тому же, всё время хотелось. Домой вернулись взъерошенные, усталые и чуть живые. На крышу лезть не было сил, есть «красную рыбу» тоже. А нужно было ещё ставить в коробку броню, снова натягивать брезент, чистить стволы. Да ещё контуженный Миносян не слышал и никак не мог вписаться в квадрат. Неудачный вышел день, нехороший. Но вспомнили, что канистра цела и утешились. А день-то получался ничего! И силы откуда-то появились, и азарт. Брезент растянули в два счёта, на счёт три сняли канистру и удивились: канистра выглядела как-то странно. Дорошин посмотрел и попятился. Жестяные ребристые бока ужасающе раздуло. Прекрасная прежде канистра стала похожа на безобразно распухшую подушку. Она была как на восьмом месяце, и вокруг неё сразу образовалась пустота.
– Может, сапёра позвать? – робко предложил Кузнецов.
– Ага, и делиться! – встревожился Кременцов и растревожил всех: делиться по-прежнему не хотелось, но и к канистре подходить не хотелось тоже. Молчали, думали и потели. И тут пришёл от комбата лейтенант, усталый и злой. Сбросил каску, засучил рукава:
– Морсанов, давай воды!
– Нету, – испуганно пролепетал тот.
– Как нет, а это что? – И лейтенант пнул канистру в раздутый бок.
Стало слышно, как далеко-далеко, где-то над крышей, звенит комар.
– Я спрашиваю что? – Не понял лейтенант и поддал ещё раз.
И тут раздался оглушительный, чудовищной силы взрыв, – так всем показалось. А ещё показалось, что на земле вдруг внезапно отменили атмосферу, а вместо неё подсунули какую-то ядовитую зелёную дрянь. Взорвавшаяся канистра развернулась лепестком. Грязно-бурые ошмётки разлетелись вокруг. Эти ошмётки всех и спасли. Едкая, вонючая жидкость залепила лейтенанту всё, и он не смог никого застрелить, не смог даже достать пистолета. Стоял только и протирал глаза, из которых мощным химическим потоком брызнули слёзы.
– Сволочи, – просипел он. – Я ведь… Я ведь приказ вам принёс: Дорошин, Гилязов, Кременцов – дембель! Самсонов – младший сержант.
Потом шагнул, спотыкаясь, к арыку, но промахнулся и пошёл сослепу вдоль. Сделал шаг, другой, и взвод ахнул, – влажные, чёткие следы оставались на минном поле.
– Стой! Куда? Мины! – забился в истерике Старков.
– Стоять! – взревел Миносян.
Но лейтенант не слышал. Оглушённый, ослепший, шагал по минам. И весь взвод, весь до единого, вдруг сорвался и бросился наперерез. И до того все испугались, до того ужаснулись, что начисто забыли и где бегут, и по чему. Гигантскими кенгуровыми прыжками летел Миносян, мелким кроликом семенил Старков, Матвиенко, споткнувшись, грохнулся в яму, Красильников, не заметив, на него наступил. Лейтенанта догнали, подхватили на руки и молниеносно, чтобы отмыть, шлёпнули в арык.
– Да вы что? – изумился он. – Вы что?
И ему стали торопливо, взахлёб объяснять что. И поскольку обрадовать его спешил каждый, то понять ничего было нельзя. Но лейтенант понял.
– Ах, вот оно что… – протянул он и внимательно их осмотрел. – Значит, вот как… – Потом оглянулся на влажные разнокалиберные следы и вздохнул. – Старков, где панама?
И вдруг, повернувшись, снова зашагал по чёрному от влаги полю. Панама лежала ровно посередине.
– Суицид, – охнул Крюков.
– Крыша поехала, – догадался Линьков.
Но лейтенант вернулся, нахлобучил на Старкова панаму и сообщил:
– Да я виноградник сам минами расписал, чтобы у вас в извилинах не забродило! – И вдруг улыбнулся. – В другой раз без сапёра не ставить!
И над крышей снова стал слышен уцелевший комар. С дерева бесшумно сорвался осенний лист. Взвод комара слушал молча. Смотрел, думал и не дышал. Смотрел в основном на опустившийся за лейтенантом брезент, а не дышал оттого, что было всё ещё нечем, но не долго. Первым захихикал нервный Самсон, подхватил Кузя, и через минуту взвод лежал на земле. Смеялись до ужина, смеялись после, потом легли спать, проснулись и снова стали смеяться, потому что сообразили, что опять на крыше. Но к обеду спустились, притихли, и Дорошин снова услышал таинственный шёпот:
– Дрожжей, дрожжей надо меньше! А главное – не закрывать, естество своё возьмёт, – разобрал он и подумал:
– Точно, естество! Закрывай, не закрывай, – вырвется.
И уже через неделю трясся на раздолбанном БТРе в Кабул, счастливый и от счастья хмельной, и бессмысленно бормотал:
– Вырвался! Ей-богу, вырвался, пронесло!
Тонкое дело
Базарбаев сказал, что сделает плов. Сидел на крыше, распевал что-то своё и бесконечно заунывное, – со стороны ну, вылитый душман. И сказал:
– Палов хочу делать, ош-пош!
– Чего? – не понял Линьков.
– Палов, вкусно будет.
И Самсонова тут же подхватило:
– Плов, мужики, классная вещь! Я на карантине в самоходе пробовал, – убиться можно!
И чуть не убился, дёрнувшись от волнения и полетев с крыши. Но его поймали, укрепили обстоятельно на прежнем месте и уточнили:
– А плов он вообще из чего?
– Скажи им, Базарчик, скажи! – волновался Самсон, потому что этот вопрос волновал сейчас всех.
И Базарбаев задумчиво, как песню запел:
– Мясо нужен, и рис нужен, маркоф нужен, и лук нужен, и зира… Мясо, чтоб жирный, и рис девзира.
Про «илук» с «ирисом» как-то догадались, но кое-что озадачило.
– Какой зира-зивзера? – взорвался Лиьньков. – Ты не свисти, толком скажи, что надо!
Оказалось, приправы и какого-то особого риса, и как Базарбаева ни уговаривали заменить приправу картошкой, не согласился. И снова запел:
– Шавля будет, шурпа будет, мастава будет, басма будет, палов не будет…
Тут уже и понять не пытались, захотелось сразу убить. Довёл этим пловом до невозможности, потому что седьмой день ели кукурузу. Так получилось.
Остались в «зелёнке» островком, как на острове питались подножным кормом, а под ногами валялись только раскатившиеся из мешков сухие початки. Раскатились они во время штурмовки, и никто их поначалу не замечал, но когда выели сначала сухпай а потом по всей окружности виноград, заметили и стали есть. «Вертушки» на остров летать боялись, потому что их стригли здесь по две штуки за день. Одна до сих пор догорала за кишлаком. Нормальный транспорт пройти не мог, потому что тоже горел и увязал в совершенно непроходимых минных полях. И харч на «остров» таскал с горы первый взвод, но таскал, прежде всего, не харч, а боезапас, а из харчей всё, что полегче, и получалось, сухари и галеты. Но и сухарей теперь не получалось, потому что остальной батальон оттянули за горку, где десантуре на блоках стало нехорошо. Как будто здесь хорошо, санаторий в курортной зоне.
Зелени вокруг почти не осталось, её начисто выкосило перекрёстным огнём. В крышах от миномётных обстрелов появились трещины и пробои, и туда время от времени проваливались. И, главное, сплошь хорошие люди. Замполит с политинформацией приходил, – не провалился. Танковый старшина из-за пропавшей бочки ругаться, – хоть бы что. А комбат заглянул, сделал шаг, и всё. Доставали, как слона из корабельного трюма, потому что со двора не войти, а по-другому не выйти. И пока вытаскивали, столько от него правды узнали и про жизнь эту, и про начальство, и про войну, что даже порадовались, что не заглянул особист. А теперь никто не заглядывал, только «духи». Заглянут, постучат из приличия в несколько стволов и, не дожидаясь ответа, уходят. И хорошо ещё, перестали снайперов выставлять, Гилязов их начисто отучил. А то и бочку классную, танковую продырявили, и Первухину испортили штаны, которые на ней сохли. В общем, испорчено было всё, и настроение, и бочка, и штаны. А тут плов. Оживились, конечно, стали приставать к Базарбаеву, чтоб подтвердил. И тот спел:
– И мясо, и лук, и маркоф, и зира, и девзира…
И оказалось, что из всего, что для плова нужно, у взвода есть только вода. Протекала через «зелёнку» в мутном арыке, и ночью можно было набрать, сколько хочешь. И тут уж, конечно, наоборот, – расстроились.
– Да где мы тебе мясо найдём? – возмутился Самсон. – Какая ещё зира-зевзира.
Базарбаев удивился:
– Зачем вы? Сам найду. – И запел: – и мясо найду, и лук найду, и зира найду, и девзира…
И, главное, так вкусно запел, что у всех животы подвело, хотя и было не вполне понятно, про что.
– Да где найдёшь то? – сглотнул Поливанов.
И Базарбаев загадочно улыбнулся:
– Вы не знаете, я знаю. – И опять: – И гушт, и зира, и девзира…
– Ты что же, к местным пойдёшь? – не поверил Линьков.
И Базарбаев покачал головой:
– Зачем пойду? Сами придут. Усман-ака, Эркин-джан, Сабит-джан, Хасанали, Бахтияр…
– Земляки! – догадался Поливанов.
И Базарбаев даже удивился:
– А кто другой?
И все вспомнили, что у Базарбаева, действительно, всюду были земляки, и мысленно тоже почти запели: и у танкистов, и у связистов, и у лётчиков, и у пушкарей, и в десантуре. И, что характерно, почти все повара, а, значит, при мясе, и получалось реально. Непонятно было только, как он их здесь найдёт и всё это доставит. Но Базарбаев утешил:
– Зачем искать? Сами придут, – и стал перечислять: – И Анвар-ака, и Эмин-джан, и Махмуд-ака, и Джума.
Как они придут сами, если на островок не проходили даже колонны, было неясно, но тут-то как раз и прояснилось, потому что одна колонна всё-таки должна была пройти. Танкисты между скандалом сообщили, что пойдут снимать у развилки блок, и как раз через островок. И, конечно, и горючку должны были оставить, и сухпай, что, безусловно, всех интересовало, но не так, как плов. Он ехал в колонне по частям и должен был сложиться во что-то прекрасное. И совсем не еда уже всех волновала, а именно это прекрасное и не похожее ни на что. На Базарбаева смотрели, как на сказочного джина, которому нужно было только высказать желание, и высказывали:
– Базарчик, а поострее можно?.. С перчиком?
– Можно, – отвечал тот и стрелял куда-то в зашевелившуюся ни с того, ни с сего зелень.
– А с чесночком если, с чесночком?
– И он, подумав, отвечал:
– Можно, – и снова стрелял. – Достархан будет, пальчики оближешь! – грустил он и объяснял, что такое достархан.
И оказывалось, ничего страшного. Просто стол, в смысле всё, что на нём, и, когда узнавали, что, начинали захлёбываться слюной. Потому что есть же хотелось седьмой день. А пока ели кукурузу. Шелушили початки, дробили прикладами в какой-то посудине, отчего посудина тоже дробилась и визжала осколками в зубах, как чёрная икра. Хотя, как она визжит, никто не знал, но Самсонов рассказывал.
Кукуруза, сколько её не вари, оставалась жёсткой. Потом и варить перестали, потому что не на чём, и стали просто замачивать, а это было совсем не просто, терпеть суток двое, пока размокнет. Но терпели и утешались, что с грядущей колонной приходит плов. Консервов и прочей прелести тоже ждали, но уже не так, потому что Самсонов разъяснил, что плов, который давали однажды в полковой столовой, это простая каша, которую и в консервах дают. А хотелось уже, чтобы было непросто. Душа просила не того, что давали, а именно того, что не давали: в «зелёнке» не бегать, кукурузы не есть и не спать на крышах. Да и какое там спать, их и оставили здесь, чтобы не спали. А колонны всё не было. Сначала кончилась соль, потом кукуруза, но, когда кончилась, даже обрадовались, потому что без соли есть её, оказалось, совсем невозможно. И лейтенант уже начинал нервничать и даже два раза повышал по рации голос, а на него из рации тоже повышалось:
– Рожу я тебе, что ли? Нести и некому и нечего!..
И это тоже была правда, потому что у них там не было даже воды, и, когда первый взвод завалил на горке барана, то есть его особенно никто и не стал. Там всем не есть уже хотелось, а пить. И получалось, что у третьего взвода есть главное – вода, а, значит, не так уж и плохо. И становилось уже интересно:
– Базарчик, а как по-узбекски вода?
– Сув.
– А пить?
– Ичик.
И напившись, взвод бегал осторожно по крышам, постреливал в облысевший виноградник и время от времени уточнял:
– А виноград как по-узбекски?
– Узум.
– А ворота?
– Ишик.
– Ну, тогда смотри в тот ишик за узумом… Пошли гады, пошли!
И они, действительно, пошли. На двенадцатые сутки «зелёнка» ожила» и накрыла взвод шквальным огнём. Потом поднялась и снова откатилась, чтобы накрыть, но без особого толка. Могучие дувалы спасали взвод и оставшийся боезапас. Стреляли скупо, одиночными и по-собачьи урчали:
– У-у-у, гангрены… Вот вам с перчиком, вот с чесночком!.
– Базарчик, как перец по-узбекски?
– Калампур.
– Ну, тогда посыпь им вон ту рощицу.
И он сыпал и мечтательно вздыхал:
– Ай, какой палов будет, какой достархан! – и перечислял, – И катлама, и чак-чак, и курут…
– Ну, тогда за катламу… Геныч, вруби!
– Лёха, Леха, справа смотри!.. Давай за чак-чак.
И Базарбаев печально качал головой:
– Нет, тут хашар надо.
– Чего?
– Хашар, когда вместе.
– Ну, тогда хашаром. Все вместе по счёту три… Три!
– А лейтенант покрикивал:
– Не залёживаться, не залёживаться! Всем перебегать!
И все старались перебежать поближе к Базарчику, который раскрывал над «зелёнкой» волшебный, сказочный достархан.
– А ещё у тебя в саду что растёт?
– Анор – гранаты.
– Лёха, Лёха, справа держи!.. А ещё что?
– Айва растёт, олма растёт, хурма растёт…
И прикололись. «Зелёнку» теперь не просто отбивали, а накрывали достархан, отбивались не гранатами, а анором, и изо всех сил берегли свой последний чак-чак – пулемёт.
«Зелёнка» пошла на островок, чтобы стянуть с горы батальон, вернуть его на исходный рубеж, но, когда батальон вернулся, свободным, огромным островом стала уже вся зелень. Подоспевшая бронеколонна выручила третий взвод, густой цепью раскинув десантуру и наполнив прежний островок шумом и суетой.
Весь день третий взвод спал. Потом проснулся, схватился за сухпай и вспомнил:
– Базарчик, а как же плов?
– Будет, будет вам палов, – убеждённо ответил он, но с места не сдвинулся.
И тут Линьков догадался категорически уточнить:
– Когда?
– Когда дома будем, у меня соберёмся. Какой палов будет, какой достархан! – ответил он и запел, – И анор, и чак-чак, и анжир, и хурма, и катлама…
И улыбнулся так, что застывший в изумлении взвод помолчал, помолчал, подумал и рассмеялся. Почти истерически рассмеялся со всхлипами и до слёз.
– Вот паразит, на пустом месте развёл! – стонал Чак-чак-пулемётчик.
– И, главное, ни слова ведь не соврал! – восхищался Самсон и вдруг, поглядев в печальные, усталые глаза, сказал: – Базарчик, а ты пожелтел.
И все поняли, отчего он такой печальный. Давно болел, с самого начала, но никому не сказал. И Самсонов задумчиво покачал головой:
– Восток – дело тонкое… Сиди, Базарчик, сиди.
И осторожно отобрал у него автомат.
Три дня Базарбаев лежал на крыше и жёлтыми глазами смотрел в небо, пока с этого неба не смогла спуститься «вертушка». Сапёрам, наконец, удалось расчистить дворы, и его по этим дворам понесли, потому что он так ослаб, что сам уже не ходил. Но перед самой загрузкой он их придержал. Посмотрел тусклыми и пронзительно печальными глазами и сказал:
– Вы все мои гости! И ты, Лёха-джан, и ты, Самсон-ака, и ты, Гена Чак-чак… Такой палов будет, такой достархан…
И взвод, не сговариваясь, подхватил и запел:
– И анор, и анжир, и катлама, и чак-чак!..
Ложка
Однажды случилось – тяжёлый выдался день. Бегали много и всё как-то без толку. Высотку в «зелёнке» взяли, потом ушли, потом снова взяли и снова ушли. Да ещё вчистую расстреляли все заначки, и ещё ящик пришлось открывать и расстрелять два новых цинка. Расстреляли, полежали за дувалом и решили утешиться супом. Потому что, нет худа без добра, а добро вот оно, лежит за тем же дувалом.
Ящик разбили и осторожно развели костерок. Патронный цинк на костре прокалили, чтобы краска слезла и прочая дрянь. Потом вычистили песочком, залили из арыка водой и стали варить, – с песочком и рисовой кашей. А может, и гороховой, это уж у кого что в банках случилось. И тут выяснилось – ложек нет. Если уж пойдёт наперекосяк, то так всё и перекосит. Обычно в лифчиках держали, в кармашках с магазинами. Теряли их понемножку, но оставалось их на взвод целых пять. А тут хватились и нету. Вытряхнули, когда магазины набивали. И, главное, все, и, что обидно, у Самсонова щётка зубная уцелела, у Лобанова карандаш, а больше не уцелело ничего, даже сигарет.
Ну, размешать, положим, и палкой можно, а банками суп хлебать обидно. БМП потеряли, с высотки сбили, да тут ещё и ложек нет. И больше всех сокрушался Косаченко. Ложка у него была дембельская, мельхиоровая, с искуснейшей гравировкой: «ищи, сука, мясу!». И, может быть, немного его нашла, но ведь работала же, искала. А теперь нет, хоть снова на высотку возвращайся и там ищи. Так он и сделал.
– Всё, ищи, сука, ложку! – приказал себе и пошёл.
– Брось, – отговаривали его, – завтра мы их тебе вагон найдём.
– Да из дерева нарежем, распишем под хохлому!
– Если не найду, сам здесь всё распишу и нарежу! – пообещал он. – Я её с самого дома вожу.
И прямо как есть попёрся в «зелёнку», – в лифчике на голом теле и с каской на заднице. И тут все его поняли – из дому, а думали просто дурак.
– Может, она у него из маминого сервиза! – догадался Старков, – Его там одного самого найдут.
И тоже пошёл. А за ним Самсонов. Рассудил хозяйственно:
– Нельзя их вдвоём туда отпускать.
А за Самсоновым Черепок:
– Там втроём и ловить нечего.
И, чтобы не отпускать их туда вчетвером, в «зелёнку» ломанулись Лобанов, Красильников, Генка Чак-чак. Одним словом, все, а Кузнецова оставили, чтобы следил за супом и объяснил в случае чего, куда все делись. Так он и объяснил:
– За ложками пошли.
И вернувшийся с батальонной летучки лейтенант пожалел, что вернулся. За ложками они пошли в ту самую «зелёнку», откуда батальон с треском выбили, и куда он снова собирался только утром. И в голове у лейтенанта сразу взорвалось множество разнообразных и безрадостных мыслей, среди которых первой была застрелиться, второй – связаться с ротой и батальоном, а третьей сразу после этого всё равно застрелиться, потому что ему нужно было сообщать, что его взвод ушёл в самоход. И куда? На высотку, где ещё догорала подбитая БМП. И зачем? За ложками. И лейтенант решил для начала связаться с ротным.
– Куда ушли? – не поверил Шевцов.
– На высотку.
– Зачем? – ужаснулся тот.
– За ложками.
И теперь уже стреляться захотелось ротному. Нужно было идти и будить комбата. Но тот уже и сам проснулся, причём вместе со всем батальоном. На высотке что-то грохнуло, треснуло несколько раз короткими, злыми очередями и затихло. Потом зашипело, хлопнуло ракетами и засветилось зелёным, малиновым и белым, – Косаченко искал ложку. А за дувалом осветились лица офицеров, у одного соответственно зелёное, у другого белое. Они во всём происходящем искали смысл. А смысла не было, происходил кошмар. Причём совершенно неописуемый, и его ещё предстояло описать начальству. Но тут, как из-под земли, чёртом из табакерки выскочил запыхавшийся Старков и виновато сообщил:
– Мы там это… Высотку взяли! Косаченко спрашивает, дальше что?
Оказалось, прошли по арыку, да так удачно, что на высотку попали почти без хлопот. И комбат молниеносно приказал:
– Первый, второй седьмой, к третьему, быстро!..
– Девятой поднять завесу!
И разбуженная девятая завесила огнём седьмую роту. Та с треском ломанулась по арыку и скоро донесла:
– «Костры» в сборе!.. Двухсотых нет!
И комбат не поверил своим ушам. Для того, чтобы эту высотку взять, нужно было дождаться рассвета и прикрыться вертушками. Нужно было подтянуть бронеколонну, разведать цели, разместить корректировщиков. Нужно было обеспечить прикрытие сапёрам, прикрыться соседом, обмануть противника обходным. И много, что ещё было нужно, а оказалось, что всё, что для этого нужно, – ложка. И ведь никто не поверит, совершенно несусветная чушь. А, главное, непонятно, что теперь со всем этим делать, не с высоткой, конечно, а именно с ложкой. Налицо грубейшее нарушение дисциплины, но ведь и высотка тоже налицо. И замполит предложил:
– Забыть. Никакого самохода не было, а была инициатива в сложной боевой обстановке.
Но забыть не удалось. Инициатива грохотала на высотке так громко, что её услышал со своего КП даже Папа:
– Третий, у тебя что?
– И комбат честно ответил:
– Геморрой… Третий седьмой взял ноль шесть!
– Хорошо! – обрадовались на КП. – Подтягивай туда всё, что есть…
А что у комбата было? Плохое настроение и потрёпанная под высоткой восьмая. А с высотки спускался в зелёнку взмокший от пота «геморрой». Его пришлось снять, чтобы усилить восьмую, и комбат пошёл выяснять:
– Идиоты!.. – начал он – Вам кто разрешил?.. А если бы на мины?.. А если бы вообще…
А идиотом чувствовал себя сам, потому что как ни крути, а взяли, и на отбитой высотке сейчас спешно обтягивалась минными полями хозяйственная седьмая.
– Да вы у меня!.. Да я вас!.. – завёлся комбат.
Но что он их, рассказать не успел. Минные поля стали срабатывать, и на высотке началось такое, что комбату вместе со своим «геморроем» и всей восьмой пришлось срочно заняться делом. Над высоткой загудело, завыло, завизжало противными рикошетами. Весь противоположный склон замелькал неуловимо-беглыми огоньками одиночных выстрелов. Восьмой пришлось оттягивать огонь на себя, и оттянула она его столько, что чуть было от этого огня вся и не погорела.
Два часа бушевал под высоткой беспорядочный ночной бой. Перебегали, в темноте торопливо пересчитывались, и снова перебегали. А с дороги всеми своими стволами загудела «броня». Полк бросил на карту всё своё «приданное», – приданные ему самоходную батарею и танковый взвод. И, чтобы не попасть под своих, комбат оттянул восьмую назад.
– Третий взвод, на исходный! – приказал он.
И третий вернулся под дувал, где по-прежнему сидел и меланхолично помешивал палкой суп задумчивый Кузнецов.
– Пришли? – обрадовался он. – А то выкипело совсем…
Все глянули на то, что выкипело и расстроились уже окончательно, потому что палка в этом супе стояла вертикально и из него получилась всё равно каша. Правда, горячая. Вздохнули, но решили, пока не остыло, поесть. Уселись, вытащили выжидательно из заначек галеты, и тут Косаченко дрогнувшим голосом произнёс:
– Ложка!
И обречённо перетряхнул свой лифчик. Из него вывалились магазины, труха и с полкило пыли, а ложки не было. Потерялась, когда бегали вместе с восьмой.
– Сидеть! – рявкнул Самсон и поймал Косаченко за ногу.
И Косаченко с большим трудом удержали. Держали его минут двадцать. Самсон с Поливановым за руки, остальные за ноги, а Старкова для прочности посадили на пузо. Тот, конечно, подрыгался, поматерился, потом подозрительно затих, и его отпустили, потому что выяснилось, что заснул. И все с облегчением взялись за кашу.
Подобрали банки, загнули на них крышки совочками и, угрюмо поскрипывая пищей, принялись есть. Потом зашвырнули пустой цинк в кусты, обернулись и вздрогнули – Косаченко не было. Оказалось, пока ели, проснулся и снова ушёл, а куда, всем было предельно ясно.
– Идиот! – догадался Самсон.
– Полный кретин! – подтвердил Лобанов.
И все бросились искать идиота в «зелёнку», а Кузнецова опять оставили, чтобы разъяснил лейтенанту, что и как. И тот снова разъяснил:
– Ушли.
– Куда? – изумился Шерстнёв.
– Косаченко искать.
– Кого? – переспросил Косаченко и вышел из-за спины лейтенанта.
Оказалось, ходил к танкистам за ложками. И лейтенант решил, что эта ночь для него никогда не кончится, и что она по любому будет в его жизни последней, потому что ему снова предстояло докладывать, что его взвод ушёл. Но доложить он ничего не успел, третий взвод обо всём доложил сам. Только что успокоившаяся «зелёнка» снова взорвалась, затрещала и рассыпалась разнокалиберной дробью, и с такой интенсивностью, что на лейтенанта дождём посыпались срезанные листья и клочья виноградных лоз, – третий взвод вовсю искал Косаченко. Но нашёл, похоже, кого-то не того, и сейчас те, кого он там нашёл, спешно отходили.
– А, чёрт!.. – проснулся Шевцов. – Подъём, всем вперёд!
И седьмая рота пошла искать третий взвод, открыв неожиданно образовавшийся оперативный простор. И батальон этим простором воспользовался немедленно и действительно оперативно и уже через полчаса заполнил его собой. Проснувшись и торопливо снимая посты, он протащил сквозь «зелёнку» колонну и на рассвете из ущелья вырвался. Прошёл узкую горловину и тут же рассыпался блоками и постами, заняв всё, что господствовало над долиной. А мимо него прошёл второй батальон, за которым пылил, замыкая движение, первый. Впервые за всю операцию полк одним рывком прошёл километров пятнадцать. Противник отходил так поспешно, что не успевал даже прикрыться минами, решив отложить это удовольствие на потом. Но сапёры и этого удовольствия ему не доставили, сами перекрывая все выходы на дорогу. А по этой дороге неутомимо громыхал катками могучий тральщик, шла сквозь сплошную серую пыль поседевшая от неё броня. Полк продвигался чулком, выворачиваясь змеиной шкурой и оставляя свои ударные части в арьергарде. И третий батальон неожиданно для себя остался. Он оказался в полной тишине, которую нарушал своим матом Косаченко, горячо убеждавший сапёра:
– Ищи, сука, ложку, ищи!
Он уговаривал сапёра поискать её миноискателем, но уговорил только за участие в супе, который снова затевал третий взвод. Но уже настоящий, с пятью картошками, которые для справедливости разваривали до полной неузнаваемости. Сапёр на него посмотрел, понюхал и соблазнился:
– Только на полчаса!
Ушёл без малейшего шума в «зелёнку», но уже через десять минут радостно заорал:
– Нашёл!
И предъявил Косаченко сияющее домашнее чудо. Тот бережно обтёр его о штаны и удовлетворённо вздохнул:
– Она!
И ложка пошла по рукам. Каждый разглядывал её и с уважением сообщал:
– Цивильная… – вздыхал Поливанов.
– Ну, прямо, как у меня дома! – восхищался Старков.
– Такой только крем-брюле!.. – вздыхал Самсонов.
Передал ложку в следующие руки и обомлел, – это были руки комбата, волосатые и тяжёлые. И взвод обречённо застыл в ожидании неотвратимого наказания. Причём каждый понимал – справедливого. Заварили ночью такую кашу, что теперь её никакими ложками не расхлебать. Но комбат посмотрел как-то странно на ложку, потом на Косаченко и неожиданно предложил:
