Кент Бабилон бесплатное чтение
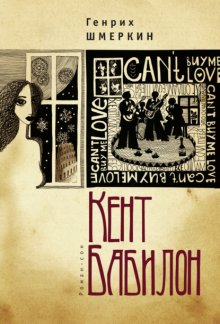
Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).
Иллюстрации Ольги Чикиной Фото на обложке Лины Беровой.
© Г.Л. Шмеркин, 2012
© О.С. Чикина, иллюстрации, 2012
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012
Про Генриха Шмеркина, который умеет играть на скрипке
Вообще-то Генрих Шмеркин играет на саксофоне.
Но скрипка тут тоже при чем.
Лев Толстой посмеивался: скажешь человеку: «Сыграйте на скрипке», он ответит: «Я не умею», скажешь ему: «Напишите роман», он ответит: «Я попробую».
Чтобы написать роман, надо уметь его написать. Речь не о практическом умении, не о курсе обучения. Надо внутренне, изначально – уметь. Без такого уметь, даже окончив музыкальную школу-десятилетку и разобравшись с нотами и струнами, по-настоящему на скрипке не сыграешь. В лучшем случае научишься прилично имитировать настоящую игру.
Как известно, при некоторых, не самых привлекательных для зайца обстоятельствах, его можно научить зажигать спички; но огня он не выдумает.
Тут вот это, знаменитое: у кого есть, тому прибавится, а у кого нет, останется с тем, что имеет.
Проницательный Мольер подшутил над нами, когда внушил своему Журдену, а заодно и нам, что, если не говоришь стихами, то говоришь прозой (отсюда, увы, должно следовать, что, если говоришь стихами, то это, соответственно, поэзия).
Но у Генриха Шмеркина, в отличие от многих современных мольеровских персонажей, охотно и даже жадно берущихся (реже пробующих) играть на скрипке в чертогах отечественной словесности, стихи действительно оборачиваются поэзией, а повествование – прозой.
Хотя пишет он по большей части в юмористическом жанре, где такое пресуществление особенно трудно и неприметно.
А может быть, именно поэтому.
Может быть, в том и особость дарования Генриха Шмеркина (а подлинное дарование непременно имеет свою особость), что оно наиболее полно раскрывается при соприкосновении с юмором.
Об этом в свое время чутко и точно сказала поэт Ольга Бешенковская: «У Генриха Шмеркина есть то особое, слегка печальное, всепонимающее чувство юмора, которое превращает рассказы в прозу, а стихи в поэзию».
Это как раз то самое уметь, которое либо дано, либо нет.
Дарование надо почувствовать в себе, как плод, его надо осознанно или (чаще и лучше) неосознанно вынашивать, выращивать.
Оно требует питательной среды («башня из слоновой кости» – это другое).
Пчела в улье приносит взяток и перерабатывает его в мед, постоянно касаясь лапками лапок других пчел.
В советские годы подлинная литературная среда, как правило, была далека от среды официальной. Квартирные сходки (всё те же «кухни», вошедшие в историю российской общественной жизни), полулегальные встречи в неприметных закулисах домов культуры, библиотек, музеев, студенческих аудиторий, кружки и студии (нередко полуразрешенные), веселые, иной раз хмельные сборища, те, что ныне именуются «тусовками» – вот где воздух был подлинно напоен литературой, вот где обретало себя и оттачивалось умение, пробовались силы, рождалось новое, возникали школы, даже направления.
Генрих Шмеркин проходил такого рода «литературные университеты» в родном Харькове.
Не знаю, обозначена ли особо в истории современной отечественной литературы харьковская литературная школа, но, без сомнения, просматривается энергетически сильное харьковское литературное пространство, из глубин которого явилось на свет немалое число настоящих мастеров нынешней словесности. Когда существует такое пространство, человек, ищущий свой путь, не по баловству охоты, а по беспощадной требовательности дарования, как бы вместе с дыханием укореняет в себе, развивает дарованные ему природой любовь к слову и чувство слова, чуткое понимание – умом и чутьем понимание – смысла слова, его устройства и выразительности.
Слово в стихах и прозе Генриха Шмеркина открывается в своей многозначности, многогранной образности, являет читателю неповторимость формы и звучания. Он ощущает слово почти физически. Слова существуют не в застылости, живут в движении, тянутся одно к другому, сопрягаются, вступают в отношения, образуют нечто, часто неожиданное, вместе смешное и серьезное. Слова у него – работают.
Все писавшие о Генрихе Шмеркине произнесли то, что непременно произносится, когда речь идет о мастере юмористического жанра, – вспомнили про сосуществование веселья и горечи, иронии и жалости, вспомнили, если прибегнуть к привычной формуле, про смех сквозь слезы. Это – неизбежность, как неизбежность сосуществования добра и зла, возвышенного и ничтожного, идеального и телесного, прекрасного и безобразного: предмет осмеяния непременно являет собой или выявляет подле себя предмет сожаления, сочувствия. Настоящий юмор и возникает со способностью замечать, сознавать, чувствовать эту двойственность, эту неизбежность противоречия. Юмор – это не только умение по-особенному – «смешно» – писать, это, прежде всего – умение по-особенному видеть. Юмор – это оптика: линза иронии, введенная в объектив.
Генрих Шмеркин хорошо чувствует и передает в слове противоречивость нашего мира в себе и мира вокруг.
- Пара книжек, мочалка, будильник,
- Раскладушка, застиранный плед,
- Сковородка, носки, кипятильник
- И просроченный членский билет, —
перечисляет он «пожитки» земного существования. Смешно? Но не менее – грустно. Простые «вещные» слова таят глубинные (и духовные) смыслы, оказываются равно подробностью быта и знаком бытия.
Или еще:
- Люди сходятся. Целуются. Смеются.
- Взявшись за руки, гуляют у реки.
- Плачут. Спорят. Любят. Расстаются.
- И врезают новые замки…
Одну из своих книг Генрих Шмеркин назвал «Харьковское море». Слово «море» в русском языке обозначает (см. словари) не только водное, но всякое обширное пространство, а также – еще одно толкование – обилие чего-либо. Название, без сомнения, синекдоха, часть вместо целого. Проза Генриха Шмеркина – не замкнута в границах городской черты, она, конечно, вообще о той жизни, которой мы все, харьковчане, тюменцы или москвичи, жили на всем пространстве нашего отечества. Книга столь же успешно могла оказаться «морем» – челябинским или борисоглебским.
И всё же писатель – явно, не без умысла – откровенно определил «территориальную принадлежность» своего творчества. Рассказы полнятся достоверными указаниями места и времени – именами, названиями, датами, невыдуманными (так, по крайней мере, кажется) ситуациями. Вымысел основывается на точно увиденном, точно отобранном и обработанном материале. Занимательные, исполненные фантазии сюжетные построения настояны на юморе, остроумии положений и языка. Но при этом и материал прозы, и положения, и вымысел, и язык неповторимо помечены харьковским отпечатком. Или некой рожденной творческим усилием метой, которую автор убедил нас признать, считать харьковской. Книга ощущается документальной, хотя на самом деле это добротно сделанная проза, плод работы памяти и воображения.
Теперь Генрих Шмеркин написал роман.
Роман, как известно, требует большого дыхания. Умения захватить памятью и воображением, уяснить, сопрячь, воплотить в слове неизмеримо больший в сравнении с прежними опытами запас живых впечатлений, «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Умения не слабеть мыслью и рукой на неизмеримо большем сравнительно с прежним пространстве повествования. Умения не утратить при этом всё то, что было найдено, привлекало в «прежней» прозе, характеризовало ее. Укрупнение масштаба работы не должно «размыть» дарования, снизить резкость, выразительность его особенностей. Вода в «океане» не должна утратить крепкой солености прежнего «моря», оттого что ее, воды, стало больше.
Похоже, что Генрих Шмеркин с этим сладил.
Могу судить по нескольким опубликованным главам романа, которые мне довелось прочитать.
Пишу не предисловие к роману – просто записываю некоторые впечатления о творчестве Генриха Шмеркина.
А роман почитаем…
Владимир Порудоминский
Предисловие публикатора
Эта рукопись была обнаружена жительницей Кобленца Юдифью Марковной Четвертовской под окнами корпуса № 5 по Oberdörfer Straße, в «русском» квартале германского городка Ифгаузен среди прочих вещей, выставленных из дома – то ли в связи с выселением квартиросъёмщика, то ли по причине переселения его в мир иной.
В Германии подобные «выбросы» не редкость, и малоимущий эмигрант может запросто пополнить свой скарб, если будет регулярно совершать обход близлежащей территории. На выбросах можно найти всё, что нужно для человеческой жизни – от почти новой зубной щётки до газовой или любой другой плиты.
У Юдифи Марковны нет необходимости рыться в хламе; Юдифь – владелица небольшого, но успешного туристического бюро. В прежней жизни она возглавляла кафедру биологии и вирусологии Киевского национального университета.
В Ифгаузен фрау Четвертовская привезла группу русскоязычных экскурсантов. Она обеспечила подопечных недорогим ночлегом, а сама отправилась проведать своих бывших коллег по университетской кафедре – супругов Семёна и Асю Грейсманов (тоже, кстати, занявшихся в Германии туристическим бизнесом).
Проходя мимо «социальной» казармы с желтоватыми оспенными стенами, Четвертовская споткнулась об неказистый портфелишко, стоящий на тротуаре рядом с грудой выброшенного хлама; портфелишко опрокинулся, из него вывалилась старенькая шапка-ушанка, галстук-бабочка и пухлая рукопись, первые листы которой были отпечатаны на принтере, а последние – на машинке.
Рукопись была озаглавлена «Четвёртая Юдифь».
Будучи человеком тонкой душевной организации, Юдифь Четвертовская усмотрела в заглавии аллюзию со своей персоной и решила с этой рукописью ознакомиться. Она привезла её в Кобленц, начала читать, но ничего похожего на свои жизненные перипетии не нашла. Зато несколько интересных мест, касающихся Семёна Грейсмана и его супруги, – обнаружила.
Прекрасно зная, что я тоже занимался когда-то бумагомаранием на ту же тему и даже издал несколько книжек собственного сочинения, Юдифь Марковна передала сей фолиант мне.
…История, изложенная в рукописи, меня, в общем-то, тронула. И я решил её опубликовать. Ибо в чём-то судьба героя напоминает мою. Так, например, я тоже жил одно время в Харькове, тоже в частном секторе, и тоже по адресу: Владимирская, 8-а.
Выбросив из рукописи все сомнительные места (как то: живописание коитуса одного из действующих лиц с не своей супругой, воспоминания об отвратительном пьяном дебоше, учинённом главным персонажем в ифгаузеновской синагоге и пр.), я решил взять всю ответственность за подобного рода усекновения – на себя.
Поэтому в колонке «автор» – мои имя и фамилия.
Неизвестно, что принесёт мне этот благородный поступок, но неприятности уже появились.
Одна украинская газетка – за мизерный гонорар – тиснула главку из нижеприведенного романа. В ней фигурировал некий С., кларнетист харьковского драмтеатра имени А.С. Пушкина, высланный в конце войны из Вены за мародёрство.
Оказалось, кларнетист по-прежнему живёт в Харькове, недавно отметил 98-летие и даже подрабатывает сторожем в одном садовом товариществе. На здоровье не жалуется, на зрение – тоже, и прессу иногда просматривает.
Персонаж звонил уже трижды.
Получается, я, сам того не ведая, оклеветал честного человека. В Вене кларнетист никогда не служил, о чём имеются соответствующие документы. Из рядов Советской Армии был уволен в 1945-м не за мародёрство, а в связи с врождённым пороком сердца, когда в группе советских оккупационных войск проходил воинскую службу под Дрезденом.
Персонаж требует денежной компенсации за моральный ущерб. И вот уже два года грозится подать в суд.
Во избежание подобных казусов впредь – я изменил ФИО всех действующих лиц, а также наименования учреждений и др. Коснулось это и названия опуса.
К сожалению, полной гарантии не даёт и эта мера. Ведь ежели какой-нибудь изначальный персонаж рукописи – к примеру, Юрий Бенционович Ротшильд, которого я переименовал в Юрия Борисовича Вальсбна, на деле никакого отношения к славной фамилии «Ротшильд» не имел (ибо в Ротшильда Юрия Бенционовича был до меня переименован автором рукописи), нельзя исключать, что всамделишное имя героя как раз и есть – Юрий Борисович Вальсон… И ещё очень важное. Для придания большей художественности, возможно, стоило выкинуть из рукописи несколько графоманских виршей. И, в первую очередь, – длиннющее любовное послание юного героя одной ташкентской студентке. Однако выбросить эту рифмованную боль безответно влюблённого юноши у меня не поднялась рука. И вообще, что касается стихотворных материалов, попадающихся в тексте: читатель спокойно может их перескакивать. Так горный красавец-архар легко перескакивает через сверкающий малахитовый валун, встретившийся на его пути.
Местами в тексте встречаются всевозможные спец, термины. Их «расшифровку» читатель, далёкий от музыкальных кругов и округов военных, найдёт в словарике, приведенном в конце книги.
Генрих Шмеркин, Кобленц, 2011
Кент Бабилон
Романсон
Моей жене Маргарите
Часть 1
Находки и потери
Новый Харьков
Из талмуда Олега Белова,ритм-гитариста ресторана «Богдан»
- «Кент Бабило-он
- Эври бади тэлф ми соу!
- Кент Бабилон
- Ноу-ноу-ноу!..»
Всё началось с Харькова.
От еженедельника «Новый харьковчанин», публиковавшего мои рассказики о некоем Грише Тарантуле, – персонаже, выдуманном лично мною и никакого отношения ни ко мне, ни к моему окружению не имеющем, – я получил приглашение на юбилей.
Вечером, посмотрев по телевизору футбол «Гамбург СВ» – «Шальке 04» и выпив чашечку ромашкового чая с имбирем, я вдруг почувствовал, что мне не хватает воздуха.
…Очнулся от холода под утро – на полу, в собственном дерьме и в луже мочи.
Из дымки голубого экрана прорывался голос Ангелы Меркель, нашего нового канцлера.
Не хочется ломать голову, что послужило причиной, но пару дней назад у меня сдохли часы (предзнаменование не из весёлых)…
Но не будем о грустном. Возможно, виноват стаканчик подкисшего сухого, который я позволил себе за обедом.
По стеночке, на ватных ногах, добрался до ванной. Кое-как принял душ. Снова – по стенке, на тех же ватных – добрёл до постели.
Лететь в Харьков – через неделю.
Авиабилет заказан, харьковские друзья уже драят копыта на холодец.
Сердце, как лошадь в конкуре, – то пускалось вскачь, то перемахивало через барьеры, то предательски перед ними останавливалось.
Провалялся три дня один, как Сталин на Ближней даче.
На четвёртое утро поднялся и вышел на кухню. Поклевал творожка. И включил компьютер. Первым делом – дал Е-мэйл Электрошурке, – что у меня прокол с сердчишком и – в Харьков прилечу вряд ли.
Ответ пришёл через день:
Капелюшнику Савелию ([email protected])
Привет, Савелий!
Не бери в голову, приезжай. Честно говоря, уже не надеялся тебя увидеть, думал, скорее я к вам в Германию (что маловероятно), чем ты к нам. А насчёт сердчишка я тебя понимаю. Я, хоть и моложе, а всё один хрен уже с ярмарки, бывает, и меня оно беспокоит, стараюсь не думать. А ты ведь ещё и волнуешься, поди, как перед выходом на сцену, ну да это нормально, столько лет всё-таки прошло, воспоминания накатывают, спать не дают, угадал?
Не ссы, в Харьков приедешь, – всё как рукой снимет. Жду с нетерпением встречи, береги себя и шибко не переживай.
Покедова…
…Когда самолёт пошёл на снижение, снова закружилась голова, закололо под лопаткой. Я прыснул нитроглицерином под язык, расстегнул ворот рубахи и попросил воды.
Новый Харьков встретил отстранёнными настороженными лицами, весенней распутицей, обилием рекламных панно и красивых женщин. Зловонными платными туалетами, автоматами для продажи презервативов, пособиями по технике секса и табличками с мольбой «Недопалки не бросать!». Неизвестно, куда может завести непросвещённого читателя его фантазия, но недопалки по-украински – это окурки.
Юбилейный вечер проходил в муниципальной галерее.
После выступления я нырнул в родное Харьковское метро и со скоростью 150 км/час потрясся на Павлово Поле – к Электрошурке.
В кабаке мой приятель давно не играет.
После того как кабацкое помещение выкупил фитнес-клуб, Электрошурка перековал гитару на ножовку, и пошёл в народ – херачить евроремонты.
Да простит меня читатель за неизысканность стиля, но кабацкий лабух не может выполнять (или производить) ремонты. Он может их только херачить. Точно так же, как не может он интеллигентно сказать: «Коллега, идёмте пописаем»… Настоящий лабух обязательно залепит: «Пошли, чувак, поссым на брудершафт», да ещё непременно ввернёт: «Я угощаю».
Ремонтами Электрошурка кормился почти три года, – пока не отрыл в себе талант фотохудожника. Постепенно прикупил аппаратурку, теперь у него свой фотосалон в здании исторического музея.
Встречали меня тепло, всё выглядело пристойно. Лариса нажарила мяса и котлет с чесноком, замутила целую выварку холодца.
Усидели втроём сначала мою бутылку, потом две хозяйские. От неразлучной супружеской пары я много чего узнал.
Оба их сына женаты, у каждого своё дело, внуков пока нет.
Толик Змиенко спился и пошёл лабать в шляпу на балалайке в подземных переходах. Умер от белочки десять лет назад.
Бонифаций забил на барабаны и ударился в бизнес. Выпрашивает у соседей старые шмотки и шьёт из них детские платьица, которые втюхивает лохам на Салтовском рынке.
Неживенко забросил клавиши и купил кирпичный завод в Рыжове. Потом разорился и «постригся в монархи» – как сказал Электрошурка.
Пржездовский оказался греком, сбил коллектив – два бузукиста, певец, багламист – и шарашит («шарашит», в отличие от «херачит», не предполагает отвращения к выполняемой работе) греческие свадьбы по всей постсоветской прострации.
Заночевал я у Жуковых – Ларки с Шуркой, – а на следующее утро поскакал на бывшую работу, в Металлпром.
Повидался с Наташей Плотниковой, с Мариком Проушанским.
Проушанский уже – начальник отдела. Почти не изменился, только голова седая. Брат его перешёл в ЭлектроТЭП.
Побывал на Москалёвке, повидал отчий дом. На «опознавательном» фонаре над окошком – фамилия нового хозяина. На фасаде – всё тот же зелёный «набрызг» из смеси цемента с масляной краской. Те же белые ставенки. Постучался, открыла какая-то бабуся. Пустила во двор…
Вечером «пьянствовал водку» с Колей Черкашиным. Коля рассказал, что недавно не стало Твердохлябьева.
Прожил Витя Твердохлябьев ровно 70 лет, тютелька в тютельку. Ибо умер Витя в день своего 70-летия. Выпил с молодой супругой самогончика и решил продемонстрировать, что он ещё «ого-го». Сделал стойку на голове. И – готовченко… Инсульт, «скорая» не успела.
Я шлялся по Харькову, дышал его воздухом, глазел на вывески, преображённые улицы, наворачивал резиновые пирожки с картошкой, рассматривал новые станции метро.
Пил – по-взрослому – в гостях у Лицина, Арефьева, Бонифация…
Электрошурка как в воду глядел.
Харьков вылечил. Всё сняло как рукой.
С этого, собственно, и началось.
Я прилетел в Кёльн, и через пару часов – электричкой – добрался до «родного» Ифгаузена.
Дома – сварил себе кофейку покрепче, открыл окно и включил комп.
Далее – крупными буквами – набрал: «Бабло Бабилона»…
Бабло Бабилона
«Всьо-аддам-есльы-тебьа-этта-ащасльывьыт!»
Не можешь разобрать, читатель?
Сбегай за очками, я подожду.
Ну что, нацепил окуляры?
Повторяю специально для тебя:
– Всьо-аддам-есльы-тебьа-этта-ащасльывьыт!
Опять не понял? Объясняю по новой. Понимать – от тебя не требуется. Ты же читатель? Вот и читай. И не «про себя», а вслух. Не дрейфь, дуй смелей! Тебе ведь русским языком написано, чёрным по белому:
– Всьо-аддам-есльы-тебьа-этта-ащасльывьыт! (упрощённо – «Всё отдам, если тебя это осчастливит!»).
Да, чуть не забыл! Вещай не в гордом одиночестве, а в компании двух-трёх собутыльников – чётко, слаженно (от слова «лад», а не «лажа»), на одном винно-водочном дыхании с ними.
И главное – в темпе «престо», мелким помолом. И не на ушко собутыльнику, а в микрофон, который подло усилит и разнесёт по залу каждую твою оговорку, каждый досадный твой ляп. Так что давай. Строго по тексту, и чтоб никакой мне отсебятины.
А проколешься, пропустишь буквицу или ляпнешь вместо неё другую – значит, не умеешь ты, читатель, читать. Какой же ты после этого читатель?
Профан ты. Невежда. Стажёр-дилетант. Городской сумасшедший. Такие – дирижируют дома патефоном, поют серенады в общественных банях и заваливают стихами серьёзные коммерческие издания. И делают это не за бабки, а исключительно по зову сердца.
Короче. Бабки за такую работу не положены. Поэтому от меня (не от покорного, как лукавят иные писъменники, твоего слуги, но от подлого и мстительного шефа-изверга!) ты не получишь ни копья. И это – за целый вечер декламации набивших оскомину текстов, доставших тебя по самое «не могу».
Ну что, кайф ниже среднего?!
Примерно в такой же переплёт попадали мы с Андреем Неживенко, Диогеном и Бонифацием, когда, вперившись в ноты, – на пропахшей подгоревшими цыплятами кабацкой сцене – каждый вечер под коду – херачили в унисон зубодробительную тарабарщину, сочинённую нашим же бас-гитаристом – Электрошуркой.
«Всьо-аддам…» – с невозмутимым видом, – как будто въезжаем в этот умопомрачительный набор нот.
Как любила повторять Марина, моя бывшая жена: «Такое – не для среднего ума».
Любила ли меня Марина?
Всё отдам!..
Кстати, мы прожили двадцать семь лет.
Чтобы понять, о чём это я, попробуй, дорогой читатель, изречь такую, например, сентенцию: «Увы, любовь прошла!».
Не тушуйся, – я помогу.
Готов?
Поехали, три-четыре:
– Увы, любовь прошла!
Ну что, получилось?!
Молодца, Максимка!
Повтори заклинание ещё раз.
Повтор сей не гарантирует, что испепеляющие, сносящие тебе башню думы мгновенно улетучатся. Как тараканы – после освежающего дихлофосного ливня. Напротив – они никуда не денутся. Как те же тараканы.
Но благозвучный, легкоусвояемый тезис втемяшится в черепушку так, что – разбуди тебя среди ночи, и выдашь ты наизусть – без сучка, без задоринки: «Увы, любовь прошла!».
Это тебе не «Всьо-аддам…», о которое можно вывихнуть язык и покалечить мозги.
Так же легко, с первого раза, запомнил ты когда-то: «Я помню чудное мгновенье…», «Ромашки спрятались…» и «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?».
Такая же петрушка – с мелодиями.
Когда услышанный только что мотивчик, – в том числе и сыгранный тобой самолично по нотам (на рояле, клавесине, саксофоне, акынском сазе, английском рожке или даже на «эсной» тубе) – понятен, он приклеивается сходу и намертво. И никакие ноты – для исполнения этой песенки в дальнейшем – уже не нужны.
Увы, любовь прошла!
Всьо-аддам-есльы-тебьа-этта-ащасльывьыт…
Любовь – величайшее заблуждение человечества.
Глупость.
Мыльный пузырь.
Идолопоклонничество.
Не изживаемый пережиток нашего языческого прошлого.
Каждый смертный – от правителя до нищего – прошёл через это.
Любовь! – что может быть глупей, наивней и смешней?
Озноб, лихорадка – естественная реакция организма на заражение. Душераздирающий крик – реакция на неимоверную боль.
Любовь – это безусловный рефлекс организма на красоту.
…«Спасёт ли мир красота?».
С таким же успехом задам тебе вопрос:
Спасёт ли мир мишура? Уберегут ли мир тонкие золочёные нити, эти ёлочные украшения, хрупкая позолота, внешний лоск?
Красота – мишура.
Точёный носик, гордо вскинутая бровь, губки-вишенки, зубки-яхонты – как витийствуют поэты…
Красота – до первой бородавки. До первой проклюнувшейся волосинки над губой – предвестника старушечьих усов – под точёным носиком. До первой морщинки на щеке, до первого второго подбородка. Промчится время – облетит позолота, погаснет любовь.
Ах, извини, читатель!
Мир спасёт не красота плоти? Мир спасёт красота души?!
Такая же мишура. Как и телесная. Широкие улыбки, душа нараспашку:
– Прошу вас – проходите!
– Только после вас!
– Нет, сначала вы!
– Нет, вы…
До первой давки у буфета, до первого взрыва на стадионе или в метро.
Хотя, какой там взрыв?!
Не нужно ни взрыва, ни давки на входе.
В безлюдном коридоре – новый Добчинский услужливо забежит вперёд Бобчинского, дабы растворить пред оным дверь. Молвит с подобострастием: «Сделайте, Пётр Иванович, одолжение – пройдите первым!». Пропустит и даже любезно подтолкнёт Пётра Ивановича вперёд, не забыв подставить при этом откровеннейшую, всепрощающую ножку. И лишь тогда, – выказав непременное почитание соискателю, – перешагнёт чрез его распластанное тело.
Всьо-аддам-есльы-тебьа-этта-ащасльывьыт…
Феномен этой музыкальной головоломки заключался в том, что, когда она звучала на фоне битловского «Бабилона», то воспринималась – со стороны! – как весьма симпатичный мотивчик. И даже более того, – как его, «Бабилона», украшение.
В процессе же непосредственного воплощения головоломки в звук – судорожного всматривания в нотную заумь, непрерывного отсчёта длительностей и дёрганья струн (дутья в саксофон, нажимания клавиш), – уследить за музыкальной мыслью, скрытой в шифрограмме, было невозможно.
Всё отдам!
Понимание приходило каждый раз уже потом, когда мы прослушивали этот кусок «чужими ушами» – на кассетном магнитофоне «Маяк», переделанном умельцем Электрошуркой в ревербератор.
Во имя чего, за какие прегрешения выпали на нашу долю эти тяжкие испытания?
Увы – «Ларчик просто открывался».
Прошу не подумать, что «Ларчик» – это Ларка Жукова, жена нашего Электрошурки.
Ларчик сходу врезала бы мне по уху, отзовись я о ней подобным образом.
Нет-нет! Под легко открывающимся ларчиком следует понимать не Лариску, готовую в любое время суток наставить Шурке рога, а небольшого размера ларец.
«Всё отдам» открывался так.
Превратить головоломку в «чистый звук», то есть вычитать все ноты до единой, – нигде не лажанувшись, – можно было лишь на абсолютно трезвую голову.
Не справившийся с «Бабилоном» оркестрант объявлялся кирным, за что лишался дневного парнуса.
Идеи Ленина живут и побеждают
Аппаратуру и инструменты мы хранили в «бочке» – овальном сыром чулане, отведённом под музыкалку.
В прежние века – чулан этот, по-видимому, был камином или частью дымохода.
В бочке витал аромат одеколона «Русский лес», смешанный с запахом пота и табачного дыма.
Огнеупорные стены были припорошены толстым слоем побелки. Сквозь побелку проступала сажа.
В бочке жил Диоген.
Всё отдам…
Слева помещался шкафчик с эстрадной нашей униформой. Помимо униформы, в шкафу хранился полосатый матерчатый матрас.
Не подумай ничего такого, читатель! В бочку не запархивали ночные бабочки, не запрыгивали младые посудомойки…
Закончив работу, музыкальное наше сотоварищество, подобно сельдям, набивалось внутрь бочки. В отличие от сельдей, сотоварищество запиралось в бочке на ключ.
Наступал момент истины.
Барабанист Бонифаций вытряхивал из своего брезентового гульфика (гульфиком барабанисты называют чехол для барабанных палочек) свежескошенные рублёвки, пятёрки и трёшники. Иногда в закрома попадали червонцы и даже четвертаки.
Подсчитав – под надзором недремлющего коллективного ока – дневную выручку, Боня еле слышно (на случай, если за дверью кто-то подслушивает) доводил до нашего сведения сумму.
Например:
«Девяносто девять рублей и хер копеек».
«Хер копеек» произносилось, конечно, ради красного словца. Копейками с нами никто не расплачивался.
Далее – барабанист воздевал взгляд к потолку, задумчиво прищуривал левый глаз и – через несколько секунд, столь же негромко – оглашал приговор:
«По двадцать четыре рубля и хер копеек – на рыло. Три рубля и хер копеек – в кассу!».
В переводе на язык Пифагора и Эвклида это означало, что, если число 99 (сумму сегодняшнего пар нуса в рублях) разделить на количество не облажавшихся в «Бабилоне» оркестрантов (в данном случае – 4 рыла), то на каждое необлажавшееся рыло выходит по 24 рубля. Неделимый же остаток (3 рубля) остаётся в оркестровой кассе – до завтрашнего делаже.
«Диоген-чувак, извини. Тебе сегодня – хер рублей, хер копеек. Опять пролетаешь», – весомо добавлял Бонифаций.
Разящий меч Немезиды уже несколько вечеров подряд обрушивался на многострадальную голову Диогена. То была кара за кир, за лажу в «Бабилоне».
Иногда Диоген пытался возбухать.
Но греческая богиня не давала Диогену спуску.
«Кирять, чувак, надо меньше!» – говорила Немезида прокуренным Бониным голосом.
«Подумаешь, всего-то и выпил – пивка бутылку», – нехорошо улыбаясь, отвечал ей Диоген.
«Тебе же, чувак, специально, ноты положили. Или ты лабать по чувакам не умеешь?!» – подковыривал Диогена барабанист.
По чувакам – у Бони означало «по ним». По нотам.
Чувак и чувиха служили Бонифацию, кроме прочего, местоимениями; он вворачивал их куда ни попадя:
«На первое попросил у Манюни – окрошечки порцию. Приносит мне чувиха окроху. Я чувиху попробовал – клёвая окроха, только посолить надо. Беру солонку. И тут с чувихи крышечка слетает – не закрученная была – и вся соль из чувихи – мне в окроху. До хера насыпалось. Я чувиху зову, что-то лажа, говорю, перехотел я окроху. Забери, говорю, чувиху на хер и неси, говорю, что там сегодня на второе. Чувиха уносит окроху и приносит битки. Два чувачка таких загорелых, с рисом и с томатной подливкой. И тут к соседнему столику прилаживается чувак и заказывает тоже – окрошечку! Чувиха приносит. Чувак пару ложек сверхаря хлебанул, потом решил гущечки берлянуть. Зачерпнул со дна, глотнул – и тут у чувака глаза на лоб, на хер, полезли. А это чувиха ему мою окроху принесла…».
Вообще-то – за те три рубля, которые ежемесячно высчитывала из нашей зарплаты гуманная бухгалтерша, нам было положено лишь блюдце винегрета.
Мы же – регулярно, после второго отделения – получали обед по полной программе – с салатом и компотом. Это согревало душу. Особенно в те дни, когда, тряхнув пустым гульфиком, Бонифаций констатировал:
«Сегодня, чуваки, опять голяк на хер…».
Разделив (или не разделив) бабки, мы складывали шкварки, переодевались и, хлопнув по пятьдесят капель на посошок, рассасывались по домам.
Иногда, если в общаке нашем появлялась бутылка-другая (от размякших клиентов), мы брали у буфетчика пару бутербродов и задерживались до победного конца.
Диоген распахивал дверь бочки настежь, проветривал своё жилище, затем вытаскивал из шкафчика матрас и гасил свет.
Спать Диогену приходилось на полу.
Укрывался он куском кумачового полотнища с осыпающейся надписью «ЛЕНИНАЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ!».
В стиле фьюжн
Над Ифгаузеном тучи. Моросит тёплый январский дождик. Нордический заоконный термометр кажет «+12», в окне – заезженный, затверженный пейзаж:
- Чахлые оконца. Оспенные стены.
- На замшелых крышах – трубы да антенны.
- Друг напротив друга – чёрные подъезды.
- Вдоль бордюра – мазды, форды и фиесты.
- Будка с телефоном. Тротуар. Сберкасса.
- Синий указатель: «Обердорферштрассе».
- Люк водопроводный. Мальборо окурок.
- За стеклом – поникший, пожелтевший турок.
- В урне – чей-то тапок, на витрине – булки.
- Вот и вся природа в нашем переулке…
Если гора не идёт к Магомету, то…
Всякий раз, когда парковочный ряд под моими окнами свободен, гора припирается ко мне. Она загораживает небо, источая помойный аромат и собирая эскадрильи неприкаянных, измученных бессонницей мух.
С тех пор, как на Oberdörfer Straße поселился металлист-мусорщик, его моторизированная подвода, гружённая испустившими дух духовками, откинувшими коньки холодильниками и старыми канализационными трубами, стала у меня частой гостьей.
…«Доктор Хлам» (так называла хозяина горы моя Марина, она застала его переезд) пристраивает до кучи проржавевший детский велик и пару замызганных противней.
«Ну что, съел, писака? – лязгает железяками Гора. – Бросай писанину, найди себе применение подостойней! И тогда под окнами у тебя засверкает твой Opel или Volkswagen, а не чужая помойка…».
«…Ди модернен унт аттрактивен модельпалеттен дер бритишен традиционсмаркен зинд ди нойестен…» – бухтит телевизор.
В голове – с хрипотцой, под сурдинку – вихрится-искрится незатейливая тема:
- По снегу можно бегать,
- по снегу можно мчаться,
- По снегу можно девочек
- на саночках катать.
- По снегу можно шатко
- со свадеб возвращаться,
- По снегу можно милых
- до дома провожать!
- По снегу можно долго
- с девчонкою прощаться,
- По снегу можно голым
- из баньки вылетать.
- По снегу можно бегать,
- по снегу можно мчаться,
- По снегу можно ползать,
- а можно – тосковать…
Зимне-харьковский мотив гаснет. И вспыхивает ещё один – тем же простуженным, хрипатым звучком:
- Закажу себе я ужин, зимний ужин в стиле «фьюжн».
- Пусть завьюжит, запуржит – синий «фьюжн» закружит.
- Зимний фьюжн, снежный фьюжн, нежным дождичком сконфужен,
- В южном городе моём – фьюжн с милою вдвоём…
«Хорош пургу гнать! Давай по делу, рассказчик!» – может воскликнуть читатель-рифмофоб, читатель-прозофил в ответ на лавину виршей, обрушившуюся вдруг на его голову.
Что ж, ты прав, читатель. Вертаюсь в колею. Вот только запишу в багровую свою тетрадку ещё один стишок, – который придумался по ходу:
- Люди сходятся. Целуются. Смеются.
- Взявшись за руки, гуляют у реки.
- Плачут. Спорят. Любят. Расстаются
- И врезают новые замки.
…Бонин гульфик в тот вечер не выплюнул из себя ни копья. Это было в один из последних дней нашей работы с Диогеном. Я возвращался с работы домой, к любимой своей Марине. И, как образцовый муж, решил сэкономить пару рублей, дабы доставить ей несколько приятных минут (Марина испытывала почти болезненную страсть к экономии, и, если бы городским властям вздумалось взимать плату за воздух, то тут же с радостью запретила бы мне – и сама бы перестала – дышать). Поэтому я не стал, как обычно, ловить такси и пошёл на метро, – ибо был почти трезв.
Я твёрдо держался на ногах, куртка не была вываляна в сером придорожном снегу, глаза мои не смотрели в разные стороны, лицо не пунцовело предательскими пятнами. Меня, определённо, должны были пустить в метро. Так оно и вышло. Ибо, повторяю, я был почти трезв.
Выйдя на станции «Южный вокзал», я поспешил к трамвайной остановке. Стояла зима, сырая, ветреная харьковская зима.
На остановке мёрзла одинокая супружеская пара. Видать, с именин или со свадьбы. Он, как и я, был слегка подшофе и, с каким-то необоримым упорством, оказывал знаки внимания своей спутнице.
Ох, уж эти мне формулировочки – «спутница», «жизненная спутница»… – что может быть банальней?
Не знаешь?
Тогда расскажу.
Банальней (и – стократ горше!), – когда вдруг осознаёшь, что лучшие твои годы прожиты не со спутницей, а с попутчицей. Элементарной, милой, брутальной попутчицей, подсевшей впопыхах на станции «Минутка», вскружившей тебе голову, преломившей с тобой дорожный хлеб, родившей тебе сына, и соскочившей, как только вагон начало трясти, даже не сделав ручкой. Да что там говорить! Разве не видел ты, как, попивая в купе (в купе, а не вкупе!) с тобой чаи, она всю дорогу глазела в окно?!
Вернёмся к нашей супружеской паре. Он стряхивал снежинки с её воротника. Игриво крутил пуговицы на шубке. Гладил её ладони, отогревая своим дыханием.
Трамвая всё не было.
Она пыталась хмурить брови и, сияя, бормотала: «Отстань. Сколько можно?». На столбе раскачивался фонарь, выхватывая из темноты влажный блеск её глаз.
Наконец подошёл «четырнадцатый».
«Двери закрываются. Следующая остановка маршала Конева», – прошелестело из динамика. Я опустился на двуспальное сидение, рядом с окошком. Женщина и её муж сели впереди. Трамвай дёрнулся, мы поехали. Её спутника сморило, и он, кажется, уснул. Вот так, втроём в пустом ночном вагоне, ехали мы несколько минут. На остановке «Гончаровский мост» подсел четвёртый пассажир. Краснощёкий паренёк со смазливой мордашкой, в заячьей шапке-ушанке и коричневой кожанке на меху. Он вошёл через переднюю площадку и сразу бросился к моим попутчикам:
– Физкульт-привет, Генчик!
– Колька, ты? – мгновенно проснулся тот.
– Сколько лет, сколько зим!
– Уже три года почти, – сладко зевнул Генчик.
– Ну, давай, рассказывай! Как там Васютка Кривошеин? Как Павлюк?
– Порядок. Кривошеин, завязал. В рот ни граммулечки не берёт. Павлюк к Альперовичу подался. А на его «ГАЗоне» теперь Гусейнов.
– Сам-то ты как?
– Я? Всё путём. Вот, от тёщи, с дня рождения. Посидели за рюмкой чая. А ты?
– А я… так и не женился…
– Эх, Колька, Колька, как же хорошо мне с тобою было! – ненароком смахнув со щеки слезу, проникновенно сказал вдруг Генчик.
Всё отдам!..
Жена Генчика, сидевшая сбоку от мужа, ближе к окошку, сверкнула очами и, с удивлением, стала ожидать продолжения беседы.
– Да брось ты, Генка. Сейчас, небось, тебе не хуже, – как ни в чём не бывало, ответил Колька.
– Это с Игорьком, что ли?!
– Да хотя бы и с Игорьком.
Трамвай болтало из стороны в сторону. Коля стоял рядом с приятелем, в проходе между двумя рядами сидений, намертво вцепившись в верхний поручень.
Мы миновали скверик Победы, показался округлый силуэт шестой поликлиники.
– Что ты, Коля! – продолжил сидящий. – Чтоб он хоть раз после рейса под капотом протёр, давление в баллонах проверил?! Да никогда!
– Я, Генчик, тоже был не подарок, – улыбнулся стоящий.
– Не гневи бога, Коля! Такого сменщика, как ты, мне ни в жисть не найти… – почти с отчаянием сказал Генчик.
Супруга отвернулась и, подперев ладонью подбородок, стала смотреть в окно. До неё дошёл, наконец, смысл разговора.
– А ты-то как? – в свою очередь, осведомился Генчик.
– Что – как?
– Ты ж в автоколонну ушёл, потому что квартиру обещали.
– Ну, обещали…
– И что? Дали?
– Ну… Отдельную – нет.
– Во гады!
– Неженатым, сказали, не положено. В отдельную Слепаков переехал, механик. Ему, говорят, главбух свояком.
– А ты?!
– Я в коммуналку. В комнату, где Слепаков жил.
– И что?
– Двенадцать метров. Свой сарай, кладовка… Лучше, чем в общаге.
– А район?
– Возле держоперы, Рымарская, три.
– Рымарская, три?! Ой, Коля, да за что ж тебе измывательства такие? Дом сырой, с горячей водой всю дорогу перебои, паркет шашелем побило…
– А откуда ты, Генчик, в курсе?
– Отчего ж мне быть не в курсе? Ты Нельку Отрощенко из третьего подъезда знаешь?!
– Конечно, знаю…
– Так вот, тютя! Когда моя пять лет назад на сохранении лежала, я у этой Нельки две недели жил.
…Удар, ещё удар!
Наотмашь – по голове, по уху, по щеке…
Забывший, что жена рядом, Генчик, прикрываясь руками, отворотился от приятеля и повернулся, наконец, к супруге:
– Люся, прости!
Покаемся и мы, встанем на колени перед бедными нашими люсями, обнимем за холодные лодыжки, повинимся в полный голос: «Люся, прости…».
Стоп! Отменяется.
Полнолуние
Вспомнилась ещё одна Люся… У меня заканчивался отпуск, я возвращался из Туапсе, где отдыхал с Мариной и нашим сыном Митькой. Возвращался один. У Марины с Митяем ещё не закончились каникулы. Жена моя к тому времени поставила крест на своём инженерстве и, повинуясь материнскому инстинкту, устроилась в школу, где учился наш Митяй – преподавать черчение. И по новой пошла грызть гранит науки – в заочный педагогический, на физмат.
…В купе со мной ехали молодожёны – Люся Борисовна и Пётр Тимофеевич. Оба не первой молодости.
Получив постельное бельё, молодожёны сразу начали играть в «балду».
Игра, в принципе, несложная. Чтобы ты, читатель, понял, в чём суть, давай попробуем разок сразиться.
Ты и я будем называть по одной букве, и, на ком кончится слово, – тот проиграл.
Итак, я начинаю – «з». Твоя очередь. Допустим, ты говоришь «и».
Понятно. А теперь скажи, куда ты её пристраиваешь. Спереди? Или сзади?
Ах, спереди?! Значит, получилось «из».
Существительного такого нет, на тебе слово не закончилось. Наступает очередь моя. Я на некоторое время задумываюсь и, перебрав какое-то количество вариантов (ИЗмена, ИЗнанка, ИЗобличение, вИЗг, мИЗансцена, ИЗгнание, эгоцентрИЗм), добавляю в конец букву «ю». Итак: «изю».
Ай да автор, ай да сукин сын!
Изящно, непотопляемо!
Ни во что, кроме «изюма», ты этого «изю» не превратишь.
«Изюм», естественно, оканчивается на тебе, поэтому ты проиграл.
Нет?!
Не проиграл?
Ты говоришь не «м»? Ты говоришь «б»?!
Ну, б… Извини, но тогда получится не «изюм», а «изюб».
А на «изюб» – слов нет. Ты таки проиграл!
Ах, есть?! «Изюбрь»? Это что ещё такое? Олень?.. Тогда на твоё «изюб» я отвечу: «Изюбрь». И тебе останется лишь поставить мягкий знак в конце слова.
Как это «нет»?
Проиграл я?!
Потому что говорил, что слов с «изюб» не существует?
Не будь мелочным, мыслитель! Неважно, кто выиграл. Важно, что ты «въехал».
Люся Борисовна и Пётр Тимофеевич сидели бок о бок на нижней полке и под стук колёс, глядя друг другу в глаза, шептали:
– С…
– Ст…
– Стр…
– Остр…
– Остра…
– Достра…
– Адостра…
– Адострас…
– Адостраст…
– Адострасти…
– Адострастие…
– Ладострастие…
– Сладострастие!
Всё отдам!..
Иногда эти голубки делали вид, будто забывают о моём присутствии. Я пулей выскакивал из купе. Некоторое время спустя Люся приходила за мной в тамбур и, как ни в чём не бывало, интересовалась, «куда это вы пропали, мы уже начали волноваться…». Я докуривал очередную сигарету и возвращался. Они угощали меня пепси-колой, которой везли целых два ящика (достать пепси в Харькове было невозможно, а в Туапсе её было навалом), и грецкими орехами. Угощали – то ли в знак благодарности, то ли в качестве компенсации за причиняемые неудобства.
Поезд наш был не скорый и останавливался у каждого столба. На какой-то станции (кажется, Лабинск) кривенькая бабулька торговала отварной картошкой – парующей, крупной, рассыпчатой. На обрывок газеты, из ведра, она выкладывала пять-шесть белоснежных картошин, добавляла кусочек масла и мокрый солёный огурец. Бабуля сеяла «разумное, доброе, вечное». На картошке отпечатывался газетный текст. Перед съедением каждую картошину можно было прочитать. Удовольствие стоило рупь.
Мне достался кусок газеты со статьёй «Из зала суда». В нём рассказывалось об акушере Краснодарского роддома № 2, который промышлял криминальными абортами. Фамилия акушера была – Вытягайло. Я показал этот «шедевр» попутчикам. Посмеялись. Разговорились.
Оказалось, они ездили не в отпуск, а в командировку. Оба трудились в Харпромбуме. И в Туапсе утрясали какой-то вопрос с субподрядной организацией.
Умеют же люди устраиваться, подумал, грешным делом, я.
Море, солнце, проезд, гостиница – всё за казённый счёт.
Хотя сам я, если честно, уже не помню, когда отдыхал за свои. Но обо мне потом. Не для того завладел я твоим вниманием, читатель, чтобы втюхивать майсы про свои отпуска. Я врулю тебе это чуть позже, через десяток-другой страниц.
В Туапсе на вокзале, когда я садился в вагон, чета была уже в купе. С двумя ящиками пепси и двумя чемоданами.
Дама поинтересовалась:
– Докуда вы?
– До Харькова, – сказал я.
– До Южного вокзала? – улыбнувшись, уточнила она.
Я ответил, что выйду остановкой раньше – на станции «Новосёлова».
Пока Люся Борисовна выуживала из меня информацию, Пётр Тимофеевич стоял рядом и – с участливой миной, украдкой – гладил её по попе.
В ту пору, с пригорка моих тридцати двух, прикольно было глазеть на этих почтенного возраста молодожёнов, на их озорные глаза и потные лбы, обрамлённые выцветшими кудрями.
В Харьков мы должны были прибыть утром. Ночью я проснулся от рывка – такого резкого, что чуть было не свалился на пол. Раздвижная дверь была приоткрыта. Пыльный, тусклый свет по крупицам проникал внутрь купе. Молодожёны спали лицом к лицу на нижней полке, одеяло валялось на полу.
Не морщься, не отводи глаз, читатель! Автор не опустится до описания её кудреватого живота, испещрённого глубокими складками. Поэтому скажу, что Люся Борисовна спала… ну, например, в платье. А Пётр Тимофеевич – в пижаме.
Я надел тренировочные и вышел из купе.
Оказалось, наш поезд сбил корову, неизвестно каким образом оказавшуюся на путях среди ночи.
Стояли часа полтора – ждали, пока приедет железнодорожная милиция.
Было полнолуние. Наверное, и среди коров бывают лунатики, подумал я. Должно быть, животное преспокойно стояло себе в хлеву, но услышало вдруг голос луны. И по зову сердца устремилось к железнодорожным путям, на верную погибель. Ах, зов сердца, зов сердца, до чего же злые шутки ты иногда выкидываешь с нами!
Когда поезд тронулся, я вскочил на подножку и долго ещё курил в тамбуре. Спать пошёл под утро, когда уже начало светлеть.
…Меня растолкала Люся Борисовна.
До Новосёловки оставалось минут пятнадцать. Я схватил умывальные принадлежности и поскакал в туалет. По закону подлости, оба туалета были заняты. Я – в тренировочных и в майке, с мыльницей в руках и вафельным полотенцем через плечо – помчался искать счастья в другие вагоны.
Когда я вышел из клозета, Новосёловка была уже позади.
Поезд приближался к Южному вокзалу. Я должен был пройти ещё четыре вагона. И вдруг увидел, как навстречу мне – по проходу – торопливо двигается наш молодожён. В одной руке он держал чемодан, в другой – ящик с пепси.
В купе, потупив очи долу, сидела Люся Борисовна со своим чемоданом и со своим ящиком прохладительного напитка. Я не стал задавать вопросов, и вскоре из-за массивной бетонной колонны железнодорожного моста вынырнула родная серая платформа…
Не успел поезд остановиться, в вагон заскочил один из встречающих – рыжий пожилой мужчина с букетом огненно-красных роз и таким же носом.
Продравшись в проходе сквозь толпу нагруженных чемоданами пассажиров, он ввалился в наше купе.
– Гарик, как хорошо, что ты пришёл, я уже думала брать носильщика, – бросила она ему, зыркнув на меня с вызовом.
– Люсенька, жёнушка! – не обращая внимания на моё присутствие, запричитал новоявленный муж. – Если б ты только знала, как я по тебе соскучился, как мне тебя не хвата…
Гарик запнулся. Взор его упал на пиджачище, висящий под верхней полкой и забытый, по всей видимости, Петром Тимофеевичем.
Гарик взглянул на меня, потом снова на пиджак, как бы примеряя его на мои хилые плечи…
Было ясно, что ему хочется что-то спросить – то ли у жены, то ли у меня.
Он почухал бок, вздохнул и – не спросил ничего.
Супруги расцеловались, он подхватил её чемодан.
– Пепси тоже наша, – указала она букетом на ящик, – тебе и внукам везу.
Пока муж нагибался за ящиком, Люся Борисовна успела состроить ему рожу и весело подмигнуть мне.
– Что на работе? – участливо спросил супруг.
– Гипробум не утвердил, – ответила она своему рыжему, – дней через десять придётся ехать снова.
Народ перед нашим купе ещё не рассосался, Гарик опустил чемодан на пол и присел у столика.
Я молчал.
Люся подошла к мужу и, поправив в волосах заколку, поставила острый локоток ему на плечо.
Так выигравший смертельную схватку гладиатор попирал ногой тело поверженного врага.
Эх, Генчик!
Говоришь: «Люся, прости!»?
Не прав ты, Генчик.
Москалёвка
С. К.
- «Если б я был Буревестник, я б над морем гордо реял,
- Рыбу клювом бы гарпунил, над седой равниной волн.
- Я б её мешками вялил, и летал бы с нею в Харьков,
- В свой родной любимый Харьков, где славянское пивко…»
Мюскалёвка пятидесятых, «любимый, милый край»! Тополиный оазис, райский уголок посреди индустриального Харькова, одетого в сизые лохмотья заводских дымов! Или, как шутили записные харьковские остряки, улица четырёх евреев – Сёма-Марка-Моська-Лёвка.
«Ну, Моська-Лёвка – значит Москалёвка. Но при чём тут Сёма-Марка?» – может поинтересоваться несведущий гражданин из какого-нибудь Крыжополя, Парижа или Сан-Франциско. А при том! По Москалёвке ходил седьмой трамвай – «сёма марка».
Да, именно: сёма марка.
Грохочущая по серебряной глади рельсов, с сияющими поручнями и высокими подножками, с которых можно радостно сигануть на полном ходу от приближающейся кондукторши. И как ни в чём не бывало прошвырнуться пешком – мимо кинотеатра «Жовтень», мимо щербатых ступенек булочной, взглянуть на своё отражение в стеклянной витрине библиотеки имени Некрасова.
А в этом отражении, между прочим, тебе нет ещё и двенадцати. Да что там двенадцати! Ни тридцати, ни сорока, ни пятидесяти нет тебе ещё в этом огромном прозрачном стекле, в которое ты вечно заглядывал по пути в школу или к Тине Качинской, – а она на свидание с тобой прихватывала всех своих подружек, живущих по соседству.
И профланировать дальше, – мимо аптеки, через Марьинскую – по Красношкольной Набережной, вдоль речки Лбпань, мимо Рыбного базара, вдыхая неповторимый болотный аромат Лопанского ила. Галантерейный магазин «Свет Шахтёра», в котором сладко задыхаешься от парфюмерии среди крепдешина и ворохов белоснежного дамского белья – словно в объятиях благоухающей духами колхозницы, улыбающейся тебе с витража над кассой! Шестая поликлиника, не отстроенная ещё после минувшей войны. Тёплая газировка в киоске напротив. С сиропом – сорок дореформенных копеек, без сиропа – пять. Над градуированной колбой с едва розоватым «вишнёвым» сиропом вьются жирные осы. Продавщица ополаскивает гранёный стакан, подносит к градуированной колбе, роняет в него несколько капель вязкой жидкости и подставляет под кран газводы. Струя бьёт в дно стакана, это шторм в океане, буря в пустыне, бунт на корабле, это «меньше пены!» и «Муля, не нервируй меня!»…
– Водиська, свадкая водиська с висьнёвым сийопом! – зазывает торговка улыбающихся прохожих. Она не выговаривает половину букв русского алфавита.
– Тётенька, а можно без сиропа?
– Сисьтой нету! Водиська с сийопом!
Магазин Рыбтреста, насквозь пропитанный приторным запахом только что оттаявшей трески…
Первомайская демонстрация, празднично одетые люди, щурящаяся на солнце толпа, вываливающая из кинотеатра «Жовтень» после дневного сеанса, кинофильм «Джульбарс», наши пограничники, вражеские парашютисты, осушение болот, великий Ленинский план ГОЭЛРО и книги, книги, книги…
Запоем – Валентин Катаев, Леонид Пантелеев, Анатолий Рыбаков, Аркадий Гайдар.
В детстве я летал.
Меня водили в детский сад № 5, размещавшийся на углу Владимирской улицы и Колодезного переулка.
Гулять мы ходили с воспитательницей на Балабановку. Так называлась лужайка за поросшими бурьяном развалинами шестой поликлиники. Среди ромашек, одуванчиков и подорожника стрекотали кузнечики и тарахтели экскаваторы. Лужайка превращалась в стройплощадку. Обветренные дяди с зычными голосами выгружали на травку металлические трубы, огромные катушки кабелей и тросов. Начиналось сооружение москалёвской глушилки.
На Балабановке я летал, и охоту летать мне отшибло именно на Балабановке. В тот день я, как обычно, вихрем носился по траве, широко раскинув крылья рук, – отталкиваясь, что есть мочи, от земли. У меня захватывало дух – как на качелях, когда взлетаешь в самую высокую точку. Я носился как угорелый, в одних трусиках по траве, задевая крыльями сверстников и радостно крича: «Я лётчик! Я лётчик!». И описался от избытка чувств.
Воспитательница сняла с меня трусы и повесила на кустик сушиться. Я же, оставшись в чём мама родила, почувствовал себя ещё свободней и снова принялся летать, сотрясая эфир сообщениями, что я – лётчик. И услышал дружный хор своих однокашников: «Безтрусовый лётчик! Безтрусовый лётчик!». Дирижировала этим хором Инка Минчина, загорелое рыжеволосое создание с горбинкой на носу и недетскими лиловыми губами.
Мальчишки ухмылялись, девчонки хихикали. Я расплакался. И понял, что до слёз люблю эту Инку Минчину, сам не знаю почему. Воспитательница сплела мне набедренную повязку из лопухов. С тех пор я перестал летать.
Глушилка была смонтирована через год. Её обнесли высоченным кирпичным забором, увенчанным несколькими этажами колючей проволоки. Нас туда больше не водили.
Шестую поликлинику восстановили через одиннадцать лет после сооружения глушилки.
Инка выскочила замуж за волейбольного тренера. Сейчас она в Австралии.
Жили мы неподалеку от «Жовтня», в одноэтажной халупе с заваленными углами и прогнившим полом, по адресу: Владимирская, 8-а. Улица наша более походила на деревенскую. На траве вдоль грунтовки паслись на привязи козы. У канав рос подорожник.
Над прохудившимися жестяными крышами, над ободранными тополями и липами серели грязноватые купола Москалёвской церкви. Переминались с ноги на ногу набожные куры. Они со всей дури били поклоны во влажный песок, – жадно склёвывая лакомые крохи из свежих помоев, выливаемых прямо на дорогу. Куры молча шарахались от нахальных щёголей-гусей, расхаживающих вразвалку шумными кодлами.
Ещё не успел ввести налоги Никита Сергеевич – покорневой (с каждого фруктового деревца) и подушный (с каждой животинки). Ещё не вырубал яблони народ, спасаясь от всезнаек-фининспекторов, ещё жирели в соседских сарайчиках увальни-кабаны. И всё это цвело, румянилось, блеяло, покрякивало, покудахтывало, погогатывало, похрюкивало и покукарекивало в десяти минутах ходьбы от центра города.
Говорят, когда-то на Москалёвке стояли казармы. В них квартировали солдаты царской армии (москали).
Скулёжка
Печку топили дровами и углем.
Отец служил скрипачом в русском драмтеатре им. Пушкина. У папы было целых три хобби: приготовление пищи, ученики и разделка туш. С учениками отец разделывался в гостиной. Он провожал туда юное дарование, принимал у него пальто, вешал на крючок, прибитый к нашему пианино «Rönisch», и просил сыграть домашнее задание. Сам же удалялся в сени, где, в сопровождении скрипки, начинал колдовать над примусом. Аромат приготовляемого папой блюда разносился по квартире. Юное дарование, исходя желудочным соком, пиликало – сначала гамму и арпеджио, затем адажио или «Сурка», а отец ворожил над кастрюлей, постоянно принюхиваясь, приподнимая крышку и облизываясь, переворачивая, помешивая, добавляя соли, бесконечно пробуя и командуя: «Тяни смычок! Выше ре! Тенуто, тену-то! Ниже си-бемоль, выше фа! Синкопа! Деташе! Кантабиле! На вторую вольту! С чувством! Там написано – с чувством!». Отец взывал, гуляш кипел, скрипка кряхтела, примус пел.
Я учился в ту пору на кларнете. Моим учителем был кларнетист «папиного» театра Александр Григорьевич Елейник, к которому я обращался не иначе как «дядя Саша». Дядя Саша играл на трофейном треснутом кларнете. Звук у него был дребезжащий – в нижнем регистре, и хлюпающий – в верхнем и среднем. Говорили, что в 45-м Саша, служивший в военном оркестре, был выслан из Вены в 24 часа – за мародёрство. В театре у Саши было прозвище «Сквозняк».
Однажды у меня лопнула машинка (это такой зажим, при помощи которого кларнетная трость крепится к мундштуку). Саша пытался починить её, но безуспешно. Тогда он сказал мне буквально следующее: «Передай папе – пусть пойдёт на скулёжку и купит за два кола подержанную машинку».
Если б вы только видели, что творилось с моим папой, когда я передал ему наказ учителя!
«На какую ещё скулёжку?! – возмущался отец. – Какие ещё два кола?! Кошмар! Что он себе позволяет! Ты когда-нибудь слышал от меня лабушеские словечки?! Чтоб ты больше никогда не произносил таких слов!».
Скулёжкой у харьковских лабухов назывался их постоянно действующий сходняк у городских железнодорожных касс. Слово это означало базар, брехаловку, тусовку («скулить» – ругаться, жаловаться, базарить). В то время я не знал, что на лабушеском жаргоне разговаривают друг с другом 100 процентов духовиков, 80 процентов струнников, скрипачей, виолончелистов и прочих творческих личностей, заставляющих петь металл и воловьи жилы.
Закончилось тем, что отец пошёл на скулёжку и купил мне машинку за два кола.
На скулёжке собирались в основном жмурики (духовики из жмурконторы), куски (военные музыканты), и лангеты (лабухи кабацкие). Человек, неискушённый в искусствах, мог нанять там оркестр на свадьбу, музыкант – в тот же оркестр наняться, найти на вечерок себе замену в кабак, купить-продать любой инструмент, включая гэдээровские круглогубцы и африканский там-там, услышать свежий анекдот, просто потрепаться…
Десяток лет спустя (когда я уже сносно владел саксофоном), мы с отцом, обойдя море винных подвальчиков, заявились на скулёжку. Отец живо общался с её завсегдатаями, пересыпая речь обращениями «чувак!» и комментариями типа «кочумай!», «лажуки!», «клёво» и «совершенно абсолютно».
Начало
С. К.
- «… Огни, как лепестки, в ручье осели.
- Легко дышалось. Взвизгивал клаксон.
- И только в ресторанчике весеннем
- Осенний задыхался саксофон…»
Саксофон был изобретен в XIX веке, в Париже, бельгийским музыкальным мастером Альфредом Саксом – на базе кларнета. Поэтому в части аппликатуры кларнет и сакс – близнецы-братья. Зато по способу звукоизвлечения – они разнятся, как дедушка и внучка.
Советская система образования в упор не замечала детища буржуазного Альфреда.
Класса саксофона в СССР – не существовало как класса. Ему не было места ни в музшколах, ни в музучилищах, ни в консерваториях.
В серпасто-молоткастых головах руководителей культуры эта заморская загогулина ассоциировалась с дядей Сэмом, судом Линча, брюками-дудочками и американской водородной бомбой.
Все наши саксофонисты были самоучками или переучившимися кларнетистами.
Рафинированные кларнетисты смотрели на саксофонистов свысока. Они полагали, что все саксофонисты – это неудавшиеся кларнетисты.
Чистые саксофонисты – наоборот – считали, что голые кларнетисты – бездари, не сумевшие перейти на саксофон.
В эстрадном оркестре электротехникума я играл на сучке.
Это был списанный с учёта кларнет-бодрячок, приобретенный папой у коменданта ДК «Металлист» за чисто символическую плату (пять рублей + бутылка «Московской»).
О том, чтобы играть на саксе, я и не мечтал. Ибо был влюблён в сучок. В его солнечную середину, в заливистый посвист верхов и былинный гуд низов. Дядя Саша привил мне стойкий иммунитет к апологету дяди Сэма. Аргументы учителя были до обидного непатриотичны.
«На саксофонах играют на Западе. А у нас на них не играют, а зудят», – твердил мне дядя Саша.
И главное – подержанный сакс стоил не меньше двух сотен.
И вот, когда техникумовский саксофонист Жека Севастьянов, бросив учёбу, свалил за длинным рублём на Камчатку (играть полярным лётчикам!), заменить Севастьянова предложили мне. И я, как говорится, дал левака. Притащил техникумовский сакс домой и начал упражняться.
Саксофон не хотел даваться – как необъезженный мустанг. Он ржал, скрежетал клапанами и киксовал.
Тогда папа сказал:
– Вот научишься играть, как положено – и я устрою тебя в джаз Цеплярского.
– А что это? – поинтересовался я.
– Ты не слыхал о джазе Цеплярского? – удивился папа.
– Нет.
– А о джазе Лундстрема?
– Про Лундстрема слыхал.
– А это такой же джаз. Только не Лундстрема, а Цеплярского, – ответил мне папа.
– Расскажи мне про Цеплярского, – попросил я.
И отец начал рассказывать.
Когда-то папа работал в еврейском театре. И дирижёром у них был Израиль Соломонович Цеплярский.
В начале 48-го, когда был убит Михоэлс и еврейские театры стали спешно закрываться, Цеплярский создал из шести вышвырнутых на улицу клезмеров – ансамбль балалаечников.
С фрейлехсами и другим «не титульным» репертуаром стали разъезжать по области – под вывеской «Секстет “Вольный ветер”».
И гулять бы «Вольному ветру» до сих пор – по коровникам да свинарникам, если бы не счастливая случайность.
Раскрутилось дело врачей.
Цеплярского вызвали в Управление Культуры.
Посоветовали выбросить из названия – и «вольный ветер», и «секстет». А заодно порекомендовали сменить репертуар и музыкантов. Цеплярский наплевал на советы и оставил всё, как есть. И загремел на шесть годков. Но не за то, что космополит. А за самое что ни на есть элементарное хищение социалистической собственности. Израиля Соломоновича поймали на левых билетах.
Сидеть пришлось во Львове.
В тюрьме Цеплярский взял в руки аккордеон и организовал джаз-оркестр. И впервые обрёл свободу – ни тебе реперткома, ни вызовов в Управление культуры.
В основном играли одесско-утёсовский блатняк. Выступали перед казематным начальством и отцами города.
Вскоре Цеплярского, как человека нужного, перевели – за примерное поведение – на поселение. И вручили ключи от отдельной полногабаритной квартиры в центре Львова.
Следуя примеру декабристских жён, из тесной харьковской коммуналки к нему перебазировалась супруга…
Освободившись, Израиль Соломонович остался жить во Львове. Сейчас руководит «Джазом под управлением Цеплярского».
…Уже через месяц мой сакс шарашил уйму расхожих мелодий. И папа пристроил меня играть за башли – в эстрадный оркестрик Гриши Пинхасика, с которым учился когда-то в консе. А следующей осенью я со «свотми кровшми» шестьюдесятью червонцами, вмонтированными в обычные с виду спецтрусы – с двойным дном, съездил в Москву, где с плёвой переплатой, в магазине «Leipzig», приобрёл новенький гэдээровский сакс-тенор фирмы «Weltklang».
Хлеб режут
Песня из мультика про Крокодила Гену
- «… С днём рожденья поздравит
- И, наверно, оставит
- Нам в подарок пятьсот ничего…».
Марину я повстречал, когда играл в команде Вальсона.
Это был чисто инженерский «джаз» под управлением врача-рентгенолога.
В тот день мы шарашили еврейскую свадьбэллу – под кодовым названием «Не мылься – бриться не будешь».
Как поётся в песне:
- «Широкой этой свадьбе было
- Водки мало,
- И хлеба было мало, и еды…»
Музыкантам – ни копья сверху.
Официантам – ни крохотулечки не слямзь. Каждый шманделик селёдки на учёте.
Короче – Страшный Суд, а не свадьба.
Плюс – певичка новая в тот день пробовалась – Диана Лещ.
Не знали мы, что дни наши в оркестре сочтены, что Вальсон других клезмеров начал искать.
… Никак не могли нас на той свадьбэлле покормить.
«Ребята, всё в порядке. Уже хлеб режут».
И так – почти всю свадьбу.
Эта фраза потом крылатой стала. Если сказали тебе: «Уже хлеб режут», значит, всё – можешь не надеяться…
Мы тоже ребята непростые. Учёные. Никаких им песенок. Одни инструменталы.
«На сопках Манчжурии», «На семи ветрах», «Шербургские зонтики»…
Наконец принесли берлиоз.
На шесть рыл – тарелку картошки и огурец.
Аспирант Черкашин спрашивает у приставленных:
– А выпить?
– Сейчас принесём, – говорят приставленные.
И приносят – бутылку самой элементарной, колхозной самогонки.
Черкашин им:
– А вина?
– А зачем, – они говорят, – вина? Мы ж целую бутылку другого дали.
– У нас певица другого не пьёт. Она только вино употребляет, – говорит Коля Черкашин (на самом деле, вино, конечно, для нас).
– А у вас что, – спрашивают приставленные, – есть певица?
– Да! – говорит аспирант. – Вот она сидит.
– Как она сидит, – заявляют хором приставленные, – мы отлично видим. Но мы что-то не слышим, как она поёт.
– Ещё услышите, – заверяет Коля, – у нас всё по программе.
– Ладно, – говорят приставленные, – сейчас обеспечим.
И минуты через две приносят рюмку розового вина, грамм, наверное, двадцать пять.
– Что ж вы всего рюмашечку принесли? – чуть не падает со стула Коля.
– А вы что? Вино стаканами пьёте? – спрашивают у Дианы.
– Нет, глотками, – опускает глаза артистка.
Стыдно им, видать, стало, и принесли они бутылку вина. А рюмочку ту несчастную, с двадцатью пятью каплями, забрали.
Вот как сложно всё происходило.
Ну, выпили мы, по ложке картошки сберляли.
Про бабки хозяева не заикаются.
Мне перед чуваками неудобно. Не чужие мне люди всё-таки гуляют. Соплеменники. Сопле-мэны…
Аспирант-электронщик говорит:
– До чего ж ненавижу я эти еврейские свадьбы! Вечно делают из себя казанских сирот! Будто последний ботинок без соли доедают!
Приставленные подходят, просят сыграть что-нибудь еврейское.
И что им слабать за такое угощение?!
И Коля спел «Я люблю тебя, жизнь» композитора Эдуарда Колмановского, натурального еврея, между прочим.
Потом Вальсон говорит:
– Ладно, хрен с ними. Давайте «Хаву Нагилу». Чтоб не было вони.
Зарядили «Хаву».
После третьего припева у меня проигрыш.
Вступаю. С упреждением, как обычно – с затакта. Чтоб выход на импровизацию получился, чтоб простор был. Хотя импровизы у меня, как говорится, – свиреп-ширпотреб. Бесамэ-вымученные. Но пипл хавает. К шеф-повару жаловаться не бегал ещё никто.
Выдул я пару тактов, и – как отрезало.
Какой там проигрыш, когда «в зобу дыханье спёрло»?
В зале – колдунья, царица-лебедь, жар-птица! – в платьице салатном и в туфлях на платформах.
Такой вот салат. Красотища – звериная.
Точёный подбородок. Шея – как вылепленная. Вздёрнутый носик… Пир во время чумы. И – глаза, главное – глаза…
Твердохлябьев видит, что у меня лажа, так он проигрыш подхватил, вышивает на гармазоне бисером, на меня смотрит – смеётся: «Что, чувак? Сперма в голову ударила, да?!».
А у меня саксофон на бок съехал, я, как дурак, на неё вылупился, а она это видит, и тоже смеётся, и подмаргивает, как самая настоящая королева Марго.
Не было её с самого начала. Опоздала королева часа на три. По-царски.
За стол прошла. Ей тарелку с глазуньей подают. Персонально. Кстати, это единственная в моей жизни свадьба, на которой гостям вместо мясных блюд – яичницу впарили.
Села Марго рядом с двумя дамами, на неё похожими. Но те не такие. Пожилые уже.
…Диана Лещ отдыхает. Бабок не несут – значит, никаких им певиц, никакого завода. Твердохлябьев инструменталы гоняет. А я – словно окаменел со своим саксом. Как пионер с горном. Или девушка с веслом.
Подходит свидетельница (потом кузиной её оказалась). Просит сыграть крокодила Гену. Про бабки речь не идёт.
Аспирант говорит: «Это невозможно. У нас в программе такого нет».
Ата: «Ну, пожалуйста, я вас очень прошу!».
И тут встреваю я: «Вот он, я – крокодил Гена, собственной персоной!».
Она: «Не может такого быть!».
Я: «Точно!».
Она: «Так что, сыграете?».
Я: «Конечно, сыграем».
Это называется – «мы пахали».
И продолжаю: «Только познакомьте меня за это с во-он той девушкой, которая яичницу ест».
Она говорит: «Хорошо, нет проблем. Считайте, уже познакомила».
Аспирант мне: «Чувак, а башлять кто будет?».
Я спрашиваю: «А сколько надо?».
Аспирант говорит: «Что ты шлангом прикидываешься? Как обычно, червонец. Тем более – что сегодня полный голяк».
Вынимаю червонец.
«Вот, – говорю, – возьми свой червонец. Подавись. А теперь давай “Крокодила”».
Черкашин бабки взял – не моргнул.
Твердохлябьев вступление сыграл. Диана запела. Голос у Дианы – низкий, бархатный. Для «Крокодила» не подходит никак. Свидетельница с какой-то тёткой танцевать побежала.
И тут почудилось: отпустило меня.
Ну, думаю, зашарашу-ка я сейчас соляру. Чтоб её внимание привлечь.
И начал. Нехило завернул. Импровизация просто на удивление пошла, аж самому в кайф.
Заливаюсь на своём теноре кенарем, а сам думаю: «Это что ж получается, а? Червонец свой отдал? Отдал! Крокодила лабаю? Лабаю! Выходит – сам лабаю, и сам ещё за это башляю. Самообслуживание, однако…»
И так смешно мне становится, что ржу я диким хохотом, и не просто ржу, а в саксофон, и всё мимо денег, всё «по соседям», в микрофон…
Администраторша Танюха-Рыбий-Глаз из кабинета высунулась, очи пучит: что это сегодня с сексофонистом?! Напился, умом тронулся? То кочумает целый час, то вдруг рыдает-заливается, как ненормальный…
А свидетельница знакомить и не думает.
Наконец барабанист объявляет:
– Начинаем конкурс «Алло, мы ищем таланты». Кто хочет спеть «Зачем вы, девочки?».
И добавляет:
– Уточняю: не «Почём вы, девочки?», а «Зачем вы, девочки?».
И тут подходит Королева Марго. Берёт микрофон. И начинает петь. Жалостно так. Будто сама не красавица. Спела куплетик и отдала микрофон какой-то пигалице в белых гетрах. Та песенку подхватила:
- «Сняла решительно пиджак наброшенный,
- Казаться гордою хватило сил.
- Ему сказала я: “Всего хорошего”,
- А он прощения не попросил…»
Марго снова мне подмаргивает и говорит глазищами, пошли, мол, танцевать.
Бросил я сакс, подбежал к Марго, пригласил на танец…
Закончилось мероприятие где-то в двенадцать.
Выходим с ней из кабака. Улицы пустые. Троллейбусы уже не ходят.
Давайте, говорю, подвезу вас на такси. Нет, говорит, не надо. Идёмте пешком. На такси неинтересно.
Музыкалки у Вальсона не было, шкварки мы домой забирали.
Так что пришлось мне, с саксом наперевес, провожать Марго до самого её дома – аж на Селекционную станцию.
…Часа четыре, наверно, шли. Не меньше.
Она, оказывается, окончила строительный институт. Интересно. Везёт мне на строительный. Распределение получила в Днепропетровск. Но жить там было негде. Поэтому вернулась в Харьков. Работает в «Водонапорвентиле», инженером по водоснабжению. Живёт с матерью. Отец умер, когда она была ребёнком.
Я рассказал о себе. Живу на Москалёвке. Отец скрипач, мама инженер. И братишка – пианист, учится в одиннадцатилетке при консе. Классным музыкантом будет, не то, что я. И вообще… Музыка у меня – приработок. Днём работаю в НИИметаллпромпроекте. Учусь в институте, на вечернем. Через пару месяцев – защита диплома.
Проводил Королеву Марго до самого подъезда. И двинул, довольный, как слон, к Московскому проспекту – ловить тачку.
А когда до проспекта оставалось метров сто, на меня вдруг обрушился ливень.
В сознании мелькнуло: «К счастью!». Потом: «А может, не к счастью? Может, – «Окстись!»?
Холодный дождь барабанил в тёмные окна, молотил по голове, по рёбрам.
Наверно, всё-таки к счастью.
Или – «Окстись!»?
Я промок до нитки, до шнурка.
Дождь вдруг прекратился – так же внезапно, как начался.
Поливальная машина фыркнула – словно хохотнула, и скрылась за поворотом.
Скорей всего, это был искусственный дождь. Хотя поливалка, как я успел заметить, была без малейшего признака усов. И асфальт вокруг был совершенно сухой…
Так познакомился я с Мариной.
А теперь отгадай загадку, читатель.
Шла по Сумской девица-краса, длинная коса. Глазками по сторонам: трах-бах! А навстречу ей – паренёк-тульский-валенок. Увидал он девицу, душевное равновесие потерял, и тут вдруг что-то: «хря-ась!». Очень громко так: «хря-ась!».
Вопрос: что сломал себе парень?
Ответ – см. на стр. 55 (глава «Покупателю на заметку»; слово, которым заканчивается «Хитрый Тарантул»).
Дедушка Яша
Дедушка Яша – мамин папа – был знаменитым на всю Владимирскую подковырщиком.
Узнав, что отец нашёл нам за городом, всего за тридцать рублей, дачу на всё лето, дед сказал ему без тени улыбки: «Лёва, зачем тратить такие деньги? Вывали себе под окно подводу навоза за пятёрку, отключи свет, и будет тебе дача».
Во дворе у нас был сад. Четыре яблони, три абрикоса, слива, груша-лимонка, несколько кустов малины. За садом ухаживал дед. При этом я никогда не видел, чтобы он ел какой-нибудь фрукт. Дед окапывал деревья, обрезал сухие ветви, белил стволы, но не вкушал плодов. Особенно тщательно следил он за небольшой плантацией конопли, протянувшейся вдоль сарая.
Мой дедушка был заслуженный коноплероб и выращивал рекордные урожаи. Наша конопля вымахивала выше забора – в полтора, а то и в два человеческих роста.
Каждый год в конце сентября дед собирал конопляные шишки в банку, после чего поручал сбор главного урожая мне. Я брал штыковую лопату, рубил под корень сухие конопляные стволы и складывал их в сарае.
Конопля, объяснял мне дед, нужна для утепления погреба, – чтобы не промерзала картошка, заготавливаемая на зиму. Весной дед вскапывал сад, сеял коноплю, а в самом углу двора сажал несколько луковиц мака.
Курил дед исключительно махорку. Иногда он сворачивал козьи ножки, иногда набивал трубку.
Вовка Арефьев, с которым мы часто играли до одури в футбол, рассказывал: «Иду нах хаузе из школяндры, а у вашей калитки дед твой стоит. Вроде как поддатый, и цигарку смалит. Дым пускает, как паровоз. Я ему: «Дядя Яша, закурить не найдётся?». А он мне: «А я не курю!».
Настроение у деда не портилось никогда. И он всё время, как говорила бабушка, «сосал свою соску».
На улицу дед выходил, как денди – в отутюженном френче сталинского образца, в галифе, шитых на заказ, и в сияющих хромовых сапожках на высоком каблуке. Роста дед был небольшого.
Летом – регулярно, раз в месяц – нас посещал участковый милиционер дядя Толя.
Он проходил сразу к сараю, у которого росла наша конопля, расстёгивал планшетку и доставал какие-то бланки. Прокладывал между ними синюю копирку, присаживался на скамейку и начинал слюнявить химический карандаш. «Конопля, значит, так и не ликвидирована… Придётся составлять акт!» – радостно говорил он, снимая фуражку и тщательно приглаживая вспотевший чуб.
Визиты эти заканчивались полюбовно: во дворе появлялась моя бабушка со стаканом водки и наспех приготовленным бутербродом, дядя Толя прятал бланки обратно в планшетку, отстранял, как правило, бутерброд, выдувал стаканяру, утирался рукавом и, расстёгивая верхнюю пуговичку на своей милицейской рубашке, незло советовал деду немедленно скосить всю коноплю, а он через месяц придёт и проверит.
Дед объяснял мне, где зарыта собака. Оказывается, вышло постановление, запрещающее коноплю. Чушь собачья – будто бы какая-то банда убивает людей, а трупы подбрасывает в заросли конопли во дворах. Как будто бандитам больше нечего делать, и они не могут придумать что-нибудь поинтересней.
Умер дед по-дурацки – в результате элементарнейшей передозировки, от руки врача «скорой помощи». Случилось это через несколько лет после смерти бабушки.
Проснувшись среди ночи, мама увидела свет в дедушкиной комнате. Зайдя туда, она застала деда при полном параде – в галифе, кителе и сапогах – в обмороке на кушетке. Мама дала ему понюхать нашатырного спирта, он сразу пришёл в себя, пожаловался на боль под ложечкой и снова вырубился.
Подобное уже случалось однажды с дедом. Молодой ординатор «скорой помощи», перепробовав тогда на дедушке кучу медикаментов, нашёл, наконец, нужный и ввёл ему полный шприц.
Когда деду полегчало, ординатор начертал на рецептурном бланке название препарата и сказал маме, что, если когда-нибудь придётся опять вызывать «скорую», чтобы она обязательно показала врачу этот бланк. И чтобы врач не вводил деду ничего, кроме записанного на нём препарата. И ни в коем случае не давал обезболивающего.
Итак, следующий раз наступил.
Мама снова вызвала «скорую», а когда та примчалась, показала фельдшеру рецептурный бланк.
Дед снова пожаловался на острую боль, фельдшер достал из саквояжа ампулу и сказал маме, что должен сделать укол морфия. Мама возражала, но, видать, недостаточно активно. Фельдшер накричал на неё – ему, мол, видней, как поступать в таких случаях. И тут же сделал деду внутривенное. Когда он заканчивал, дед был уже мёртв.
Знакомые советовали подать на фельдшера в суд, но родители этого не сделали. Деда ведь не вернёшь…
Видит бог, – я рос непорочным мальчиком. Ибо лишь через тридцать лет после смерти деда узнал, зачем выращивал он коноплю. И что пристрастился к ней, когда сидел, по обвинению в шпионаже, в Карлаге. Узнал от своего младшего брата, который оказался намного наблюдательней и прозорливей меня.
Капелюшники
«Каждый смотрит на жизнь под тем углом, в который она его загнала…»
С. К.
Служил отец Мельпомене, но тянуло его к мясникам. На Рыбном базаре, в гастрономе на Сумской – под бутылку-другую, непременно прихватываемую с собой в таких случаях, – отец обожал давать мясникам советы – как, например, следует рубить заднюю ногу или говяжьи рёбрышки. И разливал портвейн в алюминиевые кружки. Закусывали сырым свиным салом. Иногда в пылу рассуждений отец хватался за топор, порываясь показать тот или иной приём на практике, но попытки эти всегда пресекались угощаемыми. Подвыпивший отец приходил домой, брал в сарае топор и вместо мяса начинал рубить дрова. Он колол их и приговаривал, что скрипачам противопоказано махать топором. Ибо от этого пальцы теряют подвижность и гибкость.
С топором отец управлялся не хуже, чем со смычком. Этим навыком он был обязан своему отцу – Капелюшнику Абраму-Янькиву.
Абрама-Янькива я никогда не видел и знаком с ним лишь по рассказам отца.
До революции Абрам жил в Харькове. На него не распространялось положение о черте оседлости. И не потому, что Абрам-Янькив не был евреем. Евреем он как раз был. Но дед был не просто евреем, а евреем-колбасником. И не просто колбасником, а колбасником дипломированным. Как сказал бы поэт: «Еврей в России – больше, чем еврей». Дед имел статус ремесленника, держал колбасную лавку, и это позволяло ему жить в Харькове.
То ли по укоренившейся советской привычке ничего не выбрасывать, как, например, не выбрасывают старые квитанции об уплате за электричество, то ли просто на всякий случай, что, в сущности, одно и то же, отец хранил за шкафом огромную – размером с хороший портрет – зеленоватую, с разводами, как на денежных купюрах, царскую грамоту в тусклой рамке.
Чего только не отчебучит предусмотрительный человек, дабы оградить себя от неприятностей!
Когда на прополочных работах близ станции «Рогозянка» за старшим инженером Харьковской Тяжпромспецификации Эдуардом Александровичем Ясногородским погналась корова, он забрался на крышу сельсовета и – на всякий случай! – отбросил приставную лестницу…
Называлась царская грамота, если мне не изменяет память, «Разрешение жительства в черте города Харькова, выданное мещанину Капелюшнику Абраму-Янькиву, сыну Лейбы-Мардехая, вероисповедания иудейского, рождения 1889, причисленному к Харьковскому Цеху Ремесленников, совместно с женой Фаней Абрамовной, урождённой Эйдлиной, рождения 1891, дочерью Дорой рождения 1914, дочерью Бертой рождения 1915 и сыном Львом рождения 1917». Лев – мой отец. Внизу красовались вензеля личной подписи казначея Его Величества. Кому собирался отец показывать этот папирус, зачем хранил его? На случай, если вернётся царская власть, и евреев опять начнут селить в местечках? Или, может, – во времена врачей-убийц – тихо надеялся, что Советы уважат эту охранную грамоту и не отправят нас на какую-нибудь таёжную заимку, спасая от праведного народного гнева?
Позже, когда Хрущёва сменил Брежнев, на все мои вопросы о политике отец отвечал одинаково: «Вот станешь взрослым и сам всё поймёшь».
Разбирая архив отца после его смерти, я обнаружил тонкую нотную тетрадку. На обложке чётким, ещё не дрожащим, отцовским почерком было выведено: «Песни о Сталине. Слова и музыка Льва Капелюшника».
Взяв кларнет, я попробовал сыграть. Это была какая-то автоматическая музыка. Монотонная, однообразная. Капли, долбящие камень. Распевы глухонемого. Теперь, через полвека, подобную музыку сочиняют компьютеры. Отец на полсотни лет опередил своё время, чётко идя с ним в ногу.
Перебирая архив дальше, я наткнулся на ворох пожелтевших газет. С сообщениями о кончине Вождя и Учителя. Первые полосы занимали фотографии Сталина – в гробу, утопающем в цветах, в окружении почётного караула с траурными повязками на рукавах. Интересно: на случай чего хранил отец эти неопровержимые, на его взгляд, доказательства?
После революции Абрам-Янькив перекрасился в телеграфисты, а при НЭП’е снова открыл колбасную лавку. А чтобы не платить налог «за эксплуатацию рабочей силы», использовал труд своих домочадцев и ближайших родственников. Бабушка Фаня стояла за прилавком, а дед забивал коров, делал фарш, коптил колбасу и сам вёл свою убойную бухгалтерию. Дочери ежедневно драили полы и стены, мыли котлы и мясорубки.
Моего отца Абрам-Янькив отдал обучаться «на скрипача», когда тому не исполнилось и пяти. И не к кому-нибудь, а к самому профессору Гольдбергу, приехавшему из Одессы. Моисей Менделевии Гольдберг обладал двумя поразительными особенностями. Из всех своих учеников он делал вундеркиндов. Это первая его особенность. Вторая – была ещё поразительней: как играть на скрипке, скрипичный профессор давно позабыл. Говорят, после смерти матери – а случилось это, когда Гольдбергу было тридцать пять, – скорбящий сын торжественно поклялся никогда больше – пустым этим делом не заниматься. И дал себе зарок не прикасаться к инструменту.
Иногда, если ученик играл слишком уж фальшиво, светило не выдерживал. Он нарушал обет, вырывал у юного дарования скрипку и, притулив её к животу – где-то в районе селезёнки, – силой личного примера пытался показать, как следует это делать.
Обучение у профессора принесло результаты. В шесть лет, согласно семейной легенде, отец уже играл первый концерт Ридинга, имел платных учеников и, кроме того, подрабатывал музицированием в кинематографе, который сейчас называется «Жовтень». Харьковские мамаши приводили своих деток в кино специально, чтобы показать им моего шестилетнего папу, играющего в фойе на втором этаже в перерывах между сеансами.
Мясо в колбасной рубила племянница деда, девятилетняя Дина (это моя тётя; её я застал грузной женщиной, страдающей мигренью и одышкой). Дед тщательно взвешивал мясо – до рубки и после. Через некоторое время им было замечено, что в результате рубки регулярно исчезают несколько килограммов. Тётя Дина была заподозрена в хищениях и уволена. А Маля Бенделева – родная сестра Абрама-Янькива, она же мать Дины – даже не соизволила спросить, за что уволена её дочь. Это укрепило уверенность деда в том, что он не ошибся.
На смену Дине был брошен мой шестилетний папа. Пройдя у Абрама-Янькива курс молодого рубщика, вундеркинд по первому же требованию откладывал смычок, брал длинными музыкальными пальцами топор и начинал кромсать говяжьи оковалки.
С большой натяжкой могу себе представить все эти «преданья старины глубокой», но, скорей всего, так оно и было.
Абрам-Янькив, по рассказам отца, любил ходить босиком. Вычитал где-то, что такое «заземление» полезно.
Кстати, отец мой унаследовал эту «босоногую» привычку и, оказавшись летом в санатории или в доме отдыха, сдавал свои туфли в камеру хранения. Нам с братом эта привычка не привилась. К чему я это рассказываю?
А к тому, что, как только НЭП закончился, дед был «раскулачен» и сослан, вместе с моей бабушкой, в Красноярский край. Очень скоро, расхаживая босиком по таёжному посёлку, он напоролся на ржавый гвоздь. Ни врачей, ни лекарств в посёлке не было. Абрам-Янькив умер от столбняка. Ему не исполнилось и тридцати семи.
Детей Абрама-Янькива – Дору, Берту и Лёву (моего отца) – удалось оставить в Харькове. Их приютили родители тёти Дины, работавшие на мыловаренной фабрике. Бабушка Фаня умерла уже после войны. Там же, в Красноярском крае.
Так или иначе, любовь к музыке и мясницкая закваска остались у отца на всю жизнь. В театре папа играл первую скрипку. Руководил оркестром Александр Яковлевич Шац – тот самый, которого впоследствии заменил кларнетист дядя Саша.
В своё отсутствие Шац оставлял вместо себя моего папу. У отца было абсолютное чувство темпа. Это весьма необходимое и вместе с тем редко встречающееся у дирижёров качество.
И вот, представьте себе: Шац снова сообщает, что расхворался. Отец, со своей скрипкой, проходит в оркестровую яму и занимает место за дирижёрским пультом. Идёт спектакль «Марион Делорм» – о несчастной любви знатной дамы и юноши-бедняка.
Франция, семнадцатый век.
Середина первого акта.
На сцене – тихая летняя ночь. В беседке заброшенного сада – он и она.
Режиссёр, ведущий спектакль, нажимает чёрную кнопку с надписью «МУЗЫК». В оркестровой яме вспыхивает красная лампочка. Это сигнал к действию. По мановению руки маэстро (дирижёрской палочкой отец не пользовался) вкрадчиво вступают фортепиано с виолончелью. Звучит тема любви. Ровно через четыре такта к ним присоединяются гобой и флейта.
Герой, опустившись на колено и прижав руки к груди, шепчет слова любви, изо всех сил стараясь перекричать визг флейты и гортанный клёкот гобоя. На чёрно-суконном небе поблескивают жестяные звёзды. Соло отца. Он, как всегда, в ударе. Папина скрипка заливается соловьём. Кивок в сторону духовой группы – и зловеще вступает бас-кларнет. Узкий луч прожектора вырывает из сумрака ночи лицо злодея, прячущегося за садовой сторожкой и подслушивающего разговор двух влюблённых…
А тем временем в актёрский буфет завозят копчёный окорок. Кусман эдак пуда полтора.
Буфетчица Нюся растеряна. Она понятия не имеет, что с ним делать.
Между прочим, Нюся трижды поступала в театральный и не утратила надежды прорваться на подмостки. Вот уже пятнадцать лет отпускает Нюся актёрам чай с сосисками, ревностно прислушиваясь к контрольному динамику, из которого доносится всё, что происходит на сцене. Она помнит все главные роли наизусть и продолжает на что-то надеяться.
В нюансах разделки окорока Нюся полный профан.
…У рампы продолжается объяснение в любви – в сопровождении духовой группы.
Нюся ждёт, когда у музыкантов начнётся пауза.
Наконец герой привстаёт с колена, и влюблённые обнимаются.
Затемнение.
Режиссёр, ведущий спектакль, даёт сигнал машинисту. Машинист толкает рукоятку командоконтроллера, и поворотная сцена, слегка подрагивая, перемещает влюблённую пару к левой кулисе. Постукивание старенького редуктора заглушается слаженным звучанием оркестра. Тревожно воют валторны, жалобно курлычет кларнет. Распространяя сладковатый запах столярного клея, на авансцену выезжает золотой трон с королём Франции. Король погружён в раздумья. Он ищет способ разлучить влюблённые сердца. Рядом – кардинал. Сейчас он начнёт давать королю свои злокозненные советы. В воздухе застывает последний аккорд. Отец изображает замысловатый завиток рукой, и оркестр замолкает.
Музыканты оставляют инструменты на стульях и, пригнувшись, покидают оркестровую яму. За кулисами их ждут домино, телевизор и Нюсин винегрет.
Герой воздел руки к небу, героиня потупила очи долу. Она дышит глубоко и взволнованно. «Я люблю тебя больше жизни! Я не могу без тебя! Ты – мой свет в окне, моя любимая!» – продолжает рычать со сцены герой. Король хитро щурится.
А за кулисами происходит то, чего никогда не видели и не увидят достопочтенные зрители. Хотя наверняка большинство из них много бы отдало, чтобы лицезреть именно эту мизансцену.
Элегантный, как рояль, маэстро проходит за прилавок актёрского буфета, надевает поверх дирижёрского фрака клеёнчатый розовый фартук и начинает вострить топор.
У прилавка собирается очередь. Средневековые кабальеро в ярких кафтанах, ослепительно красивые белошвейки, окровавленные гвардейцы, гримёры, костюмерши, музыканты. С пустой авоськой в руке – со следами припоя на ладонях и недавнего запоя на лице – стоит надменный кардинал Ришелье в красной мантии. Он – в образе – зловеще перебирает авосечные узелки, как монашеские чётки.
Пока на сцене объясняются в любви, страдают и предают, маэстро точными ударами топора превращает свиную ногу в аккуратнейшие, фирменные кусочки ветчины. После чего, гордый и счастливый, с добрым шматом честно заработанного окорока, возвращается за дирижёрский пульт.
Как-то отец посетовал: в их театр, в этот храм искусств, с приходом нового главрежа стали принимать кого попало. И что в театре, как нигде, профнепригодность видна сразу – взять хотя бы буфетчицу Нюсю, которая за пятнадцать лет ничему так и не научилась…
Такая ветчина, такие пироги, такой соцарт.
План ГОЭЛРО
Бабушка Оля – мама моей мамы – родилась в Питере и была у родителей седьмым ребёнком. Отец её Мортхель Соловейчик умел читать и писать, знал науку «стереометрия» и понимал чертежи. Работал он десятником – по-нашему, прорабом – на стройках империализма, по всей Санкт-Петербургской губернии. Это позволяло жить за «чертой оседлости» и даже иметь полдома на набережной Мойки. Пять её сестёр и братишка окончили гимназию и все «вышли в люди», сама же бабушка нигде не училась и прожила жизнь домохозяйкой. Когда бабушке исполнилось 16, её выдали замуж – в деревню, за отставного кавалериста, прослужившего 25 лет в каком-то казачьем полку. Кавалерист её бил и запрягал – когда в плуг, когда в телегу. В революцию бабушка от него каким-то образом сквозанула, правда, все документы остались у этого мужика. Она даже не знала, когда у неё день рождения, и в каком году родилась. Поэтому день рождения отмечала – в Международный женский день – 8 марта. Для неё это был праздник и официальный, и личный.
Несколько лет деревенского замужества не прошли даром. Хлеб бабушка резала по-крестьянски – прижав буханку к груди, ножом на себя. И, суп когда ела, – всегда подстраховывала ложку куском хлеба, чтоб ни одной капли не потерять. И пареную репу любила, и пареный горох, и на праздники – чисто по-кавалеристски – наливала себе водки в блюдечко, крошила туда ржаной хлеб и «сёрбала» отвратительную эту кашицу до полнейшего благочиния.
Кто обучил бабушку грамоте, не знаю. Скорей всего, здесь был замешан какой-нибудь ликбез.
Дедушка Яша был её вторым мужем.
…Воду мы носили из колонки, которая находилась аж на Грековской – это было в нескольких кварталах от Владимирской. В сенях у нас стоял фанерный стол, застеленный выцветшей клеёнкой, на нём – блестящий медный примус (тот самый, у которого колдовал отец, занимаясь с юными дарованиями) и два ведра с водой. Рядом со столом, в самом углу, висело бабушкино резное коромысло. На примусе часто что-то кипело, распространяя запах петрушки пополам с керосином. Бабушка умела носить вёдра на коромысле. Она считала это своё умение даром свыше и очень им гордилась. Папа, мама, дедушка и я обращаться с коромыслом не могли и носили воду «вручную», без каких-либо приспособлений.
Зато за керосином мы никуда не ходили. Раз в неделю на Владимирскую приезжал керосинщик. Он вёз на подводе испачканную мазутом, примятую в нескольких местах, чёрную цистерну и дудел в свою «керосиновую» дуду. Соседи вываливали из калиток, громко позвякивая бидонами, керосинщик презрительно орал своей лошади «Тпрррууу!» и останавливался, где хотел. Затем слазил с козел и доставал черпак с длинной ручкой. У цистерны выстраивалась очередь. Отпуск керосина начинался.
Это было очень удобно. Иначе пришлось бы носить керосин с Рыбного базара. Циркулировал слух, будто на Москалёвку должны пустить газовую ветку. Куда именно и когда – в то время не было известно. Известно было лишь то, что Лаврентий Павлович Берия оказался шпионом, за что и понёс заслуженную кару.
Я зачитывался Аркадием Гайдаром. «Военной тайной», «Судьбой барабанщика». Старик Яков, дядя-шпион… По ночам мне снились похищенные им секретные чертежи.
Вскоре я заметил, что отец прячет в ящике письменного стола какой-то чертёж. Подозрительным было то, что о чертеже он никому не говорил, а ящик стола всегда запирал. Я решил поинтересоваться. Письменный стол находился в одной комнате с моим диваном. Ключ от ящика отец хранил в спальне, в мамином трельяже – в жестяной банке из-под кильки.
Ночью я проснулся, подождал, пока глаза свыкнутся с темнотой, и потихоньку прокрался в спальню родителей. Сладко похрапывал отец, мама дышала беззвучно, как ангелок. Я приоткрыл дверцу трельяжа, и вдруг оттуда с грохотом выпала коробка с домино. Я сжался в комок. Отец тут же открыл глаза, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Мама продолжала спать. Я тихонько собрал домино и взял ключ…
В папином ящике хранились какие-то электронные лампы – вероятно, запчасти для радиопередатчика, разобранный фотоаппарат и кусок медной проволоки, служивший, по всей видимости, передающей антенной. Чертёж лежал под старой спичечной коробкой с крошечными винтиками и гаечками. Это был план Харькова с подробнейшей схемой газовых коммуникаций и перспективой их расширения в 6-й пятилетке. Пользуясь этим планом, можно было запросто поднять на воздух не только все газовые коммуникации города, но и важнейшие объекты народнохозяйственного значения: Харьковский тракторный завод, электроламповый, плиточный, шарикоподшипниковый, о которых нам так много рассказывали в школе. Рядом были приведены важнейшие цифры развития народного хозяйства страны. По этим данным враг мог без труда разгадать наши военные тайны.
Я смотрел на чертёж и плакал. Вот уж не думал, что отец сотрудничает с иностранной разведкой! Мой плач разбудил родителей. Слёзы капали на секретную схему. Сонная мама ничего не могла понять. Отец понял всё. Сразу.
«Севка, ты только не подумай, что я шпион…» – испуганно начал оправдываться он. Я разревелся ещё сильней. И тогда отец стал просить меня – даже стыдно сказать, о чём. Он умолял ни одной живой душе о схеме не рассказывать. Клялся своим здоровьем, что чертёж вовсе не секретный. Что вырезал его из газеты «Красное знамя», и что это – план газификации Харькова. И что из плана видно, когда будет подведен газ к Москалёвке. И тогда я забуду, что такое запах керосина в сенях, и не нужно будет рубить дрова и завозить каждый год уголь, и у нас будет газовая плитка, как у людей, и духовка, и газовое отопление, а там, глядишь, и воду проведём прямо во двор! Но – не дай бог, чтоб я кому-нибудь сказал, что он хранит у себя чертёж. Потому что с нашей семьи уже довольно, и мой любимый шутник дедушка Яша уже отсидел шесть лет как немецкий шпион (почему-то именно как шпион – за анекдот!), и покойной тёте Соне чудом удалось вырвать его из их лап (в неё влюбился один бесшабашный энкавэдист-осетин, он же добился пересмотра дела). И что там разбираться не будут. И не дай бог – попасть кому-нибудь в их мясорубку!
…Первой мыслью было – бежать в уличный комитет.
Но отец родился под счастливой звездой. Я смалодушничал и наступил на горло собственной песне. Родители пошли досыпать. А я никуда не побежал и до утра размазывал солёные слёзы по щекам.
Вся эта история с газификацией, перепуганный, униженный отец, слёзы, подступающие к горлу, – и есть продолжение великого плана ГОЭЛРО – гениальной ленинской идеи электрификации всей страны.
Заповіт
До Митькиного появления на свет – папа не дожил. Умер он от сердечного приступа, когда Марина была на 7-м месяце. Последними папиными словами были: «Поешьте борщ, я добавил туда…». Какую приправу добавил в борщ отец, нам так и не довелось узнать. Скорей всего, это была киндза с молотым тмином. Папа привёз её из Грозного, где был с театром на гастролях.
«Скорая», приехавшая через час, констатировала то, что положено констатировать, и тотчас уехала. Кроме того, почему-то пришлось бежать ещё и в шестую поликлинику за справкой о смерти. Мать закрыла отцу глаза, обмыла его. Мы выпили водки и закусили отцовским борщом. Это был очень горький и солёный борщ.
Покупателю на заметку
…Первый мой рассказик о мифическом Грише Тарантуле был опубликован «Новым харьковчанином» – 23 августа 1996.
К искреннему изумлению – и моему, и редакции, – эта чисто лирическая история вызвала волну читательских откликов, уличающих меня во лжи, а затем – взлёт доллара, обвал гривны и падение цен на недвижимость по всей Украине.
С твоего разрешения, читатель, я приведу этот рассказец (а позже – ещё парочку, о том же Грише) целиком:
Хитрый Тарантул
Покупатель Григорию Соломоновичу Тарантулу попался ушлый и нахрапистый. Сумма, которую он предлагал за частный дом почти в центре Харькова, была смехотворной.
Простенок трещину дал – полцены сбрось! Углы, мол, перекладывать надо – опять пополам раздели! Водопровод проржавел. Погреб сырой, тесный. Беседка в саду покосилась. Яблони-сливы уж больно старые – корчевать придётся.
Покупатель Эд Дыминский, конечно, сильно сгущал краски, но хитрый Тарантул не возмущался и во всём соглашался с покупателем.
Эд был доволен, как слон, когда ему удалось убедить Григория Соломоновича, что выставленный на продажу 12-комнатный дом – вместе с мебелью, гаражом и фруктовым садом – стоит всего лишь полторы тысячи зелёных.
Нормальная цена была выше разиков в тридцать.
По имевшимся у Эдика сведениям, Григорий Соломонович вот-вот должен был свалить за бугор – на постоянное место жительства. Времени на поиски других покупателей у Тарантула не оставалось.
И вот – через три дня купчая оформлена.
Не унюхавший подвоха Эд, в присутствии нотариуса, передаёт Григорию Соломоновичу Тарантулу полторы тысячи долларов США – в качестве оплаты за домовладение.
Трое мужчин даже распивают бутылку, прихваченную на радостях Дыминским, и разъезжаются, – дабы никогда больше к этой теме не возвращаться.
После чего хитрый Тарантул отбывает за бугор, прихватив с собой вырученные доллары, а заодно – и весь проданный дом вместе с гаражом, яблоневым садом, помойной ямой и даже куском прилегающей улицы.
Ибо лишь круглый идиот может поверить в то, что человек не увезёт с собой – в сердце – дом, в котором родился и прожил почти всю свою жизнь.
Паганини
До Электрошурки – в «бабилонском» нашем оркестре – на басовке играл Коля Чуканов, по кличке Паганини.
Днём Николо «клеил людям» обои.
Это была песня. Паганини был обойщиком-баркароло, обойщиком-виртуозом, обойщиком-престо-а-темпо, обойщиком-ля-фине. Заказов у него было, хоть ночью ешь. За один обойный (убойный) день Паганини огребал месячную инженерскую зарплату.
Что касается лабания, то басистом он был – типа «до-фа».
Не знаешь, что это, читатель?
Опять займёмся ликбезом. Не стану мучить тебя теоретическими выкладками. Не буду – со свойственным мне занудством – рассказывать, на какой линейке пишется «фа», а на какой – «до».
Начнём непосредственно с практики.
Слушай внимательно. Закрой глаза. Представь себе:
Ты сидишь не дома (в метро, в автобусе, на работе), а в харьковской филармонии, приблизительно в третьем ряду.
Я сказал: «Закрой глаза!». Что за дурацкая привычка всё время пялиться в текст?!
Настоящий читатель должен слышать, о чём кричит автор. Иначе бедный автор сорвёт голос. И далее – ничего, кроме сплошных «кхе-кхе!» и «кхм-кхм!», читательскому взору не предстанет.
Ну что, закрыл?!
Продолжаю: ты – в зале филармонии.
Кругом – свежевыстроенные башни дамских причёсок, волнительный плеск вееров, одуряющий запах духов, глубокие бассейны декольте, в которых плещутся…
Ладно, не будем…
На сцену выходит конферансье в чёрном фраке. И голосом, не допускающим возражений, объявляет: «“Чардаш” Монти. Исполняет солист филармонии, контрабасист-виртуоз такой-то».
Появляется виртуоз с контрабасом.
Аплодисменты, и вновь тишина.
Представил, читатель?!
…Непокорная прядь волос ниспадает на вдохновенный лоб маэстро.
С невероятной проворностью охаживает виртуоз толстые контрабасные струны. Руки его скачут столь стремительно, что музыкант начинает напоминать многорукого Шиву, в каждой руке которого – ещё и по смычку.
Однако вместо чардаша – со сцены доносится лишь протяжное, хриплое блеяние металлических струн: «До-о-о-о-о-о – фа-а-а-а-а-а…».
…Сталинскими соколами – в виртуоза и его контрабас – летят перезревшие помидоры, взращённые совхозом «Пролетарий Харьковщины» (пролетарии всех стран, пролетайте!), диетические яйца Борковской птицефабрики, груши садово-огороднического кооператива «Изобретатель», дыни магазина «Рыбтрест» и ряд других просроченных продуктов.
Представить себе такое, дорогой мой читатель, невозможно.
Во-первых, контрабас – не скрипка, и «Чардаш» Монти на нём сыграешь вряд ли.
И, во-вторых. Рачительные харьковчане никогда не станут швыряться дарами природы и инкубаторов. Ибо дары эти употребляются харьковчанами в пищу.
Из гнилых томатов, к примеру, можно сконструировать великолепный борщ, из не очень свежих яиц – бисквит, из груш – компот, а подпорченные дыни – само провидение велит переработать на самогонку.
Кроме того, нельзя себе представить, что подобному До-Фа (а именно такие басисты относятся к категории «до-фа») удалось пролезть в филармонию.
Басисты «до-фа», как правило, прячутся за чугунные глотки, шустрые клавиши и звонкие струны своих коллег в некоторых общепитовских ВИА.
Ау-у, читатель! Ты проснулся?
Покидаем филармонию и быстренько (одна нога там, другая – здесь!) отправляемся в кабак, где работали мы с Паганини.
Барабанистом у нас был Саня Гиюр-Братский, тащившийся на группу Бони М и получивший за это кликуху Боня (Бонифаций).
Стучал Боня задорно, тр-р-рескуче – на ветхих своих барабанах, обклеенных поблескивающими обоями «под плитку» для ванной.
Обои на Бонины барабаны «поклеил» – за 20 р. – Паганини.
Такой влагонепроницаемой обшивке были нипочём не только взбитые сливки, соус ткемали и яичный ликёр, но даже свекольный самогон, подкисшее пиво, вино «Лиманское» и рвотные массы.
Издали барабаны выглядели внушительно. Казалось, они обложены кафелем.
Из водоотталкивающих своих тамбуринов громовержец Бонифаций исторгал молнии. На сверкающие медные тарелки обрушивался ливень его барабанных палочек. Играли мы по принципу «чем громче, тем лучше».
Визжал, в три глотки, электроорган, хлестал по ушам саксофон.
Паганини демонстрировал чудеса исполнительского мастерства. На одухотворённом лице маэстро отражалось движение музыкальной мысли, пальцы стремительно бегали по гитарному грифу, демонстрируя пассажи высочайшего пилотажа.
И только прильнув ухом к басовому динамику, можно было уловить тихое, жалостливое: «До-о-о-о-о-о – фа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Независимо от тональности и ритмического рисунка исполняемого произведения.
Лёня Шифоньер
Не знаю, как где – а в Харькове народ жил всё счастливей.
Антресоли трескались от печени трески, майонеза и рижских шпрот. Хотелось петь и танцевать. И народ запел. И затанцевал.
Вокально-инструментальные ансамбли плодились, как кролики. Их расхватывали забегаловки, обжираловки, тошниловки и обжималовки.
Начиналась эпоха всеобщей лабализации.
Термин «басист до-фа» – именно басист (ритмачам и духовенству прятаться было не за кого) – ввёл легендарный наш «аккордеолог», отец харьковского шансона Лёня Шифоньер.
Так называли на скулёжке Леонида Марковича Шавинера – пышнощёкого еврейского богатыря с ручищами с экскаваторный ковш, отца пятерых детей, бывшего трамвайного водителя, взявшего в руки аккордеон в тридцать лет.
Микрофон в Лёниной лапе смотрелся, как колпачок от авторучки. Когда Лёня, рвя меха и прядая головой, заводил своим глухим баритоном «По тундре, по железной дороге…», плакали законопослушные общественники, троллейбусные контролёры и даже учителя военного дела.
Не было мелодии, которой не знал бы Леонид Маркович.
Если он забывал слова, то на ходу заменял их своими, идущими от души, что придавало эпитетам и образам неповторимый шавинеровский шарм:
«Пусть струится над твоей избушкой тот приветный хлебосольный свет…»
«Ты меня ждёшь, а сама с лейтенантом живёшь…»
«Деньги общие и дети общие у моей жены и у меня…».
Он мог запросто объявить: «А сейчас послушайте песенку из репертуара «Бони М» – и врубить фирменную запись.
При этом народ пускался в пляс, пребывая в полной уверенности, что танцует под «Бони М» в исполнении Шифоньера, а не под «Бони М» в исполнении «Бони М».
Лёня был первомакетчиком. Именно он ввёл определение «макет».
…Идея Шифоньера – проста, как колумбово яйцо под майонезом.
Свадеб тогда в Харькове было – море.
В этом море Лёня высмотрел две мощнейшие волны, стремящиеся друг к другу с бешеной силой.
Находчивому Шифоньеру удалось свести две встречные волны в одну. А энергию, полученную от их «схлопывания», – преобразовать в нехилую финансовую прибыль.
Две волны элементарного человеческого тщеславия – одна со стороны спроса, другая со стороны предложения – катились навстречу друг другу.
Каждый клиент (а клиенты катились со стороны спроса) стремился, чтоб о его свадьбе вспоминали, как о чём-то значительном. Что играл, мол, не какой-то задрипанный голяшник, а целый оркестр.
С другой стороны, масса жаждущих артистической славы и дамского внимания студентов, молодых экспедиторов и гардеробщиков мечтала покрасоваться на эстрадных подмостках.
…На свадьбу бывший вагоновожатый являлся в сопровождении четырёх «макетов» (так называл Лёня шаромыжников, не умеющих, в отличие от музыканта «до-фа», сыграть – вообще! – ни ноты) и с самопальным своим «дядей Ваней», представлявшим собой помесь аккордеона с электронной барабанной приставкой Псковского радиозавода.
Макетам Шифоньер предоставлял пионерский барабан и три сломанные электрогитары, списанные с учёта одним небогатым детским домом. Струны олицетворяла старая обмоточная проволока.
Получив с клиента оговоренную сумму, Лёня расставлял колонки и настраивал свой регентовский усилок. Раздав «макетам» гитары, он щёлкал замками аккордеонного футляра и извлекал своего «дядю Ваню».
«Дядя Ваня» вздрагивал и хрипло вскрикивал. Лёня поднимал «дядю» за ремень и надевал на себя через плечо. «Дядя» вис на богатырской Лёниной груди и замирал.
Огромной своей пятернёй Лёня поправлял микрофончик, прикрученный к пюпитру, и сходу запевал «Вам 19 лет, у вас своя дорога, вы можете смеяться и шутить…»
Дядя же в это время – то растягиваясь, то скукоживаясь, – пыхтел, хрипел, содрогался и плакал под проворными Лёниными пальцами.
Отдувались Шифоньер с дядей, конечно, за пятерых.
Лжебарабанщик молотил палочками воздух.
Лжегитаристы теребили безответную проволоку на гитарах и, стараясь попадать в текст, безмолвно разевали рты. Они имитировали групповой акт звукоисторжения.
Чёрные провода, тянувшиеся от гитар к электронному усилителю, были изготовлены изобретательным Лёней из вываренной в смоле бельевой верёвки.
«…A мне возврата нет, я пережил так много, и больно, больно так – в последний раз любить – та-ра-ра-рам…», – продолжал публично изливать душу Шифоньер, роняя слезу на гармазон…
Пипл, очарованный Лёниным пением, свято верил, что перед ним «вышивает» не одинокая гармонь, а солидный музыкальный коллектив.
За такой квинтет Лёня брал с клиента квинту, то есть, ровно в пять раз больше, чем если бы выступал один.
«Макетам», естественно, денег не платил. И даже грозился снимать с них по трояку – за предоставленный реквизит, хозяйское «Шампанское», бутерброды с икрой и возможность «поторговать» матральниками перед тёлками.
Однажды Лёня лабал пикник – во дворе издательства «Червоный кобзарь» по случаю Дня Победы.
Гуляла редакция «Социалистической Харьковщины».
А у завотделом новостей Борщёва, оказавшегося на торжестве без супруги, «снесло вдруг башню». И он со всех ног бросился обхаживать практикантку Зиночку, сидевшую на образовании и городской хронике. Они танцевали в обнимку и пили смесь «Мазепы» со «Стрелецкой» из одного стакана. После очередного совместного глотка Зиночка обожгла ухо Борщёва горячим: «Мы проснёмся на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари…»
Борщёв подхватил пассию на руки и посеменил, с этим счастьем, к оркестрантам – дабы те воплотили её девичью мечту в реальный звук.
И тут – как в добром индийском фильме – мужчина узнаёт в барабанщике своего сына!
Это была трогательная встреча.
Рыдающий отец падает перед сыном на колени и умоляет:
а) ничего не рассказывать мамульке,
б) открыть секрет, когда и где сын успел так натаскаться на барабане.
И сын обещает хранить страшную тайну отца, если тот выделит ему бабки на 2-скоростной японский магнитофон. А заодно сливает папаше информацию, каким макаром лабает вся Лёнина капелла.
Через неделю у Борщёва-младшего появляется стационарный «Sony», а в «Социалистической Харьковщине» – зубодробительный фельетон «Макеты Шавинера».
Лёнины дети приходят из школы в слезах. И он, буквально с колёс, переводит детей на фамилию жены.
Теперь наследники легко окорачивают злопыхательствующих одноклассников: «А мы – не Шавинеры, мы – Лифшицы!».
…Иногда «макеты» входили в раж. Начинались интересные разговоры: «Сделай гитару тише, ты заглушаешь мою». Или: «В ах-Одессе сегодня соляру играю я!».
Всё отдам!
Иногда мечтаешь о чём-то, что тебе не дано, не подвластно, с чем и обращаться-то, по сути, не умеешь. И вдруг подваливает прун – несказанный. И вот оно, счастье – в твоих, можно сказать, руках!
И ты, не способный по-настоящему любить и быть любимым, взлетаешь на почудившуюся тебе вершину. И начинаешь лупить пальцами по безответной трансформаторной проволоке.
…Ладно, довольно о «макетах»!
Песням наперекор
Вернёмся к Паганини.
«Сустав» наш работал на аппаратуре, принадлежавшей Николо. В руководителях он числился только поэтому. Стоил такой комплект не менее трёх штук.
Но – песням нашим наперекор – вырастали в Харькове новые жилмассивы. Шла застройка Алексеевки, Салтовки, Новожанова. Масса счастливчиков вселялась в пахнущие свежей краской квартиры.
Обойный бизнес шёл в гору.
Вскоре, когда заказов у Паганини стало невпроворот, он объявил, что с музыкой завязывает.
Вместе с Паганини от нас уходили усилбк, колонки и ревер.
На весь Харьков оставалось два неустроенных бас-гитариста: Черкашин и Сумасбройт.
Бывший аспирант института радиоэлектроники Коля Черкашин, уволенный из ресторана «Центральный» (до «Центрального» Коля работал со мной в оркестре Вальсона), в качестве кандидата не рассматривался.
Пару лет назад Черкашин был объявлен персоной нон-грата во всех кабаках и обжималовках города Харькова.
Оставался только Фима Сумасбройт, которого недавно выгнали из кафе «Колос» – за драку на сцене с вокалистом Ваней Козорезом.
Сумасбройт ходил в фирменных джинсах, фирменном ремне и без зубов. Не так давно он посеял по пьянке гитару и вставную челюсть.
Зубы Фимке были выбиты значительно раньше – победителем соцсоревнования 1972 года, водителем зерноуборочного комбайна Иваном Перекусидышло – в клубе образцового, трижды ордена Ленина совхоза «Пролетарий Харьковщины», где глупый Фимка рискнул за дешку возлабать на обжималовках.
Фимка тоже был кандидатурой не белой и не пушистой.
Случай в «Центральном»
С. К.
- «Я себя заклинал: “Отомсти за развал!
- Отомсти за Дзержинского и за Калинина!”
- Заклинал, заклинал, заклинал, заклинал,
- Заклинал, заклинал… Извините – заклинило…»
Это произошло в конце семидесятых-вместе-взятых, когда весь советский народ шагал к синим, как чистейшая денатура, коммунистическим горизонтам.
В один из вечеров к оркестру ресторана «Центральный» подошёл невысокий подвыпивший еврей с картофелеобразным носом и распухшим портмоне из крокодиловой кожи. Он протянул музыкантам 25-рублёвую купюру с Лениным и попросил исполнить «Боже, царя храни».
Хитрый Моня Бильфорд, руководивший эстрадным ансамблем, башли, конечно, взял, но вместо «Боже…» предложил еврею запрещённые «Семь-сорок» или даже «Хаву Нагилу» – любую композицию на выбор.
Еврей продолжал стоять на своём и добавил ещё четвертной, после чего Моня присовокупил к предложенным ранее фрейлехсам – «Плач Израиля» и не менее крамольных «Журавлей» из репертуара Петра Лещенко.
Картофеленосый покрутил пальцем у виска и потребовал свой полтинник обратно. Грустный Моня вздохнул, вернул бабки и объявил перерыв.
Пьяный еврей отправился к своему столику, где его дожидались 300-граммовый графинчик водки и недоеденная куриная котлета. И тут к картофеленосому подскочил бас-гитарист ансамбля, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Басист извинился за Моню и заявил, что за такие бабки зашарашит «Боже, царя…» – без ансамбля, «сам, бля, один, бля». И потребовал две ленинские купюры назад.
На что картофеленосый вдруг бесстыже заявил, что передумал. И ничего играть уже не нужно.
Опешивший от такого вероломства Черкашин («Ах, бля, тебе не нужно?! Тогда получи!») вскочил на эстраду, схватил басовку и, совершенно бесплатно, заделал «Царя» – наглому еврею назло.
Из милицейского протокола от 07.08.1976:
«…Остальные члены преступной вокально-инструментальной группировки в антисоветской агитации не участвовали, так как на данный момент:
1. Губин Александр Викторович (1937, украинец, ф-но), Рубинчик Аркадий Ефимович (1927, русский, гитара) и Рябенко Захар Моисеевич (1946, молдаванин, труба) – согласно свидетельским показаниям швейцара Грищука В.П. – вели в вестибюле ресторана азартную игру в так называемую «коробочку».
2. Бильфорд Мондрус Исаевич (1922, русский, саксофон) и Бильфорд Александр Мондрусович (1943, тоже русский, ударные инструменты) – согласно показаниям официанта Пилюгина Н.Н. – допытывались у гостя из так называемой солнечной Грузии Чантурии Тенгиза Гургеновича, какую песню желает услышать его дама – Кузубова Лариса Алексеевна, работающая в Харьковской областной больнице в должности санитарки.
Гражданин Черкашин Николай Акимович (1950, украинец, бас-гитара) проследовал на сцену в единственном числе и, аккомпанируя себе посредством гитары «Fender Jazz Bass» (произведена в 1971 году в американском штате Алабама) исполнил в микрофон (типа МКЭ-2, ленинградского производства) слова в виде «Боже, царя храни», в тональности, как он сам утверждает, до-бемоль-мажор.
Подписи:
1. Лейтенант Сидько А.В.
2. Член ДНД Промышлянский М.А., институт Тяжпромэлектропроект
3. Член ДНД Помазановский О.А., институт Тяжпромэлектропроект»
Неизвестно, зачем пьяный Коля поведал лейтенанту Сидько про тональность «Боже…». Возможно, просто пудрил менту мозги. А может, надеялся этого жлоба разжалобить. До-бемоль-мажор – тональность капризная, стрёмная (о семи бемолей). Стоит хватануть по киру вместо бемоля бекар – и пиши пропало, парнус летит в тартарары. Не знаю, как у лейтенанта, а у меня лабающий в до-бемоль-мажоре всегда вызывает сострадание. Кстати, ежедневный свой «Всьо-аддам-есльы-тебьа-этта-ащасльывьыт» мы играли, по моей инициативе, именно в до-бемоль-мажоре…
Кодя Черкашин
Моню Бильфорда, за Колину выходку, задвинули в кинотеатр «Пионер» – играть между сеансами с ансамблем «Штрафники Харькова», в который ссылали всех провинившихся лабухов.
Оркестр в «Центральном» расформировали, оставили только Губина и Рябенко.
Черкашина не посадили, дела в «конторе» не завели.
Но ни в одном харьковском ВИА – выступать Коле не светило.
Через некоторое время бывший бас-гитарист, когдатошний аспирант института радиоэлектроники Черкашин устроился радистом в строительный техникум.
После работы он возвращался в свою трёхкомнатную кооперативную квартиру в 606-м микрорайоне, жарил яичницу с чайной колбасой и, пообедав таким образом, направлялся в какой-нибудь кабак. С собой он прихватывал холщовую хозяйственную сумку. На дне сумки, под журналом «Огонёк», неизменно скрывался секретный квадратный предмет со встроенным микрофоном и звукозаписывающей головкой.
В кабаках Коля вёл себя довольно-таки странно. Садился поближе к эстраде. Чуть ли ни мордой к морде – с вокальной колонкой. И, трезвый до одури (что было на него совершенно не похоже), сидел целый вечер над каким-нибудь салатиком или чашкой кофе. Каждые три четверти часа – обязательно с сумкой – отлучался в туалет.
Определённо – подхватил, мудило, триппер, утверждали проницательные официантки.
В их глазах он был хроническим холостяком.
Мало кто знал, что Коля женат, и что жена его, Жанна, вот уже шесть лет живёт в Алуште, где работает в кабаке певицей…
Остроумные музыканты улыбались и напевали на ушко официанткам перелицованные опереточные куплеты:
- «…Ты душу вином согрей-ка
- И в зубы возьми бутерброд.
- Играет и песни поёт
- Весёлая гонорейка,
- Весёлая гонорейка!..»
Вскоре по Харькову поползли нехорошие слухи.
Электрошурка
Мы не горели желанием иметь дело – ни с алконавтом Сума-сбройтом, ни с алконавтом Черкашиным.
И тут Боню осенило – взять на басовку Шурку Жукова – поющего ритмача, работавшего у нас на подменах.
Нотной грамоты Шура не знал, зато по слуху играл клевёйше.
То, что Жуков не был басистом, Боню не перчило. Бонифаций знал, что недавно Жуков отоварился самопальным рабочим комплектом: двумя колонками, усилкбм, ревером и брянским микшерским пультом.
«Жуков чувак хваткий, – говорил Бонифаций. – Возьмёт басовку, месячишко на чувихе помакетит, и заиграет она у чувака так, что за милую душу».
Шурик Жуков, вкалывавший слесарем на «Гидроприводе», ухватился за Бонино предложение и тут же разжился болгарской басовкой «Орфей». День ото дня басовка звучала всё уверенней. Кроме того, оказалось, что Шурке под силу отремонтировать любое электротехническое изделие – от электрогитары до электродрели, за что к его имени припаялась приставка «Электро».
Вскоре мы зазвучали довольно сносно.
Боня сделал благое дело. А благое дело, как известно, никогда не остаётся безнаказанным.
Стихи из багровой тетради
- Пусто в доме моём. В зеркалах – ни улыбки, ни блика.
- Ты ушла навсегда. Я не прав. Я, бесспорно, не прав.
- Ты шагнула в окно – с высоты журавлиного крика
- И упала на землю, все бусинки вмиг растеряв.
Ограда
- Ты разбилась о рифмы, об ямбы моих заморочек,
- Об картошку-пюре и домашний вчерашний гуляш,
- Об ухмылки приятелей, о неприятие строчек,
- Об надежды слащавой умильно-дебильный муляж.
- Я тебя умолял: не бросайся, не прыгай, не надо!
- Говорил, что люблю, что безумно тебя я люблю.
- Ну а ты – мне в ответ – наглоталась крысиного яду,
- Облилась керосином и злобно полезла в петлю.
- Утонула в пруду. Сиганула под фирменный поезд,
- Что везёт бизнесменов крутых из Берлина в Тифлис.
- Улетела на Марс. Укатила на Северный полюс.
- Восходящей звездой ослепительно канула ввысь.
- Мне теперь не заснуть, не вздохнуть, не забыть, не забыться…
- Сколько можно землицу сырую в башке ворошить?!
- Без оркестра и прочих понтов – словно самоубийцу —
- Я тебя поселю навсегда за оградой души!
февраль 2003
- Как хорошо актёром быть, являть коварство и отвагу,
- На сцену шумно выходить, рукой придерживая шпагу!
- Красивым голосом вещать – о судьбах Фландрии свободной,
- Винища привкус ощущать, цедя из рюмки чай холодный,
- Смотреть на красочный прибой, вдыхая запах декораций,
- Вступать со злом в неравный бой, за слабых смело заступаться!
- По ходу пьесы быть убитым – на землю рухнуть, как стена,
- И видеть глазом приоткрытым, как плачет по тебе жена.
- Кинжал под мышкой стиснув острый, на пыльной площади лежать
- И знать, что смерть твоя – притворство, и жадно занавеса ждать…
«Как хорошо актёром быть, являть коварство и отвагу…»
март 2003
- Мне последние два дня снится всякая фигня:
- «Чито-врито-Маргарито» и дырявое корыто,
- Сине море кверху дном на дороге за окном,
- Дядя Изя на карнизе, красный флаг на Парадизе
- И в тиши Эдемских вод – здоровенный химзавод!
- Снится первое свиданье во дворе напротив бани
- И невеста в неглиже – в коллективном гараже.
- До-ре-ми-фа, ля-си-до-ре, кляксы, рифмы, коридоры,
- Снится двойка по физ-ре и помойка во дворе,
- Старшина на бензобаке, три бездомные собаки,
- Самоволка, наркота, два «обдолбленых» кота,
- Семь червей, пятьсот «на горке», преферансные разборки
- И Зиновий заводной – без одной на «восьмерной».
- Снится Бердникова Бэлла из проектного отдела,
- Общежитие, матрас и романс «Я встретил Вас».
- Снится старая канава и соседка баба Клава.
- И, конечно, дом родной с покосившейся стеной.
- И парадное с крыльцом – с человеческим лицом.
- Снится детство, снится юность, снится, будто ты вернулась…
- Просыпаюсь весь в поту и ору: «Атас! Ату!
- Караул! Пожар! Беда! Ни за что и никогда!».
- …Вот какая мне два дня снится страшная фигня!..
«Мне последние два дня снится всякая фигня…»
октябрь 2003
- Взрыв – и навзничь!.. У, шалава! Комья глины, грохот, свист…
- Отлетел портфель в канаву, хлястик на кусте повис.
- Изошла рубашка кровью, гарью выело глаза.
- Тяжко раненный любовью, отползаю, отполза…
«Взрыв – и навзничь!.. У, шалава! Комья глины, грохот, свист…»
октябрь 2003
- Желаю своему врагу – не стопку водки к пирогу,
- Не кашу с мойвой на обед, не головой – о парапет,
- Не гильотину во дворе, не кобру в мусорном ведре,
- Не колбасы протухшей впрок и не кинжал бандитский в бок.
- О, ниспошли ему, Господь, не обессиленную плоть,
- Не жар, не кашель, не озноб, не флюс, не язву и не зоб!
- Пошли ему не Колыму, не пепелище, не суму —
- Пошли, Господь, любовь ему…
«Желаю своему врагу – не стопку водки к пирогу…»
ноябрь 2004
Любовь нельзя купить
Всё отдам! Еженощная пытка «Бабилоном» была введена мной.
Как оказалось впоследствии – это был не «Бабилон», а «Бай Ми Лов», обрывок английского «Кент Бай Ми Лов», означающего в переводе: «Любовь нельзя купить».
Но английского мы не знали, и в «Бай Ми Лов» нам слышался «Бабилон».
Любовь купить нельзя!
В потрёпанном талмуде Диогена русскими каракулями было нацарапано:
- «Кент Бабило-он
- Эври бади тэлф ми соу!
- Кент Бабилон
- Ноу-ноу-ноу!
- Айл бай ю эдай монт ринг май фрэнд
- Иф ит мэйкс йо фил ол райт
- Айл гэт ю энифынк май фрэнд
- Иф ит мэйкс йо фил ол райт.
- Коз ай донт кэр ту мач фор мани
- Мани кент Бабилон…»
Не знаю, как тебе, читатель, а мне «Бабилон» казался огромной башней, Вавилонским столпотворением, рио-де-жанейровским карнавалом – с разноязыкими оркестрами, голыми тёлками и отвязанными воздушными шариками, взмывающими ввысь.
О, старый мой кент Бабилон!
Башня до небес, радостный галдёж, вечный праздник, где всё, как говорится, – ол райт!..
- «Can’t buy me love, love
- Can’t buy me love
- I’ll buy you a diamond ring my friend if it makes you feel alright
- I’ll get you anything my friend if it makes you feel alright
- ’Cause I don’t care too much for money, money can’t buy me love…».
Всё отдам!
- …«Я куплю тебе бриллиантовое кольцо, мой дружок,
- Если это тебя осчастливит.
- Я всё тебе дам, если тебя это осчастливит.
- Потому что мне плевать на деньги,
- За деньги нельзя купить любовь»…
Крупки
«Любовь нельзя купить?!»…Эту историю рассказал мне сосед по Ифгаузену – Мотя Задеримистер:
«В армию меня забрали сразу после войны. Я был молодой бугай и ещё не знал, что такое аденома. Я окончил школу сержантов и попал в Белоруссию, в танковое училище. У меня была хорошая служба. Я не ходил в наряды, а только проводил инструктаж и разводил караулы. Каждую ночь я был свободен, как птица, а сразу за складами начиналось село Дрычихи, где водилось много хорошеньких девок, тосковавших по мужскому теплу.
После войны, как ты понимаешь, мужики были большим дефицитом. Я отлюбил там несметное число баб.
И тут ко мне пристал интендант – капитан Рогов:
– Мотя, ты же умный человек, что ты делаешь в роте охраны? А у меня склад белья. Я знаю евреев, я работал с евреями, евреи умные люди, с евреями можно работать. Переходи, не пожалеешь!
А я говорю:
– Зачем мне это надо? У меня хорошая служба и никакой материальной ответственности. А на твоём складе у меня будет пухнуть голова за каждую портянку.
– Хорошо, – говорит Рогов, – не хочешь переходить, тогда просто помоги. Я знаю евреев, у них хорошо работает голова.
И он рассказал, что через неделю ожидается ревизия из штаба округа. И у него не хватает 200 простыней. Одна простыня стоит шестьсот рублей. А 200 простыней – это уже сто двадцать тысяч. И денег у него таких, понятно, сроду не было, и светит ему трибунал, а у него мать-учительница и брат – председатель колхоза.
– Ладно, говорю, а куда ты эти простыни девал?
– Ты понимаешь, говорит, я простынями с бабами рассчитывался. За каждый раз простынку давал.
– Хорошо, говорю, через три дня мы с тобой едем в город Крупки.
– А почему через три дня?
– Потому что через три дня – воскресенье.
И вот в воскресенье мы едем в город Крупки, и с собой у нас – два порожних вещмешка. Мы приезжаем на толчок. И там, у торговки жмыхом, я спрашиваю, где можно купить домкрат.
Рогов говорит:
– При чём здесь домкрат?
А я говорю:
– Подожди, скоро увидишь.
И мы с ним идём туда, где можно купить домкрат. И я вижу то, что нам нужно. И я спрашиваю у продавца, что он за это хочет. И продавец отвечает, что хочет за это 40 рублей.
И я беру у Рогова 40 рублей и отдаю продавцу, не торгуясь.
– Что ты делаешь, Мотя? Это же тряпьё, которым шоферня протирает машины! – говорит Рогов.
– Нет, говорю я. Это не просто тряпьё. Это белое тряпьё.
И мы затариваем этим тряпьём вещмешки. И я говорю Рогову, что он должен сказать комиссии, что это и есть его простыни. И они просто изорвались от частой стирки.
– А печати? На них должны быть печати, – говорит Рогов.
– Не волнуйся, будут тебе печати.
И мы приезжаем в часть, и я мажу ваксой старый каблук от сапога, и штампую на этих тряпках “печати”.
Короче, заявляется к нему ревизия – один капитан и три подполковника – и у него этот номер проходит, как шашка в дамки. И он приволакивает мне литруху чистого медицинского спирта, кило крестьянского масла и копчёную тюльку, и мы с ним принимаем на грудь, и его – как прорывает:
– Спасибо, Мотюха! Я же говорил, у евреев хорошо работает голова, сам бы я никогда бы до такого не допёр.
А я ему:
– Капитан, ты же умный человек! Зачем было им простыни давать? Ты что, не мог любить баб за так? Как я!».
Кармэн
Воинский долг родине я отдавал в Чернигове, в училище лётчиков-истребителей. Загородный этот плацдарм утопал в зелени и походил более на профсоюзный санаторий, чем на обычные военные части – с их сивокирпичными казармами, гулкими плацами и голым асфальтом. Рядом с оркестровым «манежем», в тени каштанов, прятались беседки, парикмахерская, буфет и ателье военного индпошива. Ближе к КПП дислоцировались офицерские огороды. На огородах застенчиво краснели помидоры, набирались зрелости огурцы и прочие витамины, которых так не хватало молодым растущим организмам.
Корячиться на плантациях приходилось командирским жёнам. Сами офицеры до холопского труда не опускались, а привлекать солдат и курсантов (пусти козла в огород!) опасались. Лейтенанты-майоры-прапорщики выполняли привычную мужскую работу: заступали ночами в дозор, охраняя грядки от вражьих набегов. А за забором – было небо, сказочный Черниговский лес, прохладная речка Стрижень, кучная стайка деревенских хаток и озерцо, полное рыбы.
…Нас было ровно пятьдесят музыкантов-бойцов: 20 кусков, 20 срочников и 10 воспитонов. Трубачи, кларнетисты, флейтисты, тромбонисты…
Оркестром командовал майор Дунькин – крупнолицый человечек с волнистой шевелюрой и удивлённым взглядом на мир.
Времени на разучивание маршей уходило, на удивление, мало. Играли мы, в основном, симфоническую – самую что ни на есть цивильную – музыку. Концертировали по военному миру, выступали на городских торжествах.
Оркестр размещался во втором этаже двухэтажного краснокирпичного здания старинной постройки – с «дебелыми» стенами, высоченными потолками и просторными окнами.
Репетиции проходили в Студии. Это была мрачная душная горница с видом на курилку.
Стены Студии были обиты звукопоглощающей тканью. Помимо звуков ткань поглощала время. Репетировать я был готов сутками – голова была занята форшлагами, трелями, триолями, отсчётом пауз, в эти минуты я не думал о Марине.
В глубине стоял 12-створчатый шкаф, в котором хранились наши дудки. Рядом со шкафом помещался рояль «J. Becker».
Посредине, у стены – дирижёрский амвон. На нём – тучный, как дирижабль, дирижёрский пульт из «отлетавшегося» алюминия. Перед амвоном – квадратно-гнездовым способом – расставлено 50 «уставных» табуретов с прорезью на сидении. Перед каждым табуретом стоял металлический пюпитр.
А через стенку находился кубрик с двумя рядами идеально заправленных двухъярусных коек.
В предбаннике, напротив входного проёма – стеклянный саркофаг с «мумией» боевого красного знамени, пробитого немецко-фашистскими пулями. Тумбочка с телефоном, бачок с питьевой водой, электронный блок «тревожной» сигнализации. Книжная полка с одиноким «Воинским уставом». Дальше по коридору – шесть массивных дверей. Первая – в кабинет майора. Вторая – в Ленинскую комнату. Третья – в каптёрку. Четвёртая – в Студию. Пятая – в кубрик. И шестая – вела в туалет.
В узком туалете – друг против друга – сияли хлоркой два белоснежных эмалированных очка. Когда оба очка были задействованы, «действующие лица» едва не упирались лоб в лоб, навевая воспоминания о «борьбе нанайских мальчиков».
На первом этаже, под оркестром, размещалась почта и переговорный пункт с единственной телефонной кабинкой. Каждое утро к нам заходил почтальон и передавал дежурному рыхлый холщовый мешочек. В мешочке, как правило, были газеты и несколько писем.
Прессу дежурный относил в Ленинскую комнату, а письма раздавал лично, заставляя счастливцев плясать.
Вне Студии мы обращались к Дунькину: «товарищ майор!».
В Студии же, во время репетиций – он просил называть его не иначе как «Григорий Борисович». Потому что он не какой-нибудь солдафон, как некоторые майоры. Он музыкант. Только в военной форме.
Душными летними вечерами – когда письма родным были написаны, валторны надраены, а Ленинская комната блестела, «как котбвы яйца», – музыканты-срочники собирались в курилке. Находилась она под открытым небом (чуть не ляпнул – на свежем воздухе), рядом с казармой и представляла собой квадрат 2 на 2 метра, образованный четырьмя вкопанными по периметру, выкрашенными в защитный цвет скамейками.
В центре квадрата щерила дымящееся жерло коричнево-зелёная урна (здесь мне никогда не согласиться с университетским профессором Сенькой Пузенко, утверждавшим, будто «урна есть условное обозначение места, вокруг которого следует бросать окурки»).
В курилке той – до самого отбоя – солдаты вспоминали гражданку.
Иногда это были мемуары о еде.
Подробно рассказывалось – что, где, с чем, в каком количестве, под что.
Короче, садо-мазо…
Яичница! Янтарно-мраморная яичница – из трёх полновесных яиц – под хрусткие солёные огурцы и пенные помидоры «со слезой»!
Картошка, поджаренная на сливочном масле – распаренная, томящаяся, прямо со сковороды…
Слоёный мамин «наполеон» с заварным кремом, инкрустированный шоколадными и ореховыми звёздочками…
Вязнущие в топком желе заливные языки, не успевшая остыть кулебяка, домашний борщ из капусты, картошки, морковки и свеклы, припущенные в томате тефтели величиной с апельсин…
Подробно описывались рецепты, вкусовые и ароматические оттенки. В воздухе витали пары булькающих кастрюль, дымки коптилен, фантомы жарящихся цыплят и фаршированных телячьей печенью бараньих сёдел.
Но чаще, конечно, рассказывали про женщин. Когда, какую и как…
Затягиваясь удушающим табачным дымом (сигареты «Северные», 7 копеек пачка), истосковавшиеся по нормальной человеческой жизни бойцы ощущали сладкий запах женского тела, оглушительный аромат духов…
Парфюмерией несло от интенданта-прапора, сидящего рядом.
Прапор, не разуваясь, с мученической миной, заливал в свои грибковые кусковские туфли дезинфицирующую «тройняшку».
…Развёрнуто воссоздавались блузки-юбки-лифчики-трусики, габариты, округлости, стоны, конфигурация изгибов. Сообщалось, чья она жена…
Встрять со своей историей было нелегко. Что рассказать – было почти у каждого.
Мне было 27.
Одиннадцать месяцев назад я женился на Марине…
Слушая откровения 19-летних «казанов», думал только о ней. Где она сейчас? Что делает? С кем говорит? Был страх. Страх оказаться рядом. Что-то узнать. Увидеть – с кем она. Где. Во что одета. По какому такому случаю?..
На фаготе у нас играл киевлянин-подолянин Лёня Лантух, по кличке Кармэн.
Кармэном его прозвали за вороний нос.
«Каррр! – мэн».
В армию Лёню загребли сразу после получения школьного аттестата.
Вечерами Кармэн, пуская слюнки, слушал рассказы донжуанов срочной службы.
Однажды Лёня не выдержал:
– И мне есть что вспомнить на гражданке, – вздохнув, сказал он. Наступила тишина. Все считали Кармэна девственником.
– Это случилось на выпускном. Вернее, сразу после выпускного, – продолжил Лёня. – Получили мы аттестаты. Потом танцы-шманцы. Алкоголя не было. Почти. В основном – ситро, чай. Ансамбль «Кобзу» пригласили. Танцевали до четырёх. Потом пошли ко мне – всем классом. Догуливать. Родители уже ждали. Оливье, селёдочка, картошечка, котлетки. И водка с шампанским. Короче, целая свадьба. Постарались предки от души. И вот посидели мы, значит, как следует, выпили, магнитофон включили. А одной девчонке, Нэсе Зельцерман – она, видно, никогда не выпивала – вдруг плохо стало. Здоровенная такая шпала, морда кирпича просит, мы её «Лох-Нэсси» дразнили. И вот эта самая Нэся вдруг возьми да и свались со стула. Прямо за столом. А девчонки её подняли и в ванную отвели. Стали в чувства приводить. Раздели до пояса, над ванной наклонили и начали из душа поливать, холодной водичкой. А я как раз мимо проходил, дверь приоткрыта была. Смотрю – стоит Нэся, красивая такая, бледная, практически (мне хорошо запомнилось это слово: «практически») голая, волосы мокрые, и (тут наш Кармэн расплылся в светлой улыбке!) – у неё такая большая белая грудь…
Всё отдам…
Каррр!!!
Варежка
«Семейные проблемы? Коварная соперница отбила вашего мужа?! Очаровательная сексапильная блондинка отобьёт его вам обратно!»
Объявление в газете
Разреши тебе представить, читатель: профессор Семён Васильевич Пузенко.
Он, правда, не слышит, он далеко. Поэтому заложу тебе его кликуху.
Нет, не Пузя. С чего ему Пузей быть, если худющий, как щепка?!
Профессора Пузенко с младых ногтей дразнили Варежкой…
Ходил Сеня на полусогнутых. А «Варежка» – потому что зимой и летом в варежках парился.
Крючковатый нос и рыжеватые усики – от матери-еврейки.
Ноги вприсядку и шестипалость – от украинца-отца.
Смесь получилась офигеннейшая.
У Семёна сразу два таланта: он атомный (это не специализация, а степень офигенности) физик и атомный джазмен.
Рук своих стеснялся страшенно. Шесть пальцев всё-таки. Только дома варежки и снимал. И на эстраде – когда за рояль садился.
Пальцы длинные, как ни у кого – особенно мизинец. Издали можно подумать, что выпить всем предлагает.
Из музыкальной школы вытурили – из-за проблем с аппликатурой.
Когда поступал, на ненормативную анатомию внимания не обратили. Проблемы начались потом. В нотах – всё для пяти пальцев расписано. Примитив. А Семёну нет мазы – в такие игры играть. Он всей шестернёй ворочать может. И музыка получается иная. Не такая, как у аллес-нормалес.
– Нет, – сказала завуч Вера Емельяновна Чибисова, – такого допустить мы не можем – чтобы всякие с нетрадиционным числом пальцев, вразрез с программой ГОРОНО, чем попало в клавиши тыкали!
Короче, выгнали Варежку с треском.
И подобрал юного Сенечку Григорий Евсеевич Пинхасик, администратор театра музкомедии, и посадил за пианино в «джаз-банду», играющую в фойе на втором этаже – до и после спектаклей.
И тут – странное дело – начали все замечать, что у Варежки, как только он свою дюжину в клавиатуру погружает (неважно – солирует или подыгрывает), в глазах сразу свечение появляется. Носище страшный исчезает, и улыбка появляется – обаятельнейшая. И такие аккорды он из инструмента выковыривает, что просто обнять и плакать! Такое ни Игорьку Брилю, ни даже неграм не снилось! А образования музыкального нет. Поиграл-поиграл, а потом заладил: «Давайте джазовую программу делать – тарификацию пройдём!». Для него это единственная возможность – стать музыкантом в законе. Потому что для музшколы он переросток был, семнадцать уже всё-таки. Я имею в виду: лет – семнадцать… И ни в консу, ни в бурсу тоже не возьмут. По той же причине. Неправильный рентген руки. Значит, надо тарифицироваться! Одному не разрешают. Только с коллективом. Надо-то надо, а только никто не хочет. Никому это не нужно. У нас ведь один хрен – тарифицированный ты или нет. За вечер пять рублей в зубы и – привет семье. А программу подготовить – не так-то просто. За аранжировки нужно бацулить… И за репетиции нам (я тоже в то время в джазе Григория Евсеевича – на тенорушке – играл) никто ни черта не башляет. Вот и прикинь… Короче, не захотели мы тарифицироваться. И свалил Варежка от нас – в ДК строителей, к Маркизу в биг-бенд. И учиться поступил не в консу, а на физтех универа. И там, в универе, оказалось, что у него не только шесть пальцев на каждой лапе, у него ещё и во лбу – семь пядей. Через год сразу на третий курс, на своих полусогнутых, перескочил. Всё это время на танцульках подрабатывал, у Маркиза. Девчонки – из тех, что на пляски бегали – от него просто таяли. Стоило им Сеньку увидеть, – когда он «при исполнении», у рояля, втрескивались с полуоборота. А потом уже и не замечали – что нос крючком, что ходит на полусогнутых… Женился на скрипачке. В колхоз-миллионер с ней съездил – встречать делегатов XXIII съезда. А после концерта был банкет. Самогон, куры, арбузы до отвала. Остались, заночевали. А через три дня Варежка, на своих полусогнутых, в ЗАГС её повёл – заявление подавать. Он скубентом тогда ещё был. Через месяц приходят они в ЗАГС расписываться. В свидетелях – шеф его Маркиз с супругой. Но записали ребят только со второго захода, с первого не получилось.
…Регистраторша говорит:
– А сейчас прошу невесту – в знак любви и согласия – надеть жениху кольцо на безымянный палец правой руки.
И чувствует регистраторша, что в глазах у неё – «сплошная двойня». Голова кругом пошла…
Недаром, буквально вчера, говорила ей приятельница – зав. индпошивом Ариадна Алексеевна Кутикова: «Ну что ты, Люсенька?! Нельзя быть такой чувствительной. В моём форшмаке, например, ты почувствовала и яблоко, и варёную треску…».
Оклемалась Люся на следующий день. Подарили ей молодожёны, за такие страдания, флакон «Красной Москвы». И вручила она им свидетельство о браке, только глаза всё время в сторону отводила.
…Окончил Варежка универ. В НИИ работать пошёл, защитился.
Родил с женой трёх сынов и влюбился в буфетчицу, которая в «Пассаже» на бутербродах стояла.
Взял у неё как-то целых четыре бутерброда (голодный был, как собака!), встал рядом и начал жрать. Полбутерброда заглотнул, – чувствует, наелся. Верней – не наелся, а потерял аппетит. Сам не понимает, почему. Возможно, колбаса маленько не того… А возможно, и другое. Я тоже не очень врубаюсь, отчего он аппетит потерял. Ничего особенного в той буфетчице не было. Буфетчица как буфетчица. Даже описывать не стану. И бутерброды у неё всегда с левой резьбой были – здоровущий кусок батона без масла, а сверху – тоненький (как писк умирающего комара!) кусочек колбаски, иногда любительской, иногда эстонской – как когда.
Короче, ты понял, читатель. Перехотелось Варежке принимать пищу.
Путь к сердцу мужчины лежит через желудок?! Возражений нет, связь с желудком – налицо. Но какая? Я ведь тоже, когда влюблялся, есть не мог…
Варежка-Пузенко подходит к буфетчице и начинает выяснять, сколько приблизительно лет этим бутербродам, и как её фамилия, и не примет ли она у него бутерброды обратно – совершенно при этом не понимая, что поражён в самое сердце. А она отвечает, что бутерброды режет не она, и что это совершенно неважно, какая у неё фамилия, и предлагает Варежке пройтись по Сумской выше, до театра Шевченко, а там, на левой стороне, будет комиссионный магазин, куда сдают подержанные вещи. И что именно туда ему, возможно, стоит обратиться. И что там у него, возможно, примут его три с половиной бутерброда, но больше чем за один бутерброд он всё равно вряд ли выручит. И ещё она ему сказала, что жлобов за свою жизнь повидала не приведи господи, но такого – ни разу.
А он всё это выслушал и – как запустит в неё бутербродами!
Скрутили Варежку, милицию вызвали. Акт составили.
Фамилия её Трепачёва. Зовут Людмила Ивановна. Проживает: проспект Ленина, 54, кв. 22. Стал он у этой Люси бывать – и на работе, и дома. На танцы она к нему зачастила. Но от жены не уходил. Не хотел сиротить детей – сначала троих, потом четверых, потом пятерых сиротить не хотел. Люсю тоже не хотел бросать. Потому что любил. И тут слегла жена. Нехорошее что-то.
Всё успевал. И детей в школу выпроводить, и прибрать-постирать, и обед сварить, и уроки проверить, и к Люське, на проспект Ленина, заскочить. И, самое главное, – в выходные в ДК – на рояле душу отвести.
Но – всё до поры до времени. На смену оркестрам пришли ВИА. Пианисты побросали свои пианино и начали свиристеть на «иониках» (так звались у харьковского бомонда клавишные). Контрабасисты подались в бас-гитаристы. Маркиз тоже – предложил Варежке с пианино на ионику перейти. Шестьдесят рублей в месяц всё-таки. На дороге не валяются. А не перейдёшь – гуляй Вася, и скатертью дорожка! Попробовал Варежка. И так, и сяк звук выставлял. Не получается. Не может он этот визг-скрежет слышать. Хотя другие перешли, не моргнув. Для других это – как два пальца об асфальт… Извиняюсь, что снова про пальцы.
Уволил Маркиз Варежку.
Это в семьдесят четвёртом было. Тогда все на ионики да на электрогитары переходили.
Рассказывают, приехал в Харьков сам Алексей Козлов – со своим «Арсеналом». В «Украине» у него три консервы было.
Варежка билеты на все три достал. Пришёл за два часа до начала. В «Украину» ещё не пускают, в кафе-мороженое зашёл. Взял чашечку шоколада горячего (на улице ноябрь). Смотрит, – через два столика – Алексей Козлов собственной персоной. Бросился к нему, умоляет: «Я пианист! И тоже играю джаз! Послушайте, как я играю!».
Ну, а Козлов, говорят, большой интеллигент. Ему неудобно человека сразу на три буквы посылать. Поэтому он Варежке и говорит:
– Приходите ко мне в гостиницу «Харьков» через неделю, в 412-й номер. Я вас с удовольствием послушаю.
А Варежка в курсе, что Козлов через неделю – уже в Днепропетровске.
И оголяет тут Сеня свои шестерёнки, и начинает ими, в натуральном виде, щеголять. И так разворачивает, и этак.
Козлов, как увидел, – аж затрясся. Сразу понял, что к чему. Пойдёмте со мной, говорит.
Заходят в «Украину». И прямо на сцену. Раздеваются, шмотки на рояль бросают. Они вдвоём, больше никого. Не успел Варежка и трёх аккордов своими двенадцатью надавить – Козёл уже в экстазе. Саксофон распаковывать мчится.
Короче, налабались вдвоём от пуза.
А после того как налабались, вытащил Козлов бутылку «Ахтамара», и оприходовали они её вдвоём – только так.
Вскоре двери захлопали, оркестранты появляться стали. Варежка стесняется. Руки обратно в варежки засовывает.
Говорит Козлов Варежке: «Ты чего руки прячешь? Такими руками гордиться нужно».
А Варежка стоит и не знает, что ответить.
Всё, говорит Козлов, решено. Беру тебя в «Арсенал». Квартира в Москве, ставка солиста, да плюс халтуры.
Варежка от радости чуть не прыгает.
Только не на рояле играть будешь, говорит Козлов, а на ионике.
Как услышал это Варежка, побледнел сразу сильно и говорит самому Козлову, золотому саксофону нашей страны: «На ионике – никогда!»
Козлов его уболтать пытается, ну как же, мол, как же! По свету поездишь, мир увидишь: Омск, Свердловск, Ухту, Запорожье, Краматорск, Нарофоминск…
Оделся Варежка, из «Украины» вышел, даже на консерву не остался.
Такие проблемы…
Десять лет прошелестело. 85-й на дворе.
Работаем в «Богдане» ни шатко ни валко, с Электрошуркой. В месячишко – по пятихаточке выруливаем. Минимум. Отыграли как-то первое отделение, вышли покурить, воздуха глотнуть. Зима была. Вижу – со стороны трамвайной остановки, на полусогнутых, Варежка чешет. В варежках, как обычно. Пожилой уже, можно сказать, мужик. Видбс – обшарпанней не бывает. Пальтишко на нём засмальцованное. Рукава – коротковатые, посеченные, как объявление с телефонами. Типа «обрывай – не хочу». Как школьник-переросток. С сумками какими-то отвратными…
– Привет, Сеня!
– Привет!
– Как дела?
– Спасибо, на букву X.
– В каком смысле?
– В смысле, хорошо.
– Ну, рассказывай.
– А что рассказывать? Оле (Оля – его жена) коляску-инвалидку дать должны. Третий год никак не дадут. На лапу совать надо. С деньгами – полная засада. В институте второй месяц зарплату не дают. Старший, правда, женился. Уже легче. В таксопарк мойщиком устроился. А остальные на мне. Веня и Яша в политехе, Витька консу оканчивает. Пианист, в меня пошёл.
Я, между нами, детей его никогда не видел. Точно сказать, что значит «в меня пошёл», не могу.
– А у Валерика, у младшенького, аллергия буквально на всё, – продолжает Варежка. – И Людмила Ивановна моя тоже не очень. Сына её от первого мужа в тюрьму посадили, три года дали. Говорит, что не воровал. Тёмное дело, короче. Мается Люсенька, места себе не находит. Она без него – как я без неё. Такие дела. А на работе всё нормально. Сто двадцать «красных уголков» – тьфу-тьфу-тьфу! Экономическая выгода – только держись! Вот, в домовую кухню профсоюз талоны выделил. Пойду, рисовую кашу и пирожки с капустой получу. Отличное, что ни говори, подспорье.
– А на фано не играешь, Сеня?
– Играю. Фано дома отличное, «Ibach und Söhne». Приходи – вместе «Самер тайм» зашарашим.
– А на ионике, Сеня?! Лабал бы сейчас на ионике и в хрен бы не дул!
– Да нам, в принципе, хватает. По ночам пристроился садик охранять. Работа непыльная. Ведро картошки деткам начистил – и спи, сколько влезет. И зарплату не задерживают.
– А мы на их задержки чихать хотели. Мы своё и без зарплаты вырулим.
– Извините, чуваки, Оля кашу ждёт, кормить пора.
И попилял он со своими талонами в кухню для нищих.
Сто двадцать изобретений всё-таки, учёный, видать, нехилый. И музыкант – не из последних…
Хорошая, как говорится, голова, а дураку досталась!
Адольф
После того как из нашего «фойерного» (не от «фойер», а от «фойе»), музкомедийного джаза свалил Варежка, Гриша Пинхасик привёл нового пианиста.
Звали новичка Адольф Яковлевич Хилоидовский, он годился мне в отцы.
У Адольфа был хищный сионистский нос, голову украшал слиток свалявшихся рыжих волос, смахивающий на вычурный золотой портсигар.
Казалось – над матральником Хилоидовского поработал неумелый бутафор. Нос Адольфа Яковлевича смотрелся так, будто его наклеили наспех.
Надыбал его Пинхасик в симфоническом оркестре филармонии, где Хилоидовский играл третью скрипку.
…Адольф рассказывал, как в войну дали ему деревенские пацаны прозвище Гитлер. Отец на фронте погиб, а сын вдруг – Гитлер!
В войну Адольф с матерью в эвакуации были. В Узбекистане, под Ташкентом. И приписаны – к бахчеводческому колхозу имени товарища Герцена.
Пошёл Адик к председателю сельсовета товарищу Прохорову и попросил выправить «Адольф» на «Аркадий».
И сказал ему председатель, что менять имя – это просто дурь. Потому как в канцелярии небесной уже записано: «Адольф». И числиться ему там – Адольфом – по гроб жизни, несмотря на сельсовет и прочие высшие инстанции.
И что сам он после 1917-го тоже хотел имя сменить, но отговорила его маманя, земля ей пухом. А сейчас – и в голову никому не придёт – такого имени стесняться. А по тем временам звучало оно так, что не приведи господи.
Неудобно Адику стало, что не знает, как председателя кличут.
– Извините, а как вас зовут? – спросил Адик у товарища Прохорова.
– Очень просто, – ответил тот, – Николай.
Парткотлеты
В тот день в Музкомедии проходила городская партконференция.
Напустили полный зал коммуняк и прочей выдвижимости. Вечером для участников давали «Весёлую вдову».
Мы отлабали доспектаклевое отделение, прозвенел третий звонок. Духовенство (Сашка Дорошенко – труба, Валька Лицин – тромбон и я – саксофон) намылилось, как обычно, в кафе на Карла Маркса, где всегда имелись горячие сардельки и салат «московский», известный более как «оливье».
Ведь дудка – это тебе, читатель, не кифара небесная. Здесь питание необходимо.
Её, дудку, чтоб обслужить, – да так, чтоб сладкоголосо завибрировали все её медные закутки – под нескончаемым напором твоих воздушных струй, чтобы заставить её бездушное тело задрожать-запеть в твоих руках – сперва поберлять нужно капитальнейшим макаром.
Хилоидовский подскочил к нам, когда мы были уже в куртках:
– Нет, вы только гляньте! Народ хрен сосёт, а наш бараный буфет кормит этих сук на шару! Котлеты по-киевски – всегда по рублю, сегодня – пять копеек! Пиво – по полтиннику, сегодня – гривенник! А видели бы вы, как они живут! Жена недавно делала педикюр матери Саднюка, секретаря райкома. Так эта мамаша…
Не дослушав про Саднючку, мы срочно двинули в коммунистический буфет.
…Горы куриных котлет громоздились в прозрачных вазах – прямо на столиках. Рядом с котлетами стояли бутылки «Жигулёвского».
Наберлявшись до полного коммунизма, мы выкурили по сигарете, после чего Лицин подозвал буфетчицу и попросил подбить бабки. Та спросила, чего мы съели-выпили.
Мы радостно сообщили, что «на троих» одолели двенадцать коммунистических котлет и шесть коммунистических «пивов».
Буфетчица огласила приговор: «15 рублей». Вот тебе, бабушка, и Юрчик-с-гиюрчик! По пять колов с рыла. В карломарксовском кафе за эти бабки можно поберлять раз шесть.
Лицин начал выводить плутовку на чистую воду:
– Позвольте вам не позволить! Двенадцать котлет по пять копеек, получается – шестьдесят копеек. Плюс шесть пива по десять копеек – итого рубль-двадцать!
И тут буфетчица процедила сквозь золотые свои клыки:
– А кто вы такие, чтоб вам по такой цене отпускать?! Партийный контроль? Или, может, ОБХСС?!
– Значит, как слугам народа, так по пятаку! А как народу, так по целому колу! – начал распаляться Лицин, не без оснований полагающий себя представителем народа.
Буфетчица подозвала ментов:
– Вот, разберитесь. Это музыканты. Поесть поели, а расплачиваться не желают.
Какое это счастье – когда вас знают в лицо и не волокут по первому чиху в подрайон!
Оказалось, никакой скидки участникам партконференции нет. Адольф нас элементарно нажухал.
Фигура Фигаро
Играть в Музкомедии приходилось совсем немного. Час – до спектакля и сорок минут – после. По средам, субботам и воскресеньям.
Бывали вечера, когда Хилоидовский был занят и у нас, и в филармонии. Тогда Адольфу Яковлевичу приходилось изображать «фигуру Фигаро».
Концерт в филармонии начинался одновременно со спектаклем в музкомедии.
Не доиграв доспектаклевое отделение до конца, Хилоидовский захлопывал крышку рояля, стремглав выбегал из театра и, оседлав мотороллер, нёсся в филармонию. Запарковав транспортное средство у входа, влетал в храм искусств.
С проворством солдата первого года службы он напяливал на себя униформу, мгновенно настраивал скрипку (пианино для этой цели Адольфу Яковлевичу не требовалось – высоту тона он помнил наизусть), после чего появлялся, в числе прочих оркестрантов, на сцене – в белой манишке, бабочке и в чёрном фраке с лоснящимся воротником.
Если времени у Хилоидовского оставалось в обрез, – третий скрипач лишался чувства локтя и, к ужасу дирижёра А. Махлина, начинал демонстрировать чудеса техники, ускоряя темп и увлекая за собой весь оркестр. За что подвергался репрессиям и не вылезал из-за пульта третьих скрипок.
Справившись с работой, Адольф снова седлал мотороллер и летел обратно – в наш «фойерный» джаз.
Переодеться «в гражданку» Хилоидовский не успевал. Он мчался по Сумской, Университетской, Свердлова, потом вырывался на Карла Маркса. Крылья фрака раздувались в разные стороны. Вцепившийся в руль мотороллера Адольф напоминал орла-стервятника, несущегося с добычей на бреющем полёте.
Он поспевал к началу послеспектаклевого отделения, вспархивал по лестнице в фойе второго этажа и приземлялся на стульчик у рояля. Мы были уже на местах. Улыбаясь и тяжело дыша, Хилоидовский заводил «Королеву красоты» или «Замечательного соседа».
…Он полюбил меня, как сына, когда я окончил техникум, попал на работу в НИИметаллпромпроект и поступил в вечерний институт. Он извинился вдруг за старую дурацкую шутку с котлетами. Стал приглашать домой. Ему, мол, импонирует моя серьёзность.
До встречи с Мариной оставалось 4 года.
Оказалось, Хилоидовский хочет познакомить меня со своей дочкой. Он был напорист, как русский ледокол «Сибирь», и нахваливал свой товар, как торговец дынями на восточном базаре.
Хорошая, скромная. Стройная, как горная козочка. Учится на фармацевта.
Родители упакованные, это большое дело – всегда помогут, если что.
Мать – педикюрша, имеет живую копейку.
Он, как и я, – на двух работах…
Адольф приглашал – посмотреть квартиру, посидеть за рюмкой чая, познакомиться с Норочкой.
Я ссылался на занятость, на коллоквиумы и зачёты.
О, если б знал Адольф Яковлевич, что, кроме прочего, я ещё и пишу!
В ту пору я писал по два-три письма в день (в Ташкент, студентке ин/яза Жене Поплавко!), и каждое моё послание занимало несколько страничек убористого текста…
Хилоидовский приглашал ещё и ещё…
Скумекав, наконец, что это дохлый номер, Адольф Яковлевич отстал.
Экстрасенс
…До начала работы оставалось полтора часа.
В Диогеновой бочке колдовал над разобранным усилкбм Электрошурка.
Увидев меня, он выключил паяльник и предложил пойти в бар. Есть, мол, разговор. Он не знает, что делать с Диогеном.
Мы взяли по сотке шампанского. Закурили.
Из кухонных недр донеслось зычное: «Сева!». Это кликала меня Манюня. В три глотка допил я шампусик и поспешил на зов официантки.
…Жених, свадьбу которого мне предстояло провести, говорил с едва уловимым «западэньськым» акцентом.
Иногда по выходным наш кабачок превращался в зал семейных торжеств. На входе вывешивалась табличка «Закрыто на спецобслуживание».
Тамадил, как правило, я.
Нанятый тамада должен создавать видимость своего в доску парня. Жизненные вехи, симпатии и пристрастия виновников торжества он обязан знать назубок…
Очередного «моего» женишка звали Алекс.
Выглядел он совсем ещё мальчишкой. Куцый белесый чубчик. Полнейшее отсутствие растительности на щеках.
Манюня усадила нас за столик с табличкой «Reserv» – у занавешенного бордовым тюлем окна – и подогнала по чашке кофе.
Я вытащил из кармана блокнот и с видимым участием начал интересоваться совершенно не интересующими меня вещами. Как зовут невесту, родителей, бабушек, дедушек. Где учится невеста. Где учится он.
Начал записывать: «Невеста – дипломированная ясновидящая».
Женишок тоже – оказался не кем-нибудь, а слушателем Белгородской академии магов. Будущий экстрасенс.
…Здесь я, конечно, должен был вести себя поосмотрительней. Но, видно, шампанское ударило мне в голову.
– Так, значит, Алекс, мы с вами коллеги? – мгновенно отреагировал я, узнав о выбранной им профессии.
– Во-первых, вы можете называть меня на «ты», – ответил маг, глядя исподлобья. – Надеюсь, вас это не будет как-то смущать.
– Нисколько, – заверил его я.
– А во-вторых, – почему коллеги? – спросил после небольшой паузы чародей.
– Знаешь анекдот насчёт «во-вторых»? – начинал раскочегариваться я, всё резвей входя в амплуа свадебного остряка. – Приходит полковник в ресторан. Подходит официантка. Полковник спрашивает: «Что у вас на первое?». Официантка говорит: «На первое борщ». – «А на второе?». – «А на второе – ничего. Хоть сама ложись». – «Тогда два вторых».
– Вы хотите борщ и два вторых? – Алекс зыркнул поверх меня и, чуть привстав, щёлкнул пальцами.
Неизвестно откуда возникшая Манюня – с карандашом и блокнотиком – уже готова была записывать заказ.
– Два вторых полковнику, – распорядился экстрасенс, указав взглядом на меня.
И тут же добавил:
– А на первое – борщ!
Манюня, переваливаясь с ноги на ногу, почесала в сторону кухни.
Я почувствовал голод, – словно не ел целую вечность.
– И всё-таки, я хочу знать, почему вы считаете, что мы коллеги? – продолжил начинающий Калиостро.
– А коллеги мы с тобой – потому что (здесь я выдержал паузу) – и ты, и я – развлекаем публику, как можем!
– В таком случае, я имею право вас развлечь? – спросил Калиостро.
– Ты клиент и имеешь право на всё, – с гипертрофированным подобострастием отвечал я.
– Как вы хотите, чтобы я вас развлекал? – поинтересовался писклявым голосом будущий экстрасенс.
– Как-как! Предскажи мне, коллега, моё будущее, вот как! – загвоздичил я Алексу.
– Что ж, – сказал юнец и, сладко зевнув, посмотрел как бы сквозь меня.
Дальше начало происходить нечто странное. Не исключаю, что шампанское в нашем баре было палёное. Я просто перестал себя ощущать. Руки-ноги затекли. Казалось, я воспарил к потолку, стал той самой стеклянно-пластмассовой камерой видеонаблюдения, вмонтированной в золочёную люстру, висевшую как раз над тем столиком, за которым беседовали белесый экстрасенс и курчавый, начинающий полнеть тип с голубыми жабьими глазами.
– Итак, я слушаю вас внимательно, – едва ворочая языком, сказал экстрасенсу собеседник.
– Тебя внимательно, – поправил экстрасенс.
– Тебя внимательно, – исправился тип.
– Пройдут три дня и… – отчеканил экстрасенс, разглядывая курчавого в упор.
– И что?
– И, естественно, три ночи. Вот что.
– Это понятно, – недоверчиво промолвил курчавый.
– Не перебивайте. Я сказал, пройдут три дня и три ночи. И вы, многоуважаемый… Да, кстати: как вас по имени? Я запамятовал.
– Вылетело из головы… – промямлил курчавый.
– Пётр Иванович говорил, что вас зовут Сева, – радостно вспомнил экстрасенс.
– Да… Наверно…
– Ну вот, значит, договорились. Так что вы, многоуважаемый Сева, окажетесь совсем не здесь. Верней, не совсем здесь. Точней – совсем недалеко отсюда. Максимальная глубина реки…
– Но позвольте, позвольте! – попробовал встрять пучеглазый собеседник.
– Не позволю. Максимальная глубина реки Лопань – два метра десять сантиметров. Пустяки. Температура воды в районе Харьковского моста будет составлять всего лишь 6 градусов Цельсия. Но это – на поверхности. На дне обычно температура воды – на несколько градусов выше…
– Я слушаю прогноз погоды? – предположил вдруг – ни с того, ни с сего – курчавый.
– Угадали! – хохотнув, воскликнул экстрасенс. – Потому что ровно через три дня и три ночи вам будет далеко не всё равно, какая установится погода.
– Почему? Вы не сказали, почему?
– Потому что в этот день у вас должно быть хорошее настроение. А о каком хорошем настроении можно говорить при плохой погоде?
– Какое вам дело до моего настроения?
– Тебе дело, – снова поправил экстрасенс.
– Тебе дело! – повторил собеседник.
– У вас должно быть прекрасное настроение. Иначе вы не сможете весело провести мою свадьбу!
– А потом брошусь с Харьковского моста?
– Почему вас так тянет броситься с моста? Я такого не говорил. И даже наоборот. Я лишь сказал, что вы окажетесь совсем недалеко отсюда.
– И где именно я окажусь?
– Я же сказал. Не так далеко. Во-он там, – кивком головы он указал в сторону эстрады, – в этом фише-мебельном ресторане (тем самым он подчеркнул далёкость нашего кабачка от фешенебельности, а заодно и мою еврейскость), на моей с Ингрид свадьбе.
– Что ещё вы можете предсказать? – уныло поинтересовался собеседник.
– А ещё я могу предсказать, что в конце свадьбы вы получите от меня шестьдесят рублей. И, кроме того, бутылку посольской.
– И всё?
– Разве этого мало?
– Это всё, что вы можете предсказать?
– Нет, не всё. Из шестидесяти рублей вы, как обычно, половину отдадите зав. производством Петру Ивановичу Шершукову – за то, что Петр Иванович порекомендовал мне именно вас.
– Послушай, но про свадьбу я знаю и без тебя!
– В том-то и дело, что нет. Повторяю: именно через три дня! А не через четыре, как вам было сообщено ранее. Свадьба переносится на субботу.
– Ясно, – с облегчением выдохнул я, почувствовав, что душа вновь возвращается в тело. – Вы настоящий оракул. И большое спасибо. За то, что предрекли моё будущее. На грядущую субботу. Теперь я вижу: дурить нашего брата, действительно, нетрудно.
Я отхлебнул остывшего кофе.
– А если серьёзно, – улыбнулся Алекс, – такая материя, как предсказание будущего, – не совсем по моей части. Этим занимается моя невеста Ингрид. Я же специализируюсь на исследовании прошлого. Мы с Ингрид думаем открыть частную практику в Липовой Роще. Вдвоём мы сможем охватить практически всё временное пространство.
– И, если я, например, попрошу вас рассказать о моём прошлом, вы, конечно же, ошеломите меня знанием, что я родился мальчиком, а не девочкой? И мать моя была женщиной? А отец – мужчиной? – поинтересовался я.
– Да-да-да, именно так! И что на свет вы появились совершенно случайно.
– Вы необузданно информированы, Алекс! Миллион сперматозоидов с низкого старта устремляются к женской яйцеклетке, чтобы оплодотворить её. Но удаётся это лишь одному. Именно из такого рас-торопнейшего сперматозоида получился когда-то, по счастливой случайности, я. Как, кстати, и вы, дорогой мой виновник торжества! Мне трудно вам возразить, Алекс. И нет ничего необычного в том, что я, как и все люди на земле, появился совершенно случайно!
– Дело не в сперматозоидах, а в дедушке… – как бы сам с собой продолжал беседу экстрасенс. – Да, именно в дедушке. Если бы вашему деду не удалось спастись, на свет не появилась бы ваша мама. Следовательно, и вы. Повторяю, вы родились совершенно случайно…
Я примолк.
Прадеда и прабабку убили литовцы – во время еврейского погрома в местечке под Вильно. Убили на глазах моего шестилетнего дедушки. Убили за то, что прадед и прабабка были евреями и держали скобяную лавку. Шестилетний дедушка был крепкий человечек. Он даже не заорал, видя, как убивают его отца и мать. Он знал, что если заорёт, если разревётся, погромщики тут же поймут причину слёз. И убьют его. А заодно и православного его друга Кольку, и Колькиных родителей – Фёдора Ивановича и Александру Ефремовну, которые, зная о готовящемся погроме, забрали моего малолетнего дедушку к себе. Погромщикам они сказали, что дедушка – их сын.
После Первой мировой Колька переехал в Николаев, где, до самой смерти, работал фотографом. Переписку с Колей вела моя бабушка – под дедушкину диктовку. Писать по-русски дед Яша не умел. Он знал литовский, немецкий, идиш и древнееврейский, а по-русски читал только вывески и прейскуранты. Разговаривал он тоже не бог весть как. Заходя домой с морозца, бросал обычно бабушке: «Ола-дай-цай», что означало «Оля, дай чай!». По отчеству дедушка Яша был Савельевич.
Имя Сева я получил в память о своём, убитом литовцами, прадеде – Савелии Цимесе…
Не спасся бы дед, – не появилась бы на свет моя мама. Не родилась бы она, – не было б меня…
Хотя, впрочем!.. То, что сообщил мне Алекс, – именно о моём деде, можно, с таким же успехом, сказать о любом из нас. Скорей всего, это была универсальная формула.
Смерть подстерегает человека на каждом шагу. Кирпич с крыши, незакрытый канализационный люк, пролитое подсолнечное масло, трамвай, револьвер системы Наган – с глушителем, душителем, вершителем…
– Извините, это ошибка! Хотели не вас. Хотели управляющего Центробанком. Это он должен был подъехать на джипе к боковому входу. Ах, вы не на джипе? Вы на трамвае? Я же говорю, по ошибке, светлая вам память!
Продолжая жить, мы постоянно спасаемся от чего-то. И, пока спасаемся, – мы живём.
У смерти масса возможностей.
Отрезанная голова Берлиоза ничего не доказывает. Из истории этой (кстати, от начала и до конца придуманной писателем М. Булгаковым) вовсе не следует, что Берлиоз принял смерть именно от трамвайного колеса. Возможно, он погиб раньше – когда, поскользнувшись на разлитом Аннушкой масле, шваркнулся головой о серебристый трамвайный рельс. Пробоина в черепушке – кровоизлияние в мозг – мгновенная смерть. Трамваем отрезало голову не Михаилу Александровичу, а его бездыханному телу.
А может быть, Берлиоз погиб ещё раньше? Может, – видя, что летит прямо под колёса, Михаил Александрович элементарно перепугался? Причём перепугался настолько, что сердце не выдержало, и о роковые рельсы проломил себе голову уже не он, а его вездесущий труп?
Что такое «не везёт», и как с этим бороться
С Лериком Аронсоном-Арцыбашевым мы учились когда-то в электротехникуме.
Лерик искренне считает себя невезучим. Капитально невезучим. Глобально невезучим. И даже – кардинально невезучим. И вечно рассказывает одну и ту же историю:
«Еду как-то на выходные домой – с практики. Товарняком еду, на крыше. Студентом был, на билет денег не было. Вдруг останавливаемся. Справа бахча, сентябрь месяц. Смотрю, машинист с паровоза – с мешком вылазит. И ну – кавуны рвать. Полный мешок нашуровал. Я тоже слез, взял себе две кавуницы. Пока до Краматорска допиляли – оприходовал обе. Сладкие такие попались. Как говорится, и наелся, и напился. Поезд гружёный капитально. Небыстро идёт. Я – на крыше. Еду почему-то стоймя, – потому что невезучий, хотя нужно было, конечно, сидя. И – к паровозу спиной повернулся. Чтобы не так гарью дышать. Дым с паровоза – беспрецедентный. И тут чую: ой-ой! Это они. Кавуны. Сейчас пойдут. Кардинально пойдут. Что делать? Ну, думаю, присяду, и – прямо на крышу нафугасю. Газетка у меня с собой была. Штаны спустил, присел. И тут сразу – вжик!!! – что-то над головой. Темно стало. В тоннель въехали. Я сижу, надо мной потолок этот бетонный с электролампами несётся, а от головы до потолка – сантиметров пять, не больше. А может даже, и не пять. Может, ещё меньше. Представляешь, что – не присядь я – произошло бы?! Я ж не видел, что тоннель, я ж к паровозу затылком ехал. Снесло бы башку к едрене-фене. А всё потому, что невезучий, что на роду мне так написано…».
Ещё одна история невезучего Л ерика:
«Звонит мне Володя Укореневский. Говорит, в “Спутнике” сардельки по рубль тридцать дают. Он уже взял. Сардельки, говорит, – что надо. Сажусь на восьмёрку – и туда. Приезжаю. Народу – до невозможности. Очередь фундаментальная. Спрашиваю у людей, есть ли смысл. Никто не знает, но все стоят. Деваться некуда – стою час, стою два. Уже к прилавку подхожу. Впереди – человек десять остаётся. И сзади народу тьма. Духотища доскональная. И тут продавщица объявляет: всё, шабаш, последний ящик открываю, больше сарделек нет. Ну, думаю, кончатся именно на мне. И что ты думаешь? Как факт! Последнее кило как раз на бабу в синем пальто выпадает, – за которой я занимал. Такая, значит, непруха. Одно только спасло. Баба эта, когда ей сардельки взвешивали, вдруг возьми и спроси: “А они хоть свиные?” А продавщица: “Нет, говяжьи”. А баба: “Ну, раз говяжьи, мы с мужем такого не уважаем”. Только благодаря этому делу мне последнее кило и досталось. Потому что невезучий я до невозможности…»
И о любви, и о судьбе…
– Итак, вернёмся к вашему прошлому, – сказал экстрасенс. – Какую область вашей жизни будем освещать?
– А что вы можете предложить? – ответил я вопросом на вопрос.
– Мы же договорились: вы называете меня на «ты».
– Я спрашиваю, что вы можете мне предложить, – продолжал стоять на своём я.
– Пожалуй, я с абсолютной точностью назову сейчас… – экстрасенс сделал паузу, – ваши любимые блюда.
Здесь белесый хохотнул, едва не поперхнувшись остывшим кофе.
– Что ж, валяйте… – согласился я.
Клиент мне уже порядком поднадоел.
Алекс напрягся, на виске проступила пульсирующая жилка. Он думал минуты три, потом торжественно произнес:
– Вы, уважаемый Сева, любите мучное и сладкое.
– Вы сказочно проницательны, гражданин фокусник! – улыбнулся я. – Даже беглого взгляда на мою ряху достаточно, чтобы это понять.
Мальчишка играл со мной в непонятную игру:
– А ещё вы любите куриные котлетки, фаршированную рыбу, цимес, а ещё любите…
– Отлично! – перебил я экстрасенса. – Итак, Алекс, вы заговорили о любви. Я весь внимание. Поведайте мне, как говорится, «и о любви, и обо мне»!
– О любви? Что ж, – о любви, так о любви…
Сзади неслышно подошла Манюня с подносом и выгрузила на наш столик две порции эскалопа с жареной картошкой.
– Ваши два вторых. Борща уже, извините, нет, – виновато улыбаясь, сказала она.
– Даёшь не дать закуске остыть! – удачно, как мне показалось, скаламбурил я – и набросился на кусок мяса с жареной картошкой. Нож отчего-то не ладил с вилкой, вилка – с эскалопом. Сделав несколько жевков, я почувствовал, что сыт по горло.
– Так вот, о любви… – подождав, пока я проглочу, продолжил экстрасенс. – Если вы этого хотите, я расскажу вам о любви. Слушайте и не перебивайте. Какого-то особенного опыта в этом вопросе я у вас не вижу. И вообще, в ваши тридцать шесть… Кстати, вам тридцать шесть?
– Да, тридцать шесть, – был вынужден признать я.
– Вот видите, в ваши тридцать шесть ваш донжуанский список… Хотя, нет… Списком это, пожалуй, не назовёшь. Список предполагает нечто серьёзное. Список – это как в классном журнале – от «А» до «Я». А у вас не список, а… (здесь он на мгновение задумался, подбирая подходящее слово). Да-да, не список, а афоризм какой-то! Скажу больше – вы никогда не болели гонореей.
Я утвердительно кивнул.
– Это весьма сомнительное доказательство мужской доблести, – изрёк безусый и ухмыльнулся. – Поэтому я не вижу смысла продолжать… Хотя, пожалуй… – он зевнул и потянулся, – мне всё-таки есть, что вам сообщить.
– Да-да, очень интересно! – подзадорил я оракула.
– Четыре… Я вижу цифру 4… Несмотря на ваш небогатый любовный опыт, у вас было 4 женщины с одинаковым – да-да – с одинаковым, и вместе с тем – очень редким именем!
И снова возникла Манюня. Она несла нам по бисквиту и по стакану чёрного чая с лимоном.
Алекс вытащил из портмоне червонец и протянул Манюне.
Подбитие бабок
«С одними женщинами – всё дело было в подходе. С другими – в подъезде…»
С. К.
Ранним ноябрьским утром, в день свадьбы экстрасенса, над ухом у меня застрекотал будильник.
В окно просеивался зыбучий холодный свет уличного фонаря.
Была у меня непреложная супружеская обязанность – по субботам продирать глаза ровно в пять и идти занимать очередь в молочный.
На тумбочке, у будильника, лежали три пятирублёвки и листок с Маринкиными предписаниями:
Молоко – 5 л
Масло – 1 кг
Сметана – 1 кг
Сыр (только не степной!) – 800 г
Сосиски – 1 кг
Кефир – 6 бут.
Ряженка – 4 бут.
Брынза – 400 г
Не включая свет, дабы не тревожить Марину, я оделся, взял деньги, список, захватил пару тетрадных листов – и поскакал в молочный.
Магазин ещё не открылся. У дверей стояло десятка три позёвывающих, как и я, людей с бидонами и сумками. Видимая часть айсберга. Невидимая – ещё дремала в глубинах своих квартир. На поверхность эта масса выныривала попозже – к открытию. Очередь «подводникам» занимали соседи и родственники.
До открытия оставалось полтора часа. Я занял очередь за бабусей в ватнике с погонами прапорщика ракетных войск, достал бумагу, карандаш и – из чисто спортивного интереса – начал подбивать бабки.
Вскоре на одном из листочков появился скупой хронологический перечень. В нём фигурировали женщины, которых я когда-либо возлюбил.
Затем я вытащил ещё один листок и начал, в алфавитном порядке, переносить в него позиции из первого списка.
…Итак, в отношении четырёх женщин с редким именем – начинающий Калиостро оказался, конечно же, не прав.
Мне не хотелось бы, дорогой читатель (а в особенности – дорогая моя читательница!), вдаваться в подробности, но все имена, в основном, фигурировали в одном-одинёшеньком числе.
И всё же…
Имя, наличествующее в кол-ве 3 шт. и стоящее в перечне последним, действительно, было редким в нашей стране.
В последних строках значилось:
Юдифь:
1. Юдифь (Цеплярск. племян.)
2. Юдифь (Весна, Т-се)
3. Юдифь, дочь ред-ра.
Как говорится, «уже тепло».
Окажись в моём списке четвёртая Юдифь – и сегодняшний женишок, без булды, – всамделишный оракул!.. Нужно подумать, повспоминать…
…Из-за прилавка к стеклянно-металлическим «впускным» дверям вышла продавщица Лёля в белом халате. Очередь загалдела, зашаталась, приникла к светящейся горловине и спрессовалась. Лёля отодвинула сначала один засов, потом – второй… Народ хлынул внутрь – как шквал воды в пробоину торпедированного крейсера. Через несколько минут торговый зал был заполнен шумящей публикой. В витринах прилавков просматривались сыры, масло, банки со сгущёнкой. На полках громоздились бутылки с крышечками из фольги, на поддонах стояли большие алюминиевые бидоны. На чёрной доске под портретом Ленина – розовыми мелками – был нацарапан «Ассортимент-прейскурант».
Пахло молоком и сосисками.
Я снова заглянул в список…
…Вспомнилось лето, техникумовские каникулы, дом отдыха «Занки» под Харьковом, Зоя, с которой познакомился в первый же день заезда, сосиски, манная каша и тёплый чай на завтрак, бетонный облупившийся перрон, утренняя электричка – до станции Андреевка, паутинки сквозь густой орешник, песчаный обрыв, серая река и влажный Зоин купальник, знойное полуденное солнце и умоляющее «Не надо… я так не могу… птицы смотрят… деревья смотрят…» и вдруг – повелевающее Зоино: «Отвернись», а потом – слепящая белизна на фоне чуть тронутого загаром её живота и ошарашивающее: «Только не вздумай в меня вливать»…
«Молодой человьек, ви мине случайно не подскажите, тощий кефир нам сегодня завезли? Или его сегодня не завезли? Я, как назло, забил дома очки», – пророкотал стоящий сзади старик и шумно вздохнул.
Меня мгновенно вышибло из лета, из юности. И занесло в «Ассортимент-прейскурант», где значилось: «Кеф. нежирн. – 13 коп.».
Я доложил старику, что кефир завезли, и вновь перенёсся в то лето…
…На борщи и котлеты нам было плевать. Сразу после завтрака мы садились в электричку и – подальше от любопытных глаз! – ехали в Андреевку, в лесок, на нашу полянку. Мы покупали в продмаге серый сыроватый хлеб, грушевое ситро и развесной яблочный джем…
Она рассказывала лав-стори своих подруг, и у меня не было уверенности, что это – не её истории…
Однажды в лесу нас застал ливень. Он грохотал, как рушащаяся стена, он выплеснул на наши головы не одно ведро небесной влаги, а через двадцать минут прекратился. Из мокрого валежника мы соорудили то ли шалашик, то ли чум, Зоя водрузила на него свой сарафанчик и трусики – сушиться. И мы, в чём мать родила, втиснулись в этот тесный, промозгло-колючий рай…
«Простите триста раз, а ванильные сирки по 12 копеек – так они есть?» – вновь дал знать о себе старик.
Я снова переключился на «Ассортимент».
«Внук просто обожает ихние сирки, – продолжал журчать у меня над ухом старик, – но они дерут за них так, что будь здоров, дочка пробувала брать обикновенный творог по 70 копеек и добавлять туда немножко ваниль. Получается ровно то же самое, что и сирки, но этот оболтус не даёт себя дурить. И не кушиит, пока ему не покажут бумажку, я имею в виду обёртку от…».
«Ванильных сырков нет», – сообщил я старику.
…Зоя была похожа на Тину Качинскую, мою «партайгеноссе» (с Тиной мы сидели за одной партой – в классе, кажется, шестом). Такие же светлые волосы, такие же пухлые налитые губы и лазурные глаза…
Пришла осень, мы продолжали видеться.
Зоя работала машинисткой в Госпроме. Оказалось, у неё есть муж. Жили они неподалёку от института радиоэлектроники. Муж налаживал какую-то аппаратуру для прессов и не вылезал из уральских командировок…
Мы встречались на Клочках, в квартире её подружки-невидимки, охранявшей, на наше – воровское – счастье, какую-то базу по ночам…
Ни я – подругу, ни она – меня – ни разу не видели. То ли Зое было неудобно, что я еврей, то ли – что она старше меня на 13 лет…
Когда я хватанул воспаление лёгких, Зоя, наплевав на конспирацию, примчалась ко мне на Москалёвку. Притащила кулёк яблок и бутылку виноградного сока…
О, если бы ты только слышал, читатель, что сказали мне потом папа с мамой!..
Хорошо ещё – у меня хватило ума не проболтаться, что Зоя – замужем…
Я был хорошим сыном и никудышным Ромео.
Зоя звонила, а я шелестел в телефонную трубку – сифилитическим голосом, зажав пальцами нос: «Вы ошиблись номером».
И вот однажды – я набрался нахальства, и…
– А сирковой массы с кишем-мишем у них тоже нема? – встрепенулся вдруг старик, «забивший» дома очки.
– Извините, – отшил я назойливого деда, – я вам не справочное бюро.
Старик мгновенно нашёлся.
– Что?! Ви не справочное бъюро?! Молодой человек, таки да! – огласил он на весь магазин. – Ви не справочное бъюро! Ви – г о ф н о!
Не знаю, как отреагировал бы ты, читатель, на такой событийный поворотец, но мне стало смешно до чёртиков.
Я не прекращал смеяться, – ни когда подошла моя очередь, ни когда возвращался с полными сумками домой. Встречные пугливо опускали глаза и шарахались в стороны.
…Марина ещё не проснулась. Тёща спросила, почему я такой весёлый. Я рассказал про «ви гофно». Тёща вздохнула и сочувственно улыбнулась…
Усуся
Говорят, если свадьба – в дождь, это к счастью.
Возможно, именно на дождь, на проливной ливень уповал Алекс, говоря о хорошей погоде в день предстоящего бракосочетания.
Однако к вечеру подморозило, и вместо дождя пошёл снег.
В зале было тепло, уютно. Пахло свежезаваренным кофе, колбасой и майонезом. Праздничный стол был составлен буквой «П».
Ровно в пять ансамбль уже стоял на сцене.
«Раз-раз-раз, раз-два-три-четыре-пять – вышел-зайчик-погулять», – проверял микрофоны Электрошурка.
Гости ещё не пришли, зал был пуст, Манюня дорезала на кухне сыр, поглядывая через широко распахнутую дверь, как бы лабушня не слямзила чего со стола.
«Раз… Раз… Раз… Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету… Добавь ревера, убери чуть высоких. К любым чертям с матерями катись… Убери низких, а высоких добавь… С-с… С-с… С-с матерями катись!.. Катись! Тись! Тись!.. Нет, это до хера… К чертям катись… Вот так», – продолжал выделываться в микрофон Электрошурка.
С минуты на минуту должны были приехать молодые. Я спустился вниз, в предбанник.
Вскоре в предбаннике появился Диоген.
– Видел сегодня Накипелова, тебе от него привет, – сказал он, не глядя на меня, и закурил.
– Спасибо, Олег, я тронут, – был мой ответ.
– Он тоже сваливает…
– Куда?
– В Израиль…
Я промолчал.
Диоген, усмехаясь, тихонько пропел – на мотив пугачихиного «До свиданья, лето»:
- Вновь евреи в группы собираются,
- Ждёт их в Израиль дорога дальняя.
- Очередь в ОВИР’е – офигенная!
- До свиданья, Харьков, до свидания.
- За окном Иван
- Тормозит отправку…
На улице загудели клаксоны. Я выскочил в своём велюровом пиджачке на мороз – встречать молодожёнов.
Автомобильный кортеж возглавляла чёрная «Чайка» с обручальными кольцами на крыше и куклой на капоте. Нацепив взволнованную улыбку, я распахнул дверцу «Чайки». Рядом с шофером сидела расфуфыренная мужиковатая баба с лакированной сумочкой через плечо. На заднем сидении поёживалась прилизанная орлица в подвенечном платье, с тяжёлым, свинцовой спелости, кадыком.
Жениха в брачной карете не было.
– Здравствуйте, я Сева, ваш тамада, – обратился я к невесте.
– Усуся, – представилась та.
– Извините, но сегодня у нас Ингрид, – заметил я на всякий случай.
– Усуся, – нетерпеливо повторила невеста.
– Вы уверены, что попали куда надо? Сегодняшнюю невесту зовут Ингрид, – продолжал я гнуть свою линию.
– Я тобі людською мовою кажу: усуся! Терпіти більше не можу. Де тут у вас сральня? – с этими словами ясновидящая сунула мне свой букетик и начала выбираться из машины.
Я проводил её до туалета. По дороге поинтересовался, где Алекс.
– A бiс його маму знае, – ответила прорицательница. – Зараз, мабуть, приїде…
Здравствуй и прощай
Вскоре появился Алекс. Он приехал на украшенном лентами автобусе, со своими гостями.
Мы возлабали, как положено, Мендельсона.
Гости расселись.
Одной паре не хватило места.
Воистину, кто успел – тот и съел.
«У, говноеды! – шепнула мне Манюня на ходу, ковыляя за ещё одной вазой для цветов. – Заказали ровно на 102 человека. Нет, чтоб заказать на 110 – вдруг припрётся ещё кто-нибудь».
…Что сделал бы ты, дорогой читатель, на месте хозяев?
Придвинул к столу ещё пару стульев? Или тряхнул мошной и велел накрыть дополнительную поляну – на случай, если подтянется сверхплановая родня?
…Пока неустроенная супружеская пара – Галина Семёновна и Артемий Петрович – ждала положительного решения вопроса, между сватами вспыхнула дискуссия.
«Було ж домовлено – по п’ятдесят одній людині з кожного боку! У нас усі – ті, шо треба. Нікого лишнього. Це ви позвали біс зна скільки. Так шо з охвіциантками домовлюйтеся самі!» – выговаривал свахе папа жениха.
К сверкающей его кожаной куртке была пришпилена медаль «За трудовые заслуги». Ходил папа, опираясь на массивную резную палку, какие делают на Гуцульщине.
«Ми теж нікого лішнього не звали», – не сдавалась мама невесты.
«Ой, так вже й не звали!» – съехидничал отец Алекса.
«Перевірте своїх», – продолжала стоять на своём сваха.
«Може, хтось чужий прийшов – поїсти-випити на шермака?!» – высказал предположение папа. Затем откашлялся и объявил: «Так, шановні товариші! У залі можуть бути сторонні! А ну, мої гості, встаньте! А свахини – залишайтеся сидіти! А ми зі свахою зараз подивимося».
Жениховы гости поднялась с мест.
…Есть такой способ – погулять на халяву. Человек приходит на свадьбу, садится за стол. Невеста думает, он – со стороны жениха, жених думает – со стороны невесты. Как только затевается одаривание молодых, неоднократно остограммившийся и нахававшийся деликатесов шаровик отлучается, с понтом, в туалет. И, как разбухший, отяжелевший бумеранг, не возвращается уже никогда…
Папа со свахой медленно пошли вдоль стола, высматривая чужих среди своих. Отец – среди стояльцев, сваха – среди сидельцев.
«Ці, – взвизгнула мама невесты, указывая на одетого в шерстяной пуловер мужика с пожухлой рожей и сидящую рядом, виновато улыбающуюся томноглазую кралю в мини-юбке. – Ці обидва – не мої!».
«Не твої, кажеш? Та й не мої теж…» – вздохнул папа.
И, отоварив мужика, что есть силы, по хребту своей гуцульской палицей, гаркнул: «Геть звідсіля, сучьї діти!».
Мужик втянул голову в плечи.
Краля заголосила.
Папа отоварил прихлебателя ещё разок.
«Мамо, мамо, що ж він робить?! – всполошилась Усуся. – Це ж мій вчитель! Ясновідящий Полікарп!».
Ясновидящий схватил рыдающую спутницу за руку и, беспрестанно оглядываясь, потащил на выход.
Участливо вздохнув, Галина Семёновна и Артемий Петрович проскользнули на освободившиеся места. Предшественники позаботились, чтобы тарелки Галины Семёновны и Артемия Петровича были затарены маринованными лисичками, оливье и дефицитной атлантической селёдочкой. Кроме того, в тарелке Галины Семёновны оказалась пара бутербродиков с икрой, которые успела ухватить себе краля ясновидящего.
Усуся бросилась вслед за учителем. За ней – сорвался с места свидетель.
Жених остался сидеть, тщательно рассматривая свою вилку, нож и намалёванную на тарелке красную розу – эмблему любви. Что-то явно не ладилось в только что народившейся на свет семье…
Вскоре свидетель привёл зарёванную Усусю.
Отец жениха со свахой двинулись дальше.
Из-за стола поднялись двое молодых людей в синих лавсановых костюмах и без лишних слов сквозанули на улицу.
Так или иначе, дополнительные стулья не понадобились. И даже наоборот – два места за праздничным столом оказались свободными.
Свадебное действо началось.
Я, как обычно, подошёл к столу – с саксофоном наперевес, постучал вилкой о бутылку шампусика, призывая народ к тишине (так председательствующие стучат на собраниях по графину с водой) и звонким пионерским голосом объявил: «Дорогие товарищи! Разрешите. Торжественное застолье. Посвящённое. Дню бракосочетания. Алекса и Ингрид. Считать. Открытым!».
Мы врезали первый аккорд торжественного марша.
Послышался грохот отодвигаемых стульев, все встали.
Сразу за первым аккордом последовала модуляция, и мы перешли на «Обручальное кольцо».
Я дул без микрофона, прямо в лица счастливым почитателям живой музыки (уже тогда, в конце восьмидесятых, на сценах некоторых харьковских кабаков появились фанерщики).
Пока я дул, мамаша невесты засвиристела мне прямо в ухо: «Товаришу, я вас прохаю, не треба сьогодні ніяких Алексів, ніяких Інгрід. Мою доньку звати Ларою, а молодого – не Алексом, а Володькою. Це вони собі такі собачі прізвиська для роботи узяли!».
Сыграв в темпе марша припев, мы снова сделали модуляцию и закончили тем же мажорным аккордом.
Я продолжил: «Шампанское тоже – разрешите считать открытым. Прошу наполнить бокалы».
После чего выдал очередную ветхозаветную остроту, или – как говорят особо тупые свадебные шпрехмейстерши – репризу: «Мужчины, ухаживайте за дамами. Не забывайте, что сегодня может наступить такой момент, когда дамам придётся ухаживать за вами».
Пока гости открывали шампанское, я подбежал к молодожёнам – на предмет выяснения, как их теперь называть.
Получив добро на «Ларису и Владимира», я громко провозгласил: «Уважаемые гости! А сейчас давайте пожелаем долгих лет супружеского счастья нашей очаровательной паре – Ларисе и… Олегу!».
Клянусь, я и поныне не знаю, откуда вспрыгнул мне на язык этот злополучный Олег.
Ну, оговорился. С кем не бывает? Но почему вместо Володьки – именно Олег?! Тот самый Олег, с которым бедная Усуся встречалась до своего нынешнего жениха?!
Возможно – совпадение. Точно такое же, как недавняя заморочка безусого экстрасенса о спасении моего деда и реальная история с еврейским погромом в пригороде Вильно…
«Так, значит, вы уже в курсе насчёт Олега?!» – пробормотал Алекс-Володька. И вдруг заорал, указывая пальцем на тёщу: «Это она, она! Его подговорила эта старая сука! Я видел, как она с ним шепталась!».
«Ах, це моя мати стара сука?!» – воскликнула Усуся и залепила жениху пощёчину.
Алекс-Володька в долгу не остался и заехал невесте по печени.
К новобрачному подскочил родной брат Усуси. Через мгновение новобрачный утирал рукавом окровавленный нос. Первым, кто запустил в него тарелку, была тётя невесты Елизавета Васильевна Мыскина, старший продавец магазина готового платья, приехавшая на свадьбу аж из Конотопа…
Гости пошли врукопашную – стенка на стенку.
Это был день летающих тарелок, подбитых глаз и размётанного по стенам холодца.
Мы похватали микрофоны, инструменты и попытались было покинуть поле брани. И тут раздалась пронзительная трель милицейского свистка – это выскочила из кухни бесстрашная Манюня. Драка прекратилась. Манюня продолжала свистеть. Щёки её раздувались, как у легендарного джазового трубача Дизи Гиллеспи.
«Немедленно прекратите безобразие, иначе через минуту здесь будет милиция!» – объявила гостям Манюня.
Издалека долго
Дело приобретало привычный для крестьянской свадьбы оборот. Бойцы, только что бившиеся насмерть, пустили по кругу бутылку. Мероприятие продолжалось, – предстояли жареные куры, одаривание, шашлыки и сладкий стол. Я объявил проветривание. Жених умывался в туалете. Публика вывалила на улицу – покурить.
– Что случилось, чувак? Ты что-то не то ляпнул?! – поинтересовался Бонифаций.
– Всё бывает. И на «А» бывает, и на «О» бывает, и на «Ё» бывает, – ответил вместо меня Диоген.
Мы тоже пошли курить. Но не на улицу, а в предбанник.
– Надо бы с этого мудачья снять бабки. А то кто его знает, – что у них на уме, – сказал Электрошурка.
– Да мне сегодня как-то не в жилу, – ответил я. – Пусть пойдёт Андрюха. Или Боня.
– Нет, чувак. Ты командир, ты и пекись о башлесостоянии коллектива, – возразил Бонифаций.
Пришлось объяснять, что именно мне – сегодня могут не дать ни копья, да ещё и накостылять по рылу – за этого мифического «Олега», неизвестно откуда спрыгнувшего мне на язык. За бабками было решено командировать Андрея.
Мы поднялись в зал. Обе мамы собирали с пола осколки посуды и ошмётки паштето-винегрето-холодца. Манюня с папой жениха переносили уцелевшую закуску со стола на подоконники. Надлежало сменить скатерти. Ко мне подошёл мужичонка в белоснежной вязаной кофте и попросил спуститься в предбанник, к жениху. Мы вышли в предбанник, но там было пусто. Мужичонка выглянул на улицу.
– Вон он здесь, курит, – сказал мне мужик.
Я вышел. Перед входом стояла гомонящая мужская компания.
– Видишь ли, тут такое дело, – начал было мужик.
– Погодь, Петро, я зроблю це краще – перебил его здоровенный жлобяра и врезал мне вдруг коленом – промеж ног…
Дичайшая боль. Ни вздохнуть, ни охнуть. Я согнулся пополам и повалился на снежок.
…У этого амбала меня отбили трое.
Благодаря этим троим – уже через мгновение – я оказался в салоне старенькой «Победы», стоящей у обочины.
Град кулаков застучал по стёклам и крыше автомобиля.
Водила включил газ и тронул машину с места.
«Спасён…» – подумал я.
…Мы выехали на Красношкольную Набережную и остановились недалеко от кафе «Факел». Шоферюга заглушил мотор и сходу отоварил меня кулачищем в подбородок. В глазах взметнулся и сразу погас синий фейерверк искр.
Я почувствовал, что из меня выходит жизнь (оказалось, жизнь может заканчиваться фейерверком…).
Ещё фейерверк… И ещё…
…Когда я был маленьким, бабушка читала мне сказку: «…И почувствовал царь, что пришла к нему смерть, и велел он позвать царевича…».
Тогда я никак не мог понять, – как человек может ощутить приближение конца.
…Река ещё не успела покрыться коркой льда.
…Обволакивающий, впивающийся в тело холод сковал руки, ноги, шею, ударил в виски. Ощущение умирания мгновенно отлетело. Почувствовав вдруг необычайную, воловью силу, я легко оттолкнулся от липкого речного дна и попытался выплыть, выскочить, выкарабкаться на гранитный берег…
«Это есть, и это надо любить»
История с дедушкой, которую преподнёс мне экстрасенс, температура воды в реке…
Это уже чересчур.
Но где же та, четвёртая?
Всё отдам!
Жизнь соткана из совпадений.
Из случайных совпадений.
Редко – из счастливых.
Говорят же: «браки заключаются на небесах», «миром правит любовь»…
Бывают, правда, исключения.
Братья-близнецы Проушанские работали со мной в одном отделе. А отец их – заведовал складом готовой продукции на заводе шампанских вин. И было бы всё у него хорошо, если б не две новенькие кладовщицы – Светка и Олька.
Начали вынюхивать, как старые бабки, – что, куда и зачем.
А на складе, известно, – левый товар, пересортица…
Много чего нарыли подсиживательницы. Пакет нестандартных этикеток, подчистки-подправки в реестре учёта, поддельную печать. И – самое главное! – что двоюродная его сестрица имела тесный контакт с очернителем советской действительности Юлием Даниэлем – когда означенный очернитель учился в Харьковском универе…
Намекнули. И на очернителя, и на недостачу вино-коньячных изделий в общем размере 3952 единиц. Уйди, мол, сам. Не то – под монастырь подведём.
И когда зав. складом узнал, что Светка и Олька взяли путёвки на море в пансионат «Шепси», он, не раздумывая, приобрёл в профкоме две такие же путёвки – для своих красавцев Марика и Гарика.
А поскольку проезд до места назначения винзавод обеспечивал в централизованном порядке, то и билеты у его сынков и обеих кладовщиц оказались – в одно купе.
Сели-поехали. Перекусили совместно, шампанского жахнули, анекдоты потравили. А когда из поезда выгружались, Марик взял Светкин чемодан, а Гарик – Олькин. Как говорил Лёха Каратеев из доменного отдела: «Это есть, и это надо любить!» (чувак потом в первые секретари выбился).
В такой незамысловатой комбинации они и отпуск провели, и заявления в ЗАГС подали. И свадьба у них была общая (двойная экономия) в ресторане «Турист» на 150 человек. И подарил папа каждой паре – по квартире, по «жигулю» и по хорошей сберегательной книжке, а невесткам своим – ещё и по колечку с брюликом. И угомонились кладовщицы, и перестали под папеньку копать. Им даже лучше – свёкор во имя их же блага горбатится, свободой личной рискует.
Настало время безалкогольных свадеб. Лигачёв виноградники вырубать начал. Закрыли винный завод, Проушанского-старшего на пенсию спровадили. Да что там – на пенсию! Советская власть рухнула, Союз распался, Путин от третьего срока отрёкся, – а две эти парочки живут себе душа в душу – вот уже 35 лет, и дети у них чудные, и внучата уже есть.
Да, так о чём это я?
Ах, да! О любви!
Был со мной случай.
Познакомился я с девушкой по имени Женя.
Хотя – нет.
Сначала – историйка, которую рассказал мне Диоген.
Он когда-то по набору ездил.
Остановился, как обычно, в одной сельской хате. Набрал фоток у всей деревни, – чтоб увеличить, раскрасить и сделать из них портреты, лохам на загляденье.
Вечер наступил. Попил Диоген с хозяевами чайку липового и пошёл было спать.
А над его койкой висел портрет, нарисованный углем. Девица какая-то.
В окошко светила луна, и был портрет такой устрашающий, что Диоген всю ночь не сомкнул глаз.
А утром начал допытываться у хозяйки – бабы Дуси, что за девица изображена на портрете.
И хозяйка рассказала. Оказалось, это её дочь. Умерла, бедняжка, восемнадцать лет назад – неизвестно от чего. А у Дуси – ни одной дочериной фотографии.
Пригласила Дуся художника из города и попросила, чтоб дочку нарисовал. Чтоб была как живая. И художник, сидя у гроба, изобразил дочурку точь-в-точь, только «открыл» ей на портрете глаза.
…Той Жени, которая когда-то заполонила мою душу, проникла в сны, жизнь без которой теряла всякий смысл – давным-давно нет в моём сердце…
И глупо, безнадёжно глупо – идти по стопам того скорбного живописца. Рисовать то, что умерло.
Боюсь, картина получится не из самых приятных, но…
Ведь я обещал рассказать о любви и невероятных совпадениях!
Женя
Это случилось летом 1969 – под Туапсе, где я столовался и загорал на правах домоотдыховского лабуха…
Море в тот день было неспокойно. Я накупался до солёных глаз и уже намеревался вылезать. Подплыл к металлической, сваренной из водопроводных труб, лестнице, ведущей на пирс. И увидел: сверху мне машет рукой кареглазая очаровашка в чёрном бикини.
Она стояла на заиленной лестнице, держась за ржавый поручень и сжимая меж бёдер надувную подушку.
Амазонка, оседлавшая красного коня!
Я не был уверен, что очаровашка машет именно мне.
Но в ответ всё же помахал.
И сходу (точней – с лёту!) получил той самой подушкой по башке.
Я ухватил запущенное в меня плавсредство, а амазонка рассмеялась, снизошла в пучину волн и, оттолкнувшись от ржавой лестницы, начала подгребать мне навстречу.
…Далее – последовала передача «красного коня» хозяйке. Её воркующее «благодарю». И я – поплыл…
Мы сплавали – вдоль берега – к соседнему пирсу, потом обратно.
Оказалось, – зовут её Женя. Приехала из Ташкента. Учится на ин/язе универа. Собирается стать переводчиком. И отец у неё – генерал авиации. А мать домохозяйка. И в Ташкенте – круглое лето страшная жара, и всем нормальным людям приходится разбивать свои маршруты на участки – от одной бочки с квасом до другой.
Мы вышли из воды, я забрал свою подстилку из-под тента и разложил её у самых волн – рядом с Жениным одеяльцем…
Я развлекал свою новую знакомую, как мог, и без умолку травил анекдоты.
Она сначала смеялась, а потом сказала:
– Ну, ладно. Хватит. А то ты начинаешь напоминать мне Игоря Журбина. Кстати, он тоже из Харькова.
– Что ещё за Игорь?! – озадачился я (с одним Журбиным, тоже Игорем – мы сидели когда-то за одной партой).
– В Паланге познакомилась, – пожала чуть обгоревшими плечами Женя. – И он тоже был начинен анекдотами. Как ты.
– Интересно… А его адреса ты случайно не знаешь? – спросил я, огорошенный ещё одной подробностью.
– Сейчас посмотрю, – Женя потянулась к пляжной сумке, достала записную книжку и прочитала: «Журбину Игорю Анатольевичу, Харьков 4, ул. Октябрьской Революции, № 44, кв. 12».
Журбин
На излёте моей преддипломной техникумовской практики – за три года до встречи с Женей – я получил извещение о посылке.
Чтобы дипломный проект далёкого харьковского племянника произвёл ошеломляющее впечатление на его техникумовских преподавателей, папин ужгородский родственник, работавший на книжной фабрике им. Чапаева, выслал мне 200 листов остродефицитной мелованной бумаги. По дороге в родное отделение связи № 4 я заскочил к Журбину. К тому самому «партайгеноссе» Игорю, – проживавшему в 12-й квартире дома № 44 по улице Октябрьской Революции.
Журбин только что вернулся из Паланги.
Открыла мне мать. Воздух в доме был плотен и сиз.
Игорь окопался на кухне. На столе перед ним стояла бутылка вермута и полная миска окурков.
Журбин затушил бычок, вытащил из пачки очередную «примину» и засмолил по новой.
Kettenraucher (цепной курильщик) – говорят в таких случаях немцы.
…Итак, они познакомились в Паланге.
Она читала книгу, закутавшись в махровое полотенце.
Маленький, но удаленький транзистор, висящий на её шезлонге, вещал об успехах молдавских виноделов.
На обложке значилось: «Arthur Haileu. AIRPORT. Roman. Deutsche Buch-Gemeinschaft. Berlin».
Перекрикивая приёмник – дабы привлечь внимание молодой читательницы, – Игорь стал рассказывать загорающей рядом паре анекдот.
Это был тест.
Анекдот – об узбеке и немцах. Довольно смешной.
Если девушка не рассмеётся, значит – немка, и по-русски не понимает.
А рассмеётся – значит, русская. Или немка, понимающая по-русски (кстати, ничего обидного для немцев в этом анекдоте нет).
А анекдот – такой: «Война, немцы окружают русский танк. “Рус, здавайс! Рус, здавайс!”. В танке молчат. “Рус, здавайс!”. Снова молчание. “Рус, здавайс!”. Открывается крышка люка: “Русскых – нэт. Узбэк надо?”».
Она улыбнулась уголками рта.
Игорь повернулся к ней и на чистом, как ему казалось, немецком изрёк:
– Wie so? Warum lesen Sie eigentlich ein deutsches Buch? Vielleicht ist die russische Übersetzung dieses Werks Ihnen nicht genug?[2]
И незамедлительно получил ответ:
– Ausgezeichnet, sehr geehrter Genosse! Sie sprechen mit einem starken Sumischen Dialekt, aber Wortordnung ist bei Ihnen ganz korrekt[3].
– Ich bin sehr froh[4].
– Lernen Sie Deutsch bei Uni?[5]
– Ich habe Deutsch in der Mittelschule gelernt, und jetzt studiere ich bei der Charkover Radiotechnische Fachschule. Und Sie sprechen auch mit einem guten Urüpinischen Dialekt. Es ist mir sehr interessant, wo lernen Sie eigentlich?[6]
– Ich lerne in elfter Klasse einer Mittelschule in Wladiwostok[7].
– Ich heiße Igor?[8].
– Und ich heiße Shenja[9].
Да-да! Её звали Женя, она перешла в одиннадцатый класс. В Палангу приехала отдыхать из Владивостока, остановилась у маминой сестры.
Они часами сидели у моря, покупали картофельные чипсы в «Кулинарии» на Набережной, ходили на «Полосатый рейс» и ещё на целую кучу фильмов.
Вечерами они целовались на пляже и под козырьками подъездов, но дальше поцелуев дело не шло.
…Потом, уже из Харькова – он писал ей по два-три письма в день.
Ответы получал изредка. Это были сообщения о культурной жизни Владивостока и краткие сводки с личного фронта.
То в неё влюбился молодой кавторанг на вечере поэзии, то довелось ей побывать с папиными знакомыми на охоте, и какая это мужественная профессия – егерь…
Потом она сообщила, что начала встречаться с курсантом артиллерийского училища, и какой он крепкий, смелый и остроумный. И что курсант этот пишет стихи…
С детства я грешил стишками. И мой друг попросил меня сочинить что-нибудь «для неё». Через четверть часа рифмованное признание было готово.
Игорь тут же переписал текст на открытку и запечатал конверт – с моим первым объяснением в любви Женьке, ещё не встреченной, жившей в ту пору во Владивостоке.
- …Ты читаешь, – на листик дышишь,
- Равен стих для тебя нулю.
- Я люблю тебя, Женя, слышишь?!
- Я люблю тебя, я люблю!..
А поскольку путь мой всё равно лежал на почту, я сказал, что могу отправить «Слово Игорево» сам.
Инициативу мою Игорёк отверг.
Пятая точка
Беру географический атлас СССР и намечаю пять точек…
Это точки пересечения линий жизни.
Хотя, конечно, налицо упрощение. Поскольку карта плоская, Земля круглая, а контекст пересечений – многомерен. В пространстве, во времени, в снах, в вымыслах, в интернете…
Точки пересечения соединены железнодорожными рельсами, авиационными рейсами, трамвайными билетиками, датами…
Итак, на карте – пять крохотных точек:
1. Паланга (1967) – где встретились Женя и Игорь;
2. Владивосток (1967) – откуда приехала тогда Женя (во Владивостоке жила её семья);
3. Туапсе (1969) – где встретил Женю я;
4. Ташкент (1969) – откуда приехала Женя в Туапсе (генерал Поплавко к тому времени был переведен в Ташкент);
5. Харьков (1954–1960), – где я и Игорь сидели за одной партой.
Через эту, пятую, точку (школа № 59, третий этаж, классная комната напротив бюста Павлика Морозова, четвёртая парта в среднем ряду) – пролегли нити, приведшие нас с Игорем к этой кареглазой амазонке с дикими нравами – нежно целующейся, обнимающей, жарко шепчущей: «Не надо!» и без промедления пускающую в ход наманикюренные коготки, – как только рука твоя скользнёт по её платью «ниже ватерлинии».
Моя беда в точности повторяла беду Игоря.
Мы с Женей тоже – целовались!
Она рассказывала, как на зимних каникулах отдыхала в Домбае и влюбилась там в инструктора по горным лыжам. И фамилия его была Мендели, и он – грузин. А инструктор не обращал на неё внимания, потому что его охмуряли доступные курортницы. И вьющиеся волосы ей достались от матери, и фамилия мамы – Гительман, и мама еврейка, и папино подразделение получило недавно вертолёты «МИ» авиаконструктора Миля, а Миль по национальности еврей. И шутники-лётчики называют этот вертолёт – «МИ констгуигуем, ВИ летаете». И она специально накручивает бигуди, – чтобы распрямить волос и убрать эту «еврейскую волну».
И есть у неё парень, которому она «разрешает всё», и зовут этого парня Никита, и он из Киева, но папа ничего не должен знать, потому что, если он узнает, у Никиты будут страшные неприятности, так как Никита – солдат срочной службы, папин шофёр. И осенью Никиту должны демобилизовать, и ей будет очень его не хватать.
И что в немецком языке, в котором она специализируется, много составных слов, например, «Halbpreisstudentenregionalzugabendsfahrkarteerlaubnisempfangsbestätigung» (подтверждение разрешения приобретения студенческого проездного документа на региональный вечерний поезд с 50-процентой скидкой). И что недавно на факультетском КВН в конкурсе «Самая дешёвая телеграмма» они соревновались, кто, с помощью такой лексики, использует меньше слов для составления немецкого подстрочника светловской «Гренады», и победителем этого конкурса стала она, Евгения Михайловна Поплавко, и её телеграмма состояла всего лишь из 22 слов.
Я не мог по достоинству оценить Женино остроумие. Хотя, как и Игорь, проходил Deutsch в школе.
Увы! Кроме «нахер»[10] и «Виальт пизду?»[11] (а педантичная наша «немка», блюдя все оттенки немецкой фонетики, отчётливо произносила: «Виальт пизду?!») – я мало что запомнил.
Что же касается самой идеи, то читателю рачительному она несомненно понравится. В ту пору одно телеграммное слово обходилось отправителю в 3 копейки, за эти деньги на 7-м трамвае можно было вояжировать целый час – от «Жовтня» и аж до лесопарка.
Возможно, и мне имело прямой смысл – сочинять экономичные компактные поэмы на злобу дня – для рассылки редакторам центральных СМИ по телеграфу. К примеру:
= УДАРИМ ЧУТКОМ СЕРДЦЕ ДРОЖЬЮ =
= АВТОПРОБЕГОМ БЕЗДОРОЖЬЮ =
Или:
= ГРАФИНЯ ИЗМЕНИВШИМСЯ ЛИЦОМ =
= ПРУДУ БЕЖАЛА БОЧКОЙ АПЕЛЬСИНОВ =
= НЕЙ МЧАЛСЯ ГРАФ БУТЫЛКОЙ КЕРОСИНА =
= ЗУБАХ ЗАЖАВ ГРАНАТНОЕ КОЛЬЦО =
= КРУЖИЛСЯ ВРАН ОСЕННЕЙ ТЕМНОТЕ =
= БРЕГУ ПРУДА ЗЛАТОЙ КАЧАЛСЯ ТОПОЛЬ =
= ТО БЫЛО СЛАВНОМ ГРАДЕ СЕВАСТОПОЛЬ =
= ГОДУ РЕВОЛЮЦЬОННОМ ЗПТ =
= КОСТРЫ ПАЛИЛ ПРОСПЕКТАХ ПЕТРОГРАД =
= НЕ ВЕРЯ БОЛЕ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДРЯНИ =
= МЯТЕЖНЫЙ ПУЛЕМЁТОМ ШЁЛ СОЛДАТ =
= ПОДТЯГИВАЛИСЬ ЗИМНЕМУ КРЕСТЬЯНЕ =
= БЫЛ ЛЕНИН СМОЛЬНОМ ГЛАВНЫМ ТЧК =
= НЕВЫ АВРОРА УДАРЯЛА БУБЕН =
= КОМАНДОВАЛ ОТРЯДОМ ГРИША РУБИН =
= ПОСКОЛЬКУ ЗАПИСАЛСЯ ВЧК =
= ТО БЫЛО ЛЕГЕНДАРНОМ ОКТЯБРЕ =
= ЗАЛИВОМ БУРЕВЕСТНИК НЁССЯ НИЗКО =
= ПОЧТАМТЕ НЕ СПАЛА ТЕЛЕГРАФИСТКА =
= ЛЮДСКОГО РАВНОПРАВИЯ ЗАРЕ =
…На танцульках, пока я саксофонил, Женя сидела в боковой комнатке, рядом со сценой – вместе с женой Юлика Винарского, нашего аккордеониста. Больше всего ей нравилась песня «Пропажа», которую пел Юлик.
- «Нашей верной любви наступает конец.
- Бесконечной тоски навивается пряжа.
- Что мне делать с тобою и с собой, наконец?
- Где тебя отыскать, дорогая Пропажа?»
Она даже переписала у Юлика слова (до отъезда Жене оставалось три дня).
Скорее всего, это было предчувствие расставания. И, конечно же, не со мной…
…После танцев мы торопились занять скамеечку на пустующем теннисном корте – под чёрным звёздным небом. Мы целовались до боли в паху (читатель поймёт меня, да и ты, юная моя читательница, тоже должна знать, на какие муки обрекаешь милого читателя своими долгими поцелуями – без дальнейшего развития темы)…
Потом я провожал её в кирпичный спальный корпус, до комнаты № 27, где жила она в соседстве с двумя свердловчанками.
Однажды, когда я возвращался в клуб (музыкантов пансионатская дирекция приютила в зимнем клубе), дверь мне перегородила официантка Светка.
– Ну что, голубок, нацеловался?! – насмешливо спросила она.
Я сделал вид, будто не понял, что слова её обращены ко мне, и сделал попытку протиснуться.
– Я спрашиваю, нацеловался или нет?! – и Светка, с медицинской бесцеремонностью, перегородила ногой дверной проём.
Женская нижняя конечность, как и надлежит женской нижней конечности, была совершенно голой, тёплой и вдохновляющей, рука моя соскользнула вниз – туда, куда и должна была соскользнуть, пальцы приникли, прилипли, прикипели к тому, о чём у Жени я не смел и мечтать…
– Вот ключ от гладильни. Закроешься, и чтоб ни одна душа… А я приду. Вопросы будут? – обжёг мне губы шёпот синеглазой.
Божий дар и еврейская яичница
В верхнем этаже Харьковского института коммунального строительства помещалась сводная аудитория, представляющая собой амфитеатр. Лекции по научному коммунизму превращали её в театр военных действий.
Наступление на антикоммунизм велось силами одного отставного майора (в прошлом – политрука, а ныне профессора, заведующего кафедрой общественных наук ХИИКС’а) Ивана Андриановича Антюкова.
Профессор был кряжистым мужичком с короткой стрижкой и военной выправкой.
В аудиторию набивалось шесть групп вечерников.
Лекции по научному коммунизму начинались с переклички. Услышав свою фамилию, студент обязан был встать и доложить: «Я».
Не «есть». Не «здесь». А именно – «я».
В случае отсутствия вызываемого – профессор залеплял ему «Н» в журнал посещаемости.
По каждому факту своего «небытия» вечерник обязан был представить справку от врача или командировочное удостоверение.
Студент-производственник, превысивший «квоту прогулов», лишался оплачиваемого отпуска на сессию.
Тут надо сказать, что никто из преподавателей, кроме Антюкова, унизительной этой процедурой не занимался. Следить за посещаемостью доверялось старостам групп.
Да и сам Антюков, в общем-то, не хотел тратить драгоценное время на подобную ерунду.
Проверка списочного состава (в армии это называется «расход людей») занимала у профессора считанные секунды.
Иван Андрианович выкликал ровно семь фамилий. Каждый раз это были:
1. Зильберштейн
2. Фельдман
3. Вайнблат
4. Иоффе
5. Блинкина
6. Капелюшник
7. Казачинер
Убедившись в том, что вышеперечисленные персонажи присутствуют (или зарегистрировав их отсутствие), профессор приступал к изложению материала.
«Тема сегодняшней лекции, – говорил он, не торопясь и давая возможность записывать, – это создание материально-технической базы коммунизьма (“коммунизм” и прочие “измы” Антюков произносил с застарелым хрущёвским “изьканьем”).
Материально-техническая база коммунизьма, товарищи, ведущая нас к изобилию, уже создаётся советским народом – наперекор сотням вражеских “голосов”, вещающих на СССР. На строительство и содержание этих радиостанций, товарищи, американский империализьм и израильский сионизьм тратят миллиарды долларов.
Волюнтарист Хрущёв, товарищи, не проявил должного научного подхода. Вместо научного подхода, товарищи, Хрущёв проявил волюнтаризьм. Хрущёв пообещал нам коммунизьм к 1980 году. Это была ошибка, товарищи. Верней, не совсем ошибка, потому что помешала война. Одурманенные геббельсовской пропагандой немецко-фашистские полчища, товарищи, разрушили наши города и сёла, заводы и фабрики, нанесли невосполнимый ущерб советской экономике.
Материально-техническая база коммунизьма, товарищи, предполагает расширенное воспроизводство продуктов питания и товаров первой необходимости, она предполагает исчезновение понятия “дефицит”.
Приведу простой пример. Сразу после войны хлеб, масло и мыло выдавали, товарищи, по карточкам. Сейчас о карточной системе уже забыли. Я хочу хлеба, – я иду в магазин и покупаю себе булку хлеба. Хочу масла, – покупаю себе пачку масла. А если я захочу приобрести мыло, товарищи, то я пойду в хозмаг и куплю себе кусок мыла. Без очередей и без переплаты всяческим Израилям Рафаиловичам, Абрамам Залмановичам и Рахилям Соломоновнам. Но у нас пока – дефицит шерстяных кофточек. И если моей жене, товарищи, нужна кофточка, то я иду не в магазин, а иду на базу – через чёрный ход, даю Ицику Менделевичу десять рублей сверху, и он за это выделяет мне кофточку. Пока мы не добьёмся существенного роста производительности труда, не овладеем новейшими технологиями, пока у нас в дефиците кофточки, и пока среди нас крутятся все эти Янкели Лазаревичи и Цили Соломоновны, мы не построим материально-технической базы, и не видать нам коммунизьма, как сами понимаете чего. Скажу, товарищи, больше. Залманы Менделевичи прочно обосновались на всех уровнях управления страной и народным хозяйством. Особенно много их в науке и технике, литературе и искусстве, медицине и народном образовании. Мы не увидим ни одного из них у станка, за штурвалом комбайна или в забое. Они устраиваются так, что всю тяжёлую работу за них делает русский Иван, товарищи. Они кичатся званиями, постами. Но кто, – скажите, – из великих учёных был еврей? Ломоносов? Менделеев? Лобачевский? Бехтерев? Нет, товарищи. Евреями они не были. Ах, они – изобретатели?! Рационализаторы?! Тогда ответьте: Туполев – еврей? Антонов – еврей? Опять-таки – нет. Мне могут сказать, что в авиастроение их не пускают. Придерживают, так сказать, за их обрезанные штаны. Зато в школе они, мол, учатся лучше других.
Товарищи! Не нужно путать божий дар с яичницей. Что такое божий дар, товарищи? Божий дар, товарищи, это божий дар. А яичница, товарищи, это яичница. Что мы имеем в сионистской семье, товарищи? В сионистской семье мы имеем папу – завмага. Или папу-зубника, который рвёт нам зубы за наши же взятки. Или адвоката, который на суде будет защищать того же завмага и того же зубника. И неработающую фифочку-маму, которая сидит дома и занимается только ребёнком. Хочешь, Абрамчик, курочку, – пожалуйста, тебе курочка! Хочешь яички, – пожалуйста, яички! Хочешь икру красную – пожалуйста! Чёрную – пожалуйста! Мамаша бегает за сыночком, за мамашей бегает молодой Хаймович с мясокомбината, приносит ворованную вырезку, балыки… На таком питании, товарищи, у любого недоумка заработают мозги.
А что мы имеем в семье титульной нации, товарищи? В семье титульной нации мы имеем работягу-отца и выработанную маму, питающихся прошлогодней картошкой и гнилой капустой. И когда у матери рождается младенец, она кормит его молоком, нагулянном на гнилой капусте и прошлогодней картошке. Младенец подрастает, и сам начинает питаться прошлогодней картошкой и гнилой капустой. А потом рождает своего ребёночка, и этот ребёночек… Так что ещё раз. Не нужно путать божий дар – с яичницей. В шахматы они хорошо играют? Так недавно его армянин обыграл (очевидно, имелся в виду матч между Ботвинником и Петросяном)!
В Брюсселе сейчас проходит сионистский шабаш. Вражеские голоса твердят, будто советское государство притесняет евреев, и даже ввело запреты на профессии для ихней нации. Будто бы имеются ограничения на поступление в вузы. Что можно на это сказать, товарищи? Численность лиц еврейской национальности, проживающих на территории СССР, составляет 0,25 % от всего населения страны. То есть, на одного еврея приходится 400 неевреев. А ну, Казачинер, возьмите 0,25 процента от числа 137!».
И наш Изя Казачинер, не задумываясь, выдаёт: «Получается ноль целых три тысячи четыреста двадцать пять десятитысячных».
«Правильно, Казачинер. Три тысячи четыреста двадцать пять десятитысячных чего?».
«Ноль целых три тысячи четыреста двадцать пять десятитысячных еврея, Иван Андрианович!».
«Умница, Казачинер. Мы видим, яичница пошла вам на пользу. Итак, на 137 студентов, находящихся в этой аудитории, должно приходиться 0,3425 еврея. Округлим эту цифру, товарищи. Получается ноль евреев или, как максимум, один. У нас же их – не один, а в семь раз больше. Я не собираюсь быть голословным, товарищи! Сейчас они докажут нам всё сами».
Профессор снова берёт журнал посещаемости:
– Итак, номер один… товарищ Зильберштейн… Встаньте, пусть на вас посмотрят товарищи.
Студент группы ГЭТВ-3 («Городской Электрический Транспорт», вечернее отделение, 3-й курс) Марик Зильберштейн поднимается с места.
– Ммг, Зильберштейн… Если не ошибаюсь, Марк Борисович, – продолжает лекцию о коммунизме Иван Андрианович. – Расскажите, как притесняют лично вас. Как не приняли вас в вуз, в группу ГЭТВ-3, студентом которой вы в настоящее время являетесь. Рассказывайте, не стесняйтесь, мы вас внимательно слушаем.
– Меня никто не притесняет, – потупив очи долу, говорит Марик.
– А как семья? Семья у вас есть? – спрашивает Антюков.
– Да, у меня есть семья, – чуть слышно отвечает Марик.
– Так может, семью вашу, Марк Борисович, кто-то притесняет?
– Нет. Семью не притесняет никто.
– Понятно, – говорит Иван Андрианович. – Номер два – Семён Эфроимович Фельдман! Семён Эфроимович, вас никто не притесняет?..
…Благодаря той «еврейской яичнице» наш Марик сейчас в полном шоколаде. Сменный механик Харьковской швейной фабрики им. Тинякова Марк Зильберштейн стал популярным киноартистом (пейсатый провокатор в сериале «Лениниана-1918», продажный адвокат в «Бандитском Петербурге»). Он не вынес научного коммунизма, бросил институт и тут же был зачислен в студию актёрского мастерства «АртОбразНегатив» при Мосфильме. Принимали туда – только личностей с ярко выраженной семитской внешностью. Играть всевозможную погань в театре и кино доверялось только им…
- На экранах – продажные мэры. Олигархов бесстыжих круги.
- Сутенёры. Коррупционеры. Аферюги. Барыги. Враги.
- Я гнилые жую помидоры, я гроши задолбался считать.
- Мне бы, точно, податься в актёры, чтоб лопатой деньгу загребать.
- У меня сверхслюнявые губы, я картав, и – собою носат.
- Пучеглаз. И похож, редкозубый, на сотрудника службы «Моссад».
- Эй, киношники, рыцари плёнки, режиссёры с большущих дорог,
- Неужели на роли подонков вам не нужен «типичный жидок»?!
…В перерыв, в битком набитой курилке, раскрасневшийся Изя Казачинер шептал мне на ухо, обдавая синими клубами дыма:
– Фашист! А ещё – коммунист! Секретарь парторганизации, называется! Я привлеку его по статье. За разжигание национальной розни. Принесу магнитофон – и запишу! А потом отнесу куда следует.
Всё отдам!..
Незаметно записать лекцию на катушечный «Днепр» – утопия. А миниатюрным диктофоном Изьку – брюссельские покровители не снабдили. А если б и снабдили?! Кому показал бы Изя свой вещдок?
Перекурив, мы с Казачинером направлялись в туалет.
Себе Изька спирт не разбавлял.
Во внутреннем кармане пиджака он носил плоскую фляжку из нержавейки и – «специально для гостей» – алюминиевый складной стаканчик. Сам Изька употреблял прямо из фляжки. Я разбавлял Казачинеровский спирт водой из-под крана.
Работал Изя на «Серпе и молоте» электромонтёром и спирт получал для протирки контактов. Он широко использовал устаканенное русское ноу-хау – принять вовнутрь, дыхнуть (х-хау!) спиртовыми парами на тряпочку, после чего протереть ею контакт.
На закуску – возвращались в аудиторию и снова слушали про яичницу и божий дар.
Коммунизм переставал казаться фашизмом, в голове шипела развесистая сионистская яичница.
Экзамен по коммунизму
Экзамен по научному коммунизму проходил в узком невентилируемом карцере, примыкающем к кабинету зав. кафедрой общественных наук.
Карцер был отвоёван Антюковым у еврейского коменданта Зямы Бланка. Хранившиеся там вёдра и швабры – депортированы к Зяме в кабинет.
На боковую стенку коммунистического карцера была навешена коричневая школьная доска, похожая на откидные нары. В углу чернела параша для бумаг. Сверху скалилась лампочка Ильича. Окно заменял портрет Суслова. Напротив нар висел ленинских кистей плакат: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны».
Антюков сидел под портретом – за столом, покрытым красным сукном. На столе мирно сосуществовали революционный бюст Ленина и пузатый капиталистический графин. Между графином и Лениным ёжилась горстка экзаменационных билетов.
Казачинер на экзамен не явился. Как Ленин на суд.
Приглашал Иван Андрианович строго по списку.
Я был вызван в числе последних.
Билет мне достался архилёгкий:
1. Преимущества коммунистического строя перед капиталистическим;
2. Неизбежный крах капитализма;
3. Коммунизм – светлое будущее всего человечества.
Три вопроса ясны, как три божьих дня. Я взял у Антюкова чистый проштемпелёванный листок и сел за парту, которую только что освободил наш староста Витюня Кабанюк.
Пока я набрасывал тезисы, подсевший к экзаменатору Витюня впивался взором в вырванную из чужого конспекта страницу.
Страница начиналась фразой: «Мат-техн. база ком-ма предполагает расш-ное пр-во т-ров нар. потр-ния».
– …Математическая… техническая… база коммунизма предполагает… расширенное… правительство… трансформаторов… наружного… потрошения, – мазал мимо сокращений староста, с трудом преодолевая загогулины чужого курицелапого почерка.
– Стоп, товарищ Кабанюк, – говорил ему Иван Андрианович. – Повторите ещё раз, и не волнуйтесь.
Дома Кабанюку было не до коммунизма.
Пролетарий всей страны Кабанюк работал обходчиком ЛЭП и разводил кроликов. Шкурки сдавал в потребкооперацию, а мясом торговал лично, на Благовещенском рынке.
– Математическая техническая база… – осторожно повторял Витя.
– Какая же она математическая, Кабанюк? Вы какой предмет сдаёте?
– Научный коммунизм.
– Правильно, Кабанюк! А на какой вопрос отвечаете?
– На первый.
– Не по счёту, а прочитайте, что написано в билете.
– В билете написано: вопрос номер один, материально-техническая база коммунизма.
– Так. Значит не математическая база, а какая?!
– Материально-техническая…
– Правильно. Материально-техническая база коммунизма предполагает…
– Расширенное… – предположил Витю ня.
– Правильно, расширенное.
– Расширенное правительство…
– Не правительство, а производство!
– Материально-техническая база коммунизма предполагает расширенное производство… товаров народного…
– Правильно, народного…
– Потребления!
– Молодец, Кабанюк. Видите, вы всё знаете. Главное – не волнуйтесь.
…Через десять минут измотанный, но счастливый Витя – с четвёркой в зачётке – покидал нашу коммунистическую конуру.
Затем успешно отстрелялась Лида Калачёва.
Подошла моя очередь.
Антюков широко улыбнулся, – дав понять, что весь превратился «в слух».
Я начал рассказывать…
– Как вы считаете, Капелюшник, – перебил меня экзаменатор, – зачем лично вы учите научный коммунизьм?
Я не полез за словом в карман:
– Лично я, Иван Андрианович, должен знать этот предмет назубок. Так как именно мне и моему поколению предстоит воплотить планы партии в жизнь. А чтобы построить коммунизм, необходимо владеть теоретичес…
Антюков перебил снова:
– Правильно понимаете. А теперь скажите. Вы знали материал? Или сдули со шпаргалки?
С этими словами Иван Андрианович встал из-за стола, направился к парте, за которой минуту назад сидел я, и принялся извлекать из неё шпоры, оставленные отстрелявшимися одногруппниками. Это были миниатюрные гармошки, глянцевые карточки, исписанные торопливыми каракулями, страницы, вырванные из учебников и конспектов.
– Ваша трахомудия? – спросил профессор.
Возможно, сейчас я сказал бы ему, что коммунизм – есть религия, а Господь мой – есмь Он, Иван и б м Андрианович Антюков. И не забыл бы присовокупить речения о богоизбранности племени своего. И вознёс бы Господу тому хвалу – за благодеяния Его, за то, что именно мя избрал Он агнцем на закланье, – дабы зело покарать паству за все прегрешения ея.
Но тогда, тридцать пять лет назад, – я, со школярским упорством, начал доказывать, что шпаргалки не мои. И Антюков влепил мне «неуд».
…Я ожидал его в коридоре.
Экзаменационное помещение покинул радостный Вова Щербаков, за ним – Федя Яковенко. Вслед за Яковенко вышел Антюков.
– Иван Андрианович, когда можно пересдать? – задал я наивный вопрос.
– Когда пересдать? – переспросил тот. – …Видите ли, Капелюшник… Математику, физику и другие необщественные (это прозвучало как «антиобщественные») науки можно вызубрить, списать и забыть. А с коммунизьмом – по-другому. Вы правильно сказали. Мы учим вас не для того, чтоб вы сдали – и забыли. А для того, чтоб строили коммунизьм. А в моральном кодексе – что написано? Прежде всего, – честность. А вы хотели меня обдурить. Придёте пересдавать, – не когда вызубрите. А когда станете честным. Так что ни через месяц, ни через три ко мне приходить не нужно. За пару месяцев человек честным не станет. Тем более вы. И за год-два он тоже не станет честным. Иному и жизни не хватит, чтоб брехать людям перестать…
Я понял: меня могут отчислить, притом легко…
Звонок Казачинера
«ЖЕРТВ НЕТ. В разгар рабочего дня в институте НИИэлектромаш внезапно рухнул потолок. По счастливой случайности никто не пострадал».
Из газет
Спустя три месяца после лажи с коммунизмом мне на работу позвонил Казачинер.
Изька с понтом, от имени вечернего деканата, поздравил с началом учебного года и поинтересовался, почему меня нет на занятиях.
Я не был настроен что-либо объяснять.
Ибо, с одной стороны, был поглощён сочинительством.
Я сочинял не любовное послание, нет! Я создавал схему управления подъёмно-поворотной тележкой.
Она снилась мне всю ночь.
И теперь целое утро я рисовал эту схему, все эти датчики, транзисторы, диоды. Я перекантовывал на тележку раскалённый пятитонный рулон, я просаживался от его тяжести вместе с тележкой. Я срабатывал вместе с каждым конечным выключателем, я мысленно замыкал и размыкал контакты, отпирал и запирал намалёванные транзисторы…
Я сваливался с тележки вместе с рулоном, ломая ролики рольганга и подкрановые пути – из-за своей же ошибки в системе блокировок. Я сгорал вместе с неправильно выбранным резистором, я восставал из пепла, рвал эту схему к чёртовой матери на клочки и вышвыривал в урну… И снова брал чистый лист, и снова рисовал датчики и транзисторы…
…Во-вторых, у нас было не принято – занимать служебный телефон личными разговорами.
Уж так устроен человек. Если телефонная беседа носит производственный характер – она ничуть не отвлечёт невольного её свидетеля от творческого процесса.
Хочешь убедиться, читатель?
Тогда поручи распалённому автору измыслить стишок – на любую тему, а сам встань рядом и, что есть мочи, начинай орать:
«Алло, здравствуйте! Это НИИ Уралчерметавтоматика? Свердловск? Позовите, пожалуйста, Николая Петровича Окунькова из информационного сектора! Да, я подожду……Николай Петрович? Здравствуйте, Николай Петрович! Моя фамилия Дмитриев. Ещё громче? Хорошо! С вами говорит Дмитриев, город Харьков! Да, из НИИме-таллпромпроекта. Я беспокою вас по поводу струйных реле для стана 1700 Галацкого меткомбината в Румынии. Да. Мы направили запрос ещё в июле. Когда точно? Минуточку, сейчас посмотрю. Ага, вот есть. При письме от четырнадцатого десятого сего года! Классификация реле?.. Струйное, типа УФ-2! Да, нам необходимо его быстродействие и требования к технической воде. Давление, допустимая загрязнённость, удельное сопротивление, нагрузочная способность, гарантируемое число срабатываний и принципиальная схема. Да, и габариты! Обязательно габаритно-установочный чертёж, иначе наши конструкторы не смогут…».
А сам, дорогой читатель, смотри в мою тетрадку, – сколько стихотворных строчек за время отвлекающего твоего манёвра я успею сочинить. И не удивляйся, если твоему взору предстанет:
- Вместо прошлого – пустошь, руины. Рваный ветер да ржавый песок.
- Нет ни Харькова, ни Украины, ни каморки с окном на восток.
- Ни асфальта, ни Лопани мутной. Ни газетой оклеенных рам.
- Ни будильника из перламутра, что будил нас с тобой по утрам.
- Ни трамваев, ни арки вокзала, ни костра, ни избушки в горах —
- Всё развеяла ты, разметала, разбомбила, порушила в прах.
- Ни облезлой дорожки ковровой – в коридоре, где мрак ворожил,
- Ни всей жизни моей непутёвой, что к твоим я ногам положил…
Всё, читатель. Больше – не успел. Но согласись, сие доказывает, что творческий процесс в моей черепушке имел место быть, – несмотря на все твои «гарантируемые числа» и «удельные сопротивления» (для меня сухие эти технофразы подобны плеску речной волны, шелесту тополей, монотонному стуку дождя по крыше).
Но стоит тебе, читатель, залепетать в телефонную трубку: «Привет, это я… Да, с работы… Нет, не один… Да… Да… Нет… Да… И я… Да-да, безумно… Да… Нет… Да… Нет… Да… Да… Нет… Да… Нет… Конечно… Нет… Нет… Да… Нет… Обязательно… И мне… И я тоже… И я… И я…», – и я не смогу написать ни строчки, ни пол строчки, и только что пришедшая мысль, громко хлопнув дверью, исчезнет из моей жизни навсегда, и её уже не вернуть – как не вернуть мне сейчас Марину…
…И, в-третьих, нельзя было информировать весь отдел, что в оркестре Пинхасика я занят теперь каждый вечер.
Высвечивать перед «начхальством», что помимо проектирования ты имеешь ещё один полюс приложения сил – дело гиблое.
Хотя биполярность твоя – секрет Полишинеля…
Биполярников в институте хватает. К обеду народ потихоньку рассасывается – якобы в техническую библиотеку, якобы в местные командировки, якобы к зубным и иным врачам.
«Редкий проектировщик досидит до середины рабочего дня…» – сказал бы классик, доживи он до звания «Герой Социалистического Труда»…
Подавляющая часть «инженерюгенда» имеет альтернативный заработок.
Кто-то смывается мыть лестницы в подъездах, кто-то – натирает полы в гостинице, кто-то – клеит обои…
Побочных своих занятий никто не афиширует.
Зав. сектором программируемых устройств не кичится тем, что умеет рихтовать кузова. Автор системы главного привода – не хвастает навыками гнать мраморную плитку встык и выполнять затирку минеральной крошкой.
К хорошему такие анонсы не приводят.
Работал у нас старшим инженером некий Тер-Тычников. Проектировал электрооборудование доменных печей. Нормальный технарь, в сетях и заземлениях рубил не хуже других. Но имел неосторожность не скрывать, что пишет стихи.
Литстудию посещал – при «Спилке письменников».
Руководил студией харьковский совпис Владимир Револьский.
Он-то и втемяшил в башку старшему инженеру, что у того – дар настоящего большого поэта.
И Тер-Тычников растрезвонил про свой дар по всему Металл-прому.
И вот вызывает Тер-Тычникова начальник доменного отдела товарищ Мясотуров, царство ему небесное, и говорит, – постукивая по столу своими толстыми волосатыми пальцами.
Так, мол, и так. Нам оказана большая честь. Есть решение райкома наградить институт почётной грамотой. И вручать её приедет сам товарищ Ляжопа, первый секретарь.
И приветствовать Ляжопу будут пионеры – учащиеся подшефной школы. И от тебя как от поэта требуется – сочинить им текстовки, минут этак на десять. Так что давай, поэт, твори!
И тут Тер-Тычников, вместо того чтобы сказать «спасибо» за оказанное доверие и обещанное материальное вознаграждение, полез в бутылку. И заявил, что он не какой-нибудь рифмоплёт, а поэт милостью божьей. И его сфера – это любовная лирика, окрашенная болью познаний. А «клепать всякие там речёвки» он не собирается.
Мясотуров настаивать не стал. Заказ на речёвки отдал в «Спилку письменников». И там за него ухватился тот самый совпис Револьский.
Револьский сочинил, бабульки срубил и купил на них торшер в гостиную и 2 запаски для «Запорожца».
Новый Год на носу.
В вестибюле приказ вывешивают: «В связи с ростом деловой и технической квалификации установить новые должностные оклады…»
Фамилий много, Тер-Тычникова нет.
Через год – опять Новый Год.
А ещё через год – снова.
И каждый раз – приказы, и каждый раз Тер-Тычникову – ни копья прибавки.
И вот записывается поэт на приём к товарищу Мясотурову и говорит:
– Я разработал то-то, изобрёл то-то и то-то. Экономэффект – выше крыши, можете справиться у товарища Иванова из патентного бюро. А вы мне за это даже пятёрки не накинули. Как прикажете такое понимать?
Тут начальник (культурно воспитанный был человек!) сражает поэта его же оружием. Поэтом, мол, можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. И что в ответственные будни обязан быть с народом вместе, и от общественных заданий не отрекаться никогда. И вообще, специалисты «по любовной лирике и болям познаний» доменному отделу нужны, как зайцу стоп-сигнал. И как на инженера, мол, на Тер-Тычникова всерьёз никто не смотрит. Так что о повышении – он пусть и не мечтает.
Ну, думает старший инженер, ничего. Получу я свою пятёрку. Не мытьём – так катаньем.
И с самыми благими намереньями приглашает начальника к себе домой – отметить День Металлурга. А поскольку для Тер-Тычникова, как и для многих, не было секретом, что Мясотуров – не дурак выпить (а выпить – тот был очень большой не дурак!), то наш поэт набрал водки аж семь пузырей.
А жена у поэта была необыкновенно красивая, прямо куколка. Губки бантиком, бровки пташечкой. Голосок, как звонкий бубен. Мужа очень любила, все дороги забегала.
Короче, после работы привёл поэт начальника к себе на квартиру. А там уже всё – на мази. Холодец, оливье, яблочки мочёные, духи, причёска, декольте. Попробуй сказать такой барби: «Не прибавлю я вашему мужу пятёрку!»…
Как там у них всё в точности происходило, никто не знает. Тайна за семью пузырями.
Выпили, конечно, от души, – в полном смысле этого крылатого слова.
А на следующее утро – звонит поэт в отдел кадров. Просит оформить отгул.
Мясотурова – тоже на работе нет. День нет, два, три…
Сестра начальника (неженатый был) все больницы, все морги оббегала. В милицию обратилась. Вызвали поэта с женой к следователю. Вы, мол, последние, кто его видел. Куда он мог деться?
Молчат. Не знают, не помнят. Сами, мол, пьяные были.
А через неделю в канализационном люке, неподалёку от дома Тер-Тычниковых, обнаруживается отвратительнейшая находка – человеческая рука. По всей видимости, мужская. Пальцы толстые. Волосатые.
Выясняется: на следующий день после пьянки гражданка Тер-Тычникова появилась на работе лишь в 11 часов. Взяла в профкоме два рюкзака и топорик. Сказала, что в выходные они с мужем собираются в поход на байдарках. И сразу ушла. Может, в поход, а может, и нет.
