Технологии этнонациональной мобилизации в многосоставных обществах на примере черкесов России и Турции бесплатное чтение
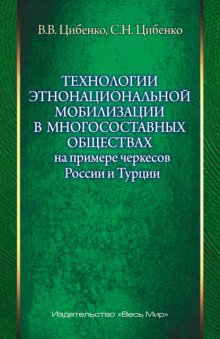
Введение
В действительности нация никогда не готова.
В этом национальное государство отлично от остальных.
Нация всегда или слагается, или разлагается.
Хосе Ортега-и-Гассет. «Восстание масс»
Распад СССР, сопровождавшийся развитием национальных движений в союзных республиках и завершившийся созданием независимых государств, а также череда «цветных революций» на постсоветском пространстве и в странах Ближнего Востока показали, что унифицированные технологии политической мобилизации приобрели если не главное, то первостепенное значение в деле современного нациестроительства. Политическая мобилизация, используемая в целях нациестроительства, одновременно становится и национальной. Парадоксальным образом нация появляется после национальной (сейчас, как правило, этнонациональной) мобилизации, и именно благодаря ей она формируется из индивидов, связанных друг с другом идеей и действием.
Нациестроительство сегодня нередко напоминает панельное домостроение, в котором сами строители, место стройки, материалы не оказывают решающего влияния на итоговый результат, а реальный выбор для будущих жильцов ограничен несколькими типовыми вариантами. Хотя ситуация с формированием наций сегодня не менее сложная, чем, к примеру, два столетия назад, ключевым отличием современного нациестроительства стало именно широкое применение социально-политических технологий.
Технологизация процесса, основывающаяся на алгоритмизации действий и активном включении в нациестроительство «технологов-нациестроителей», привела к большей предсказуемости результата, быстрой массовой вовлеченности и, на первый взгляд, снижению издержек. Особенно успешным представлялся опыт нациестроительства в рамках одного государства «титульной» этнической группой. Постсоветское пространство дает нам много положительных примеров применения социально-политических технологий для формирования и укрепления коллективной идентичности национального типа.
В ряде случаев, однако, типовые решения без учета индивидуальной специфики, наоборот, повысили «издержки производства». Неудачное, а часто и совершенно неподконтрольное развитие социально-политических процессов в нетиповых ситуациях стало побочным эффектом технологизированного нациестроительства. В отдельных странах применение данных технологий привело практически к параличу политической системы, а в рамках некоторых этнонациональных проектов на территории России неоднократно вызывало политическую дестабилизацию, в частности на Северном Кавказе.
Фактически прослеживается зависимость: чем сложнее устройство общества, тем рискованнее технологизированное нациестроительство (обратное тоже верно). Если так, то для анализа максимальных возможностей и всех видов уязвимостей социально-политических технологий наиболее интересный материал представляют многосоставные общества. К ним, несомненно, относятся Россия и Турция – полиэтничные и многоконфессиональные постимперские государства, которые мы выбрали для компаративного анализа.
Для большей наглядности мы берем не только две эти страны в сравнении, но и общие для них «нетитульные» национальные проекты черкесов. Это дает нам раскрыть еще один важный аспект темы нациестроительства – диаспоральный. Черкесы считают своей исторической родиной территории, находящиеся в составе Российской Федерации, при этом крупнейшая черкесская диаспора проживает в Турции. На данном примере и с учетом исторической динамики нам предстоит показать, какую роль диаспоры играют в развитии социально-политических технологий в целях современного нациестроительства.
Выбрав нашим объектом технологии нациестроительства, мы вынужденно ограничили свой инструментарий конструктивистскими подходами к нации и национализму. Однако мы отнюдь не отрицаем наличия естественных причин формирования наций. Напротив, национальные технологи, на наш взгляд, более всего походят на средневековых алхимиков, добивавшихся чудесного превращения металла в золото только в том случае, если оно уже содержалось в исходных рудах. Или же на золотоискателей, которые ради спрятанных природой слитков просеивают тонны песка или дробят массивы горных пород.
С кем нам соотносить национальных технологов? Если с национальными элитами, то подразумевается, что нация уже живет, а не создается на наших глазах. Конечно, бо´льшая часть националистов считают свою нацию существующей от начала времен, однако объективности ради согласиться с такой позицией мы не можем. Тогда национальных технологов следует соотнести с протонациональными элитами, которые, несомненно, желают стать цветом будущей нации и считают себя активной движущей силой, мотором национального движения. В таком случае их можно назвать и национальными или протонациональными активистами, а также акторами или агентами национальной мобилизации.
Чем руководствуются национальные технологи в своих устремлениях – трезвым прагматическим расчетом или желанием общественного блага, зависит от многих обстоятельств. Однако их неизменная цель – претворение в жизнь образа нации, созданного творческим воображением, их собственным или же коллективным. Воображенная, в терминах Бенедикта Андерсона, нация для них есть истинное золото: высшая ценность, эталон и мера всех вещей, как для алхимиков, или ресурс и средство достижения личного благополучия, как для золотоискателей.
Но не стоит забывать, что ценность золота сохраняется только до тех пор, пока секреты его массового производства не раскрыты. Представим, что философский камень, превращающий свинец в золото, а незнакомых и ничем не связанных друг с другом людей в монолитные нации, был бы открыт в действительности. Или же золото стало бы таким же распространенным, как железо, а нации стали создаваться по первому желанию группы активных лиц. Разве и золото и нации не потеряли бы тотчас свою ценность?
Коль скоро национальные технологи являются не только расчетливыми прагматиками, но и могут разделять идеалистические мотивы и альтруистические порывы, для анализа их деятельности недостаточно будет ресурсного и инструментального подходов, готовых объяснить, как личные задачи решаются через нациестроительство. Разрабатывая и применяя технологии нациестроительства, создавая и укрепляя национальную идентичность, национальные технологи руководствуются идеальным образом нации, который в сконцентрированном виде содержится в идеологии национализма, проявляется в символической политике и применяется в символических технологиях. Соответственно, анализ концептов нации, вариантов национальных проектов и символической политики, реализуемой национальными технологами, будет занимать существенное место в нашем исследовании.
Продолжая аналогию с алхимией, наши национальные технологи во благо своей идеальной нации будущего катализируют существующие этнополитические процессы, создают благоприятную среду для кристаллизации нации и в случае неудачи устраивают социально-политические взрывы в своих лабораториях – обществах и государствах. Как золотоискатели, они, напротив, провоцируют социально-политические кризисы и потрясения, чтобы высвободить нацию из толщи горной породы, а национальную идентичность отделить от мириад песчинок – прочих идентичностей.
В распоряжении национальных технологов широкий набор средств, отражающий уровень развития современных гуманитарных и общественных наук. Попутно они сами обогащают науку новыми открытиями в сфере социальных взаимодействий и этнополитических процессов. Но что же заменяет им сегодня инвентарь алхимиков и золотоискателей? Очевидно, что в основе символических технологий лежат символы и мифы, расходный материал для нациестроительства. Их более или менее успешно используют для национальной мобилизации многие поколения национальных технологов. В чем же особенность современного инструментария, позволившая ускорить процессы циркуляции символов и мифов, сделать эти процессы более управляемыми и предсказуемыми?
Поскольку в основе нациестроительства лежит формирование национальной идентичности, ключевым его инструментом является коммуникация – вербальная и невербальная, прямая и опосредованная. С учетом последних тенденций, которые стали частью постулируемой «новой нормальности», – увеличения объема и скорости коммуникации в электронной среде; расширения технических средств передачи вербальной и невербальной информации онлайн; перемещения социальной активности на виртуальные платформы, форсированного социальным дистанцированием офлайн, – именно глобальная сеть Интернет становится тем самым современным прибором для выработки и укрепления национальной идентичности и собственно нации.
Теперь сетевые или интернет-технологии в обязательном порядке включаются в арсенал национальных технологов как основные, тогда как еще десятилетие назад были лишь дополнительными. Это отнюдь не отменяет иные технологии нациестроительства, опробованные многими поколениями и хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Как раз наоборот, утилитарное, сочетанное их применение многократно усиливает эффект, продвигая национальных технологов на многие шаги вперед к осуществлению заветной цели создания нации.
В этой связи основными нашими источниками стали медийные материалы (печатные и электронные), дискурс-анализ которых позволил нам увидеть технологии национальной мобилизации в действии. Мы также использовали широкий пласт научной литературы, нормативные документы, статистические данные, этнографические материалы, данные социологических опросов и собственные наблюдения.
Понимая неразрывность связи сетевых и символических технологий, мы тем не менее для удобства рассмотрим их в разных главах на материалах черкесского нациестроительства. Не обойти нам и вопроса теоретико-методологических основ изучения технологий национальной мобилизации, с которой мы и начнем, не забывая о специфике многосоставных обществ.
Прежде чем приступить непосредственно к нашей теме, мы хотели бы добавить пару слов о важности изучения технологий национальной мобилизации именно в нашей стране. Вместо того чтобы углубляться в историю, которая несомненно дала бы нам множество поучительных примеров, почему не стоит недооценивать потенциал нациестроительства как для объединения, так и для разъединения наших огромных географических пространств, напомним о совсем недавней и все еще актуальной идее «российской нации».
Обсуждение данного концепта достаточно успешно шло в определенных научных кругах, однако при первом выходе за пределы узкого научного сообщества сразу же стало предметом спекуляций и источником для всплеска этнонациональной мобилизации многих народов России. Построение гражданской нации было моментально приравнено к построению этнической, благодатную почву получили мифы о насильственной ассимиляции – русификации, христианизации и пр., что вылилось в массовые протесты против внесения поправок в Конституцию РФ, затрагивающих вопросы культуры.
Все это наглядно продемонстрировало, насколько нетривиальной задачей является как переосмысление феномена национализма на теоретическом и методологическом уровнях, так и практическое построение единой нации. Нам представляется, что наблюдаемые трудности в деле нациестроительства отчасти обусловлены тем, что наряду с другими концептуальными вопросами российскими экспертами не было уделено должного внимания технологическому аспекту этого процесса, особенно в условиях этнокультурной сегментации нашего общества.
В причинах недостаточного внимания к данной теме мы видим и особенности внутреннего запроса на нациестроительство. Как отмечает Э.А. Паин, «в России никогда не было национальной политики как нациестроительства (nation building). Министерства и ведомства, которые считались ведающими такой политикой, на самом деле занимались более узкими вопросами, теми, которые включаются обычно в понятие “этническая политика”»1. На наш взгляд, именно поэтому в России сформировалось и крайне узкое понимание технологий политической мобилизации как относящихся исключительно к электоральным и протестным акциям. Мощная технологическая сторона строительства наций растворилась в этнополитических процессах.
Мы обязательно должны отметить, что осмысление феномена этнонациональной мобилизации представляется важным с точки зрения научного обеспечения государственной национальной политики Российской Федерации, реализуемой государственными и гражданскими акторами с целью укрепления российской нации. Не менее важным это оказывается и при исследовании влияния на государственное нациестроительство в России случаев этнонациональной мобилизации, которые имеют место в рамках отдельных национальных движений, выходящих за пределы одного региона и даже страны (как в случае черкесов).
В свою очередь, технологический аспект национальной мобилизации актуален и для повышения эффективности процесса укрепления общероссийской гражданской идентичности, и для совершенствования государственной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
Данная монография стала результатом многолетней работы авторов над темами нациестроительства на Кавказе и в кавказских диаспорах за рубежом. Однако она была бы невозможна без поддержки наших учителей. Особую благодарность мы выражаем Сергею Петровичу Поцелуеву, оказавшему неоценимую помощь в разработке теоретической части исследования. Источником вдохновения для нас также служили концептуальные основы ростовской политологической школы Виктора Павловича Макаренко.
Россия и Турция как многосоставные общества
Каким образом мы можем понять, что общество является многосоставным? Очевидно, что любое реально существующее общество негомогенно и разделяется на составные части по большому количеству признаков, будь то гендерный, возрастной, этнический, лингвистический и др. Тем более не вызывает у нас сомнений, что современная Россия с ее федеративной формой устройства, многоконфессиональностью и полиэтничностью демонстрирует наглядный пример многосоставного общества. Но так ли мы правы в своем интуитивном выводе? Более того, на каком основании к многосоставным обществам мы относим и современную Турцию – национальное государство модерного типа?
Термин «многосоставное2 общество» (англ. plural society) впервые был введен в научный оборот в 1939 г. в работе, посвященной Голландской Ост-Индии3. Ее автор, Дж.С. Фернивалл, служил британским колониальным администратором в Бирме и впоследствии продолжил бирманские исследования в Кембриджском университете. Он отметил для себя неоднородность и разобщенность бирманского общества, которое состояло из разрозненных индивидов, групп, социальных порядков, объединенных только колониальной властью, страхом внешней угрозы и общим рынком, где элементы встречаются, но не смешиваются до однородного состояния.
Фернивалл рассматривал многосоставность как проблему, порожденную колониальным управлением европейцев и приведшую к появлению общества, разобщенного по признаку расы, религии, культуры, языка, идей и образа жизни. В качестве решения он предлагал предоставить населению политическую автономию с последующей реинтеграцией через создание общественного запроса, социальное воспитание и гражданское нациестроительство – созидательную силу национализма. По его замыслу, в случае успеха постколониальные общества должны построить современные национальные государства.
Сходные идеи развивал в те же годы британский антрополог А.Р. Рэдклифф-Браун, использовавший термин «композитные общества» (англ. composite societies)4 в отношении британских и французских колоний, которые состоят из гетерогенных элементов и потому социально нестабильны. Говоря о колониях в Африке, Рэдклифф-Браун представлял европейцев и африканцев как разные классы, разделенные языком, обычаями, образом жизни, идеями и ценностями. Однако в отличие от Фернивалла антрополог усматривал в таком усложнении общественной структуры социальную эволюцию, в которой многосоставность общества является лишь одной из ступеней.
В 50-е гг. появились первые исследования, показавшие, что многосоставность равным образом характерна и для постколониальных обществ, находящихся в процессе нациестроительства. Американский антрополог Мэнниг Нэш5 предложил концепцию множественного общества с плюральными культурами (англ. multiple society with plural cultures) для анализа развивающихся стран с их объединением различных культурных традиций и уровней социальной организации.
Нэш отмечал, что при общей включенности в систему политических и экономических связей только часть населения (представляющая собственно нацию) разделяет национальную идентичность, участвует в культурной и социальной жизни и имеет контроль над государственными ресурсами и коммуникациями. Хотя этот сегмент общества также разделен внутри себя, он находится в доминирующем положении над другими социальными сегментами, характеризующимися локальной организацией и разнообразными культурными традициями. Сегментарные границы между нацией и плюральными культурами маркированы, по замечанию Нэша, различиями в одежде, роде деятельности, традициях и даже физическом облике.
Для таких государств Нэш использовал определение «ненациональный» (англ. non-national)6, что фактически означает «недонациональный». Единственно возможным способом, чтобы преодолеть эту ситуацию и стать подлинно национальным, т.е. современным, состоявшимся государством, исследователь считал завоевание приверженности локальных общин, уход от компромиссных социальных структур и разрушение социального базиса, позволяющего сегментам сохранять свои культурные отличия.
Очевидно, что лейтмотивом исследований 40–50-х гг. ХХ в. проходило противопоставление национального общества модерного типа высоко стратифицированным многосоставным обществам, отстающим в своем эволюционном развитии. Однако в 60–70-е гг. со сходными проблемами внутренней сегментации по культурным и этническим линиям столкнулись и западные государства – Канада, Ирландия, Бельгия, Швейцария7, что привело к смене исследовательского ракурса с преодоления многосоставности на управление такими обществами. Кроме того, постепенно исследователи отходили от расовой основы деления, заменяя ее культурной (впоследствии этнической), что вылилось в широко распространившуюся в гуманитарных и социальных науках концепцию культурного плюрализма8.
Один из главных ее основоположников – антрополог Майкл Гарфилд Смит – указывал именно на культурные, а не расовые различия составных частей рассматриваемого нами типа обществ. Смит подчеркивал, что многосоставные общества не распадаются в условиях отсутствия общих ценностей благодаря принуждению, оказываемому на остальные общественные сегменты доминирующей культурной группой9. Он противопоставлял многосоставные общества гомогенным и гетерогенным по культурно-институциональному признаку: если в гомогенных обществах едиными являются все социальные и культурные институты, в гетерогенных – только базовые, то в многосоставных – никакие, их связывают воедино исключительно административные институты управления и принуждения10.
Важно отметить, что постулат об отсутствии в многосоставных обществах общих культурных ценностей разделяли не все антропологи. Так, Дэниел Кроули, исследовавший Тринидад, предложил термин «множественная аккультурация» (англ. plural acculturation), под которым понимал следующее: «каждый член каждой группы узнает некоторые способы (функционирования. – Авт.) каждой другой группы», и только «базовое согласие в таких витальных областях, как язык, народные верования, магические практики, брачная и семейная структура, фестивали и музыка, обеспечивает общую основу, которая позволяет Тринидаду существовать как общество»11. Причем в каждой конкретной ситуации, в зависимости от необходимости, член группы принимает или отвергает эти иные способы, примеряя одну из своей «коллекции масок», что порождает еще и «дифференциальную аккультурацию» (англ. differential acculturation)12.
В 60-е гг. концепт многосоставного общества стал выходить за пределы социологии и антропологии, получив развитие в политологии. Основные вопросы, которые политические науки ставили перед исследователями, заключались в том, насколько политически жизнеспособны и демократичны многосоставные общества.
Так, американский политолог Гарри Экштейн на примере норвежской демократии доказывал, что многосоставные общества могут быть политически устойчивыми13. Он рассматривал такие общества как сегментированные, т.е. разделенные сегментарными расколами (англ. segmental cleavage)14, под которыми понимал совпадение линий социальной дифференциации с политическими противоречиями. Среди таких линий – разделение по регионам, сфере деятельности, языковой, религиозной, гендерной, поколенческой принадлежности и пр., которое ведет к появлению политически активных и номинально объединенных субобществ, из них каждое добивается не только собственных политических целей, но и прежде всего автономии или доминирования над другими субобществами15.
При этом собственно культурные расхождения (англ. cultural divergence) Экштейн выделял в особый тип политических противоречий, которые существуют «там, где несогласия по политическому устройству возникают не из-за различных взглядов на отдельные вопросы или не только из-за этих взглядов, а из-за значимых различий в общих культурных картах или ориентациях, посредством которых люди интерпретируют собственный политический опыт и определяют свои политические предпочтения: свое восприятие, ценности, способы оценки альтернатив и эмоциональные предрасположенности в политике»16.
Развил концепцию сегментации другой американский политолог Аристид Зольберг, предложивший на заседании Международной ассоциации политических наук в 1976 г. ее классификацию на этнокультурную (англ. ethnocultural segmentation), этнотерриториальную (англ. ethnoterritorial segmentation) и этноклассово-территориальную (англ. ethnoclass-territorial segmentation)17. Именно этнокультурная сегментация, понимаемая как аспекты дифференциации, которые основаны на культурных различиях, существующих между этнической группой и доминирующим населением и/или между этническими группами населения18, была признана в научных исследованиях на Западе значимой характеристикой многосоставных обществ. В то же время в России этот термин только начинает входить в научный оборот и часто заменяется сходным – «этнокультурная разнородность».
Еще одним знаковым именем для развития концепта многосоставности в политологии стал Аренд Лейпхарт, предложивший19 модель особой консоциональной (сообщественной) демократии для такого типа обществ, в которых «политические партии, группы интересов, средства коммуникации, школы, добровольные объединения имеют тенденцию к организации по линиям, повторяющим контуры существующих внутри общества границ»20. Данная модель подразумевает пропорциональное участие представителей всех основных сегментов многосоставного общества в принятии политических решений с предоставлением им автономии во внутренних вопросах.
Другого мнения придерживались американские политологи Э. Рабушка и К. Шепсл, предложившие отделять собственно многосоставные (плюральные) общества с политически организованными культурными сегментами от плюралистических21, в которых социально значимые культурные различия не являются политически существенными. Причем под культурными различиями ученые понимали этнические как расовые, религиозные, языковые или племенные, а существование четко разделенных этнических групп, разделяющих несовместимые ценности, с сопутствующей этнизацией конфликтов и политики – главным условием существования многосоставных обществ22.
Рабушка и Шепсл не видели перспектив демократического управления многосоставными обществами, указывая, что лояльность граждан субнациональным культурным группам оспаривает политическую легитимность государства23. В этой связи они считали важным в целях сохранения государства подавлять такие лояльности в соответствии с требованиями гражданской политики24.
Ранее в этом же ключе рассматривал многосоставные общества этнолог Пьер ван ден Берге, уделявший основное внимание этничности и расе, которые, по его мнению, обусловливают сегментацию общества на институциональном, а не культурном уровне. Он связывал перспективы демократии с достижением консенсуса по основным общественным ценностям, указывал на негативное влияние на политическую стабильность культурного плюрализма и угрозу для демократии этнизации политических противоречий. Наиболее благоприятной ситуацией он считал перекрестное распределение сегментарных расколов, которое не позволяет одному из них получить преобладающее значение25.
Еще один вариант жизнеобеспечения многосоставных обществ предложил Лео Деспре, который развивал идею «брокерских» институтов, обеспечивающих взаимодействие между разделенными сегментами и их представленность на общенациональном уровне. Среди таких институтов исследователь перечислял рынок, трудовые союзы, государственные организации и политические партии26.
Вне контекста демократичности устройства России и Турции мы можем отметить, что для обеих стран достаточно остро стоят вопросы эффективности государственного управления культурным многообразием и политизации этничности вплоть до этнического сепаратизма. Следует констатировать де-факто многосоставный характер России и Турции, что является, как мы считаем, прямым следствием имперского прошлого двух государств, предопределившего их полиэтнический и поликонфессиональный характер.
Действительно, Россия и Турция перестали быть империями примерно в одно и то же время – на рубеже 1910–1920-х гг. Несмотря на массовые миграции населения, сопровождавшие этот процесс, и отход части территорий, оба государства сохранили многосоставность своих обществ. Основное различие между ними следующее: национальный проект Турецкая Республика начала развивать сразу после своего создания, а в России он стал обсуждаться только в XXI в., породив дискуссии о жизнеспособности концепта «российской нации». В итоге в Российской Федерации на данный момент параллельно существует дискурс и «российской нации», и «многонационального народа». При этом как в России, так и в Турции государственной стратегии единой нации противостоят конкурирующие этнонациональные проекты.
Поскольку в Турции как в национальном государстве (англ. nation-state) формирование нации протекало на основе одной этнокультурной группы27 и проводилась обычная для такого типа «национализирующих» государств политика исключения этнических и религиозных меньшинств из политического процесса28, сегментарные расколы стали более скрытыми. Публичные проявления этнической инаковости курдов, черкесов, арабов и других этнических меньшинств, в отношении которых длительное время проводилась политика принудительной ассимиляции, до сих пор затруднены. Однако в Турецкой Республике и сегодня выделяется ряд регионов с преобладанием нетюркских этнических меньшинств: Юг, Юго-Восток, ряд провинций Центральной и Западной Анатолии, что позволяет говорить о наличии и этнотерриториальной сегментации.
В России, где отсутствовала подобная турецкой гомогенизация населения, сегментарные, в том числе этнотерриториальные, расхождения закреплены в самой поликефальности федеративного устройства29. Декларируется существование исторически сложившегося полиэтнического государства-цивилизации, сохраняющего богатство традиций и культур30. Тем не менее в результате взятого в последние годы курса на формирование единой гражданской нации, стержнем которой выступает русская культура31, проводится ряд законопроектов в области исторической и лингвистической политики, воспринимаемых национальными республиками как конфронтационные и национализирующие.
Таким образом, федеративная форма государственного устройства в России способствовала сохранению этнокультурной сегментации с политизацией сегментов, а в Турции вся государственная политика XX в. была направлена на гомогенизацию общества с искоренением такого типа сегментации. Это привело к тому, что многосоставность турецкого общества стала носить скрытый характер, однако сохранилась до сих пор.
Что позволяет нам так считать? Процессы политизации этничности, которые мы наблюдаем в Турции в создании этнических партий, этническом лоббировании, этнотерриториальных требованиях различных этнических и этнорелигиозных меньшинств, среди которых наиболее известный пример – курды. Нам же предстоит рассмотреть эти процессы на примере другого этнокультурного сегмента – черкесов, явно выделяющегося и в Российской Федерации, причем поверх закрепленных федеративной системой границ.
Мобилизация в контексте нациестроительства
Чтобы разобраться, что представляет собой национальная мобилизация, нам необходимо сначала дать определения таким ключевым понятиям, как «нация» и «национализм». Мы используем модернистский концепт нации, согласно которому сами нации, как и порождающий их национализм, – явление сравнительно позднее, возникшее не ранее эпохи Нового времени.
В ставшей классической книге Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества»32 нации представляются как воображенные политические горизонтальные товарищества, где образ общности не подтверждается реальным знакомством со своими «собратьями», а само возникновение наций увязывается с появлением массовой печати, сделавшей возможным такое объединение незнакомых друг другу людей33.
Согласно другому теоретику национализма Эрнесту Геллнеру, нации формируются на основе общей культуры при обязательном условии взаимного признания членами группы принадлежности к национальному объединению34. Национализм Геллнер рассматривает как политический принцип, согласно которому необходимо совпадение политической и национальной единиц. Нарушение либо удовлетворение этого принципа порождает националистическое чувство, которое, в свою очередь, вдохновляет националистическое движение35.
В этой связи ценным является введенное чешским историком Мирославом Грохом определение национального движения как организованных попыток недоминантной этнической группы, осознавшей свою этническую общность и способность стать нацией, восполнить недостающие атрибуты «полноценной» нации36. Именно здесь, в восполнении этих атрибутов, и возникает мобилизация людей и ресурсов, направленная на итоговую цель – создание нации.
В западной политологии сложилось устойчивое понимание национальной мобилизации как серии единовременных кампаний, активизирующих уже сложившуюся нацию как ресурс для достижения политических целей. Складывается своеобразная иерархия, согласно которой национальная мобилизация имеет качественно иной уровень, чем этнополитическая. Например, невозможно найти исследования по этнополитической мобилизации у американцев, англичан и французов в настоящем или прошлом, зато в отношении этнических меньшинств редко используется термин «национальная мобилизация», если они проживают в странах Запада.
В свою очередь, мы под национальной мобилизацией понимаем не только направление энергии существующей нации на решение каких-то политических задач, но также способ формирования национальной идентичности воображаемого сообщества в политических целях – то, что Георгий Дерлугьян обозначил как «протонациональная мобилизация»37.
В отличие от концепта «национальной мобилизации» для зарубежной социологической и политической науки более привычными являются концепты «социальной», «политической» и «этнической» (этнополитической) мобилизации. При этом национальная мобилизация может рассматриваться как один из видов данных мобилизаций либо вообще отождествляться с ними. Это вносит путаницу и ведет к методологическому редукционизму в трактовке национальной мобилизации. В результате отпадает потребность в концепте собственно национальной мобилизации, что, на наш взгляд, теоретически ослабляет позицию исследователя национальных феноменов.
Самым широким из перечня выше представляется «социальная мобилизация», однако и этот концепт не имеет общепринятой трактовки. Считается, что данное понятие ввел в научный оборот социолог Карл Дойч, рассматривая его в единстве с эффектами модернизации и социальной мобильности38. По его словам, «социальная мобилизация – это название, данное общему процессу изменения, происходящего с существенной частью населения в странах, которые переходят от традиционного к современному образу жизни»39, и включает в себя смену места проживания, работы, профессии, социальных условий, среды общения, социальных институтов, ролей и способов функционирования в социуме, опыт, ожидания и даже личные воспоминания, привычки и потребности в ходе модернизации общества.
Хотя Дойч связывал феномен социальной мобильности, помимо прочего, с развитием политической системы и национального государства, все же для политического анализа его концепт социальной мобилизации нуждается в конкретизации, особенно в аспекте политической субъектности. К тому же некоторые авторы противопоставляют друг другу феномены политической мобилизации и модернизации общества40.
Отчасти конкретизацию подхода Дойча осуществляет используемый в зарубежной литературе концепт «социальной мобилизации» (без привязки к его трактовке Дойчем), который привлекается при анализе деятельности гражданских (неправительственных) организаций, а также при описании протестных кампаний41. Аналогичный концепт социальной мобилизации развивается рядом отечественных социологов. В частности, О.Н. Яницкий понимает под социальной мобилизацией «коллективное действие, инициированное, как правило, социально-политическим конфликтом»42.
При таком подходе мобилизация представляется отдельным, конечным событием, которое прекращается по мере разрешения породившего его конфликта или истощения мобилизуемых ресурсов. Методологический недостаток такого понимания социальной мобилизации для анализа феномена национальной мобилизации состоит в том, что он лишен характерного для концепта Дойча аспекта макросоциальной системности, сообразной с крупными «социетальными целями»43 вроде модернизации экономики или строительства нации.
Этой же локальностью задач отмечен и концепт политической мобилизации, который встречается в работах западных и ряда отечественных политологов. Под этим концептом подразумевается прежде всего «организация партиями и движениями высокого уровня политического участия своих сторонников для победы на выборах»44, использующая, помимо прочего, концепты нации и национализма45.
Политологи М. Хельблинг, Т. Рискенс и Д. Штолле фактически редуцируют феномен и концепт национальной мобилизации к трем проекциям мобилизации политической – «инклюзивной, эксклюзивной и общей мобилизации (культурного) разнообразия»46, хотя и признают, что «некая глубинная динамика движет как мобилизацией элиты, так и массовой национальной идентичностью»47.
В своей коллективной работе они заявляют, что массовая национальная идентичность есть главным образом эффект риторики партийных лидеров общественного мнения. Эта риторика конструирует национальную идентичность наподобие PR-проекта, когда «мобилизация национальной идентичности» есть одновременно ее творение из сырого материала разного рода первичных идентификаций и культурных предпочтений электората. Из этого материала, считают они, можно «вылепить» любой тип нации – этнический, гражданский либо какой-то еще – в зависимости от общей политической ситуации и властных стратегий партийных игроков.
Таким образом, радикально-конструктивистская трактовка национальной мобилизации означает ее редукцию к мобилизации политической, что стирает различие между гражданским и этническим типом национальных проектов, заставляя его терять существенный, объективно-исторический смысл для самого процесса национальной мобилизации.
В свою очередь, российский политолог Д.В. Гончаров, напротив, расширяет смысл концепта политической мобилизации, включая в него и пропагандистскую практику «просвещения масс» в условиях авторитарных (тоталитарных) режимов. Он также говорит о «социально-политической мобилизации», которая в отличие от политической мобилизации в рамках западных соревновательных систем, где она «действует главным образом в структуре избирательных процессов», в незападных системах «приобретает гораздо более масштабный характер, пронизывая всю систему общественной жизни нации»48.
Выражение «социально-политическая мобилизация» можно рассматривать как попытку преодоления крайностей чисто социологического (лишенного политической субъектности) и чисто политологического (лишенного макросоциального системного фона) концептов мобилизации. Здесь встречаются две методологические тенденции, идущие навстречу друг другу от концептов, с одной стороны, социальной, а с другой – политической модернизации. В этом контексте национальную мобилизацию можно точнее определить как разновидность именно социально-политической мобилизации.
Методологический редукционизм в трактовке национальной мобилизации обнаруживается и в случае ее подмены концептом этнической или этнополитической мобилизации. Здесь возникает опасность того, что авторы не проводят существенного различия между этническими и национальными сообществами и в примордиалистском духе считают этнонацию уже существующей от начала веков, так что ее мобилизация означает лишь активацию уже существующей идентичности. Так, в Большой российской энциклопедии «этническая мобилизация» определяется как «один из видов социальной или политической мобилизации, продукт политизации этничности»49, т.е., ничем не отличается от этнополитической мобилизации. При этом ее содержание как социального действия, в результате которого «группы, объединяемые на основе одной или нескольких характеристик этничности (общности культуры, языка, происхождения), защищают свои экономические, социальные и культурные интересы»50, предполагает уже сформированную этническую идентичность. Аналогичным образом речь идет лишь об «актуализации» этнической идентичности при оценке ее «мобилизационного потенциала»51.
Естественным образом этнополитическая и национальная мобилизация могут совпадать в случае с национализмом, строящимся на основе этнической идентичности (этнонационализмом). Вследствие этого встречаются конструктивистские трактовки этнополитической мобилизации, которые, по сути, совпадают с нашим пониманием (этно)национальной мобилизации.
К примеру, А.А. Ачкасов рассматривает в качестве первого этапа этнополитической мобилизации «этап конструирования и мобилизации “народности”», который предполагает состояние этничности, когда ее «территория закреплена, национальные языки и элиты созданы, история народов написана, традиции “подобраны”, “образ врага” уже появился (в латентной форме)»52. В сходном с «этнополитической мобилизацией» смысле употребляет термин «националистическая мобилизация» (англ. nationalist mobilization) американский социолог Роджер Брубейкер, описывая реалии позднесоветского общества53.
Для таких случаев мы считаем более предпочтительным термин «этнонациональная мобилизация», четко указывающий на мобилизацию, в результате которой не просто активируется этничность, но формируется коллективная национальная идентичность. Этническая же мобилизация понимается нами в соответствии с определением А.В. Качкина как усиление консолидации группы на основе этнической идентичности, что противопоставляет ее другим социокультурным общностям54. И только когда этническая мобилизация превращается в фактор политики или проводится с политическими целями, она становится этнополитической. При этом национальная мобилизация не ограничивается этнонациональной, которая является одним из ее типов.
Если проанализировать имеющиеся в отечественных и зарубежных энциклопедических изданиях определения социальной, политической и этнополитической мобилизации, то в них в качестве ключевых наиболее часто называются два момента: 1) чрезвычайная (пороговая) ситуация для данного социума; 2) форсированное (концентрированное) использование ресурсов. Однако для анализа национальной мобилизации данные моменты необходимо существенно конкретизировать.
Во-первых, в нашем случае речь идет не об отдельной акции как «относительно кратковременном действии, вызванном экстремальной и вполне конкретной ситуацией», но об «устойчивом мобилизационном состоянии» в процессе решения долгосрочных «социетальных задач»55, о «масштабных и длительных трансформациях»56, каковым, без сомнения, является нациестроительство.
Во-вторых, в случае национальной мобилизации более важным мы считаем не форсированное, а стратегически организованное, коллективное и долгосрочное использование ресурсов. А это предполагает в первую очередь не увеличение объема и разнообразия ресурсов, но обеспечение их доступности массе вовлеченных в мобилизацию социальных акторов57.
Отсюда, в-третьих, вытекает, что национальная мобилизация представляет собой не только использование ресурсов, но «процесс формирования идентичности, который конструирует и реконструирует себя в жизненном процессе отдельных лиц и групп и через их различные лица, роли и обстоятельства»58.
Другими словами, ресурсный подход в трактовке национальной мобилизации должен быть дополнен идентитарным, который, по утверждению российского политолога Л.А. Фадеевой, можно использовать в случаях, когда концепт идентичности служит для анализа «субъективной составляющей социально-политических трансформаций»59.
Вслед за социологом Амитаем Этциони мы готовы утверждать, что в национальной мобилизации как разновидности мобилизации социально-политической возникают процессы, которые «влекут за собой трансформацию вовлеченных в них социальных единиц»60. Как указывает другой социолог Альберто Мелуччи, в процессе мобилизации «происходит настоящая “мутация”, реструктурируется “генетический код” группы, что позволяет сформировать новую социальную единицу, способную создавать новые ресурсы»61.
Следует отличать национальную идентичность отдельного индивида, формирующуюся в результате его идентификаций с воображаемой, но тем не менее реальной для него национальной общностью, и коллективную идентичность самой этой общности. И поскольку коллективная национальная идентичность есть непрекращающийся процесс ее конструирования в коллективном действии62, национальная мобилизация не может ограничиваться только каким-то конечным этапом генезиса нации. В этой связи мобилизация есть способ не только формирования, но и поддержания самого существования коллективной национальной идентичности и через нее – нации.
Помимо отличия концепта национальной мобилизации от прочих форм мобилизации, следует прояснить отношение данного концепта к понятиям национализма, национального строительства и национального движения. Из этих четырех понятий самим большим по объему мы считаем концепт национального движения, а самым малым – понятие национализма. Концепт нациестроительства, если брать его в нейтральной, а не радикально-конструктивистской версии, описывает преимущественно роль социальных элит в национальном движении. Однако последнее этой ролью не исчерпывается, включая, по словам Гроха, «организованные попытки по обретению всех атрибутов полноценной нации (которые не всегда и не везде бывали успешными)»63. А это подразумевает и те феномены, которые выходят за рамки стратегий и ожиданий национальных «строителей» и «конструкторов»64.
Эти последние, со своей стороны, не обязательно должны быть националистами по своим политическим убеждениям, а национальное движение – националистическим по своей идеологии. По справедливому утверждению Джона Бройи, национализм как «мировоззрение, в рамках которого придается абсолютный приоритет ценностям нации над всеми иными ценностями и интересами»65, являлся лишь одной из многих форм национального сознания, которые рождаются в рамках национального движения. Британский историк указывает на случаи, когда «национальные чувства разделялись очень многими, но при этом они не связывались ни с выработкой националистических доктрин, ни с появлением значительных националистических политических движений»66. Соответственно, и национальная мобилизация не всегда выступает как мобилизация националистическая.
Тем не менее сам Бройи использует более узкое понимание национальной мобилизации, определяя ее как «применение националистических идей для обеспечения поддержки политическому движению среди широких слоев, которые прежде были выключены из политического процесса»67. При этом априори предполагается, что национальное сознание в основном распространяется сверху вниз – от местной националистически настроенной интеллигенции на широкие слои общества в ходе конкурентной борьбы за власть между элитами68. Это, однако, не является очевидным, тем более что Бройи признает: «мобилизация масс, которая подчас действительно происходит, может быть связана скорее с его (националистического движения. – Авт.) апелляцией к групповым интересам или ценностям ненационалистического порядка, нежели с националистическими пропагандой и деятельностью»69.
Таким образом, национальная мобилизация, являясь разновидностью социально-политической, по своему понятию шире, чем националистическая идеология (национализм), но у´же, чем национальное движение. Она охватывает и элиты, использующие ее в политических целях, и массы, которые также являются творцами национальной мобилизации. Помогая создавать и поддерживать национальную идентичность в долгосрочной перспективе, мобилизация является и формой нациестроительства, и условием существования нации.
Специфика национальной мобилизации
Теперь попробуем разобраться с сущностными характеристиками национальной мобилизации, которую мы сопоставляем со структурными фазами национального движения, выделенными М. Грохом. На первой, подготовительной стадии («А») национальные активисты занимаются сбором и фиксацией особенностей недоминантной группы; на второй («В») начинается активная агитация, получающая во второй полуфазе отклик этнической группы; третья фаза («С») характеризуется массовостью националистического движения70.
Мы считаем, что национальная мобилизация начинается на средней фазе «В», с началом «патриотической агитации», организуемой национальными активистами и призванной разбудить среди населения национальное самосознание (вектор ее движения – сверху вниз)71. Затем мобилизация продолжается в заключительной фазе «С», где «агитация сверху вниз дополняется низовым массовым творчеством, инициативами снизу вверх, а также на горизонтальном уровне коммуникации. Сюда относятся неформальные дискуссии в публичных местах, спонтанные акции поддержки либо протеста, собственно национальный фольклор»72.
Таким образом, национальная мобилизация в отличие от мобилизации в пороговых (критических, кризисных, катастрофических и т.п.) социальных ситуациях не носит эпизодического характера, но составляет нормальный способ существования национальной общности. Поэтому она не исчерпывается только агитацией и пропагандой символически выраженных национальных или тем более исключительно националистических идей, но включает в себя «любой процесс целенаправленного вовлечения отдельных людей либо целых групп в общественно-политические акции и/или движения»73, ведущие к формированию и поддержанию национальной общности74. А это вовлечение зачастую гораздо эффективнее осуществляется посредством дела, а не слова.
Несколько перефразируя чешского историка Франтишека Грауса, национальную мобилизацию можно определить, как «национальное сознание, реализуемое в действиях»75. И этому сознанию присущи особенности, которые никогда не вписываются вполне (если вообще вписываются) в националистические доктрины. Как заметил американский историк Гопал Балакришнан, национальному сообществу присуща своя «спонтанная идеология, невосприимчивая к разоблачению с позиций теории» и несовпадающая с любыми идеологическими «измами»76.
Данная спонтанная идеология выходит далеко за рамки собственно ее «строительства» – она предполагает комплекс социально-политических (в широком смысле) реформ, идущих перманентно, сообразно духу времени, пока нация существует. Специфика модернистского (в смысле Э. Смита77) концепта нации в том и состоит, что он делает мобилизацию (понятую, однако, шире, чем простая сумма стратегий национальных конструкторов) неотъемлемым условием самого существования нации как «ежедневного плебисцита».
С учетом сказанного выше национальную мобилизацию можно определить как стратегически организованную, целенаправленную деятельность по организации разнообразных ресурсов для вовлечения индивидов и групп в социально-политические акции, кампании и движения, в ходе которых формируются идентификации людей с национальной общностью и конструируется коллективная идентичность нации на основе исходных сетей причастности индивидов к различным сообществам, воображаемого национального «врага» и пропагандируемого концепта нации как цели движения.
Данное определение перекликается в общих моментах с концептом социальной мобилизации, предложенным Мелуччи. Итальянский социолог называл три основных фактора, без которых социальная мобилизация не может осуществляться: 1) исходные коллективные идентичности участников движения; 2) понятие врага (противника, соперника и т.п.) движения; 3) определение цели движения как образ его будущего78.
Под исходными коллективными идентичностями у Мелуччи подразумевается «первичная сеть принадлежности к различным сообществам»79, которая дает людям опыт совместных солидарных действий. Без этого опыта при наличии полностью атомизированных и «социально бездомных» индивидов процесс мобилизации стартовать не может. «Начало мобилизации, – подчеркивает Мелуччи, – всегда является делом тех, кто уже коллективно обладает идентичностью и стремится защитить ее от неминуемой угрозы перемен»80. Такого рода установка типична для участников любой национальной мобилизации, в особенности той, что ведется от имени «национальных меньшинств». В случае национальной мобилизации исходные коллективные идентичности можно – вслед за Эриком Хобсбаумом – назвать «протонациональными привязанностями» (англ. proto-national identities)81.
В этой связи принципиально важным мы считаем тезис Георгия Дерлугьяна о том, что для национальной мобилизации большое значение имеют разветвленные социальные сети («сети повседневных обменов»), задействующие солидарность дружеских и соседских связей, которые им обозначены как протооппозиционные82. Рассматривая социальную мобилизацию на закате СССР, Дерлугьян считает, что она была спровоцирована «структурным напряжением» между активистской интеллигенцией и консервативной партийной номенклатурой через противостояние дружеских сетей, с одной стороны, и сетей покровителей-рантье и их подопечных – с другой83.
По утверждению Дерлугьяна, прежде чем перейти в национальную, мобилизация в период распада Советского Союза прошла ряд одинаковых для всех республик стадий классовой и гражданской мобилизации, объединяло которые неизменное ядро прото-оппозиционных сетей, разделявших ряд общих для всего СССР проблем – социал-демократизация, рыночная либерализация, права и свободы и даже экология84.
Дерлугьян выделяет особую роль в этнонационалистической мобилизации национальных интеллигенций как локализованных в республиканских столицах «предгражданских обществ», которые были поддержаны маргинализированными активистами-субпролетариями85. В этой связи ценным является замечание Юргена Хабермаса о том, что распространение националистических идей идет сверху вниз посредством деятельности интеллектуалов и ученых, однако сами эти идеи основаны на широко укорененных в массах дополитических представлениях о нации86. Смит обозначил это явление как повторное открытие отчужденной интеллигенцией этнического прошлого, основанного на живой традиции87.
Помимо языка, религии, региональных и прочих культурных традиций как основы «протонациональных привязанностей», которые особо значимы в случае этнонациональной мобилизации, Хобсбаум указывает также на опыт совместного проживания в едином государстве. При этом само чувство причастности к государству, «привычка к пассивному самоотождествлению» с ним88 создают предпосылки для государственного патриотизма, играющего важную роль в гражданской национальной мобилизации. Однако и переоценивать эту роль также не следует: чувство единой политической общности, которое внушается государственным патриотизмом, далеко не всегда равнозначно наличию коллективной национальной идентичности89. Чувства имеют временный характер, а идентичность для своего формирования предполагает систематические и продолжительные усилия в рамках национальной мобилизации.
Мы можем предположить, что любая национальная мобилизация нацелена на определенный концепт нации, существенно разнящийся в зависимости от типа национализма, который данный концепт реализует. Тем самым национальная мобилизация требует разделения по типам – как делятся нации и национализмы. Вопрос о типологии национальной мобилизации, однако, представляет собой отдельную и сложную тему, потому что историки и политологи далеки от консенсуса относительно типологизации самих наций. Более того, в последние годы набирает популярность тезис о научной иррелевантности такой типологизации.
Так, известный западный социолог Роджерс Брубейкер, в свое время сделавший немало для популяризации различия между этническим и гражданским концептами нации, позже поставил его релевантность под сомнение, утверждая, что упомянутые концепты неоднозначны, а их различие догматизировано90. В отечественной науке принципиальность различия между гражданским и этническим типами нациестроительства в значительной степени актуализировал в своих работах академик В.А. Тишков, с точки зрения конструктивистского подхода отмечающий, что нация – это не более чем «воображаемая общность, социальный конструкт, политическая метафора, обладающая мобилизующей силой»91. Более того, ученый предложил радикально-конструктивистский концепт «нации наций», в котором гражданская нация вмещает в себя ряд этнических наций92.
Одновременно как в отечественной, так и в зарубежной науке отмечается тенденция «инфляции» понятия нации и возврата к «досовременным, дополитическим трактовкам нации как рода, землячества или сословия»93. Вопреки этой тенденции мы будем использовать ставшее классическим разделение на этнические и гражданские нации, поскольку не видим на данный момент адекватной ему альтернативы.
Типы национальной мобилизации
Для научной типологизации наций, национализмов, национальных движений и мобилизаций необходимо критически рассматривать соответствующие концепты нации в сознании националистов-активистов. Как справедливо заметил Геллнер, «национализм – совсем не то, чем он кажется, и прежде всего национализм – совсем не то, чем он кажется самому себе»94.
В этой связи представляется целесообразным ввести различие между идеальным типом в смысле М. Вебера и концептом национальной мобилизации95. Идеальный тип – это мысленный конструкт, аналитический инструмент, он чист по определению, поэтому не может представлять собой гибридный или имитационный феномен. Типом оперирует ученый, объективно описывающий реальную национальную мобилизацию. Концепт же национальной мобилизации есть продукт сознания самих участников процесса, которые не задумываются о том, какой тип нацмобилизации они реализуют. И выбирают они не тип национальной мобилизации, а определенный ее концепт.
Концепт может быть гибридным, содержащим в себе элементы нескольких типов национальной мобилизации, или имитационным, т.е., на деле реализовать совсем другой тип мобилизации, чем он публично (официально) демонстрирует. Но опять же, гибридность – это уже та характеристика концепта национальной мобилизации, которую ему приписывает внешний ученый наблюдатель, вооруженный идеальными типами. А для самого политического актора (или в организованной им пропаганде) он может представляться цельным, органичным и непротиворечивым.
Для нас нет сомнения в том, что практически каждый конкретный случай обнаруживает известную относительность различия между гражданским и этническим концептами нации. Российский социальный антрополог Е.И. Филиппова не без основания замечает, что «национальная идентичность, подразумевающая чувство солидарности и коллективного членства, трансформируется с течением времени в этничность (т.е. субъективное ощущение культурного единства)»96. Добавим, что такого рода трансформация характеризует скорее националистический, чем просто национальный дискурс. И чем менее значимой для человека является его этническая идентичность в ряду других идентичностей, тем более гражданским оказывается у него представление о нации.
Важнейшим критерием деления гражданского и этнического типов национализма являются идеологические основания их построения – «либеральная идея универсальных прав человека» для первого и «консервативный по духу концепт прав отдельного народа» для второго. В этой связи «гражданская национальная общность в тенденции инклюзивна, а этническая – эксклюзивна. И восприятие исторического времени у этих национализмов тоже разное: гражданская нация воображается как современный феномен, а этническая – как седая древность»97.
Для нас различие между этническим и гражданским концептами нации является отправным пунктом для типологизации национальных мобилизаций. В целом же для такой типологизации мы принимаем во внимание два основания: 1) по главному субъекту национальной мобилизации; 2) по соотношению национальной общности и национальной территории.
Вначале остановимся на типологизации национальных мобилизаций по первому основанию. Заметим, что типология национальных мобилизаций тесно связана с типологией национализмов, поскольку у этих явлений часто (хотя и не всегда) одни и те же основные субъекты. Хотя вариантов классификаций и типологий национализмов не меньше, чем типологий наций, для нас наиболее подходящей представляется функциональная типология, предложенная немецким историком Гансом-Ульрихом Велером.
Он различает интегрирующий, унифицирующий, сецессионистский и трансферный типы национализмов, одновременно рассматривая эти типы как определенные фазы в развитии феномена национализма как такового98. Типичными случаями интегрирующего национализма являются, по Велеру, Англия, Северная Америка и Франция, где вследствие «внутригосударственной революции» национализм образовал национальное государство, переформатировав на новой легитимационной основе старую систему власти.
В случае унифицирующего национализма как второго этапа в развитии европейского национализма государство-нация возникает из разных государственных образований, рассматриваемых как части якобы уже существующей нации, а на самом деле – из разных этнических групп. Этому примерно соответствует случаи нациестроительства в Италии и Германии XIX в. Третий этап в развертывании европейского национализма, т.е. сецессионистский национализм, Велер связывает с образованием национальных государств по мере распада многонациональных империй в ходе Первой мировой войны.
Эти три типа национализма немецкий историк толкует идеально-типическим образом, тогда как в исторической реальности, считает он, встречаются их гибридные формы, даже в упомянутых типичных случаях. Наконец, под трансферным национализмом он понимает перенос европейско-американской модели нациестроительства на другие регионы планеты, в особенности на бывшие колонии европейских держав.
Недостаток типологии Велера состоит в том, что в ней нет четкого и единого концептуального основания. В то же время, если отбросить тип трансферного национализма, явно выбивающегося из этого типологического ряда, то оставшиеся три можно идеально-типическим образом различить по их главному субъекту. В первом случае это прежде всего гражданские элиты, в третьем – этнические, а во втором – государственные. Аналогичным образом мы будем в дальнейшем различать три идеальных типа национальной мобилизации: гражданский, этнический и государственный.
Разумеется, эти типы национальной мобилизации нельзя отрывать друг от друга, поскольку они, как заметил Велер, отражают историческую логику развития европейского национализма. И согласно этой логике, государственная национальная мобилизация выступает логическим продолжением как гражданской, так и этнической национальной мобилизации (хотя исторически она может в случае официального национализма империй или дворянского национализма существовать до или рядом с этими типами мобилизации).
Активисты гражданских или этнических национальных движений, обретя государственную власть, продолжают строить/ сохранять нацию посредством государственно-национальной мобилизации, что может приводить к коррекции не только ресурсной базы движения, но также состава ее главных акторов и самого концепта нации (так, этнонациональный концепт может быть переформулирован в общечеловеческих и гражданских терминах или наоборот).
Типология национализмов Велера, как и предложенная нами трехчленная типология национальных мобилизаций, обнаруживает корреляцию с тремя типовыми случаями (стратегиями) национальных движений, выделенными Бройи. В зависимости от того, какую часть государства представляет образуемая нация, он различает три стратегии: сепарация (образуемая нация – часть государства); реформа (образуемая нация совпадает с уже наличным государством); унификация (образуемая нация занимает более чем одно государство)99. Сепарация типична для сецессионистского национализма (или этнонациональной мобилизации), реформа – для интегративного национализма (или гражданского типа национальной мобилизации), а унификация – для унифицирующего национализма (или государственно-национальной мобилизации).
При этом соотношение двух типологий национальной мобилизации (по субъектному и по территориальному признаку) не является однозначным. Каждый из типов национальной мобилизации по ее основному субъекту может реализовать сразу несколько стратегий (сепарацию, реформу и/или унификацию), поскольку включает в себя несколько типов мобилизации по территориальному признаку. Так, государственно-национальная мобилизация кажется, на первый взгляд, ближе всего к случаю, когда нация совпадает с территорией данного государства. Однако, как верно замечает Эгберт Ян, «государственный национализм – это нередко в действительности скрытый этнонационализм, который, пользуясь демократическими процедурами, прикрывает фактически этническую диктатуру большинства – этнократию»100. Поэтому государственно-национальная мобилизация может включать «этнические меньшинства по их собственной воле или против нее, а также членов одного и того же этноса <…> в соседних государствах»101.
Далее мы рассмотрим подробнее в контексте многосоставности обществ основные типы национальной мобилизации с учетом трех упомянутых выше факторов любой социальной мобилизации – первичных идентичностей, образа врага и основной цели движения. Мы не ставим перед собой задачу изложить исчерпывающую типологию национальной мобилизации, но ограничимся только указанием тех ее типов, которые релевантны для случая многосоставных обществ.
Переходя к рассмотрению типов национальной мобилизации, укажем, что наиболее релевантными для случая многосоставных обществ с этнокультурной сегментацией мы считаем государственный и этнический типы, которые четко отличаем от гражданского типа национальной мобилизации.
Но вначале поясним, что мы подразумеваем под спецификой гражданско-национальной мобилизации. Субъектом этого типа национальной мобилизации выступают гражданские активисты, которые в своем понимании национальной общности руководствуются общегражданскими (общечеловеческими), а не этническими ценностями. Соответственно, в национальное движение рекрутируются все жители национальной территории, независимо от их этнокультурных и прочих различий.
Отличительной чертой гражданско-национальной мобилизации выступает не только высокая степень открытости (инклюзивности), но также требование последовательного равенства, вплоть до эгалитаристских практик (как в случае национально-коммунистической мобилизации). Гражданский идеал нации плохо согласуется с признанием политических привилегий на основе групповых (сословных, классовых, религиозных, половых и т.д.) различий.
Широта социального базиса гражданско-национальной мобилизации объясняет разнообразие и силу ее ресурсной базы. Особо следует указать на широту символическо-идеологических ресурсов гражданско-национальной мобилизации, которые всегда выходят за рамки сугубо националистической идеологии. И хотя этот тип мобилизации не может рассчитывать на поддержку государственных органов как таковых (с их эффектом унификации, столь важным для построения любой нации), он, с другой стороны, лишен рисков их бюрократического воздействия и государственного формализма.
Более того, государственные структуры могут относиться враждебно к гражданско-национальному движению. Последнее еще должно завоевать государство (если оно имеется) либо построить (возродить) его. Правда, право нации на политическое самоуправление в пределах своей территории акцентируется не только в гражданской, но и в любой национальной мобилизации. Однако в идеологии гражданско-национальной мобилизации отсутствует характерный для этнонационализма принцип «священного эгоизма нации» и подчеркивается право не только своего, но и всех народов на самоопределение и образование нации в пределах населенной ими территории.
Гражданский концепт национальной мобилизации предполагает расширение национального сообщества за счет новых членов, если те пожелают быть таковыми. По словам Хобсбаума, цель классического либерального национализма состоит в «расширении масштабов социального, политического и культурного единства людей, т.е. скорее в объединении и расширении, нежели в ограничении и обособлении»102.
Признание первостепенной роли для членов национальной общности именно гражданских, а не этнокультурных отличий – это не только право, но и обязанность членов гражданской нации. Это убеждение формируется уже в ходе соответствующей национальной мобилизации, которая предполагает «гомогенизирующую ассимиляторскую политику в области образования, культуры и языка»103.
Независимо от того, реализует или нет гражданско-национальная мобилизация принцип коллективных прав меньшинств, она гарантирует полный набор прав прежде всего каждому отдельному гражданину и подтверждает слова французского революционного депутата С. де Клермон-Тоннера, сказанные им в 1789 г.: «Отвратительно, когда существует общество неграждан внутри государства или нация внутри нации»104.
В свою очередь, главным субъектом государственно-национальной мобилизации выступают государственно-организованные социальные и политические акторы. Сама форма государства может быть при этом различной и в разной мере адекватной многосоставности общества: империей (исторически) либо (в наши дни) национальным государством, федерацией либо даже унитарным государством. В любом случае фактически речь идет о многосоставном, т.е., разделенном на сегменты обществе.
Особенность ресурсной базы государственно-национальной мобилизации по отношению к другим типам национальной мобилизации состоит в преимуществах, которые дает государственный аппарат. Причем речь идет не только об организации государством соответствующей агитации и пропаганды, но также об использовании экономических и военных ресурсов, особенно в период войн, кризисов, реформ (например, сталинская индустриализация в СССР, земельная реформа в маоистском Китае).
Официальную санкцию получает в государственно-национальной мобилизации и образ национального врага – в отличие от гражданской или этнической мобилизации, где само государство может квалифицироваться в качестве врага рождающейся нации. Здесь же задача мобилизации существенно облегчается за счет использования символического ресурса государственного патриотизма: все защитники или враги государства (особенно если это не мнимые, а реальные защитники и враги) выступают одновременно (и презентуются пропагандой в качестве таковых) как защитники или враги нации.
Драйвером государственно-национальной мобилизации выступает не стихийно возникающее государство, но государство как эффект деятельности националистически настроенных элит, которые его вообразили еще до его фактического возникновения. По словам Хабермаса, в таких «поздних» национальных государствах, как Италия и Германия, «образование государства просто шло по следам национального сознания, складывавшегося, в свою очередь, вокруг общего языка, общей истории и культуры»105. И в это национальное сознание элиты вносили идеологически разные оттенки национального проекта: либерально-демократические, консервативные, позднее даже коммунистические.
Этот момент роднит гражданскую национальную и государственно-национальную мобилизации: обе не обязательно выступают под флагом националистической идеологии. Этим данные типы мобилизации отличаются от этнического типа. Многие авторы обращают внимание на гибридный характер националистической идеологии как средства мобилизации106, но недооценивают национально-мобилизационную функцию любой идеологии для национальной мобилизации. Даже коммунизм может иметь такую функцию, но главным образом не потому, что содержит элементы национализма, а потому, что реально формирует коллективную гражданскую идентичность. Нация здесь оказывается не целью социальной мобилизации, а ее побочным продуктом107.
В этом выражается идеологическая двусмысленность государственно-национальной мобилизации – она носит переходный и неопределенный характер по своему конечному вектору, нередко демонстрируя этнонационалистический уклон («национализирующее государство»108 по Брубейкеру). Таким образом, неясность и неустойчивость цели (концепта формируемой нации) составляет наиболее уязвимый момент государственного типа национальной мобилизации.
Если гражданско-национальная мобилизация разворачивается снизу, в процессе освободительного движения против врагов внутри государства (королевская/имперская власть) либо вне его (иностранные интервенты), то государственно-национальная мобилизация идет сверху, от имени и под покровительством государственных структур. Это, разумеется, не исключает того, что такой «мобилизации сверху» может предшествовать гражданская «мобилизация снизу» (в процессе национального объединения Италии и Германии это было типичным случаем). В любом случае выделение особого, государственного типа национальной мобилизации объясняется, помимо прочего, тем, что «национализм с целью учреждения государства значительно отличается от национализма с целью сохранения государства»109.
Главным субъектом этнической национальной мобилизации выступают этнонационалистические активисты, оппозиционные «материнскому» государству, т.е., государству их актуального проживания. По словам Отто Данна, «характерной чертой национально-этнического мышления является то, что нация в первую очередь представляется как общность одного этнического происхождения, на котором и основывается политическое единство общества. Не общая государственность, а принадлежность к этнической общности рассматривается как основа нации»110.
Этническая национальная мобилизация в отличие от гражданской и государственной всегда ведется националистами. Правда, идеология этнонационализма тоже допускает гибридизацию с другими идеологиями, но только при сохранении нации как ядерного концепта111.
Этнический (или этнизирующийся) статус национальной мобилизации очень хорошо обнаруживается в отношении к потенциальным членам нации, поскольку те формы этнонациональной мобилизации, которые выдают себя за государственные либо гражданские, четко обнаруживают свою истинную суть враждебным отношением к иноэтничной миграции. Эта позиция имеет прямое отношение к пониманию «врага» в этнонационалистической идеологии.
В идеологии этнонациональной мобилизации «враг» локализуется прежде всего внутри, а не вне национальных границ. Поэтому призыв к национальному единению фактически подразумевает сознательный раскол общества, этническую селекцию, за которой в условиях вооруженного конфликта следует этническая чистка. Вслед за Брубейкером мы видим нераздельность в идеологии этнонационалистической мобилизации двух моментов: «распространение и укрепление установки в качестве мобилизующегося национального меньшинства с требованием признания и наделения правами возможно только при распространении и укреплении образа государства проживания как национализирующего или национально угнетающего»112.
К специфике ресурсной базы этнонациональной мобилизации относится, во-первых, особый акцент на новейших техниках пропаганды и агитации, делающих ставку не на аргумент, а на внушение. Как отмечает российский политолог В.А. Ачкасов, суть этнополитической мобилизации состоит в манипулировании символическими ресурсами этнической группы, которым занимаются прежде всего элиты, отождествляющие себя с данной группой и стремящиеся вместе с ней обрести общую политическую/государственную идентичность113.
Эта особенность объясняется архаическим пониманием нации как сообщества родственников. С этим же, по-видимому, связан пропагандистско-идеологический акцент на теме войны, тенденция к милитаризации политического поведения. Кроме того, этнонационализм шире, чем прочие типы национальной мобилизации, использует упомянутую выше первичную сеть принадлежности к различным традиционным сообществам (или сеть «протонациональных идентичностей» в терминологии Хобсбаума). Эта черта опять же объясняется склонностью этнонационалистов толковать национальную общность как извечную.
Вследствие этого основной целью этнической мобилизации является собрание в одном национальном государстве всех этнических родственников, часто разделенных существующими государственными границами либо проживающих на правах меньшинства в условиях многосоставного общества (полиэтнического государства).
Именно цель этнонациональной мобилизации, по мнению Брубейкера, задает ее специфическую «триадическую конфигурацию», а именно отношения «между национальными меньшинствами, национализирующими государствами и внешними национальными “родственными государствами” (external national homelands)»114. При этом происходит столкновение двух национализмов: «национализирующего» национализма государства проживания и национализма «родственных государств», «к которым они принадлежат, или подразумевается, что они принадлежат по этнокультурной связи, хотя (обычно) и не в рамках легального гражданства»115.
Здесь важно отметить, что катализаторами этнонациональной мобилизации в условиях упомянутой триадической системы отношений являются не только властные амбиции лидеров этнических меньшинств, но также политика как государства проживания, так и зарубежных этнических родственников данных меньшинств. Причем последние не исчерпываются только этнически родственными государствами, но также включают родственные этнические меньшинства в иных «государствах проживания», т.е. диаспоральные сети.
Диаспоральный аспект национальной мобилизации
Для выработки аналитической модели в отношении национализма диаспоры следует рассмотреть разработанные к настоящему времени концептуальные подходы. Для обозначения особого вида национализма в диаспорах уже в 1949 г. Ричардом Алонзо Шермерхорном был введен термин «национализм страны происхождения» (англ. home country nationalism)116.
В 1983 г. Геллнер представил свою классификацию национализмов, в которую входил особый тип «национализма диаспоры» (англ. diaspora nationalism), при котором в условиях разности культур находящейся у власти и недоминантной групп диаспора имеет доступ к высокой культуре через образование, а господствующая группа – нет117. Значимость для нас имеет и утверждение Геллнера, что триггером национализма диаспоры является реальная угроза ассимиляции и полного исчезновения118.
В 1992 г. Бенедикт Андерсон предложил особый термин для обозначения национализма диаспор – «дистанционный национализм» (англ. long-distance nationalism)119. Развивая свой концепт наций как «воображаемых сообществ» (англ. imagined community)120, Андерсон дополнил его «воображаемой родиной» (англ. imaigened heimat), позволяющей «дистанционным националистам» осуществлять заочное участие в политической жизни без прямой ответственности, т.е. выплаты налогов, голосования, соблюдения законодательства и пр. Андерсон был склонен рассматривать такой вид национализма в негативном ключе, характеризуя дистанционных националистов как людей, не чувствующих прямой ответственности за свои действия, а потому способствующих распространению насилия и радикализации на своей исторической родине121.
Одним из последних значимых концептов является «диаспоральный транснационализм», введенный американским политологом Хачиком Тололяном для обозначения изменений «изгнаннического национализма» (англ. exilic nationalism) евреев и армян под влиянием транснационализма и глобализации122. Эту концепцию развил армянский политолог Арег Галстян, заявивший о появлении в качестве «парадоксального продукта глобализации» новой формы устройства нации, а именно «транснациональных политических наций» (ТПН), не имеющих физических (географических) границ. Будучи результатом глобализированного сетевого нациестроительства, эти нации направляют все силы рассеянной диаспоры на поддержание государства исхода, в том числе через лоббистскую деятельность транснациональной элиты – «диаспоральной аристократии»123.
Поскольку члены диаспоры живут в разных странах, а некоторые из них настолько ассимилированы, что даже не говорят по-армянски, А. Галстян предпочитает в своем конструкте транснациональной армянской нации видеть именно «политическую», а не этническую (замкнутую в сугубо диаспоральных интересах этнокультурного выживания) общность. И по его мнению, для такой транснациональной политической нации общий (национальный) язык не является определяющим фактором124.
Автор концепта транснациональной политической нации не дает ответов на вопросы, как может существовать политическая нация без гражданства в соответствующей политии и какой, если не этнической, может быть общность, которая свои «глобальные возможности» направляет на защиту интересов своей армянской, т.е. этнически определяемой, страны-происхождения. В любом случае для оценки концепта «транснациональной диаспоральной нации» требуется уточнить, во-первых, понятие диаспоры; во-вторых, смысл ее «транснациональности».
Тезис Галстяна о том, что «транснациональные политические нации могут сформировать только малые народы и страны»125, имеет в основе традиционный концепт диаспоры, поскольку термин «диаспора» применялся только к общепризнанным народам рассеяния, среди которых, помимо евреев и цыган, упоминаются и армяне126. Впрочем, большинство исследователей считают такое понятие диаспоры устаревшим и включают в него – с учетом современных глобальных тенденций – представителей любых народов.
В современных представлениях о диаспоре есть две крайние трактовки данного феномена. В широком смысле диаспорами считают любые этнические группы, по каким-либо причинам проживающие за пределами страны своего происхождения127. По справедливому замечанию Тишкова, эта позиция «фактически не делает различий между иммигрантами, экспатриантами, беженцами, гастарбайтерами и даже включает старожильческие и интегрированные этнические общины»128. Однако сам Тишков, по мнению ряда авторов129, впадает в другую крайность, отказывая в праве на диаспоральный статус этническим сообществам, лишенным националистических амбиций, хотя и поддерживающим сеть взаимоотношений с исторической родиной и с этническими родственниками в других странах.
Так, по утверждению Тишкова, диаспора «как политический проект и жизненная ситуация выполняет особую по сравнению с этничностью миссию. Это – политическая миссия служения, сопротивления, борьбы и реванша»130. Данная миссия предполагает, что диаспоральное сознание – это в обязательном порядке «романтическая (ностальгическая) вера в родину предков как подлинный, настоящий (идеальный) дом и место, куда представители диаспоры или их потомки должны рано или поздно возвратиться»131.
Нам такая черта диаспорального самосознания представляется обязательной характеристикой лишь его этнонационалистических разновидностей, а не общим его отличительным признаком. Представления об исторической родине в этническом самосознании диаспоры, как правило, довольно смутные, начинают обретать четкую структуру именно в контексте этнонационалистической мобилизации с ее мифами, героями, памятными местами и ритуалами.
В качестве же отличительных черт собственно диаспорального феномена мы – на основании исследовательской литературы, реализующей срединный путь между упомянутыми крайностями, – выделяем следующие.
Диаспора является по своей природе этническим, а не этнополитическим (этнонациональным) феноменом. Диаспора может быть втянута в этнонациональный проект, но политизация ее этнического самосознания не выступает необходимой отличительный чертой любой диаспоры. Далее, диаспора является не любой этнической группой, но «особым видом этнического меньшинства»132, представители которого в результате дисперсной миграции, помимо гражданства определенного государства, имеют еще и так называемую историческую родину как страну исхода вне принимающей страны. Диаспора – это именно «устойчивая совокупность людей единого этнического происхождения, живущая в иноэтническом окружении за пределами своей исторической родины»133.
Устойчивость этому этническому меньшинству придает объединяющее его этническое сознание, внешне проявляющееся в форме самоназвания (этнонима) и предполагающее коллективную память, в которой образ исторической родины играет ключевую роль. Для сохранения своей коллективной идентичности и тем самым противостояния угрозе культурной ассимиляции в стране проживания диаспоре свойственно наличие «общности определенных организационных форм ее существования, начиная от такой формы, как землячество, и кончая наличием общественных, национально-культурных и политических движений»134.
В современных условиях данные организационные формы не ограничиваются пределами страны проживания диаспоры, но с необходимостью организованы как сетевое диаспоральное пространство, включающее в себя «не только совокупность этнических общин внутри одной страны, но и трансгосударственные сети, на постоянной основе объединяющие их с исторической родиной, с родственными диаспорами в других странах»135. Современная диаспора – это сеть связей, состоящая из трех элементов: отдельной диаспоры в данной принимающей стране, исторической родины (страны исхода) и этнически родственных диаспор в других странах проживания.
Упомянутые диаспоральные «трансгосударственные сети» включают в себя «разнообразные контакты и связи, устанавливаемые социальными группами, политическими структурами и экономическими институтами поверх государственных границ»136. Другими словами, речь идет о «трансграничной инфраструктуре» диаспор, дающей основание говорить о том, что «явление диаспоры приобретает транснациональный характер»137.
Тишков идет дальше и говорит о «формировании транснациональных общностей за привычным фасадом диаспоры»138. Эти общности составляют люди, которые находятся «не между двумя странами и двумя культурами (что определяло диаспорное поведение в прошлом), а в двух странах (иногда даже формально с двумя паспортами) и в двух культурах одновременно»139.
Выражения «транснациональный», «трансграничный», «транс-государственный» и другие в этом контексте являются синонимами, поэтому любой разговор о «транснациональной нации» оказался бы здесь парадоксом: даже если признать факт существования «транснациональных общностей за привычным фасадом диаспоры», эти общности по определению не могут быть нацией, поскольку не проводят сакрализованного национальным воображением разграничения между «мы» и «они».
Это, впрочем, не исключает влияния националистически настроенных элементов диаспоры на политический процесс в «стране исхода». Но национализм здесь подразумевается вполне традиционный, этнический, а не «транснациональный». И этот национализм делает людей, живущих в диаспоре, частью этнической нации на исторической родине, одновременно превращая их в нелояльных граждан среди национального сообщества принимающей страны.
Социально-политические технологии
Анализ сложной системы отношений, в которых находится «рождающаяся нация», определяет важность учета этнокультурной сегментации. Но каков будет исход конкурентной борьбы национальных проектов, это в значительной степени есть «дело техники», т.е., успешного применения мобилизационных технологий.
Концептуализация технологий национальной мобилизации сталкивается прежде всего с проблемой их классификации. Куда следует отнести технологии национальной мобилизации: к политическим либо социальным технологиям? Оба понятия присутствуют в социогуманитарных дисциплинах, но они не тождественны по смыслу. С другой стороны, в последнее время довольно активно используется понятие мобилизационных технологий, так что есть необходимость прояснить отношение к этому понятию и нашего концепта технологий национальной мобилизации.
Начнем с самого общего концепта «технология». Под ним подразумевается совокупность методов и процессов140, используемых для изменения качеств или придания новых свойств объектам материального мира141, или знание о способах искусственного воспроизведения новых сущностей, «которые, возможно, могли бы возникнуть и самопроизвольно – но только не тогда и не там, где это нужно человеку»142. Таким образом, для технологического процесса важна предсказуемая воспроизводимость и опора на конкретные знания. Это должно выполняться и в случае технологий национальной мобилизации. Но к какому более общему понятию следует эти технологии отнести? Вопрос отнюдь не схоластический, потому что от этого зависит предметная область, которая будет нашим понятием охватываться.
Поскольку нация понимается нами как общность прежде всего политическая, логично рассматривать технологии национальной мобилизации как разновидность политических технологий. Однако статус понятия политических технологий не является бесспорным в научной литературе.
Под данным термином, который лишь недавно стал использоваться в отечественной политологии, обычно подразумевается «совокупность способов, методов и процедур воздействия на человеческие массы с целью изменения их политического поведения в достижении определенных целей, а также решения политических и управленческих задач»143. Важным для политической технологии является целенаправленность, установленная последовательность (алгоритмизированность) и заведомая эффективность предпринимаемых действий, предполагающая достижение необходимого политического результата – кратковременного либо длительного144.
Однако за рубежом этот термин не только не получил распространения, но и обладает негативными145 коннотациями. Так, профессор Университетского колледжа Лондона и специалист по украинистике Эндрю Вилсон утверждает, что термин «политическая технология», малознакомый на Западе, это эвфемизм, используемый в постсоветских государствах для обозначения высокоразвитой индустрии политических манипуляций. По его мнению, политические технологии широко применяются и сохраняют популярность на постсоветском пространстве, поскольку придают авторитаризму более «мягкую» форму146.
Из сказанного следует, что имеющийся концепт политических технологий оказывается узким и проблематичным для описания таких масштабных и долгосрочных социально-политических задач, как модернизация общества или строительство нации. Поэтому не случайно в современной справочной литературе нациестроительство (соответственно, национальная мобилизация как его органическая часть) связывается с «социальными», а не политическими технологиями147.
Концепция «социальных технологий» как основы социальной инженерии, нацеленной на улучшение общества и индивида посредством применения знаний (теорий, методов, экспертизы) общественных наук, развивается на Западе примерно с конца ХIХ в. Карл Поппер, предложивший идею социальной инженерии, выделил новый тип сознания социального инженера или технолога, верящего в креативную способность человека, а не безличных исторических законов по своей воле изменять историю. В соответствии с этим основой политики становится не знание о неизменных исторических тенденциях (историцизм), а социальная технология, представляющая фактическую информацию и алгоритм действий для конструирования и трансформации социальных институтов в соответствии с целями и желаниями человека148.
В XXI в. термин «социальные технологии» стал использоваться на Западе и как синоним социального программного обеспечения (англ. social software) – новое понятие, введенное американским экспертом по компьютерным технологиям Клэем Ширки для обозначения программного обеспечения, поддерживающего групповую коммуникацию (социальные сети, средства мгновенного обмена сообщениями, чаты, веб-форумы, веб-блоги и пр.) в противовес программному обеспечению единичного пользователя149.
Констатируя важность концепции «социальных технологий», в то же время следует отметить терминологический хаос в их определении, который, во-первых, не дает возможности строго отделить социальные от политических технологий, а во-вторых, не позволяет однозначно толковать технологии национальной мобилизации как политические или социальные. Для политических эти технологии слишком широки и глубоки по своим целям, а при характеристике в качестве социальных их трудно специфицировать, соотнести с типами мобилизации.
В этой связи мы будем придерживаться в нашей работе промежуточного пути, метафорическим выражением которого может служить предложенное британским социологом Зигмунтом Бауманом описание процесса превращения социальных технологий начиная с эпохи Просвещения в неотъемлемую часть современного общества. Развив предложенный Геллнером концепт «диких» и «садовых» культур, Бауман выделил среди интеллектуалов категорию «садовников» как своего рода социальных технологов модернового общества, которые не просто наблюдают за вверенными им землями (как «лесники» премодерного общества), но превращают их посредством ряда осознанных манипуляций в цветущий и плодоносящий сад150. Мы полагаем, что технологии национальной мобилизации могут служить подходящим случаем для развития такой трактовки.
Для целей нашего исследования представляется возможным выделить особую категорию социально-политических технологий (СПТ), т.е. такого типа технологий, которые используют теоретические и прикладные разработки общественных наук, в том числе в сфере социального взаимодействия и социального программного обеспечения, для достижения масштабных политических целей подобных нациестроительству. Такое определение позволяет уйти от сведения политических технологий исключительно к манипулятивному воздействию на массы; расширить их теоретико-методологическую основу за счет опоры не только на политические, но и в целом на общественные науки; включить актуальные трактовки социальных технологий как социального программного обеспечения.
Хотя введенное определение СПТ близко к пониманию социальных технологий в западной науке, в нем отсутствует одностороннее восприятие технологий как нацеленных исключительно на улучшение общества или, напротив, негативное их восприятие как политических манипуляций. Правда, термин «социально-политические технологии» уже используется российскими исследователями, однако это делается скорее интуитивно, без введения строгого определения. При этом СПТ описываются в контексте политического управления обществом или частью общества как имеющие признаки манипуляции и осуществляемые государственными властями или внешними силами151.
Выделяя особую категорию СПТ, в то же время нельзя обойти вниманием концепты дискурсивных152 и информационных/ информационно-коммуникативных технологий153, которые довольно точно отражают агитационно-пропагандистскую составляющую технологий национальной мобилизации. При этом под дискурсивными технологиями понимается «осознанное, обдуманное и спланированное управление партнерами по коммуникации при помощи дискурса», а также «поэтапный технологический процесс производства конечного продукта, а именно дискурса», строящийся на обдуманном использовании лингвистических знаний154. Планирование дискурса и использование общих принципов коммуникативного взаимодействия на основе политической креативности позволяет, по словам С.Н. Плотниковой, «мыслить социальный мир не только как саморазвивающуюся систему, но и как систему, сконструированную технологами. Действуя технологично, политик порождает бессознательную самоорганизацию общества по «зову» технологии. Технология помогает политику придавать коммуникации стабильность и прогнозируемость»155. Мы, без сомнения, можем охарактеризовать технологии национальной мобилизации подобным же образом.
Мобилизация ресурсов и идеологические технологии
С учетом того, что мобилизационные технологии побуждают свой объект к организованному активному действию индивидуального или чаще коллективного характера в интересах технолога, ставящего перед собой политические цели, их можно рассматривать в рамках теории коллективного действия (мобилизации ресурсов)156, понимающей под коллективностью поле совместного действия, а не просто сумму совокупных индивидуальных поведений.
Коллективные мобилизационные действия, как и любые действия, предполагают наличие стратегий у субъектов (акторов) этих действий. Но стратегии мобилизации не следует смешивать с ее технологиями, что нередко случается. Мобилизационная стратегия как стратегия политическая есть «общая цель движения и общие принципы и способы ее достижения»157 политическими акторами, причем стратегия нацелена на достижение долговременных целей и использует для этого необходимые ресурсы политической власти. Мобилизационная технология, в свою очередь, является алгоритмом действий для политических акторов. Таким образом, первая отвечает на вопрос: «Что мы делаем, чтобы достичь тех или иных целей?»; вторая – «Как мы будем действовать, чтобы эффективно достичь поставленных целей?». При этом выбор стратегии осуществляется в ситуации неопределенности, а выбор технологий задается выбором стратегии.
Различие между стратегией и технологией близко к различию между стратегией и тактическим средствами ее реализации. Так, известный российский экономист и политик Михаил Делягин, рассматривая технологический аспект формирования нации, выделил такой стратегический инструмент, как вовлечение в общее дело, а также ряд тактических инструментов: создание и постоянное подкрепление «гражданской религии»; создание и поддержание культа предков; формирование ключевых точек национальной истории, использование систем воспитания и образования, а также культурной политики для закрепления результатов нациестроительства и т.п.158
В любом случае выбор стратегии национальной мобилизации отражается в концепте нации, построение которой составляет главную цель мобилизации. Ресурсами же для мобилизации, т.е. средствами, с помощью контроля над которыми акторы осознанно заставляют объект действовать в соответствии со своими намерениями (т.е. подчиняют его своей власти), могут выступать в зависимости от обстоятельств физические, экономические, социальные, духовные, символические, демографические и прочие средства и возможности, в том числе сила, умения, знания (информационные и интеллектуальные ресурсы)159.
В современном обществе первостепенную роль играет именно информационный ресурс в силу своей неисчерпаемости и доступности160. При этом мы не противопоставляем понятия ресурсов и технологий, поскольку солидаризуемся с широкой трактовкой политических ресурсов161. Соответственно, они для нас не просто сырье, материал или полуфабрикат, но «упорядоченная совокупность реальных и потенциальных, традиционных и заимствованных возможностей общества, которые субъекты социально-политического взаимодействия используют в публичной политике для достижения своих целей»162.
Важно иметь в виду, что эти ресурсы являются для индивидов не внешним и единичным опытом, но изначально выступают средством осуществления их коллективных идентичностей. По словам А. Мелуччи, ресурсная теория мобилизации, существенно развитая в ее американской (прагматической) версии (прежде всего в работах Джона Маккарти и Майера Залда163, а также их последователей164), «показала, что коллективное действие не является результатом объединения разрозненных индивидов. Скорее оно должно рассматриваться как результат сложных процессов взаимодействия, опосредованного определенными сетями причастности к различным сообществам»165.
В рамках данного подхода дается и собственное определение мобилизации как процесса, посредством которого социальная единица с относительной быстротой берет на себя контроль над ресурсами, которые она не контролировала до этого166, либо как процесса, в рамках которого коллективный субъект собирает и организует свои ресурсы для достижения общей цели, направленной на подавление сопротивления групп, выступающих против этой цели167.
Для мобилизации необходимы сформулированные требования или воля к достижению определенного результата; выявление и делегитимация идеологического противника, находящегося в конфликте с группой за контроль над определенными ресурсами или ценностями; определение общего ресурса или ценности, за который борются акторы посредством мобилизации. В свою очередь, за отображение, кто является мобилизуемым социальным субъектом, против кого должно бороться это движение, и определение коллективной цели этой борьбы отвечает идеология168. При этом задача идеологии – обеспечивать символическое вознаграждение или менять ожидания членов сообщества, вызывая готовность индивидов инвестировать личные ресурсы и нести расходы за участие в мобилизации.
Также важно учитывать, что «социальное движение может только тогда заслужить свое название, если оно будет вдохновлено (мобилизовано) массовой идеологией. А последняя неизбежно редуцируется по содержанию к нескольким ключевым идеям-лозунгам, доступным для всеобщего понимания»169. Функциональная логика мобилизации рождает феномен символически «сгущенной» политической коммуникации, состоящей из символических актов. В этом случае речь идет не просто о политических действиях с применением символов, но о действиях как символах. Эти действия «используют не обычные референтные знаки, но знаки как сгущающие смыслы символы-конденсаты, возбуждающие массовые эмоции и объединяющие события в одно смысловое целое. Тем самым знаки-конденсаты учреждают когнитивно-эмоциональные фреймы, благодаря которым люди находят смысл участия в коллективных действиях и формируют свои групповые идентичности»170.
Упомянутые фреймы – это, выражаясь словами В. Осипова, «эмоциональные якоря», способствующие повышению эффективности мобилизационных технологий. Данные технологии мобилизуют потенциально готовых к социально-политической активности людей, объединяя их вокруг как самой идеи проектирования будущего, так и необычной, новой для них деятельности171. Под «будущим» при этом понимается не только некая отдаленная перспектива, но и само осуществляемое действие, которое предстает в качестве “будущего в настоящем”»172.
Таким образом, в технологиях национальной мобилизации можно выделить идеологические технологии. Концепт «идеологических»173 технологий представлен в современной научной литературе, при этом он не определяется строго и фактически выступает инструментом дискурс-анализа, т.е. разновидностью тех же «лингвистических»174 технологий в широком смысле. Мы же подразумеваем под идеологическими технологиями определенные алгоритмы в производстве собственно самих идей, которые имеют символический смысл, но могут быть рассмотрены абстрактно, без привязки к конкретному тексту. Такой смысл идеологических технологий подразумевал в свое время немецкий философ Эрнст Кассирер, писавший о том, что в великую эпоху технической цивилизации была создана и новая техника мифа как «современного оружия»: политики использют и трансформируют существовавшие прежде архаические мифы, а также конструируют новые175.
Важно вслед за английским политологом Кристофером Фладом отметить, что политический миф представляет собой одну из форм идеологии, «идеологически маркированное повествование»176. Другими словами, миф представляет собой один из примеров (видов) идеологической технологии или технологии символическо-идеологической (с учетом того, что мифы, как указывает немецкий политолог Андреас Дёрнер, можно представить как «расширенные символы», а некоторые политические символы, с другой стороны, можно понимать как «сжатые мифы»177).
Производство политических (национальных) мифов как пример идеологической технологии показывает, что идеи могут кого-то на что-то сподвигнуть (мобилизовать) только при условии, что они получают символический статус (даже если это всего лишь вербальные символы). Поэтому в нашем случае (с учетом упомянутой символической густоты мобилизационного дискурса) мы находим целесообразным говорить о символических технологиях178 национальной мобилизации, в которых идеологические и лингвистические технологии объединяются в пределах различных форм символической политики.
В рамках коммуникативного подхода под символической политикой понимается специфический вид политической коммуникации, которая ориентирована на сознательное «внушение устойчивых смыслов» через использование «эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических “эрзацев” (суррогатов) политических действий и решений»179.
В рамках инструменталистского подхода символическую политику рассматривают как «инструмент политического менеджмента»180, а с точки зрения перфомансного подхода – как часть политического «театра», политическое «самоинсценирование» перед пассивными зрителями181, призванное легитимировать решения элит, эмоционально вовлекая публику182. Кроме того, О.Ю. Малинова отмечает, что символическая политика связана «с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование в публичном пространстве», выступая аспектом «реальной» политики183. При этом символическая политика не только использует символы, она превращает сами действия в символы184.
Хотя символическая политика преимущественно понимается как манипуляция со стороны хорошо организованных элит сознанием масс политических «зрителей»185, она может применяться и политическими акторами «снизу», поскольку «оспаривание существующего социального порядка – не менее важная часть символической политики, чем его легитимация»186. И подобно тому, как «история пишется сверху и снизу»187, стратегии (и определяемые ими виды) символической политики могут быть, по словам немецкого политолога Томаса Майера, разделены на символическую политику сверху, символическую политику снизу (например, символические акции протеста – акции гражданского неповиновения) и символическую политику сверху и снизу одновременно (производимые элитами и принимаемые массами мифы, ритуалы и культы)188. Выбор какой-то из этих стратегий задается конкретным отношением между властью и гражданским населением, в целом же между политическими акторами, связанными властным (асимметричным) отношением.
Опыт технологической интерпретации символической политики уже имеется в отечественной науке. В частности, технологии символической политики во взаимодействии власти и населения стали объектом специального анализа в диссертации российского политолога И.С. Башмакова189
