Путь на север бесплатное чтение
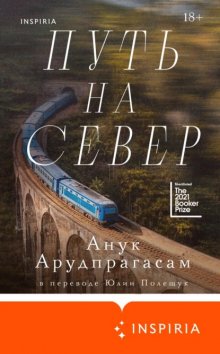
Anuk Arudpragasam
A PASSAGE NORTH
© Полещук Ю., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Известие
1
Мы полагаем, что настоящее пребудет с нами вовек – одна из немногих констант, которых у нас не отнять. Оно захлестывает нас в первые мучительные минуты, когда мы приходим в мир и тот пока что слишком нов для нас – ни приручить, ни преодолеть, – оно сопровождает нас в детстве и отрочестве, в ту пору, когда нас еще не тяготят ни память, ни ожидания, а оттого нам так грустно (и, пожалуй, тревожно) сознавать, что чем дальше, тем труднее прикоснуться к нему, пусть мельком, и даже бросить мимолетный взгляд, что ближе всего к настоящему мы лишь в те непродолжительные мгновения, когда не думаем ни о пространстве, которое занимают наши тела, ни о ведомом только нам тепле постели, где мы просыпаемся, ни о поцарапанном окне поезда, везущего нас куда-то, точно единственный способ остановить время заключается в том, чтобы помешать окружающим нас предметам перемещаться. Мы вдруг понимаем, что с течением лет настоящее ускользает от нас все больше, обнаруживает себя мимолетно и тут же теряет нас в непрерывном движении мира, а стоит нам отвернуться, улетучивается почти без следа, – по крайней мере, так нам представляется намного позже, в следующий краткий миг осмысленности, в следующий раз, когда нам удается остановить мир, когда мы вдруг понимаем, сколько времени минуло с той поры, как мы в последний раз осознавали себя; когда мы понимаем, сколько дней, недель и месяцев пролетели без нашего на то согласия. Происходят события, меняются настроения и ситуации, появляются и исчезают люди, но, оглядываясь назад в те решительные минуты, когда нас по какой-то причине вырывают из ежедневных закольцованных грез наяву, мы не без удивления обнаруживаем себя там, где мы очутились, будто бы все это случилось в наше отсутствие, будто бы в то время, которое принято называть жизнью, мы были где-то еще. Просыпаясь каждое утро, мы вслед за нитью привычки двигаемся по кругу, из дома в люди, вечером в кровать, вслепую бредем привычной дорогой, день сменяется днем, неделя – неделей, и когда в разгар этого сна наяву что-нибудь происходит и пресекается нить, когда сильная страсть или неожиданная потеря прерывает ритм жизни, мы озираемся и с молчаливым удивлением отмечаем, что мир больше, нежели нам казалось, точно у нас хитростью или обманом отняли это время – время, в котором, если вспомнить, и не было ничего важного, ни длительности, ни перемены, время, которое пришло и ушло, отчего-то нас не затронув.
Стоя перед окном своей комнаты, глядя сквозь запыленное стекло на пустующий соседний участок, поросший травой и бурьяном, на валяющиеся у ворот бутылки из-под арака, Кришан не мог отделаться от странного ощущения, будто его изгнали из времени, и пытался постичь смысл звонка, на который он только что ответил: этот звонок отменил все его планы на вечер сообщением, что Рани, бывшая сиделка его бабки, умерла. Кришан недавно вернулся с работы, из своей НКО, разулся, пошел наверх и, как всегда, обнаружил у двери комнаты бабку, ей не терпелось поделиться с ним мыслями, накопившимися за день. Бабка знала, что обычно он уходит с работы между пятью и половиной шестого и если направится сразу домой, то ждать его следует между без четверти шесть и четвертью седьмого – в зависимости от того, поедет ли он на автобусе, моторикше или пойдет пешком. Его своевременное возвращение было аксиомой в организации ее дня, и она требовала от внука соблюдать это правило с такой строгостью, что, если Кришану случалось от него отступить, умилостивить бабку можно было лишь подробным объяснением – срочное совещание или аврал задержали его на работе дольше обычного, дороги перекрыли из-за какого-то митинга или шествия, – иными словами, убедить в том, что отступить от правил Кришана вынудили исключительные обстоятельства и что установленные ею у себя в комнате законы, по которым функционировал мир за пределами их дома, по-прежнему действуют. Кришан слушал бабкины рассуждения об одежде, которую нужно постирать, предположения о том, что его мать приготовит на ужин, планы поутру вымыть голову, дождался паузы в ее речи и отступил к себе, отговорившись тем, что вечером встречается с друзьями и желал бы чуть-чуть отдохнуть. Его нежданное дезертирство ранило бабку, он это знал, но весь день ждал возможности побыть одному, в тишине и покое обдумать письмо, полученное утром, первый имейл от Анджум за долгое время, первая с окончания их отношений предпринятая ею попытка узнать, что он делает и как поживает. Едва дочитав сообщение, он тут же закрыл браузер, подавил в себе желание изучить письмо, всмотреться в каждое слово: Кришан понимал, что если позволит себе задуматься над письмом Анджум, то не успеет закончить работу, и лучше подождать до дома, где он уже беспрепятственно обо всем поразмыслит. Он еще немного побыл с бабкой – почуяв, что внук хочет уйти, она всегда забрасывала его вопросами, чтобы отсрочить, оттянуть его уход, – и проводил ее взглядом, когда она наконец неохотно удалилась к себе. Помедлив миг в коридоре, Кришан ушел в свою комнату и тщательно запер дверь, точно двойной поворот ключа в замке гарантировал ему желанное уединение. Он включил вентилятор, переоделся в чистую футболку и шорты, растянулся на кровати, изготовившись поразмыслить над письмом и над образами, которое оно вызвало в его сознании, и в эту минуту в коридоре зазвонил телефон, его настойчивый пронзительный звук вторгся сквозь дверь в комнату. Кришан сел на кровати, подождал в надежде, что телефон замолчит, но тот трезвонил не переставая; Кришан с раздражением встал и направился в коридор, порешив отделаться от звонившего как можно скорее и, если понадобится, даже грубо.
Звонившая, помявшись, представилась старшей дочерью Рани; Кришан не сразу понял, о ком речь, и не только потому, что все его мысли занимало письмо, но и потому, что давно уже не вспоминал о Рани, бывшей бабкиной сиделке. Он не видел ее месяцев семь или восемь, с тех самых пор, как она отправилась на север, к себе в деревню – изначально предполагалось, дня на четыре-пять. Рани уехала организовать поминки в честь пятой годовщины смерти младшего сына, он погиб во время обстрела в предпоследний день войны; назавтра после поминок она должна была посетить скромную поминальную службу для близких, переживших, ее устраивали на месте последнего сражения, до него от деревни Рани было несколько часов езды на автобусе. Она позвонила через неделю, сообщила, что задержится еще немного, ей нужно заняться кое-какими неотложными делами; видимо, на поминки потратили больше, чем рассчитывали, и Рани необходимо съездить в деревню к дочери и зятю, чтобы лично обсудить с ними финансовые вопросы, однако это займет от силы день-два. Еще через две недели Рани вновь позвонила, сообщила, что заболела, идут дожди, она подхватила простуду, сказала им Рани, ей нужно несколько дней отлежаться перед долгой обратной дорогой. Как-то не верилось, что Рани – и вдруг слегла; правда, ей было уже без малого шестьдесят, но она была такая дородная и высокая, что казалась исключительно здоровой и сильной, трудно было представить, что ее свалил с ног заурядный вирус. Кришан до сих пор помнил, как на прошлый Новый год они рано утром в саду варили кирибат 1 и один из кирпичей, на которых стоял наполненный до краев железный котел, вдруг выпал, котел накренился, а Рани, не раздумывая, согнулась, голыми руками подхватила обжигающе-горячий котел и, ничем не выдавая нетерпения, ждала, пока Кришан поправит кирпич, чтобы поставить котел на место. Вот они с матерью и решили: если Рани до сих пор не вернулась, то вовсе не потому, что слишком больна или слаба для обратной дороги; скорее всего, задержалась она оттого, что годовщина смерти сына и поминальная служба нарушили ее и без того шаткое душевное равновесие. Не желая обременять Рани, Кришан с матерью ответили ей: не беспокойтесь, оставайтесь сколько нужно, а как поправитесь, возвращайтесь. Здоровье аппаммы 2 существенно поправилось, ей уже не требовался круглосуточный уход, так что какое-то время Кришан с матерью справятся сами. Но прошло еще три недели, от Рани ни слуху ни духу, Кришан с матерью несколько раз звонили ей, но трубку никто не брал, и они вынуждены были заключить, что ошиблись и Рани попросту не хочет возвращаться. Правда, их удивило, что она не удосужилась позвонить и сообщить им об этом, в подобных делах она всегда была очень щепетильна, но, по всей вероятности, ей надоело проводить все время вдвоем с аппаммой и потому не пришло в голову поставить их в известность. Рани день-деньской сидела в крохотной комнатенке, вынужденная терпеть бесконечный бубнеж аппаммы, она почти не выходила из дома – по крайней мере надолго, поскольку никого не знала и по-сингальски не говорила: вполне логично, рассудили Кришан с матерью, что, проведя в Коломбо без малого два года, Рани в итоге надумала уехать.
Мамы нет дома, сказал Кришан дочери Рани, она вернется часа через два, что ей передать, и дочь Рани, помолчав, ответила довольно сухо: передайте, что Рани умерла. Кришан не сразу нашелся с ответом, услышанные слова не укладывались в голове, но чуть погодя произнес: как, что случилось, когда? Вчера вечером, сообщила дочь Рани, после ужина, мама пошла за водой и упала в колодец, никто не знает, как так получилось. Минут через двадцать ее хватились, искали три четверти часа, наконец старшая дочь, внучка Рани, пошла к колодцу, наклонилась, заглянула внутрь и завизжала. Рани упала вниз головой и сломала шею – то ли во время падения ударилась о стенку колодца, то ли о дно: воды в колодце было от силы два фута. Но как она упала, спросил Кришан (и тут же понял, что вопрос получился бестактный и глупый), наверное, это был несчастный случай, уточнил он, дочь Рани ответила: конечно, несчастный случай, было темно, ничего не видно, мама, должно быть, споткнулась о край бетонного возвышения, на котором стоит колодец, а может, ей стало плохо, когда она набирала воду, вот она и упала, она в тот день жаловалась, что у нее болит и кружится голова. Дочь Рани сообщила все это как-то механически, точно случившееся ни капли ее не удивило и не потрясло, и умолкла, будто ей нечего больше было сказать. Кришан жаждал подробностей, но дочь Рани, возможно, предупреждая расспросы, добавила: если получится, приезжайте на похороны, они в воскресенье днем. Я скажу маме, заверил Кришан, если получится, мы непременно приедем, и тут же осознал нелепость этого обещания – не столько потому, что не знал, искренне ли дочь Рани пригласила их или из вежливости, но и потому – он понял это, еще не успев ответить, – что ему до сих пор не верилось в произошедшее. Его подмывало расспросить подробнее, узнать, кто еще был там накануне вечером, не было ли днем каких-то тревожных признаков, – быть может, Рани говорила или делала что-то странное, быть может, у нее часто кружилась и болела голова; узнать, успела ли она поужинать и что было на ужин, – словом, выспросить все, пусть самое тривиальное, потому что в такие минуты нам всегда нужно больше фактов, не столько потому, что они так уж важны, а потому что без них нам не верится в случившееся, точно нам надо выведать все обстоятельства, связывающие произошедшее с так называемой реальной жизнью, дабы смириться с тем, что столь необычная смерть не противоречит законам природы. Смерти насильственные, скоропостижные пугали тем сильнее и смириться с ними было тем сложнее, что они случались не только в зонах боевых действий, не только во время расовых беспорядков, но и в медленном, повседневном течении жизни, словно вероятность смерти таится даже в самых обычных делах, даже в самых заурядных, ничем не примечательных моментах. И неожиданно мелочи, которые при подведении итогов принято обходить молчанием, обретают колоссальное значение, будто нашу судьбу предопределяет то обстоятельство, забыли мы или нет засветло сходить за водой, успели бегом на автобус или решили не торопиться, приняли или нет любое из несметного множества тривиальных решений, и лишь впоследствии, когда нечто уже случилось и этого не изменишь, им приписывают особый смысл. Кришан не нашелся, о чем еще спросить, не показавшись бесчувственным или назойливо-любопытным, и, стремясь по возможности продлить разговор, спросил, далеко ли деревня от города Килиноччи и как туда лучше добраться. Ваша мама знает, ответила дочь Рани, из Килиноччи надо ехать на двух автобусах, а потом пешком или на рикше до самой деревни. Снова повисло молчание, Кришан не придумал, о чем еще спросить дочь Рани, и, почувствовав, что та больше не хочет или не может ничего добавить, вынужден был попрощаться.
Он еще долго стоял у телефона – на том конце давно раздался щелчок, – и лишь услышав короткие, тревожно-пронзительные гудки, тоже положил трубку и вернулся к себе. Запер дверь, медленно подошел к кровати и сел на то же место, где сидел прежде. Взял мобильный, думая позвонить матери, сообщить новость, потом вспомнил, что занятия у нее заканчиваются в половине восьмого и до той поры она на звонок не ответит. Отложил телефон, обвел беспокойным взглядом комнату, безделушки на трюмо, рабочую одежду – та, вывернутая наизнанку, валялась на полу, – книги, вещи, DVD-диски, разбросанные на нетронутой кровати брата. Поднял с пола брюки, вывернул и аккуратно сложил на кровать. То же самое проделал с рубашкой, вновь оглядел комнату, встал, подошел к окну. Оперся ладонями на подоконник, легонько прижался лбом к решетке, посмотрел на балкон дома по ту сторону от пустого участка, на одежду, сушившуюся на веревках, на спутниковую тарелочку посреди потемневшей терракотовой крыши. Попытался думать о звонке и о том, чтó только что узнал, о смерти Рани и как это произошло, но услышанное по-прежнему не укладывалось у него в голове и он не мог ни осмыслить случившееся, ни понять. Он чувствовал не столько грусть, сколько неловкость за то, что это известие застало его врасплох, в эгоистичных раздумьях о письме Анджум и раздражении оттого, что пришлось выслушивать бабку, точно, выдернув Кришана из обыденного сознания, звонок парадоксальным образом вынудил его думать не о Рани, а о себе, взглянуть на себя извне, увидеть со стороны ту жизнь, в которую он погружен. Он думал о том, как днем отреагировал на письмо, как подался к ноутбуку и, не двигаясь, уставился на экран, думал о молчаливом удивлении, с которым прочел письмо, и о сменившем его молчаливом предвкушении, которое он всеми силами постарался подавить, поскольку содержание письма ничуть не оправдывало это предвкушение. Письмо было коротенькое – три-четыре аккуратно составленные фразы, взвешенные, однако сдержанно-лиричные, фразы, призванные обнаружить не больше, но и не меньше, чем желала Анджум. Они очень мало что сообщали о ее жизни и очень мало что спрашивали о его – совершенно в манере Анджум, в ее манере не только писать, но и жить, хотя, пожалуй, подумал Кришан, она написала так мало лишь потому, что не хотела навязываться ему без согласия, хотела предложить ему возможность общения, не обязывающую к содержательному ответу. Я провела пару недель в Бомбее, писала Анджум, ненадолго вырвалась в отпуск из Джаркханда (с тех пор, как они четыре года назад вместе были в Бомбее, Анджум впервые вернулась в этот город). Я гуляла по взморью, вспоминала, как мы с тобой в последний день путешествия гуляли там вдвоем, гадала, как у тебя дела и оправдало ли возвращение на Шри-Ланку твои ожидания. Порой я думаю о тебе, надеюсь, все у тебя хорошо и по прошествии времени тебе удалось отыскать в своем новом доме ответ на все твои устремления, именно так завершалось письмо, этим нечастым словом, «устремления», не парадоксально ли, что устремлениям полагалось найти ответ, – и подпись всего лишь из первой буквы имени.
Кришан едва ли не сразу отметил, что в письме ни словом не упомянуто ни о природе случайных мыслей о нем, ни о жизни Анджум в предшествующие годы, ни о том, нашла ли она, что искала, обосновавшись вместе с друзьями-активистами в джаркхандском захолустье, и что принесла ей такая жизнь – воплощение мечты или крушение иллюзий, удовлетворение или разочарование. И непонятно, почему она решила ему написать: то ли оттого, что подводила некие итоги и размышляла о том, что могла бы – да, собственно, еще и может – пойти другим путем, или же из досужего любопытства, банального мимолетного интереса, какой нередко сохраняют к жизни бывших возлюбленных. Она писала так, будто они разошлись по взаимному согласию, будто каждый пошел своей дорогой, движимый собственными желаниями и прошлым; тем самым Анджум наделила его определенной свободой воли в отношениях, которой Кришан не обладал – и знал это. Уехать из Дели Анджум решила задолго до встречи с Кришаном, давно планировала обосноваться в Джаркханде с друзьями и прочими знакомыми активистами – «товарищами», как она без всякой иронии частенько их называла. Следовательно, тот факт, что их совместное время в Дели ограничено, был предопределен с самого начала, и Кришан с самого начала знал, что ему придется учитывать грядущее расставание и ожидать его. Он и сам до знакомства с Анджум вяло подумывал о том, чтобы уехать из Дели, бросить жизнь, которую выстроил там за несколько лет, бросить аспирантуру, куда не так давно поступил, вернуться на Шри-Ланку и внести свой вклад в послевоенное восстановление и переустройство. Война завершилась, но ему не давали покоя массовые убийства, творившиеся некогда на северо-востоке страны, его все больше и больше мучило чувство вины за то, что сам-то он уцелел, он с тоской думал о той жизни, которую мог бы вести, если бы оставил летаргическое, изолированное пространство науки, куда некогда удалился, и переехал жить и работать в те места, которые действительно что-то значили для него. Эта смутная тоска по воображаемому отечеству отступила на периферию его сознания после знакомства с Анджум, ради которой – Кришан понял это довольно скоро – он готов был отречься от прочих надежд и планов, до такой степени время, проведенное с нею, ни с чем не могло сравниться, до того не походило ни на что из бывшего прежде или потом. Когда они с Анджум сошлись, Кришан мечтал, что ей придет на ум изменить планы, включить его в свою новую жизнь или если она все же уедет, то хотя бы оставит ему доступ к этой новой жизни, но, как ни намекал ей Кришан на возможность совместного будущего, Анджум почти не реагировала, или отмалчивалась, или отвечала невпопад; то и другое подразумевало, что проект, за который она возьмется, означает окончательный разрыв с прежней жизнью в Дели, а если она после отъезда продолжит отношения с Кришаном, разрыв этот окажется неполным.
Как ни парадоксально, его прежде смутное желание вернуться на родину наделили смыслом именно их отношения, не столько благодаря разговорам (Анджум не любила обсуждать с ним подробности своей работы), сколько благодаря примеру, который она воплощала собой, – примеру того, какой бывает жизнь, подчиненная социальным или политическим убеждениям. К его научным занятиям Анджум относилась не то чтобы свысока, однако не придавала им особого значения, и чем дольше он с нею общался, тем весомее ему казались собственные былые мысли оставить науку, тем серьезнее он задумывался о том, возможна ли и для него жизнь, подчиненная некоему идеалу коллективной деятельности. Незыблемая преданность Анджум защите прав женщин и трудящихся – чем, собственно, она и занималась в Дели – исподволь понудила Кришана проникнуться (едва ли не из самозащиты) чувством, будто и ему надлежит посвятить себя делу всеобъемлющему, важнее своей персоны; Кришан сознавал, что после отъезда Анджум он будет не в силах остаться в Дели и, движимый нуждой доказать и ей, и себе, что и у него есть дело всей жизни, независимая судьба, которая выведет его куда-то, хоть с Анджум, хоть без нее, Кришан направил помыслы о будущем в новое русло – к жизни на северо-востоке Шри-Ланки. В некотором смысле это было наивно, ведь он понятия не имел, в чем заключается социальная работа в бывшей зоне военных действий, не обладал ни навыками, ни опытом, способными помочь ему в служении такого рода, но мысль о том, чтобы бесстрастно дожидаться надвигающегося отъезда Анджум, была настолько невыносима, что он вновь принялся крепить в себе чувство, будто судьба ведет его в те края, где он, по сути, никогда и не жил, принялся воображать, каково это – ступить на землю, по которой некогда ходили его предки, дабы создать почти что из руин вероятность некоего нового увлекательного будущего, словно, если он станет вести жизнь простую до такой степени, до какой упрощает ее лишь война, то отыщет нечто, чему стоит отдаться.
Странно осознавать, сколько всего изменилось за это время, думал Кришан, стоя возле окна, изменилось не резко или бесповоротно, а просто с решением вернуться, с медленным накоплением времени, и ныне то место, которое некогда представлялось далеким, недостижимым, почти мифическим, уже неотделимо от него самого. Представления о северо-востоке, господствовавшие в его уме едва ли не всю жизнь, складывались из детских воспоминаний о коротких поездках в Тринкомали и Вавунию и более длительной поездке в Джаффну во время перемирия (Кришану тогда было лет семнадцать-восемнадцать), а еще из мучительно-ностальгических рассказов старших родственников, проживающих за границей, об идиллическом детстве в деревне. При мысли о северо-востоке Шри-Ланки ему рисовались бескрайние солончаки, пальмировые пальмы, медноцветные проселки Ванни, участки твердой сухой земли, занимающие бóльшую часть полуострова; пронзительные ритмичные религиозные напевы, в праздники доносящиеся из храмов, громкая, музыкальная, чистая, вольная тамильская речь. Эти образы наполняли его душу свободой, ощущением, будто возможна жизнь совершенно иная, отличная от его, но в то же время они обретали характер химеры, так что трудно было думать о них сколько-нибудь предметно; так известия, которые каждый день попадали в газеты, – известия об обстрелах и вооруженных столкновениях, о наступлениях, отступлениях и перемириях – неизменно вызывали тревогу и интерес, но почти никогда не нарушали течения его жизни в южной части страны: белый шум, которому он с детства привык не придавать значения.
И лишь гораздо позже события на северо-востоке начали глубже проникать в систему его обыденной жизни – ближе к концу войны, году в 2008-м, 2009-м, когда впервые показалось, будто «Тигров» можно побороть, а с ними и идею тамилоязычного государства. Он тогда учился в Дели на последнем курсе бакалавриата, активно готовился к поступлению в магистратуру по политологии и порой, как ему помнится, дни напролет просиживал в библиотеке, пытался заниматься, но вместо занятий нервно обновлял в своем компьютере новостные сайты, тогда они у него были открыты все время. Поговаривали, будто военные убили множество мирных жителей; Кришан отлично знал, что правительственный отчет о гуманитарной спасательной операции на северо-востоке сфальсифицирован и нельзя доверять ничему, о чем пишут в газетах. Он часами штудировал в интернете материалы на английском и тамильском, читал страницу за страницей блоги, форумы, новостные сайты с фотографиями и видеороликами, сделанными в последние месяцы сражений, большинство этих сайтов создали тамилы-эмигранты, они выкладывали то, что уцелевшие ухитрились снять на камеру или смартфон и каким-то чудом переслать за рубеж. Интернет, понял Кришан, изобилует любительскими фотоархивами со всего света – свидетельствами недавних войн, каждая из которых казалась нескончаемой мешаниной безымянной жестокости, и после завершения войны он несколько месяцев на досуге изучал эти архивы, безучастно разглядывал распухшие трупы, отрезанные конечности, изуродованные тела, горящие палатки, кричащих детей: многие из этих образов с пугающей ясностью отпечатались в его памяти. Увидев однажды, их невозможно было забыть – и не только из-за сцен насилия, но и из-за вопиющего дилетантизма, поскольку, в отличие от глубоко эстетских, почти изысканных военных снимков, какие встречаются в журналах и книгах, композиция тех, что попадались ему в Сети, была настолько скверной, что это даже раздражало. Фотографии были расплывчатые, зернистые, откадрированы и сфокусированы кое-как – на земле возле трупа валяется разорванный тюбик зубной пасты, старуха в ступоре отгоняет мух от раны на ноге – так, будто их делали на бегу или будто те, кто их делал, не желали смотреть на то, что снимали. Кришан не мог избавиться от ощущения, что эти снимки не предназначены для его глаз, что людей на них запечатлели в ситуации, в которой им совсем не хотелось, чтобы их увидели, и страх в их взглядах вызван не столько ужасом положения, сколько ужасом оттого, что их застигли в таком положении, подглядели их тайные муки; их взгляды наполняли его стыдом, и все же он не в силах был отвернуться.
Долгое время страх, внушенный этими снимками, таился в его душе, – болезненная действительность, которую он непрерывно подпитывал, но выразить не мог, точно не мог до конца понять, что именно изображено на них, и поверить в это. И только после того, как в 2011 году Четвертый канал выпустил документальный фильм 3, обвинявший правительство Шри-Ланки в военных преступлениях и геноциде, только после того, как в том же году ООН опубликовала отчет о потерях среди мирного населения, он наконец сумел заговорить о случившемся, смириться с тем, что фотографии, не дававшие ему покоя, не какие-то странные извращенные творения его подсознания, что на них запечатлены события, действительно происходившие в той стране, откуда он родом. Он по сей день со стыдом вспоминал, как поначалу не желал признавать масштабы и значимость случившегося в конце войны, точно не решался поверить свидетельствам на экране своего компьютера потому лишь, что они исходили от его соплеменников, нищих, поруганных, лишившихся страны, точно неспособен был принять всерьез их страдания, пока те не подтвердит авторитетная коллегия западных специалистов и не легитимизирует в документальном фильме стоящий перед камерой гладковыбритый белый мужчина в костюме и галстуке. Как большинство его ровесников-тамилов, живущих за пределами зоны боевых действий, будь то в Коломбо, Ченнаи, Торонто или Париже, Кришан несколько раз пересмотрел фильм, перечитал отчет и продолжал выискивать все, что только можно, о событиях той поры, читал каждую статью и эссе, выходившие на английском и тамильском, смотрел на Ютьюбе все интервью с выжившими, какие нашел. Первоначальное недоверие сменилось сперва потрясением, потом яростью, потом стыдом за собственное существование; в последующие месяцы из этого стыда родилось чувство нереальности происходящего, будто мир, в котором он жил в Дели, был отчасти иллюзией: его учеба в университете, будущие научные планы, протесты и демонстрации, на которые он ходил едва ли не для того лишь, чтобы приятно провести время, его друзья, любовницы, предметы его увлечений, – словом, все, что составляло его социальную жизнь. Казалось, никто из окружавших Кришана не понимал всей сути случившегося: даже в последний день войны жизнь в университете текла более-менее как обычно, студенты готовились к летней сессии, и это несоответствие происходившего вокруг и того, что творилось в его душе, крепнущее в нем ощущение, будто прежний мир – как Кришан его понимал – закончился, вселило в него чувство, что пространствам, в которых он обитает, недостает некоего насущного измерения действительности, что жизнь его в Дели в какой-то степени сон или галлюцинация. Видимо, диссонанс подобного рода, вдруг осознал Кришан, подталкивал столь многих тамилов, живущих за рубежом, к отчаянным поступкам; именно этот диссонанс вынудил того парня – его имени Кришан уже не помнил – в феврале 2009-го приехать из Лондона в Женеву и устроить самосожжение перед зданием ООН; именно этот диссонанс три месяца спустя заставил десятки тысячи протестующих (большинство из них – беженцы) собраться спонтанно на одном из крупнейших шоссе Торонто и перекрыть движение в целом городе, точно эти иммигранты-тамилы готовы были на что угодно, лишь бы вынудить чужеродное окружение, в котором они ныне существовали, столь далекое от северо-востока Шри-Ланки, остановиться хотя бы на миг, задуматься, заметить, что в тех краях, где они родились, сейчас останавливается самая жизнь человеческая.
Оттого ли, что Кришан осознал масштабы произошедшего, лишь когда все уже завершилось, когда ничего нельзя было сделать, оттого ли, что в Дели у него не было друзей-тамилов и не с кем было ни обсудить, ни осмыслить свои чувства, однако на окончание войны он откликнулся больше внутренне, чем внешне. Сейчас, вспоминая то время, он дивился молчаливой силе собственной реакции, нездоровому пылу, с которым он погружался во все фотографии и видеоролики, какие сумел отыскать, рвению, с которым он пытался воспроизвести события, что, по счастью, обошли его стороной. Он принялся составлять мысленные хронологии переселения мирных жителей из деревень на северо-востоке, карты расположения больниц, атакованных правительственными войсками, мест, где было запрещено вести огонь – там-то и творилась самая жестокая резня, – изучал карты зон боевых действий, все, какие сумел отыскать, читал все, что удавалось найти об этих местах. Он старательно, по крупицам, добывал сведения, обращал внимание на то, какие типы снарядов использовали военные и с какими звуками падали эти снаряды, на погодные условия и состав почвы в различных местах массовых убийств, а те подробности, какие не мог проверить, угадывал или додумывал, и так дотошно рисовал в уме эти места, где творилось насилие, словно пытался каким-то образом там поселиться. Отчасти эти потуги мешались с ненавистью к себе – он это знал – и с желанием наказать себя за то, чего избежал (потому он и предавался этому занятию со всей яростью), но сейчас его вдруг осенило, что, пожалуй, в том безудержном стремлении понять обстоятельства, при которых столь многие люди оказались стерты с лица земли, было нечто религиозное, точно посредством этой работы воображения он силился воздвигнуть сокровенное святилище памяти всех тех безымянных жизней.
Глядя в окно на пустое бескрайнее небо, еще золотистое, но уже в длинных лентах розовых облаков, Кришан вспомнил стихотворение, которое давным-давно прочел в «Перия-пуранам» 4, фрагменты этого эпоса подробно разбирали на школьных уроках литературы. В ту пору древняя тамильская литература Кришана не особенно интересовала и на уроках он чаще всего таращился в окно на крикетное поле, но история Пусала чем-то его зацепила. Согласно эпосу, Пусал был бедняк из глухой деревни, наделенный, однако же, пылкой верой. С юных лет он с любовью устремлял чувства и помыслы к Шиве, а когда повзрослел, принялся всеми силами подпитывать и крепить в себе эту инстинктивную любовь. Он долго раздумывал, чем почтить своего бога, говорилось в поэме, и в конце концов решив, что достойнее всего выстроить Шиве храм, где тот будет обитать, с воодушевлением принялся подыскивать необходимый земельный участок и материалы. Несколько месяцев он рассматривал все возможности, обошел все деревни и городки в округе, встретился со всеми важными персонами, кого знал, но постепенно, после множества неудач, смекнул, что никогда не сумеет раздобыть средства на строительство храма, слишком он беден для того, чтобы послужить своему богу так, как хотелось бы. Отчаяние и уныние овладели Пусалом; некоторое время ему казалось, что надежды нет, но в один прекрасный день, раздумывая о своем положении, он вдруг сообразил: раз выстроить настоящий храм не получится, он воздвигнет его в своей душе. Ошеломленный очевидностью этой мысли, Пусал немедля принялся за дело. Сперва отыскал в уме подходящий участок земли, затем собрал в воображении необходимые материалы – от мельчайших инструментов самой изящной работы до тяжелейших каменных плит. Мысленно договорился с лучшими плотниками, каменщиками, ремесленниками, художниками и в урочный благоприятный день заложил с любовью и вниманием воображаемый краеугольный камень посередине участка – в соответствии со всеми условиями, описанными в авторитетных источниках. С великим тщанием и предосторожностью он строил храм, даже не спал ночами, сперва завершил фундамент, дальше уровень за уровнем возводил стены, так что за считаные дни мысленный храм его обрел очертания – от залов и колонн до лепных украшений над дверями и цоколем. Когда все пилоны и сопутствующие святилища были готовы, когда вырыли резервуар и наполнили его водой, когда наконец воздвигли наружные стены, Пусал увенчал храм навершием, позаботился обо всех необходимых деталях, после чего, наконец, усталый, но удовлетворенный плодами своих трудов, выбрал благоприятное время для освящения храма во имя Шивы.
В произведении говорится, что царь тех земель в то же самое время заканчивал строительство храма, который он сам воздвиг в честь Шивы, и так вышло, что для освящения царь выбрал тот же благоприятный день и час, что и Пусал. Царский храм отличался невиданными размерами, его строили много лет, не считаясь с расходами, но в ночь перед тем, как туда должны были водворить образ Шивы, рассказывает поэма, царю во сне явился Шива и сообщил, что не сможет присутствовать на церемонии, что ее придется отложить, поскольку бог решил посетить освящение великого храма, который воздвиг в его честь некто Пусал, его преданный почитатель из далекой деревни Нинравур. Проснувшись наутро, царь никак не мог поверить, что бог предпочел храм, выстроенный простецом, тем чертогам, которые воздвиг Шиве царь. Он немедля со свитою отправился в Нинравур, и когда через много дней пути они наконец приблизились к густым рощам близ деревни, царь приказал местным жителям отвести его к храму, который построил Пусал. Такой здесь живет, ответили царю сельчане, но он человек бедный и никакого храма не строил. Царя известие озадачило, однако он все же велел проводить его к Пусалу; спешившись перед его скромной хижиной из уважения к почитателю Шивы, царь вошел к Пусалу и увидел истощенного человека, тот сидел в позе лотоса на полу, закрыв глаза и пребывая в блаженном неведении относительно происходящего. Царь окликнул Пусала, спросил, где его храм, тот самый, который расхваливает весь свет, он-де приехал увидеть его, потому что сам бог Шива сообщил ему, что сегодня в храме поместят его образ. Пусал недоуменно раскрыл глаза и изумленно признал в человеке, обращавшемся к нему, царя. Пусал смиренно признался, что, не имея средств на строительство настоящего храма, он старательно воздвиг его в своей душе; царь подивился преданности человека, который, не имея денег, все-таки ухитрился почтить своего бога, и пал ниц, восхваляя Пусала, так что венки из благоуханных цветов на шее царя припорошила пыль.
Сейчас, стоя в своей комнате, Кришан едва ли сумел бы ответить, насколько это стихотворение, прочитанное столь давно, повлияло на его отношение к происходившему на войне, однако вдруг осознал, что строение, которое с таким тщанием возводил в своей душе Пусал, не так уж и отличается от того, которое выстроил он сам, Кришан, за те месяцы и даже годы, что прошли с окончания войны. Он ведь тоже в каком-то смысле оставил мир, окружавший его, чтобы вместо него возделать в сердце своем некий участок, и хотя время, проведенное на этом участке, принесло ему больше мук, нежели наслаждения, и хотя двигали им в равной мере стыд и любовь, он все же надеялся, что предмет его размышлений, страдания его отчасти реального, отчасти виртуального сообщества, посредством его трудов получат признание, которого не получили в реальном мире. Размышляя о том, как в первые месяцы после возвращения на остров работал на северо-востоке, Кришан вспоминал сопровождавшее его отчетливое ощущение, будто он наконец физически попал в те края, которые сам же и выдумал, ощущение, будто он не столько ступает по твердой почве, сколько скитается по задворкам собственного сознания. В Джаффне он устроился в маленькую местную НКО, с финансированием в организации было туго, заработанного едва хватало на жизнь; когда Кришан разъезжал по разбитым дорогам меж разбомбленными селеньями, блестевшими рифленым железом и алюминием хижин-времянок, под ожесточенными взглядами мужчин, уже не способных никого защитить, под усталыми взглядами женщин – ныне они в одиночку несли ответственность за продолжение жизни, – ему представлялось, будто сцены насилия, которые он некогда вызвал в воображении, накладывались на все, что он видел. Последние снаряды упали давным-давно, и давным-давно погребли последние трупы, но настроение и характер тех давних зверств до такой степени пропитали места, куда он ездил, что на северо-востоке у Кришана менялась даже походка: он двигался со сдержанным почтением, точно на кладбище или месте кремации. Порой перед ним мелькали образы красоты и простоты, напоминавшие о той, другой жизни – как весело смеялись две девочки, утром катившие в школу на велосипеде, как беззаботно в сгущавшихся сумерках расплескивал воду старик, набиравший ее из колодца, – и, наблюдая повсюду следы бесчинств последних лет войны вместе с видениями возможного будущего, Кришан отдавался работе с пылким, целенаправленным усердием.
За годы, проведенные на северо-востоке, он стал менее рассеянным, более основательным, сильнее привязался и к этой земле, и к людям, которых прежде видел преимущественно на экранах, постепенно проникся цикличными ритмами сельской жизни, где время, казалось, никуда не идет, а лишь движется по кругу, возвращается, повторяется, возвращаясь к себе. Кришан мечтал стать частью решительных перемен, своего рода подъема или расцвета после всей боли и скорби, но месяцы превратились в год, а год превратился в два, и он осознал, что мечты его не исполнятся, что жестокость определенного свойства так глубоко проникает в душу, что о полном исцелении не может быть и речи. На исцеление потребуются десятки лет, но даже тогда оно будет сомнительным, частичным, и если он действительно хочет быть сколько-нибудь полезным, ему надо выучиться приносить пользу так, чтобы в длительной перспективе не выгореть самому и не отрекаться ради этой пользы от собственных нужд. Постепенно его изначальный пыл и целеустремленность охладели, он все чаще проводил выходные в Коломбо, по два, а то и по три раза в месяц проделывал семичасовой путь до дома. С тех пор как закончилась война, город изменился до неузнаваемости, вывески магазинов и электронные рекламные щиты заливали ярким светом его расширившиеся улицы, окоем заполонили очертания фешенебельных отелей и роскошных многоэтажек, новые кафе и рестораны кишели людьми, которых Кришан не знал и не понимал. Он с горечью отмечал совершившиеся перемены, словно неожиданная современность города была тесно связана с разгромом на северо-востоке, однако его неудержимо влекли простые развлечения, которые, казалось, предлагала жизнь в большом городе, и когда в одной из больших иностранных НКО в Коломбо открылась вакансия – нужно было заниматься преимущественно бумажной работой, заявлениями и отчетами, но платили за это неплохо, – Кришан рассудил, что пора возвращаться, не так чтобы надолго, сказал он себе, исключительно подкопить денег и решить, как быть дальше. Жизнь его с матерью и бабкой быстро вошла в колею, хоть он и отсутствовал дома без малого десять лет, прежние привычки и порядки возвратились, но к ним прибавилась и взрослая свобода, на досуге он встречался со старыми друзьями и новыми знакомыми, случайными или потенциальными любовницами, читал и смотрел фильмы. Эти скромные, однако пестрые удовольствия отвлекали его на время, но все же есть разница между тем удовольствием, что успокаивает и усыпляет, и тем, что шире, живее вовлекает нас в жизнь, и теперь, стоя возле окна, Кришан думал о своем возвращении в Коломбо и понимал, что за этот год утратил кое-что очень важное – не покидавшее его с двадцати до тридцати лет ощущение, что жизнь его может быть частью чего-то большего, какого-то движения или идеи, которой он может отдать себя целиком.
Он отвернулся от окна, обвел взглядом комнату, ту самую комнату, в которой они прежде жили вместе с младшим братом и которая в последние годы, с тех пор как брат перебрался за границу, оказалась в полном распоряжении Кришана. Комнату по-прежнему заливало теплое сияние раннего вечера, но луч света, проникавший в окно, уже переместился по полу, следовательно, Кришан простоял у окна довольно долго. Он вспомнил, что звонила дочь Рани, и осознал, что, вернувшись в комнату, думал исключительно о себе и ни на шаг не приблизился к тому, чтобы осмыслить смерть Рани, точно пытался уклониться от того, что недавно узнал. Кришан подошел к туалетному столику, взял свой телефон и, поколебавшись, набрал номер матери. Ее уроки еще не закончились, но он надеялся, что мать все же ответит и, передав ей известие, он сам, быть может, полнее осознает его смысл. Гудки сменились автоматическим сообщением телефонной сети – абонент недоступен, – Кришан нажал отбой, вспомнил о бабке: она, скорее всего, сидит у себя без дела. Он еще не сказал ей о звонке: наверное, нужно пойти и поставить ее в известность. Эта новость, без сомнения, ее огорчит, но она не из тех, кого чужая смерть способна вывести из равновесия, бабка, скорее всего, даже обрадуется, узнав о случившемся, это встряхнет ее, взбудоражит: так даже мучительные события скрашивают жизнь тех, кому толком нечем заняться. Хоть с кем-то поговорю, с облегчением подумал Кришан, – с единственным человеком, который, как ни странно, всегда готов поговорить со мной, – и с этой мыслью он подошел к двери, повернул ключ в замке, вышел в коридор и сделал четыре шага до комнаты бабки. Но когда он взялся за ручку двери, его одолели сомнения: он вдруг осознал, что, пожалуй, сообщить обо всем бабке – не самое мудрое решение. Ведь смерть Рани сильнее всего ударит именно по аппамме, это аппамма полтора с лишним года жила с ней в одной комнате; пожалуй, разумнее вообще ничего ей не рассказывать, пусть и дальше живет, не зная, что Рани упала в колодец и умерла. Кришан застыл у двери, ему хотелось войти, поговорить с бабкой, но он не знал, стоит ли это делать, наконец его потянуло заглянуть в комнату, точно, увидев бабку, он поймет, как правильно поступить; он выпустил ручку двери, встал на колени, закрыл левый глаз, правый прищурил и заглянул в замочную скважину.
2
Прямо напротив двери аппаммы, возле окна, стояло кресло, и, заглянув в комнату, Кришан увидел бабку, она сидела в кресле, спиной к Кришану, чуть подавшись вперед, положив руки на подлокотники и вытянув ноги на пуфик: бабка считала, что держать ноги в горизонтальном положении полезно для кровообращения. Голова ее клонилась набок и чуть вперед, точно бабка разглядывала свои колени, время от времени она встряхивала головой, словно бы удивившись чему-то, и вновь ее опускала. Бабка уснула, понял Кришан, глядя в замочную скважину. Не то чтобы такое случалось редко, учитывая, что по ночам бабка спала плохо, порой раза четыре или пять вставала в туалет, однако Кришан никак не рассчитывал и не ожидал, что бабка уснет сейчас, поскольку по вечерам она, как правило, бодрствовала. Засыпала она обычно после полудня, когда, лежа в кровати, смотрела по телевизору кино; порою – впрочем, очень редко – задремывала и до полудня, сидя в кресле и дожидаясь, пока ей принесут завтрак. Бабка не любила, чтобы днем ее заставали спящей, и Кришан это знал – особенно если было ясно, что вообще-то спать она не собиралась. То, что бабка уснула случайно, означало, что она не вполне контролирует свое тело, что порой ее тело вытворяет что ему заблагорассудится, не считаясь с ее желаниями, а бабка не могла допустить, чтобы о ней так думали. Если же ей случалось, очнувшись от сна, обнаружить, что к ней в комнату кто-то зашел, она решительно отрицала, что спала, хотя ее ни о чем не спрашивали и ни словом не возражали: я отдыхала с закрытыми глазами, – упрямилась бабка, – наслаждалась ветерком, пусть даже только что рот ее был открыт и храп разносился по коридору. Не видя причины задевать бабкино самолюбие, Кришан старался в такие минуты не приближаться к ней, а если ему требовалось зачем-нибудь ее разбудить, приучился шуметь, прежде чем войти в комнату, громко стучать в дверь, притворяться, будто чихнул, чтобы бабка успела подготовиться к его появлению. Отчасти он прибегал к этим мерам для того, чтобы не смутить и не обеспокоить бабку, чтобы ей не пришлось убеждать его, будто она и не спала, но главным образом потому, что его смущала бабкина готовность так примитивно врать, дабы убедить его в своем добром здравии. Правда, почти все люди лгут, чтобы сохранить в сознании определенный образ себя, но ведь прочие лгут искусно, не обнаруживая неуверенности в себе, служившей причиной лжи, его же бабка лгала так, что было понятно: она теперь способна лишь на самые прозрачные попытки сохранить предпочтительный образ себя и этою ложью выдает себя куда больше, чем если бы просто молчала.
Кришан отстранился от замочной скважины. Он не желал будить бабку и уже сомневался, стоит ли сообщать ей о смерти Рани или хотя бы на время лучше оставить ее в неведении. Возвращаться в безмолвие своей комнаты ему тоже не улыбалось; им вдруг овладело стремление оказаться как можно дальше от дома, и он решил пройтись, рассчитывая, что прогулка на свежем воздухе и выкуренная сигарета помогут собраться с мыслями. Кришан направился к себе в комнату, переоделся в брюки, сунул в карман зажигалку и пачку сигарет, мобильный оставил на столе и спустился на первый этаж. Выйдя из дома, он без особого облегчения отметил, что на улице еще относительно светло, небо по-прежнему голубое – бледное, невесомое, – закрыл за собой калитку и стремительно зашагал прочь. Миновал соседние дома, строительную площадку – рабочие уже завершали дневные труды, из импровизированной душевой в цокольном этаже слышался шум воды, – в конце переулка свернул налево и направился к Марин-драйв. Мимо него в обе стороны тянулась нескончаемая вереница фургонов и легковых автомобилей, за шоссе мерцало бескрайнее море; завидев просвет в потоке машин, Кришан перешел дорогу и устремился на юг по тротуару между шоссе и железнодорожными путями – правда, время от времени тротуар исчезал. Кришан достал из кармана зажигалку, большим пальцем провел по колесику, рассеянно огляделся на ходу, посмотрел на рикшу с изображением Будды на заднем стекле, концентрические круги разноцветных светодиодных лампочек создавали иллюзию нимба, вращающегося вокруг его головы, посмотрел на старуху-мусульманку, с трудом поспевавшую за маленьким мальчиком и девочкой, очевидно внуками, они тянули ее за руки. Легковушки, фургоны, рикши по-прежнему мчались мимо Кришана в обе стороны, точно стремились убежать от сумерек, встречные прохожие тоже, казалось, целиком погружены в раздумья о том месте, куда идут, усталые работники из пригородов торопились на вокзал, чтобы сесть на ближайший поезд, пожилые мужчины и женщины в футболках и спортивных костюмах совершали вечерний моцион, энергично шагали к воображаемой цели. После домашнего покоя Кришан не сразу вошел в ритм, не сразу приспособился к шуму и движению города, чтобы достичь возможного равновесия, но чем дальше он уходил от дома, тем спокойнее у него становилось на душе, тем расслабленнее и ровнее делалась его походка, когда он шел привычной дорогой.
За последние месяцы пешие прогулки нежданно вошли у него в привычку – один из немногих действенных способов унять внутренний непокой, овладевавший им вечером по возвращении с работы. В первое время в Коломбо его еще увлекали соблазны большого города, возможность вечером выйти куда-то с друзьями, выпить, выкурить косячок, побыть беззаботным и безрассудным, встретиться с симпатичными особами, с которыми можно пофлиртовать. Все эти действия сообщали его времени структуру и ход, внушали предвкушение встречи, которая, быть может, изменит его жизнь, но оттого ли, что знакомства в Коломбо редко по-настоящему трогали его как интеллектуально, так и в смысле политики или романтики, оттого ли, что теперь вещи, в юности так увлекавшие и возбуждавшие, ныне уже не имели на него былого влияния, но желания, побудившие его возвратиться в столицу, и скоротечные удовольствия, которые они сулили, вскоре показались ему ложными, точно они лишь сбивали с толку, отвлекали от нехватки более насущного. Прежде ему было приятно проводить время в одиночестве, это утешало его за все претензии и разочарования в жизни – нежная забота, получить которую можно было, попросту углубившись в себя, – но всякий раз, как он оказывался вечером дома один, им овладевало молчаливое беспокойство, он слонялся по комнате, убивал время в интернете, пытался читать книги, которые давно собирался прочесть. Он боролся как мог, даже если для этого требовалось пойти к бабке и выслушивать ее разглагольствования о том, как надоели ей комары, лезут и лезут к ней в комнату, что ни делай, но в душе его все равно таилась тревога, росла непрестанно днями и вечерами и достигала пика в последние угасающие мгновения дня, когда солнце садилось и изжелта-золотистый свет вдруг резко сменялся сперва розовым, потом лиловым и наконец вечернею синевой – от светлой до темной. Было в сумерках нечто такое, что усиливало тревогу, поднимало ее на поверхность его сознания, делало осязаемой, точно по мере того, как горизонт постепенно скрывался из виду, последние надежды и обещания дня тоже скрывались из виду, еще один день миновал, не заявив о себе.
Он уходил из дома задолго до того, как небо начинало темнеть, специально шагал размеренно, не спеша, чтобы успокоиться, вначале выбирал длинные извилистые маршруты в разных частях города – из желания познакомиться с его значительно переменившейся топографией. Но сколько бы Кришан ни ходил разными дорогами, ему по-прежнему было неуютно среди новых вывесок и фасадов – признаков новой траектории развития, не находившей отклика в его душе; постепенно Кришан ограничил прогулки жилыми кварталами неподалеку от дома, многочисленными узкими и ухабистыми улочками и переулками Веллаватты и Дехивалы, районов, где в юности он почти не бывал из-за войны, из-за военных блокпостов через каждые сто метров и непрестанной угрозы, что тебя задержат и допросят. Он проходил мимо ветхих домишек, большинство жилые, часть переделали в офисы и салоны, проходил новые многоэтажки, заселенные преимущественно мусульманами и тамилами, и, размышляя о тяжести жизни, которую вмещали все эти здания, чувствовал, как ему становится легче, словно бы, шаг за шагом удаляясь от дома, он оставлял позади обременительную и ненужную часть себя. Он по-прежнему наблюдал разительные перемены, совершавшиеся в небе, но отчего-то вне дома, в непосредственной близости от этих перемен, вынести их было проще, точно на свежем воздухе, за пределами четырех стен, пола и потолка, нечто тяготившее его душу рассеивалось, рассредоточивалось. Вслушиваясь в слабый плеск волн о прибрежные камни, в хлопанье птичьих крыл на порывистом теплом ветру, он понемногу успокаивался, и настоящее из пустоты превращалось, пусть ненадолго, в место, где ему уютно и безопасно. Немного есть настроений, которые не меняются, когда и земля, и небо перед нами как на ладони, и даже самые глубоко укоренившиеся настроения из тех, что не покидают нас целый день и упрямо таятся в груди, невзирая на все противоречивые чувства, с которыми нам приходится сталкиваться на людях, даже эти настроения медленно тают, столкнувшись с безбрежностью горизонта: в такие минуты чувствуешь если не радость и удовольствие, так хотя бы умиротворение от недолгого внутреннего угасания. Возвращаясь с этих прогулок в замкнутые пространства своего дома и комнаты, Кришан обычно так уставал, что уже не ощущал тревоги, прогнавшей его из дома; соленый от пота и морского бриза, он ложился на кровать – икры и бедра приятно ныли, – облекался в кокон изнеможения и вставал только в половину девятого, когда приходило время сходить вниз за ужином и принести его наверх, в комнату бабки, когда уже стемнело и самая трудная пора дня, переход от вечера к ночи, полностью завершилась.
Он снова начал курить именно во время этих прогулок, поначалу лишь потому, что сигарета, выкуренная на полпути, придавала его бесцельным блужданьям подобие смысла, ощущение, что он не скитается оттого лишь, что ему нечего делать и некуда пойти. В Индии, в университете, он покуривал время от времени, большинство его друзей тоже курили, но всерьез пристрастился к курению лишь позже, когда начал проводить время с Анджум, она курила часто и элегантно, и Кришан поймал себя на том, что невольно ей подражает. Перебравшись на северо-восток, он оставил эту привычку – главным образом потому, что на курильщиков в той среде, где ему довелось работать, смотрели косо, – хотя, быть может (теперь он это осознавал), он бросил курить отчасти из-за Анджум, в целом стремясь дистанцироваться от нее после того, как их пути разошлись, уничтожить не только многочисленные следы их связи, сохранившиеся в его телефоне и компьютере, но жесты и фразы, которые перенял за то время, что они провели вместе: многие по-прежнему давали о себе знать, как он ни старался от них избавиться. До возвращения в Коломбо его не тянуло вновь закурить – не хотелось прибегать к ухищрениям, чтобы скрыть эту привычку от матери (раз уж он теперь жил дома), – и только если ему случалось выпить, стрелял сигареты или взрывал косяки с друзьями. Окончательно к этой привычке он вернулся два месяца назад, когда во время очередной прогулки зашел в магазинчик за какао; человек перед ним купил поштучно три сигареты, заплатил и с таким самодовольным видом забрал их с прилавка, что Кришан поневоле задался вопросом: что мешает мне сделать так же? Когда подошла его очередь, он купил одну сигарету и коробок спичек, убрал сигарету в нагрудный карман рубашки, по пути то и дело доставал ее, подносил к носу и жадно вдыхал аромат табака. Присев на корточки на углу пустынного переулка, чиркнул спичкой, осторожно поднес пламя к кончику сигареты, наслаждаясь каждым движением – тем, как щелчком указательного пальца стряхивал пепел с сигареты, как неспешно подносил ее к губам, медленно затягивался, слушая, как горит бумага, выдыхал дым и смотрел, как он тает в воздухе. И в каждую следующую прогулку он на полпути выкуривал сигарету, вскоре покупал уже не одну, а две: одну чтобы выкурить сразу, другую перед сном, аккуратно нес дополнительную сигарету в кармане рубашки, прикладывая все усилия к тому, чтобы она не испачкалась и не помялась, а перед сном выходил на балкон – в доме уже все спали, – молча курил и глядел на звезды. В последующие недели число выкуренных сигарет стремительно увеличивалось, и вскоре он уже покупал пачку, а не поштучно, а спички сменил на зажигалку. Курение стало для него своего рода времяпрепровождением, ритуалом, которого он ждал с нетерпением, оно примиряло его с настоящим, даже когда он не курил: ведь следом за настоящим наступит время получше. В отличие от перспективы сходить куда-нибудь вечерком, порождавшей чаяния и надежды, в конечном счете оказывавшиеся иллюзорными, удовольствие от выкуренной сигареты, пусть скромное, было осязаемым, настоящим, равным себе, оно не давало ложных обещаний, и Кришан сознавал, что вправе рассчитывать на него, пока у него не закончатся сигареты. По вечерам он по-прежнему ходил развлекаться, пытался заводить новые знакомства, но курение помогало ему принять, что жизнь такая, какая есть, помогало открыть для себя настоящее, делало настоящее обширнее и терпимее, так что, даже если ни одна из его надежд на вечер не оправдывалась, он, возвращаясь домой, всегда утешался мыслью о том, что последняя сигарета перед сном никуда от него не денется.
Кришан поднял глаза и заметил, что подошел к одному из своих излюбленных мест для курения – он выбрал его, потому что здесь можно было посидеть у моря, скрывшись от глаз пешеходов. Кришан повернул направо, поднялся по травянистому косогору к железнодорожному полотну, остановился, чтобы убедиться, что поезд не идет – в новостях, что ни месяц, сообщали о том, как поезд в очередной раз сбил пешехода или велосипедиста, – и перешел через рельсы. Спустился к узкой полоске камней, образовывавшей границу между сушей и морем, отыскал относительно незамусоренный пятачок, достал сигареты, зажигалку и устроился на камнях. Поодаль, по правую руку, сидела юная парочка, тела их не соприкасались, но головы клонились друг к другу, точно парочка секретничала; слева, вдали, на камнях возле самой воды, маячили рыбаки в лохмотьях, то показывались, то исчезали в густых облаках водяной пыли. Кришан повернулся, взглянул на серебристо-серое море, невозмутимо простиравшееся перед ним, на золотисто-серое небо в лучах закатного солнца, балдахином зависшего над горизонтом. Достал из пачки сигарету, медленно покрутил в пальцах, точно дивясь ее хрупкости, отвернулся от моря, согнулся, прикрывая огонек зажигалки от ветра, закурил и сделал первую долгую затяжку. Он старательно устремлял помыслы к Рани, к неожиданной и немного нелепой природе ее кончины, к поразительно механическому тону, каким ее дочь рассказывала по телефону о случившемся, но поймал себя на том, что по какой-то причине думает не столько о Рани или ее дочери, сколько об увиденном в замочную скважину бабкиной двери, о бабке, которая, сама того не ведая, так беззащитно уснула. Трудно сказать, отчего это зрелище задело его за живое, ведь были и более насущные темы для размышлений – но, глядя сейчас на воду, простиравшуюся от камней возле его ног, скользя взглядом по колышущейся серой поверхности, он мог думать лишь об уязвимости, которую излучала спящая бабка, уязвимости в общем-то очевидной, но которая тем не менее застала его врасплох, точно все это время он не замечал ее реального состояния или сам был причастен к тому, чтобы его утаить.
Разумеется, бабка задолго до его рождения уже тяготела к затворничеству, но событие, побудившее Кришана осознать неизбежную траекторию ее образа жизни – он это запомнил, – событие, наглядно показавшее ему, что бабка не вечна, приключилось, когда ему было лет двенадцать-тринадцать; бабке в ту пору было лет семьдесят. В тот день она работала в саду – так она рассказывала им впоследствии, – выпалывала сорняки в углу, где рассчитывала посадить горькую тыкву. Работа не то чтобы трудная, но, поднимаясь потом по лестнице, бабка почувствовала, что задыхается; она пошла к себе, села в кресло, но одышка усилилась, вскоре бабку пробрала дрожь, исходившая, казалось, из самой груди. Бабку немедля отвезли в больницу, сразу же сделали ряд анализов, и выяснилось, что у нее закупорена артерия рядом с сердцем. То есть, строго говоря, это был не инфаркт и не инсульт, заключили врачи, но есть угроза обоих, и желательно сделать так называемое коронарное шунтирование, в ходе этой операции бабке вырежут вену, которая идет на правой ноге от щиколотки к икре, и заменят ею больную артерию близ сердца. Из последующих дней Кришану больше всего запомнилось собственное изумление оттого, что бабка так легко смирилась с происходящим, так охотно вверила свой организм окружавшим ее врачам и медсестрам. Вернувшись домой – после операции ее две недели продержали в больнице под наблюдением врачей – явно выздоровевшая и польщенная щедро оказанным ей вниманием, она ничем не выдавала, что события прошедшего месяца стали для нее чем-то большим, нежели краткий, приятно-бодрящий перерыв в обыденном существовании. С нескрываемым удовольствием бабка делилась со всеми родственниками, навещавшими ее в последующие дни, впечатлениями о случившемся, начиная с одышки и дрожи и до выписки три недели спустя, подробно отчитывалась о качестве больничных блюд, которыми ее кормили, под конец приподнимала сари и демонстрировала шрам на правой ноге, точно в доказательство, что все описанные ею события действительно произошли и она ничего не выдумала на потеху слушателям.
В ту пору Кришан вечерами приходил к бабке в комнату поболтать перед сном и теперь вспоминал – со дня операции проходили недели, затем и месяцы, – что волнение и тревога в конце концов растворились в повседневных заботах, но во время его вечерних визитов аппамма все чаще говорила о своем здоровье. До известной степени она всегда говорила о своем здоровье, но теперь каждый разговор с нею неизменно сводился к этой теме. Кришан заходил к ней в комнату, аппамма выключала свет – около девяти, по окончании последней телепередачи, которые она обычно смотрела, – он укладывался в темноте рядом с бабкой и слушал, как она рассуждает о том, сколько она сегодня для моциона ходила по коридору и что она до сих пор сама стирает и готовит, а следовательно, крепче многих своих ровесниц, и как медработники при первой встрече неизменно дивились, когда она называла свой возраст, и как один повторял: вы выглядите гораздо моложе других семидесятилетних. Время от времени Кришан вставлял слово – либо для того, чтобы показать бабке, что он слушает, либо если ей требовалось подтверждение или согласие с чем-то сказанным ею, но чаще всего он молчал, почуяв в манере ее рассказа нечто такое, отчего не решался переменить тему или перебить бабку, своего рода исповедальность в ее голосе и комнате, словно бы то, чем бабка делилась с ним, она никому другому и не открыла бы, некий страх или тревогу: напрямую она нипочем бы в них не призналась, но когда они лежали рядышком в темноте, не видя лица друг друга, Кришан чувствовал их в ее теле. В слова этот страх и тревогу бабка облекала крайне редко и далеко не сразу, лишь установив, к своему удовольствию, что она здорова, как прежде, хоть ей и понадобилась операция – бабка ее считала всего лишь мерой предосторожности. В такие минуты бабка понижала голос, точно намеревалась сообщить мимоходом сущий пустяк, и заявляла, что, пока она в состоянии себя обслужить, все у нее в порядке, единственное, чего ей не хочется, – стать беспомощной, неспособной самостоятельно ходить, одеваться, мыться, оказаться прикованной к кровати, превратиться в помеху и обузу для прочих. Поначалу Кришан отмалчивался, не зная, как отвечать на такие признания, но, обвыкнувшись с ними, научился говорить бабке, что она неправа, никому она не будет ни помехой, ни обузой, что он уж точно будет ухаживать за ней с радостью, а не просто из чувства долга. Она ценила такие ответы, но оставляла без внимания, предпочитая сосредоточиться на том, что она, быть может, никогда и не станет беспомощной, обездвиженной, прикованной к кровати, всегда сумеет о себе позаботиться, а следовательно, ей никогда не придется беспокоиться о том, что она кого-то обременит.
Последующие годы принесли с собой различные признаки угасания: у нее стали опухать ноги, сперва одна, потом обе, изменился цвет кожи чуть повыше ключицы – как ни силилась бабка, эту досадную белизну не скрывали никакие притирки. Чаще всего бабка отмахивалась от этих перемен как от временных или неважных, и лишь через пять или шесть лет, когда из Торонто приехали родственники и в последний день визита решили пойти поужинать в индийский ресторан неподалеку, бабка вновь была вынуждена столкнуться лицом к лицу со страхами и опасениями, заявившими о себе в месяцы после операции. Всякий раз, как аппамме приходилось покинуть дом и преодолеть незнакомую территорию общественных мест, лицо у нее делалось сдержанно-напряженным, встревоженным, она словно двигалась по тонкой грани меж стыдом и угрозой: стыдом за неуклюжесть своего тела, неуверенность своей поступи, за то, что она задерживает остальных и ее все жалеют, и угрозой, что если она переусердствует, стараясь не отставать, то оступится и упадет, и тогда ее, несомненно, будут жалеть еще больше. Кришан в таких случаях всегда замедлял шаг, отставал от компании, шел рядом с бабкой, притворяясь, будто они оба не могут идти быстрее, чтобы ее так не мучила необходимость догонять остальных, порой даже подавал ей руку, хотя бабка обычно отказывалась, отталкивала его руку, точно считала его жест оскорбительным. Чаще всего в таких предложениях, в общем-то, не было необходимости, однако ровно в такую минуту – они подошли к той части ресторана, где уровень пола оказался выше и нужно было подняться на приступочек, – аппамма, желая показать родственникам, что она прекрасно справляется без посторонней помощи, демонстративно отмахнулась от руки Кришана, споткнулась, упала ничком, отчего-то совсем бесшумно стукнувшись об пол, точно ее крупное мягкое тело целиком поглотило звук удара. Как всегда в таких случаях, поднялась суета, люди ринулись на помощь, к аппамме бросились родственники, к месту происшествия немедленно устремились официанты, посетители вскочили, со скрежетом отодвинув стулья и скроив сочувственные гримасы, и в этой суете аппамма старательно напускала на себя невозмутимый вид, хотя была заметно потрясена, улыбалась пренебрежительно, с трудом поднялась – ноги ее дрожали – и направилась к столику. Ей тут же принесли стул, силком усадили ее прямо посреди зала, внимательно осмотрели под смущенными взглядами посетителей и официантов, гадавших, продолжать ли изображать сочувствие или можно уже перестать. Аппамме посчастливилось не задеть при падении ни твердый край стола, ни стула, но, несмотря на протесты и к ее великому смятению – подумаешь, упала, едва ли не с возмущением повторяла она, с кем не бывает, – было решено заказать блюда навынос и поужинать дома.
Трость мать Кришана купила отчасти по настоянию родственников, присутствовавших при падении, и это недешевое приобретение вызвало у аппаммы раздражение, граничившее с враждебностью. Как ни старалась невестка ее убедить, ходить с тростью аппамма отказывалась, а поскольку после случившегося стала значительно осмотрительнее и осторожнее передвигалась по дому, держась за мебель и стены, невестка в конце концов оставила уговоры. Трость заняла более-менее постоянное место в углу ее комнаты близ телевизора – как сувенир из поездки или подарок на память об особом событии, вопрос о подвижности позабылся и вновь возник лишь три года спустя: в один из выходных аппамма стояла на кухне у газовой плиты, жарила сардинки на обед Кришану – к этому времени ничего другого ей делать уже не давали, но сардинки она упрямо готовила, чтобы Кришан хоть в чем-то чувствовал себя ей обязанным, – и вдруг упала на пол. Ей вновь посчастливилось не удариться головой; аппамму тотчас же отвезли в больницу, и выяснилось, что у нее на несколько секунд остановилось сердце, отчего она потеряла сознание и упала. Естественная сигнальная система, отвечающая за регулярное сердцебиение, порой к старости ослабевает, объяснили врачи – больше Кришану и его матери, чем аппамме, которая беспомощно взирала на происходящее из кресла-каталки, пока при ней обсуждали ее состояние. И если по какой-то причине сигнал не дошел до сердца, оно пропускает удар, порой это приводит к головокружению или потере сознания. Чтобы в дальнейшем не случилось чего похуже, нужно установить приборчик на батарейке, так называемый кардиостимулятор, тот посылает электрические сигналы и тем самым поддерживает нормальный сердечный ритм, даже если естественная сигнальная система на мгновение дает сбой или вовсе перестает работать.
Аппамма боялась, что по возвращении домой ее заставят ходить с тростью, а потому, ободренная этим неожиданным диагнозом, означавшим, что она упала не по своей вине и что если ей установят кардиостимулятор, такого больше не повторится, она с воодушевлением согласилась на вторую операцию. Предчувствуя, что невестка, скорее всего, все равно попытается уговорить ее ходить с тростью, аппамма принялась собирать аргументы в свою защиту: и набалдашник у трости с изгибом, неудобно держать, и с тростью она упадет как пить дать, так что ей куда безопаснее держаться за стены и мебель. Из больницы аппамма вернулась сильной и энергичной, готовой отразить любые уговоры, точно этот приборчик на батарейках, что ей вживили под кожу, сделал аппамму неуязвимой. Но, войдя к себе в комнату, обнаружила, что у кровати ее дожидается вовсе не трость, купленная три года назад, а новое приспособление, ходунки, состоящие из четырех полых алюминиевых ножек с резиновыми наконечниками, соединенных наверху подковообразной рамой с резиновыми ручками на каждой из трех сторон. Этот новый прибор застал аппамму врасплох, и мать Кришана – на этот раз она твердо решила не отступать – с легкостью опровергла все ее слабые возражения. Вам два раза уже повезло, отрезала мать, и если вы вновь упадете, неважно, по какой причине, то, возможно, до конца своих дней окажетесь прикованы к кровати, и если это случится, ухаживать за вами придется мне, вашей невестке: больше это бремя нести некому. Аппамма мгновенно умолкла, пронзенная мыслью о том, что станет обузой. И когда невестка вышла из комнаты, аппамма молча сидела, вытаращась на ходунки, как на незваного гостя, которого не в силах выставить; следующие три дня отмалчивалась, почти не выходила из комнаты. Мать Кришана уже опасалась, что вела себя слишком сурово и, пожалуй, стоит смягчить требования, как-то задобрить свекровь, но на четвертый день после обеда аппамма вышла из комнаты, крепко держась обеими руками за ходунки и сосредоточенно насупив брови, и как ни в чем не бывало медленно проковыляла по коридору. Ни слова не говоря, уселась в гостиной в привычное свое кресло перед телевизором, словно бы в том, что она вышла из комнаты, опираясь на ходунки, нет ничего особенного и ее решение воспользоваться новым приспособлением – отнюдь не стремление приспособиться и не уступка действительности. Почуяв ее неохоту признавать перемену, мать с Кришаном искоса переглянулись и притворились, будто ничего не замечают; с тех пор аппамма без ходунков не ступала и шагу, точно в те три дня, что она провела взаперти, в коконе своей комнаты, в ней совершилась какая-то метаморфоза. Она толкала ходунки вперед на короткое расстояние, переносила на них свой вес, делала шаг вперед, после чего повторяла эту последовательность движений, вскоре настолько вошедших у нее в привычку, что трудно было представить, чтобы она передвигалась иначе. Если к ней заезжали родственники, она демонстрировала им все особенности ходунков – как с помощью кнопочных фиксаторов регулировать высоту ножек, как рама крепится к передним ножкам, так что задние поворачиваются, это дает определенную свободу движения, когда меняешь направление, – словно привыкла считать ходунки признаком не слабости или уязвимости, а силы и способности, тем, что отсрочило или вовсе отменило необходимость сидеть в четырех стенах и что аппамма поэтому приняла как часть себя.
Конечно, на лестнице от ходунков толку было немного, и в последующие годы аппамма вынужденно ограничила частоту визитов на первый этаж. Она за сутки решала, когда отправиться в путешествие, и когда момент наставал, приближалась к лестнице напряженно-сосредоточенно, вставала боком и, вцепившись в перила, начинала спускаться, сперва переносила на нижнюю ступень ведущую ногу, потом опускала на нее взгляд, дабы убедиться, что нога стоит прочно, и тогда уже ставила рядом с нею другую ногу. Кришан или мать у подножия лестницы зорко следили за каждым шагом аппаммы, готовые поймать ее, если вдруг оступится и упадет; через несколько напряженных, изматывающих минут аппамма, осилив спуск, останавливалась отдышаться; ею владел восторг, смешанный с облегчением. Схватившись за ходунки – их всегда заблаговременно сносили к подножию лестницы, – она немедленно направлялась на кухню, с новообретенной бодростью расхаживала вдоль шкафчиков, открывала все ящики, заглядывала в различные отделения холодильника, оценивала содержимое кухни, пытаясь понять, что изменилось, что осталось прежним, как эмигрант, вернувшийся на родину из изгнания, вдруг постигает, как обстоят дела. Утрата этого знания оказалась бы невыносимой, и когда походы на кухню в конце концов прекратились, аппамма компенсировала утрату физического доступа на кухню посредством окольных стратегий, главной из них были расспросы: она многозначительно и беспрерывно выпытывала у домашних, что происходит внизу. Аппамма всегда расспрашивала о том, что не могла проверить лично, – почему Кришан так поздно вернулся с работы, кто к ним пришел, почему ее младший брат, проживающий в Лондоне, давненько ей не звонил, – но теперь она расспрашивала обо всем куда настойчивее и чаще прежнего, на основе полученной информации выстраивала предположения о внешнем мире, подобно раненому генералу, который не может участвовать в битве и поэтому вынужден полагаться на чужие донесения и спутниковые снимки боя. Днем в будни и в выходные заняться ей было особенно нечем, по телевизору не показывали ничего интересного, и бабка с увлечением строила и развивала эти предположения, придумывала все новые и новые вопросы, которые нужно задать, поскольку вопросы становились раз от раза сложнее и требовалась новая, более точная информация, чтобы подтвердить, опровергнуть или пояснить ее предположения. Вскоре Кришан с матерью обнаружили, что их угнетают бесконечные расспросы о мире, обсуждать который им было совершенно неинтересно. Они на цыпочках проходили мимо комнаты аппаммы, надеясь, что она не услышит и не позовет их, обрывали разговоры с нею – им-де надо идти, – особенно мать Кришана, ей и без того приходилось тяжко: на ней были покупки, готовка и вся домашняя работа, когда уж тут объяснять свекрови каждую банальную мелочь. Аппамма смекнула, что невестка и внук ее избегают, но бестрепетно продолжала выведывать информацию, задавала обоим одни и те же вопросы, будто хотела сверить ответы, выяснить, не противоречат ли они друг другу, хмурила брови и поджимала губы, пока не вызнает в точности все подробности, словно вращение мира вокруг своей оси целиком зависело от того, плодоносит ли кустик чилийского перца в их саду и осталось ли со вчерашнего дня рыбное карри, – словно, если она не сумеет издали должным образом проследить за всем этим, произойдет катастрофа, день не сменится ночью и ночь не сменится днем.
Смерть всегда представлялась Кришану чем-то внезапным или насильственным, что происходит в определенное время и заканчивается, но сейчас, когда он сидел на камнях и размышлял о бабке, его вдруг осенило: смерть порою – дело небыстрое, затянутое и мучительное, и этот процесс занимает значительную часть жизни умирающего. Сейчас это казалось ему очевидным, но оттого ли, что отец Кришана погиб во время теракта в Центральном банке Коломбо 5, оттого ли, что на его родине безвременная и насильственная кончина стала обычным делом, прежде ему не приходило в голову, что порой люди умирают медленно, что умирание порой растягивается на долгие годы. С тех пор как он повзрослел и заинтересовался новостями, он слышал о смертях неожиданных, непредсказуемых – люди гибли в автоавариях, во время расовых беспорядков, от укуса змеи, от цунами, от осколков шрапнели, – и не задумывался о том, что для большинства людей в большинстве мест, даже на Шри-Ланке, смерть – это процесс, который начинается за десятки лет до того, как сердце прекращает биться, процесс со своей логикой и траекторией. Этот процесс начинается практически неуловимо, с едва различимых изменений внешности, сперва они кажутся несерьезными – обвисает кожа, редеют волосы, углубляются морщины на лице, – но потом проявляются глубже, тревожнее: суставы теряют гибкость, слабеют рефлексы, незначительно, однако симптоматично ухудшается двигательная активность, так что в конце концов поневоле будешь пытаться угадать, что дальше, не ограничиваясь лишь тем, что происходит с кожей. Понемногу дают о себе знать изменения внутренних органов, изменения эти проявляются с силою неизбежности и касаются бодрости, менструации, метаболизма, либидо; анализы – если, конечно, есть возможность сделать анализы – выявляют повышение кровяного давления и уровня холестерина, необходимость внимательнее следить за внутренними показателями организма, а если пока что не выявляют такого, то облегчение, сопровождающее это известие, все равно вынуждает готовиться к таким переменам. В обоих случаях человек начинает относиться к себе иначе, в обоих случаях старается питаться правильно, не переутомляться, высыпаться, делать зарядку, в обоих случаях все чаще ограничивает себя, участвует в жизни все более избирательно, и избирательность эта не столько связана с личным решением, сколько свойственна старению – медленному, скрупулезному процессу, из-за которого тело, некогда перемещавшееся так свободно и просто в разных средах, постепенно удаляется от того, что называется миром. Кости становятся хрупкими, мышцы слабеют, и вот уже человек не поспевает за остальными, снижается сообразительность, выносливость и работоспособность – независимо от того, работает ли человек в офисе или дома. Ухудшается зрение, слух, человеку все приходится повторять, поскольку он либо не расслышал, либо забыл; человек уходит с работы и еще реже бывает в так называемом внешнем мире. Вскоре он еще меньше осознает, что происходит с другими людьми в других краях, и бывает лишь в немногих определенных местах – на обследовании в больнице и в гостях у родственников; чуть погодя, почти недвижимый, он не покидает не только пределов своего дома, но и комнаты. Взаимодействие с внешним миром замедляется и прекращается окончательно, человек не знает, что делать и чем себя занять, думать ему не о чем, кроме себя самого и собственного существенно сократившегося будущего, и когда наступает естественная кончина – по правде сказать, куда менее естественная, чем безвременная насильственная смерть: в нее на всех этапах вмешиваются доктора, медсестры, анализы, медикаменты, так что когда в конце концов наступает пора покинуть то, что осталось от тела, этого первого и самого близкого окружения человека, той частицы мира, над которою человек обладал полной властью, – даже если мы не то чтобы готовы к смерти, по крайней мере она не застает нас врасплох, поскольку она лишь последний этап давно начавшегося пути.
Кришан всегда полагал, что старики смиряются с этим состоянием – одни с большой неохотой, стараясь по мере сил облегчить себе процесс старения, такое положение вызывает у них досаду, но в целом они сознают его неизбежность; другие принимают его с достоинством и даже способны посмеяться над ограничениями, которые накладывает возраст. Аппамма же никак не могла смириться с новым замкнутым образом жизни; в этом было что-то ребяческое, словно этот процесс, через который проходят все люди, не под силу лишь ей одной, и все же Кришан отчасти восхищался тем, как держится бабка: ее поведение заслуживало большего, нежели снисходительность или жалость. Трудно было не восхищаться решимостью, с какою бабка боролась с тем, что с ней происходило, ее нежеланием идти на компромисс в том, что она считала причитающимся ей по праву, даже если этому нежеланию не хватало практичности или достоинства, которые выказывали ее сверстники, даже если ее сопротивление подразумевало, что она лжет и себе, и людям, даже если оно, в конце концов, было обречено на провал. В общественной жизни она никогда особенно не участвовала – школу так и не окончила, замуж вышла рано, ее слово и авторитет имели вес разве что в делах домашних, – но упорно боролась за то, чтобы по-прежнему участвовать хотя бы в жизни семейной и уступала сферу влияния лишь после ожесточенных боев за каждый ее дюйм. Кришан вдруг вспомнил, как в одну из последних вылазок в сад бабка, утомленная путешествием со второго этажа и посещением кухни, доковыляла по траве до цветочного горшка, куда несколькими днями ранее посадила семена и теперь желала проверить всходы. В горшке зеленели два слабых нежных росточка, заглушенные сорняками, корни которых, казалось, уходили так глубоко, что, как бабка ни старалась их вырвать, сорняки не поддавались. Кришан собирался выйти в сад и предложить помощь бабке, но вдруг увидел, что в глазах ее сверкнула ярость, аппамма стиснула зубы, наклонилась едва ли не параллельно земле и принялась один за другим выдергивать сорняки с такой силой и остервенением – казалось, по ее телу бежит ток, – что вырвала их с комьями почвы. Аппамма отбросила сорняки в угол сада, обхлопала взрытую землю и оглядела два зеленых росточка, уцелевших каким-то чудом посередине горшка. Полюбовавшись ростками, бабка погладила их с нежностью, не вязавшейся с предыдущими ее действиями, и с улыбкой повернулась к Кришану, глаза ее сияли, как сияли потом всякий раз – по крайней мере, так ему казалось, – когда он, вернувшись из сада, докладывал бабке о благополучном состоянии ее ростков. Кришан не знал, почему бабку так это занимало, но именно ради подобных вещей она цеплялась за то крохотное замкнутое пространство, в которое превратился ее мир, и он невольно чувствовал, что в столь смиренной и яростной верности жизни кроется нечто достойное восхищения, в том, что бабка холила и лелеяла эту жизнь как только могла, всеми средствами, еще остававшимися в ее распоряжении, хотя тело ее постепенно отказывало, окружающие уже не нуждались в ней, не зависели от нее, а Рани, ее последней связи с большим миром, и вовсе не стало.
3
Кришан щелчком отправил окурок в воду, плескавшуюся у камней, медленно встал и потянулся всем телом. Сильно задерживаться он не планировал, поскольку не взял телефон и знал, что мать может перезвонить, но возвращаться еще не хотелось, и он перешел через рельсы, спустился на тротуар и пошел дальше той же дорогой, поглядывая на машины по левую руку – они то разгонялись, то тормозили рывками, – на попутных и встречных прохожих и бегунов, направлявшихся каждый в свою сторону. Та часть Марин-драйв, где он шел, почти не изменилась, здесь по-прежнему были все те же скромные дома – как частные, так и многоквартирные, – с тех пор, как завершилась война, к ним добавилось разве что несколько кафешек и ресторанчиков, открылись они главным образом для того, чтобы обслуживать тамилов, которые приезжали в гости из-за границы и старались поселиться поближе к родственникам. Среди многочисленных вывесок Кришан заметил красный крест небольшой аптеки, куда нередко захаживал за лекарствами для Рани и где не бывал уже несколько месяцев; он вдруг поймал себя на том, что прежде на прогулках не обращал на эту аптеку внимания. Он вспомнил, как немного смущенно подвигал фармацевту рецепты Рани, вспомнил, как сдержанно и с достоинством молчаливый худой фармацевт прочитывал длинный перечень, доставал с полок требуемое и выкладывал на прилавок. В аптеке всегда было все, что значилось в рецептах, – и антидепрессанты, и анксиолитики, и снотворное, и таблетки для печени, и лекарства от давления, причем анксиолитики и антидепрессанты в аптеке имелись самых разных производителей: признак того, что эти средства пользуются куда большим спросом, чем предполагал Кришан. После визитов в аптеку он часто задумывался о том, сколько народу, оказывается, принимает лекарства от психологических проблем и душевных заболеваний, гадал, много ли посетителей приходит с таким же длинным и разнообразным списком лекарств и есть ли среди них те, кто перебрался в столицу с северо-востока, пережив трагедию, подобно Рани. Кришан все шагал по Марин-драйв, уже с трудом и без всякого удовольствия, и, лишь завидев впереди устье канала Кирулапана, почувствовал, как устал. Канал объединял несколько меньших каналов, беззвучно протекавших по удаленным от побережья районам столицы, – кульминация городской водосточной системы, насчитывавшей сотни лет: она собирала дождевую воду, направляла к побережью и сбрасывала в море. Темно-зеленые воды канала текли спокойно, неторопливо, движение их было почти невидимо, лишь кончики листьев папоротников, спускаясь со стен канала, пронзали практически невозмутимую водную гладь; Кришан направился вдоль канала, чувствуя, как шаги его становятся медленнее и шире. Вслушиваясь в слабое журчанье канала в те мгновения, когда шум машин ненадолго смолкал, он представлял, как под тротуаром, беззвучно проникая друг в друга, встречаются разные воды, как медленный безмятежный поток города сдается на милость глубоким, тяжелым, бурливым морским волнам, и ему вдруг пришло в голову, что, быть может, ощущение совершавшегося под землей незримого, но неуклонного обновления и внушало ему спокойствие всякий раз, как он переходил через канал, – признак того, что глубинные эти процессы затрагивали и его душу, даже если на поверхности его жизни словно бы ничего не менялось.
Едва Кришан ступил на тропинку на другом берегу, как снова вспомнил – даже, в общем-то, не о Рани, а о том, как два года назад бабка съездила в Лондон, чего ей делать не следовало, поскольку вернулась она оттуда практически полутрупом; из-за этой злосчастной поездки в их жизнь и вошла Рани. В Лондон бабка ездила не впервые: если Кришан с матерью за границею были всего раз в жизни, несколько лет назад, сперва полетели в Лондон, оттуда в Торонто, бабка за прошлые двадцать лет бывала в Лондоне раз пять – ездила в гости к младшему брату (точнее, полубрату). Тот был восемнадцатью годами моложе аппаммы, она растила его несколько лет, когда они жили в Джаффне; несмотря на разность характеров и жизненных путей, они оставались близки и, с тех пор как разъехались, созванивались минимум раз в месяц. Брат аппаммы в двадцать с небольшим примкнул к одной из ячеек сепаратистов, действовавших в Джаффне, и в 1986-м вынужден был покинуть страну, сперва перебрался в Индию, оттуда в Европу и получил убежище в Англии. Когда он поселился в Лондоне, ему было уже под сорок, школу он так и не окончил, английского почти не знал, но был обаятелен, хорош собой и в конце концов стал управляющим супермаркета неподалеку от дома. Из-за прежней деятельности вернуться на родину он не мог, ни жены, ни детей, которых надо было бы содержать, у него не было, а потому раз в несколько лет он покупал сестре билеты туда-обратно, и она приезжала к нему в Лондон на полтора месяца погостить. Этих визитов аппамма всегда ждала с нетерпением, отчасти потому, что полеты казались ей делом престижным, внушали ощущение власти, отчасти же потому, что они уверяли ее в частичной независимости от невестки, в том, что в мире есть и другой человек, который желает ее видеть и проводить с ней время. В отличие от невестки брат ни в чем ее не ограничивал и только радовался, когда она гуляла по садику за его домом или весь день торчала на кухне, стряпала обеды, ужины и множество масляных десертов; перспектива очутиться в иностранном окружении – хотя в Лондоне аппамма почти не выходила из дома – неизменно ее бодрила. Поездки за границу нарушали однообразие существования в четырех стенах, аппамма с нетерпением ждала этого события, которому на несколько месяцев подчинялось хаотичное течение времени – долгосрочный аналог ежедневных телепрограмм и купаний по воскресеньям (то и другое упорядочивало ее неделю); с годами эти поездки сделались для нее жизненно необходимы: они, как ничто другое, помогали ей распоряжаться временем.
Брат приобретал ей билеты за полгода – так было дешевле, – и с той самой минуты, как ее ставили в известность об этой покупке, отвлеченное представление о путешествии за границу обретало в ее уме конкретную дату, и аппамма с неторопливым, всеобъемлющим удовольствием принималась ждать поездку. Собираться начинала за добрые два месяца; первым делом готовила чили, которое всегда возила брату и родственникам, и растягивала этот процесс на пару недель: сушила перчики чили и листья карри 6 на солнце, потом молола с кориандром, фенхелем, кумином и куркумой, получившийся порошок пересыпала в вакуумные пакеты, так чтобы их можно было убрать в багаж и везти в самолете. Покончив с чили, аппамма принималась доставать вещи, с предыдущей поездки хранившиеся в шкафу, в основном нарядные сари, а также свитеры и носки, ненужные ей в Коломбо, перестирывала, аккуратно сворачивала и откладывала в сторонку. Потом бралась за невестку: пора подавать документы на визу, закупаться лекарствами от давления и от сердца, эти таблетки понадобятся ей за границей, потом прочесывала ящики в поисках нужной мелочовки – батареек, ручек, аптечных резинок, безопасных булавок, – в гостях все это ей пригодится. И наконец, за три недели до вылета аппамма велела Кришану или его брату принести два потрепанных чемодана, что хранились у них под кроватями, ставила чемоданы в углу своей комнаты, открывала и аккуратно раскладывала в их отделениях приготовленные пожитки. Собирать чемоданы аппамма заканчивала минимум за неделю до отъезда и оставшиеся дни представляла, как будут проходить ее дни в Лондоне; чтобы удостовериться, что она ничего не забыла, время от времени перекладывала вещи, добавляла то одно, то другое, наслаждаясь порядком и изобилием в чемоданах, тем фактом, что она готова к любым непредвиденным случаям и их последствиям, так что, когда наконец наступал день отъезда, оставалось лишь отправить ее тело и чемоданы в Лондон, поскольку мыслями она давно уже невозмутимо обосновалась в свободной комнате братнина дома.
Когда три года назад брат позвонил, пригласил аппамму в гости в следующем июне и предложил заодно отметить с размахом ее восьмидесятипятилетие, созвать на торжество родственников не только из Лондона, но и из континентальной Европы, аппамме, само собой, польстило его предложение. Несмотря на внешнее безразличие, она явно обрадовалась возможности съездить в Лондон отпраздновать свое здоровье и долголетие, обрадовалась, что все взгляды будут обращены к ней, пожилой, но еще энергичной главе семьи, тому центру притяжения, вокруг которого собрались рассеянные по миру родственники. Кришан с матерью ее восторгов не разделяли: четыре года назад путешествие в Лондон действительно прошло гладко, но с тех пор здоровье аппаммы существенно ухудшилось. Тело ее ослабло, особенно ноги, вследствие чего она уже реже спускалась на первый этаж, мочевой пузырь подводил, порою она ходила в туалет каждые два-три часа и из-за этого не высыпалась. Слышать аппамма тоже стала хуже, ей выписали слуховой аппарат, но она им упрямо не пользовалась, ей стало труднее поддерживать разговор и смотреть любимые телепрограммы. В усугубившейся изоляции аппамма чувствовала себя все более одиноко, и мысль отметить день рождения в Лондоне показалась ей необходимой переменой, так существенно ее ободрившей, что ни Кришану, ни его матери не хватило духу высказать аппамме свои сомнения. В последующие недели она стала больше двигаться, на коротких дистанциях училась перемещаться без ходунков, старалась есть здоровую пищу, озаботилась внешностью и с добросовестной пунктуальностью мазала кремом сыпь на шее. Радость оттого, что аппамма полетит за границу, вскоре явно сменилась тревогой о том, как она перенесет путешествие и, самое главное, проявит себя на торжестве, о том, удастся ли ей удивить родню душевной и физической бодростью; вероятно, именно из-за этой тревоги перед надвигающимся отъездом аппамма сильно сдала, похудела, стала забывчивой, в разговоре повторяла одно и то же и все реже вставала с кровати.
За два месяца до поездки и Кришан, и его мать задумались о том, что аппамме, пожалуй, ехать небезопасно, и мать наконец отважилась поговорить с нею об этом, предположила, что, быть может, полет следует отложить или не лететь вовсе. Аппамма сперва отмахнулась, но когда поняла, что невестка настроена решительно и серьезно, вызверилась на нее, чего прежде за ней не водилось. Я в состоянии выдержать долгий полет, запинаясь от ярости, говорила аппамма, в аэропорту меня будут перевозить на каталке служащие, а в полете от меня ничего не требуется, знай себе сиди. Менять планы сейчас, когда билеты уже куплены, – значит швырять братнины деньги на ветер, ты меня отговариваешь исключительно из зависти, ведь тебе-то самой за границу не съездить. Мне туда и не хочется, отвечала мама Кришана, я упомянула об этом исключительно потому, что тревожусь за ваше здоровье: как вы собрались перелететь через полмира, если вы и по лестнице спускаетесь с трудом? Аппамма рассерженно отвернулась, после этого разговора обе благоразумно отмалчивались и вели себя так, будто знали наверняка: другая вот-вот уступит. Переломный момент наступил за полтора месяца до отлета, когда аппамма спросила мать Кришана, почему она до сих пор не подала документы на визу, вдруг откажут, ведь прежде она всегда обращалась за визой заблаговременно. Мать Кришана пропустила вопрос мимо ушей, а аппамма вместо того, чтобы спорить или ругаться, погрузилась в молчание, отказывалась от еды, не говорила ни слова и вставала со своего кресла лишь чтобы пойти в туалет или лечь спать. Мать Кришана делала вид, будто ничего этого не замечает, надеясь, что свекровь вот-вот сдастся, но аппамма упрямо держала пост и обет молчания, и два дня спустя, опасаясь, как бы свекровь не извела себя, мать вынужденно уступила, сообщила аппамме через Кришана, что подаст документы на визу, что она не хотела никого мучить и если поездка в Лондон так важна для аппаммы, то пусть едет. После одержанной победы аппамме стало гораздо лучше, и к тому времени, когда ей выдали визу, беспокойство Кришана и матери несколько улеглось. Несколько недель спустя, наблюдая из-за стекла, как служащий аэропорта стремительно провозит аппамму через пункты регистрации и контроля, Кришан с матерью уверились, что ничего страшного не случится, полет пройдет спокойно и на той стороне аппамму без проблем передадут брату, и махали ей на прощанье – аппамму уже катили к стойке паспортного контроля, – с нескрываемым нетерпением предвкушая полтора месяца вольной жизни.
Назавтра им позвонил из Лондона брат аппаммы и проинформировал, что она прибыла благополучно. Правда, устала в полете и отказывается от еды, жизнерадостно добавил он, но это из-за смены часовых поясов, выспится, отойдет. Еще через день он перезвонил и с легкой тревогой в голосе сказал, что аппамма так и не поела. Двигается с трудом, почти не говорит и вообще на себя не похожа, хотя что именно не так, он толком не понимает. Он стал названивать им ежедневно и каждый раз повторял одно и то же: я не знаю, что делать, и боюсь, как бы ей не стало хуже; наконец, на восьмой день позвонил и сказал, что, наверное, лучше как можно скорее отправить ее домой. Аппамме чуть полегче, она даже что-то ест, сообщил он, но все равно сама не своя; правда, быть может, скоро придет в себя. Брат считал, что еще немного – и аппамма оправится достаточно, чтобы выдержать перелет; конечно, менять билет дорого, но все-таки лучше отправить ее домой пораньше: вдруг ей опять станет хуже. В субботу в ее честь устроят небольшие посиделки вместо запланированного торжества, а в воскресенье он отвезет ее в аэропорт на прямой рейс до Коломбо. Праздник, конечно, получится не такой пышный, как планировалось, поскольку родственники из Европы не успеют приехать, но, по его мнению, в сложившихся обстоятельствах это единственное разумное решение. Мать Кришана не возражала, понимая, что если аппамма в Лондоне сляжет, брат не сможет за нею ухаживать. Неделю спустя Кришан с матерью снова выехали в аэропорт, всю дорогу нервно молчали и прибыли на место за час до самолета. Уселись в пещерообразном зале ожидания, поглядывая то на табло прилета, свисающее с потолка, то на автоматические двери, сквозь которые выходили новоприбывшие пассажиры, в основном туристы из Европы, России и Северной Америки, высокие, с рассеянным видом: после окончания войны туристы потянулись на Шри-Ланку. Брат аппаммы звонил уже дважды, спрашивал, не прилетела ли сестра, нетерпение его выдавало искреннюю тревогу за то, как она перенесет полет, Кришан с матерью напряженно ждали; наконец объявили, что самолет приземлился. Они не сводили глаз с автоматических дверей, внимательно разглядывали каждую новую волну выходивших, пытаясь определить, похожи ли они на пассажиров прямого рейса из Лондона или, скорее всего, прибыли еще откуда-то. Минуло полчаса, аппаммы все не было, и мать Кришана, не в силах больше сидеть, поднялась и протолкалась сквозь толпу к самым дверям. Опершись на перила рядом с турагентами, державшими таблички с названиями своих фирм, она нервно крутила в руках телефон, то и дело обводила взглядом зал ожидания, точно в нем был еще один выход, которого она сперва не заметила. Так прошло еще полчаса, потом еще полчаса, Кришан с матерью уверились: что-то случилось, надо найти кого-то из представителей авиакомпании и узнать, в чем дело, и когда они уже были готовы отправиться на поиски, автоматические двери разъехались и в зал ожидания медленно вывезли кресло-каталку.
Они не сразу сообразили, что в кресле-каталке сидит та же самая женщина, с которой они попрощались одиннадцатью днями ранее: аппамма так осунулась и похудела, что сари на ней висело складками. Кофточка спадала с правого плеча, открывая лямку бюстгальтера, остекленевшие глаза недоуменно рассматривали просторный зал с высоким потолком. Кришан с матерью помахали служащему, который вез кресло-каталку, и со всех ног бросились к аппамме, она же, завидев их, вцепилась в свою сумочку и, судя по взгляду, не узнала ни невестку, ни внука, черные зрачки ее словно бы слились с серо-карими радужками. Кришан с матерью несколько раз позвали аппамму по имени, не обращая внимания на то, что загородили проход и на них все смотрят; всякий раз, как они произносили имя аппаммы, взгляд ее на мгновение становился осмысленным, но потом вновь принимался блуждать, и казалось, будто меж мягкими вислыми складками плоти блестят черные капли нефти. И лишь когда мать Кришана, взяв свекровь за руки, медленно и громко, точно ребенку, назвала свое имя, взгляд аппаммы несколько прояснился и, судя по лицу, она узнала невестку; наблюдая за бабкой в этот краткий миг осознания – вряд ли он длился долее двух секунд, – Кришан заметил в ее глазах проблеск то ли смущения, то ли стыда, словно она вдруг поняла, что случилось, поняла, что все планы и надежды, которые она возлагала на поездку, пошли прахом, что вернулась она, заслужив не восхищение родственников, а жалость. Бабка пробормотала что-то о своем брате, о дне своего рождения – то ли бывшем, то ли не бывшем, – повторила это последнее несколько раз и снова оцепенела. И в этом оцепенении она провела несколько долгих дней или даже недель, дней и недель, в течение которых не способна была связать слова в осмысленные предложения, не способна была ни есть, ни мыться самостоятельно, порой мочилась или испражнялась в постель, и, вспоминая сейчас, на прогулке по Марин-драйв, этот случай в аэропорту, Кришан невольно подумал, что бабка его в тот день, увидев их с матерью, намеренно отказалась от ясности сознания, что она сразу почуяла: остаться в сознании означает смириться со своею беспомощностью, и в глубине души решила существовать, не приходя в себя.
Пешеходов на тротуаре становилось все меньше, дороги пустели, машины ехали быстрее, и, взглянув на густеющую небесную синеву, Кришан осознал, что скоро стемнеет, а он уже порядочно отошел от дома. Вдали на другой стороне дороги маячил невысокий храм Пиллаяра 7 – последний ориентир, по которому Кришан определял, в какой части Марин-драйв находится; он решил пройти еще немного, выкурить сигарету и уж тогда возвращаться, быстро посмотрел по сторонам и перешел дорогу. Храм – скорее, святилище – состоял из одной-единственной комнатки, но его присутствие, как и канал неподалеку от дома, неизменно ободряло Кришана во время прогулок. Приблизившись к храму, он остановился, посмотрел внутрь сквозь железную решетку, увидел в свете лампадки детскую улыбку под хоботом Пиллаяра, кивнул ему, как старому знакомому, и направился дальше. Официального названия у храма не было, но в юности Кришана здешнего обитателя называли не иначе как «визовым Пиллаяром», поскольку чаще всего сюда приходили молиться о визе; поговаривали, что обычно Пиллаяр исполнял такие вот просьбы. Рассматривая по возвращении в Коломбо карты «Гугла», Кришан заметил, что и в «Гугле» святилище называют «визовым Пиллаяром»; обиходное прозвище храма обрело полуофициальный статус, несомненно, из-за усилий благодарных тамилов, кому выдали визу и кто ныне проживал за рубежом. Кого Кришан ни расспрашивал, никто не ответил ему, каким образом храм оказался связан с эмиграцией и визами; все сведения о храме Кришан почерпнул из длинного ностальгического рассказа, который прочел в анонимном комментарии в блоге какого-то эмигранта. Неизвестный автор комментария до переезда за границу явно прожил в этом районе долгие годы; быть может, это был тот же человек, чьими стараниями такое название храма закрепилось и в гугл-картах, Кришан знал, что многие тамилы, ныне проживающие за границей, подолгу сидят в интернете и занимаются чем-то подобным: люди, которые уехали или бежали из страны, теперь живут в лютом холоде на другом конце света и тратят свободное время в попытках убедить себя, что их прошлое на этом острове – не мираж, их воспоминания – не фантазии и не галлюцинации, в этих воспоминаниях живы места и люди, действительно существовавшие некогда на Земле.
Согласно тому комментарию, на месте храма некогда стоял обычный частный дом, небольшой, одноэтажный, его владельцы, люди среднего достатка, съехали в начале 1990-х, когда правительство забрало территории вдоль побережья под строительство дороги, которую ныне называют Марин-драйв. Среди развалин дома маячила брошенная каменная статуя Пиллаяра: измазанный грязью, открытый всем стихиям, он сидел с извечной своей безмятежной улыбкой – видимо, статуя оказалась слишком тяжелой, предполагал неизвестный пользователь, и поэтому хозяева не забрали ее в новый дом. Время от времени к изваянию возлагали цветы, порой приносили фрукты; наконец, кто-то отмыл статую от грязи и расчистил среди развалин дорожку, чтобы легче было подойти. Было это в середине девяностых, тогда в Коломбо с северо-востока Шри-Ланки стекались тысячи тамилов в надежде, что им удастся уехать в Великобританию, Канаду, Европу или куда-нибудь еще, где можно рассчитывать на благополучие. Большинство селились в Веллаватте, тамильском районе столицы, и чувствовали себя здесь – пусть и на самом юге Шри-Ланки – в относительной безопасности; кто-то из этих переселенцев – один или группа – и выстроил Пиллаяру небольшое укрытие, чтобы он сидел не под открытым небом. Чуть погодя перед статуей поставили и латунную лампадку, а следом и ящичек для пожертвований: так появилось это импровизированное святилище, а через несколько лет на пожертвования местных жителей Пиллаяру выстроили постоянное укрытие из бетона, так что это строение уже можно было назвать храмом, подчеркивал комментатор, хоть ухаживали за ним не жрецы-брамины, а старухи из прочих каст.
