Хранитель древностей бесплатное чтение
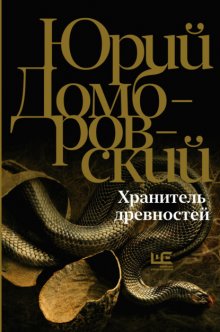
© Домбровский Ю. О., наследники
© Бондаренко А. Л., художественное оформление
© ООО “Издательство АСТ”
Памяти Файзулы Турумова, героически погибшего 22 июня 1941 года в Брестской крепости, с почтением и благодарностью за его подвиг посвящает автор
Часть первая
Теперь, наконец, мы оживаем, однако по природе человеческой лекарства действуют медленнее, чем болезни, и как тела наши растут медленно, а разрушаются быстро, так и таланты легче задушить, чем породить или даже оживить, ибо и бездействие тоже имеет свою сладость, и праздность, ненавистная сначала, тоже становится приятною.
Что же сказать, если в продолжение пятнадцати лет – великая часть жизни человеческой! – столько народу погибло по разным обстоятельствам, а даровитейшие по жестокости Вождя! – мы, немногие уцелевшие, пережили не только себя, но и других: ведь из нашей жизни исторгнуто столько лет, в течение которых молодые молча дошли до старости, а старики почти до самых границ человеческого возраста.
Тацит. Жизнь Агриколы, 3
Глава первая
Впервые я увидел этот необычайный город, столь непохожий ни на один из городов в мире, в 1933 году и помню, как он меня тогда удивил.
Выезжал я из Москвы в ростепель, в хмурую и теплую погодку. То и дело моросил дождичек, и только-только начали набухать за заборами, на мокрых бульварах и в бутылках на подоконниках бурые податливые почки. Провожали меня с красными прутиками расцветшей вербы, потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими на комочки пуха. Больше ничего не цвело. А здесь я сразу очутился среди южного лета. Цвело все, даже то, чему вообще цвести не положено, – развалившиеся заплоты (трава била прямо из них), стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары и мостовые.
Час стоял ранний, дорога предстояла дальняя. От станции до города меня довезли, а по городу надо было идти пешком. Но Алма-Ата спала, спросить дорогу было не у кого, и я двинулся наугад. Просто потому пошел, что лучше все-таки идти, чем стоять. Шел, шел, шел – прошел километра три и понял, что кружу на одном месте. Главное – не за что зацепиться глазом, все одинаково: глинобитные заборы, за ними аккуратные мазанки, редко белые, все больше синие и зеленые (потом я узнал, что здесь в белила хозяйки добавляют купорос); крепкие сибирские избы из кругляка, не закрытые, а прямо-таки забитые деревянными ставнями с черными болтами, кое-где рабочие бараки и желтые двухэтажные здания железнодорожного типа – с лестницами, балконами, застекленными террасами (только закончен Турксиб). И все это одинаково захлестнуто, погружено до крыш в сады. Сады везде. Один сад рос даже на мостовой: клумбы, газон, небольшой бетонный фонтанчик. Желтые тюльпаны, красные и сизые маки и тот необыкновенный цветок с черными глянцевитыми листьями, не то багровый, не то красно-фиолетовый, который алмаатинцы приносят из-под ледников и зовут ласково и почтительно по имени и отчеству – Марья Коревна (марьин корень, очевидно).
В другом месте, тоже прямо на мостовой, мне повстречалась рощица белых акаций. Просто повернул я за угол – и вдруг выбежала навстречу целая семья высоких, тонких, гибко изогнутых деревьев. “Восточные танцовщицы”, – подумал я. И они в самом деле всем – лакированными багровыми иглами, перламутровыми сережками (точь-в-точь морские ракушки), кистями белых цветов (точь-в-точь свадебные покрывала), этой необычайной гибкостью напоминали танцующих девушек. От деревьев исходил сладкий, пряный запах, и он был так тяжел, что не плыл, а стоял в воздухе. Солнце еще не встало, а под акациями уже трубили шмели и кружили большие белые бабочки.
Здесь я увидел, что зелень в этом городе расположена террасами: первый этаж – вот эти акации, над акациями фруктовые сады, над садами тополя, а над тополями уже только горы да горные леса на них. Вот сады-то меня и путали больше всего: поди-ка разберись, где ты находишься, если весь город один сплошной сад – сад яблоневый, сад урючный, сад вишневый, сад миндальный – цветы розовые, цветы белые, цветы кремовые.
А над садами тополя. Потом я узнал – они и есть в городе самое главное. Без них ни рассказать об Алма-Ате, ни подумать о ней невозможно. Они присутствовали при рождении города. Еще ни улиц, ни домов не было, а они уже были.
Весь город, дом за домом, квартал за кварталом, обсажен тополями. Нет такого окна в городе, высунувшись из которого ты не увидел бы прямо перед собой белый блестящий или черный морщинистый ствол. От Алма-Аты до Ташкента проходит большая дорога – день и ночь по ней мчатся грузовики. Но называется она не улица, не шоссе, не дорога, а просто – аллея. “Ташкентская аллея”, – говорят алмаатинцы. И в самом деле, огромный сотнекилометровый тракт – всего-навсего только одна большая тополевая аллея.
Алма-атинский тополь – замечательное дерево. Он высок, прям и всегда почти совершенно неподвижен. Когда налетает буран, другие деревья, гудя, гнутся в дугу, а он едва-едва помахивает вершиной. Не дерево, а колоссальная триумфальная колонна на площади (не забудьте, каждому из этих великанов по доброй сотне лет). Но нет дерева более живого и говорливого, чем тополь. От самых корней до вершин он полон живой мелкой листвой, шумит, пульсирует, переливается серебром и чернью.
А над тополями уже горы.
Отроги Тянь-Шаньского хребта… Кажется, что два мощных сизых крыла распахнулись над городом – держат его в воздухе и не дают упасть. Но в то далекое утро сизыми эти крылья казались мне только снизу – там, где залегали дремучие горные боры, – вершины же их были нежно-розовыми. Кто был на Каспии, тот знает: вот так на заре горят чайки, когда они пролетают над водой.
Я стоял, смотрел на горы, на тополя, на белые акации под ними и думал: куда же идти, ведь здесь никогда не найдешь дорогу. Встало солнце, и хотя люди еще спали за замками, ставнями, болтами и решетками – город уже проснулся. С час как бойко шла перекличка петухов. Горланили – один бойчее другого – все дворы города. Не смолкая, чирикал и заливался вишенник. С сухим электрическим треском вспархивала розовая и синяя саранча. Заливались где-то на задах лягушки. Потом я узнал: в городе зверья не меньше, чем людей. В городском парке по вечерам ухает филин. По улицам, как только смеркнется, носятся летучие мыши, иволги кричат и поют на автобусной остановке в центре. На тесовые крыши предместий (их тут зовут по-старому – “станицы”) садятся фазаны. Сидит такой красно-желтый красавец и тревожно озирается по сторонам: залетел с прилавка (так здесь называются травянистые холмы) и сам не поймет зачем. Дикие козочки забегают осенью и ягнятся в окраинных садах. Словом, нигде в мире, сказал мне один зоолог, дикая природа не подходит так близко к большому городу, как в Алма-Ате.
Нельзя сказать, чтобы улицы выглядели нарядно. Это еще не была “красавица Алма-Ата” сороковых, а тем более пятидесятых годов: хаты, хатки, странные саманные постройки, где добрую половину дома занимает стена, а окошко находится под крышей; потом вдруг выкатится крепкая, как орех, русская изба с резными подоконниками и широкими воротами, за ней потянется длинная турксибская постройка на целый квартал – масса окон, террас, дверей, лестниц – и снова хаты, хатки. Глина, саман, тес, тростник. Ни бутового камня, ни кирпича. Новых двухэтажных домов мало – старых совсем нет. В общем, мирно спящая казачья станица самого начала века.
И вдруг произошло чудо: я пересек улицу и очутился в совершенно ином городе. Улицы здесь были широкие, мощеные, дома многоэтажные, изукрашенные сверху донизу, к каждому из них вела лестница с огромными церковными ступенями из белого камня. Крыши у этих хоро́м были тоже особенные – сводчатые, и кончались они то шпилем, то цветным куполом, то петухом. И везде резное дерево, белый камень, колонны, узорчатые водостоки.
Здание, мимо которого я шел, растянулось, как мне показалось, на несколько кварталов. Оно походило на старинный пассаж или крытые торговые ряды. Мне почему-то пришли в голову такие слова, как “Деловой двор” или “Славянский базар”. А напротив “Делового двора” стоял самый настоящий дворец Шехерезады, такой, как его рисуют на коробках папирос, – обвитая кружевами громадина с башней на крыше, со множеством окон и широкими узорчатыми дверями – не дверями, а целыми воротами. Так и хочется их распахнуть настежь.
Я повернул за угол и тут увидел знаменитый собор. Мне о нем пришлось много слышать и раньше, но увидел я что-то совершенно неожиданное. Он висел над всем городом. Высочайший, многоглавый, узорчатый, разноцветный, с хитрыми карнизами, с гофрированным железом крыш. С колокольней, лестницей – с целой системой лестниц, переходов и галерей. Настоящий храм Василия Блаженного, только построенный заново пятьдесят лет тому назад уездным архитектором. Собор стоял в парке, и около него никого не было, только на широких ступенях спал старый казах с ружьем за плечами, в войлочной шляпе. Я постоял, покашлял, вздохнул – старик все спал. Я тронул его за плечо. Он пошевельнулся, поднял голову, посмотрел на меня и очень чисто по-русски спросил, сколько времени. Часы висели напротив. Мы оба поглядели. Оказалось, что уже пять.
Сторож вздохнул.
– Рано, рано стали летом приходить поезда, – сказал он. (Я был с чемоданом.) – Вы что – прямо с вокзала?.. И пешком через весь город? Здорово! Значит, верст пять отмахали, если напрямик. Нездешний? А-а, нездешний! А куда же вы сейчас? А-а, на Октябрьскую? Ну, ну! Значит, в бывшие номера? Да нет, нет, не закрыты. И сейчас какие приезжающие останавливаются. Есть, есть такие! Их в тысяча девятьсот одиннадцатом году один наш семирек отстроил. Ну как же, все, все знаем! Во время гражданской в них еще товарищ Дмитрий Фурманов проживал. “Мятеж” его читали? Ну вот, как раз про них! А вот так и пройдете – прямо, прямо через парк – и они. Сразу увидите их. Крыльцо такое выдающее, и крыша скатом. Их сразу узнаете. Они среди всех зданий выделяющие. Тоже зенковской постройки.
– Какой? – спросил я. – Зен… зенковской?
– Ну, зенковской, зенковской, – повторил сторож настойчиво. – Вот сразу видно нездешнего. Андрей Павлович Зенков. Он при царизме весь этот город снова выстроил – вот всё это! – Сторож сделал рукой круг. – И собор этот тоже его. И собор, и ряды, и магазин Шахворостова, и офицерское собрание, и благородное собрание, и две гимназии, и суд окружной (там теперь типография) – всё, всё его.
– Как, всё построил один человек? – спросил я.
– Один, один – не десять! – подтвердил он с удовольствием. – Андрей Павлович, инженер Зенков. Знаменитейший строитель был. И теперь еще жив. Но теперь что… А я еще его когда помню! Тогда помню, когда на этом месте ничего не было. Все начисто землетрясение снесло. Одни завалы остались. Я молодой парень был, батрачил. Так нас с лопатами сюда гоняли. Хотели уж на другое место город перенести и с Зенковым советовались, а он отсоветовал. Говорит: “Незачем переносить – строили неправильно, вот и снесло. А мы построим как следует – и будет стоять век. Ни одно землетрясение не шелохнет”. И вот верно, стоит – не шелохнется.
– Так, может, и землетрясений с той поры не было? – спросил я.
– Здравствуйте! А одиннадцатый год? – обиделся сторож. – Страшнейшее землетрясение было!
Земля провалилась, горы разошлись. А что зенковское было, то так и осталось стоять. Даже стекла не вылетели. А вы знаете, какое это строение? Второе в мире по вышине. И ни гвоздя, ни железинки – одно дерево – вот! Что там – никто не знает, может, клей какой. Весь мир удивляется. Иностранцы приезжали – смотрят, ничего понять не могут, как так? Вот что это за здание. А вы: “Землетрясений не было!” Тут такое было, что…
Он махнул рукой, кинул берданку через плечо и пошел вокруг собора.
Так через несколько часов после того, как я спрыгнул со ступенек вагона на алма-атинскую землю, пришлось мне услышать от первого же встретившегося мне старого казаха это имя. “Андрей Павлович Зенков. Знаменитый инженер – тот, кто отстроил город Верный после землетрясения”.
А осенью 1960 года, уезжая из Алма-Аты, я зашел в Центральный музей Казахстана и попросил дать мне снимки всех строений Зенкова. В музее у меня старое и доброе знакомство. Во время оно я пробыл там три года старшим научным сотрудником и делал все, что мне поручали: ездил в экспедиции и командировки, разрывал курганы, описывал древние черепки, диктовал старенькой, дряхленькой машинистке текстовки ко всем вещам мира, неосторожно попавшим в музей, от николаевской копейки до летучей собаки с Яванских островов, делал еще сотню дел, больших и малых, нужных и ненужных, и в музее меня помнили. Через пять минут сотрудница принесла мне целую гору снимков. Кто-то догадался их уложить в черный конверт из-под фотобумаги. Я раскрыл его, встряхнул, и вот на стол посыпались один за другим виды старого Верного – все, что чертил, рассчитывал и строил Зенков. Я увидел черную весну, бревенчатый мост без перил и свай через тихую грязную речонку, а вокруг тонкие, голые прутья ив, затем деревянное здание офицерского собрания, высокое, нарядное, кудрявое – не то купеческий памятник где-то на Ваганькове, не то фанерная пирамида в парке – терем в русском стиле с высоким-превысоким крытым крыльцом с петухами и деревянными полотенцами; около него остановились бородатые мужики и, улыбаясь, глядят в объектив аппарата. У терема широкие ступени и маленькая дверь в глубине крыльца – это производит впечатление мощи и устойчивости так, как ее понимал архитектор Зенков. Он был очень затейлив, этот огромный ларец, неуклюжий и сквозной, весь увешанный деревянными кружевами и полотенцами.
Еще и еще падали на стол снимки, и вот мелькнул покатый, тупой (ни дать ни взять мучной ларь) архиерейский дом; выспренное и лаконичное, как вицмундир чиновника, застегнутый на все пуговицы, здание гимназии (здесь учился Фрунзе); магазин колониальных товаров купца… купца… Я так и не разобрал его фамилии, набранной светлыми металлическими буквами на высокой и крутой, как радуга, вывеске, прочел только, что торгует он с сыновьями.
Удивительно точно и ясно вышла на старой фотографии диковатая и смешная молодость города. На ней все молодо и непривычно. Вот растет на первом плане тонюсенькое дерево, коленчатое, с ветвями только у самой вершины, такое, какое теперь никогда не встретишь на улицах Алма-Аты. Сейчас от самых гор до вокзала несется сплошной поток не умолкающей ни на минуту зелени. Она такая густая, что даже фонари здесь тоже кажутся зелеными. А на снимке торчит что-то узловатое, кривое, несуразное. Но ведь я отлично знаю это дерево. Оно и до сих пор растет там же, на углу Красина и Горького. Под ним у меня и встречи были разные, и свидания я назначал там. Это такой же чернокожий, шумливый великан, как и все его собратья, что ныне сторожат улицы Алма-Аты. Значит, сколько же лет этому снимку? Тридцать, сорок, пятьдесят? Еще больше?
Стоит перед открытой дверью магазина понурая лошаденка с телегой, а на ней сидит кто-то, свесив ноги в сапогах, и ждет. Еще одна лошадь идет снизу – я знаю, с мучного рынка, от лабазов купца Шахворостова. Сейчас здесь заводское здание, но я застал еще эти белые, приземистые, слепые строения, похожие на монастырскую стену. Идут быстрым, бодрым шагом двое мужчин – тоже в сапогах (семиреки не любят ботинок). На ступеньках сидят (смотрю уже в лупу) две старухи, а около них раскрытые мешки. Неужели продают семечки? А здесь ведь, похоже, не расторгуешься, милые! Считаю: двое идут, двое сидят на телегах да еще две – значит, всего шесть человек. Подумать только! Шесть человек в яркий солнечный день на протяжении двух кварталов самой людной в городе улицы!
Итак, ранняя весна какого-то фантастически далекого года – десятого или одиннадцатого – возле узорчатого строения Зенкова. Я люблю рассматривать старые снимки тех мест, по которым хожу уже добрых полсотни лет. На них все смещено во времени и на все проливается какой-то новый, резкий, боковой свет. Вещи от него молодеют, люди улыбаются и становятся во фронт, старые, вросшие в землю здания снова вздымают свои фасады и резные узорчатые главы.
Однажды в ясный весенний день какого-то из этих годов бродячий фотограф (представитель Всемирного почтового союза, как значится на открытке) установил здесь на мостовой свой треножник, мановением руки разбросал зевак и щелкнул объективом. Это было лет пятьдесят тому назад; и вот через полстолетия я смотрю на все, что он увидел, его же глазами. Он удивлялся – и я удивляюсь. Он радовался всем этим необычайным куполам, радугам и шпилям – и я радуюсь.
А о строителе этого великолепия я и посейчас знаю не так уж много. Знаю, что он был военным инженером (“фортификатором”, как тогда говорили) и строил не только быстро и пышно, но еще – и это главное – крепко. А это в Верном ценилось превыше всего.
У города Верного в то время была тревожная и плохая слава. Его знали как край света и гнездо землетрясений необычайной разрушительной силы, как город на вулкане.
Говорили, что в городе Верном надо строить либо глухие деревянные коробки, либо одноэтажные, плоские, прижатые к земле дома с толстыми стенами и мощными фундаментами.
Но Зенков возражал: нужны цемент, железо и дерево. И вот он начал возводить из тянь-шаньской ели многоэтажные здания, окружал центр обширными дворцами и наделял эти дворцы всем тем, что должно было неминуемо рухнуть при первом же толчке, – шпилями, куполами, башнями. Он как бы смеялся над разрушительной силой землетрясения, дразнил ее.
С глубокой верой за успехи будущего я не боюсь за наш город, – писал Зенков в “Семиреченских областных ведомостях”[1], – за нашу Семиреченскую и в то же время сейсмическую область. Я верю в ее будущее, я верю, что… наш город украсится солидными, в несколько этажей, каменными, бетонными и другими долговечными строениями… При специальном устройстве фундаментов… вполне допустима конструкция грандиозных по высоте, до 30–40 этажей… зданий…
И дальше:
Наблюдательный ум человека, его энергия, гений творчества, покоряющий стихийные силы природы (замечательные слова находил Зенков, когда писал о своем высоком ремесле), уже теперь вселяют надежду, что стихийная сила землетрясений не страшна грандиозным постройкам человека.
Прошу заметить: это писалось в марте 1911 года, сейчас же после великого – десять баллов – землетрясения[2].
Жертвы этой второй катастрофы были тоже еще очень велики (хотя в десять раз меньше предыдущего), но из великолепных дворцов Зенкова не обрушился ни один. Дерево не подвело его! А в самом грандиозном творении Зенкова – кафедральном соборе – уцелели даже стекла.
При грандиозной высоте, – писал он об этом своем творении, – он (собор) представлял собой очень гибкую конструкцию. Колокольня его качалась и гнулась, как вершина высокого дерева, и работала, как гибкий брус.
Читаешь и видишь, как раскачивались и гудели в Верном тополя во время землетрясений.
Зенкову удалось построить здание высокое и гибкое, как тополь. Какая похвала может быть выше! И город выстоял. Он не потерял ничего. Все дворцы, гимназии, лавки, соборы остались целыми. Такими мы их видим и сейчас. Время, правда, внесло кое-какие коррективы в творения Зенкова. В одном месте сняли крыльцо, в другом в стене прорубили дверь, но все это чепуха, мелочь – в общем-то здания не изменились. Не изменился и зенковский центр города. И когда идешь, скажем, по улице Горького (бывшая Торговая) и видишь пышные деревянные ансамбли: деревянные кружева, стрельчатые окна (только не считайте, что это готика!), нависшие арки, распахнувшиеся, как шатер, крылья низко спустившихся гребенчатых крыш, – то понимаешь: это все Зенков – его душа, его золотые руки, его понятия о красоте. Ничего из его наследства не тронуто ни людьми, ни временем, ни землетрясениями. Землетрясениями-то особенно. Они ведь действительно больше не страшны его городу – бетонному, каменному, многоэтажному, долговечному, такому, о котором он писал в газете “Семиреченские областные ведомости” полстолетия тому назад.
Я видел фотографию Зенкова той поры – поры его славы. Это еще молодой, красивый офицер, стройный и подтянутый. Чем-то – нервной ли худобой лица, офицерскими ли усиками или этим знаменитым по всем снимкам плащом-крылаткой со львами – он разительно напоминает лейтенанта Шмидта.
И еще я знаю про Зенкова, что он любил красивые вещи. Вернее, не красивые, а изукрашенные. В музее хранится его портсигар из уральского камня. На нем не осталось живого места. Он весь в вензелях, образках, разноцветных жгуче-синих и розовых эмалях с картинками и видами. На протяжении ладони насажено около трех десятков этих разнообразных цветастых, узорных, крошечных предметиков. Я смотрел на эту чудесную игрушку и думал: как же все это похоже на творчество самого Зенкова! В течение полувека этот замечательный строитель рассчитывал, чертил и возводил все, что ему заказывали власти и частные лица, – особняки, мосты, церкви, церквушки, магазины и лабазы. И строил он их по одному плану. Он терпеть не мог обнаженного пространства и всюду, где только мог, скрадывал его, устремлял карнизы вверх и снова рушил их с высоты; изгибал и ломал линии крыш, украшал их мелкой резьбой и, заканчивая, воздвигал как пьедестал всему огромное гладкое лобное место крыльца, а потом накрывал его еще сверху куполом; в городе, подверженном землетрясениям, он возводил шпили, арки над окнами, узорные решетки на окнах, крыл их киноварью и зеленью (а охру, видно, не терпел), и мне кажется, что причудливые павильоны нижегородской промышленной выставки навсегда остались для него идеалом красоты, легкости и богатства.
Именно поэтому каждое его здание узнается безошибочно. Узнается по резным оконным рамам, по ажурному железу, по дверям, по крыше, по крыльцу, а главное, по свободному сочетанию всего этого. А то, что этот стиль не стал стилем города, в этом Зенков не виноват. В ту пору не было и не могло быть никакого стиля у города Верного. Он рос стихийно, произвольно – то лез на прилавки, то сбегал в овраги, то прижимался саманными подслеповатыми избушками к одной речке, медленной и грязной (ее и звали-то Поганка!), то шарахался всеми своими теремами и башнями к другой – к кипучему горному потоку, бьющему прямо из ледников. Он так молод, жизнелюбив, энергичен, что никакой стиль не мог бы подчинить его себе…
И все-таки представить себе Алма-Ату без построек Зенкова невозможно. При всей его любви к архитектурным побрякушкам, резному дереву и гофрированному железу было у него какое-то честное и четкое единство детали, что-то такое, что роднило его здание с рождественской елкой, разукрашенной снизу доверху. Тут тебе и звезда, тут тебе и петухи, тут еще и другие бессмысленно-красивые завитушки и кренделя. И есть, есть в его зданиях что-то действительно нарядное, по-настоящему ликующее и веселое. Он хотел радовать и удивлять людей, и, конечно, ему это удавалось. Я уверен, что люди, проходя мимо его здания, поднимали головы и улыбались: до чего же это все-таки забористо! Выкиньте Зенкова с его чудесными теремами и башнями из города Верного – и сегодняшняя Алма-Ата станет уже чуточку иной. И даже не чуточку иной, а совсем иной, потому что она лишится своего главного украшения и естественного центра – поразительного зенковского собора. А представить Алма-Ату без этого полуфантастического здания попросту невозможно.
Я уже говорил: во время моей работы в музее мне пришлось составлять и писать всякое – от инвентарных списков старой мебели до ругательных писем лицам, не возвратившим нам экспонатов. Кажется, все вещи в мире были тогда названы и объяснены мною с помощью Брокгауза и Ефрона, и только о соборе, в котором я работал (ныне там Музей республики), я так ничего и не написал.
Да это было и понятно. Никто тогда не интересовался архитектором Зенковым[3]. Поэтому и я знаю о соборе только то, что вычитал в старых газетных подшивках. Вот говорят и даже пишут в путеводителях, что это второе по высоте здание в мире, выстроенное из дерева (недавно в газете я прочитал даже: “Высочайшее в мире деревянное здание”). Может быть, может быть… Хотя я и не особенно в это верю. В самом деле, кто сравнивал высоту зенковского собора и того, первого в мире, которое, как говорят, находится где-то в Испании или в Канаде? Кто вообще собирал сведения о сравнительной или абсолютной высоте деревянных зданий в мире? Тут все непонятно и недостоверно, начиная с Испании. Ведь Испания – страна камня, обожженной глины, широких известковых плит и гранита. Католические культуры вообще не любили строить из дерева, и если искать, где собор еще более высокий и великолепный, чем алма-атинский, то, вероятно, лучше бы обратиться к северу: Великому Устюгу, Архангельску или даже Аляске[4].
Все, что я писал о зданиях Зенкова, полностью относится к этому собору. Он так огромен и высок, что его не окинешь взглядом. Так пышен, что, если глядеть близко, не разберешь, что в нем главное, а что второстепенное. И вообще если пройти к нему от дома офицерского собрания (а для этого надо только пересечь парк), то увидишь, что и на церковное-то здание этот собор не очень похож. И тут и там те же самые купола, те же шпили, резные карнизы, узорные чердаки, шатрообразные крыши. И кажется, водрузи на офицерском собрании еще луковку с крестом, то и будет та же самая церковь. Вообще в архитектурной мистике строитель верненского собора понимал не много. Оно и понятно. Человек он был деловой и светский, на своем веку строил торговые ряды, офицерское собрание, дворянское собрание, и когда ему наконец город заказал кафедральный собор – невиданный, огромный, богатый! – он и для Бога соорудил те же губернаторские хоромы. И все-таки повторяю: собор великолепен, он огромен и величествен так, как должно быть величественно всякое здание, вписанное в снега Тянь-Шаньского хребта. Город, лежащий около его подножия, оказался поднятым им на высоту добрых сорока метров. В варварских побрякушках этого здания отлично выразился весь дух старого Верного, как его нам построил Зенков: его молодость, его оторванность от всех исконных устоев, его наивность, его самостоятельность и, наконец, залихватское желание не ударить в грязь лицом перед миром.
Вокруг храма раскинулся огромный городской сад, растут тополя, дубы, сосны, липы, шумит веселый мелкий кустарник, распускаются ирисы и розы, бьют фонтаны.
А внутри собор огромен. Его своды распахнуты, как шатер: под ними масса южного солнца, света и тепла, оно льется прямо из окон в куполе на каменные плиты пола, и, когда разблестится ясный, солнечный день, белый купол кажется летящим ввысь, а стены как бы парят в белом и голубом тумане. И вообще в этом лучшем творении Зенкова столько простора, света и свободы, что кажется, будто какая-то часть земного круга покрыта куполом. Это очень южный храм, в нем все рассчитано на свет и солнце.
Мы, северяне, знаем совершенно иные храмы. В них потолки низки и давят, в них пространство зажато и стиснуто в уз-ких угловатых сводах. В них темно, тесно и страшно. И все в таких соборах свое, собственное, мистическое – и лики икон, и тусклые пятна лампад, и черное серебро подсвечников.
А Зенков отдал Богу только то, что он много лет привык давать людям, – белые высокие стены, белые же своды купола, в прорезы которого видно чудесное алма-атинское небо, голубые и розовые иконы, похожие на картины. И писал эти иконы не монах, не богомаз, а учитель рисования – художник Хлудов, такой же великий украшатель, как и сам строитель Зенков[5].
Глава вторая
Прошло не то четыре, не то пять лет. Получилось так, что в этом соборе я и стал работать.
Первое, с чем я познакомился, придя туда, был церковный чердак. В самый день моего поступления меня свела туда заведующая хранением. Дело в том, что на чердаке этом уже года три стояло несколько заколоченных ящиков с караханидскими (XI век!) черепками, и заведующей, девушке еще очень молодой, но хозяйственной и бережливой – ее звали Клара Файзулаевна, – страшно хотелось, чтобы я из них слепил хотя бы с десяток сосудов. Уж больно хороши были эти черепки – блестящие, новешенькие, разноцветные: и небесно-голубые, и черно-зеленые, и какие-то шоколадные.
“Понимаете, – умильно говорила она мне, – ведь тут все, все осколочки целы, и даже свой номер на каждом осколочке, тут только руки приложить”. Руки я к черепкам прикладывать не стал, но на чердак полез и с тех пор туда зачастил.
Чердаки – моя слабость. Я их люблю и понимаю с детства. Когда мне было лет десять, мы жили в Москве в большом хмуром пятиэтажном доме, и самое лучшее в нем был чердак. Каждый день несколько часов я проводил там. Было страшновато, тихо и хорошо. Стояли необычайные вещи, каких на земле нет, – оленьи рога, поросшие мохнатой пылью, разбитый аквариум, чучело совы. Порой из старого умывальника показывалась морда огромной плюшевой крысы, и я замирал от восторга. Незнакомый кот, чудесный и рыжий, вдруг появлялся у слухового окна – стоял гордый, прямой и подтянутый и смотрел на меня. Как он не походил на тех худых, шершавых и умильных попрошаек, которых мне не разрешалось брать на руки. В щелях и застрехах пищали воробьята, и, если встать на цыпочки, можно было достать целую горсть их, страшно горячих, трепещущих, влажных. Внизу ничего этого, конечно, не было.
Но музейный чердак, по совести, был самым необычным из всех, которые я видел. Там лежали черепа. Представьте себе, вы по узенькой темной лесенке, как на колокольню, взбираетесь наверх, согнувшись, чуть не на животе протискиваетесь в узкую дыру, и сразу – желтоватый рассеянный свет, тишина, какие-то острые, хрупкие звуки – не то балка треснула, не то птица села на крышу, – запах земли и смолистых бревен. А под ногами черепа – целая верещагинская пирамида черепов. Сколько их тут было! Черепа длинные и круглые, черепа клыкастые и совсем беззубые, черепа рогатые и безрогие, черепа птичьи и звериные, черепа на полу, в фанерных ящиках, на балках и прямо под ногами. И кто только не сложил тут свою вольную голову! Рядами лежали архары с узорчатыми зубами, поодаль от них – тигры с коварными, по-кошачьи узкими и косыми глазницами, в углу – волки, тоскливые, длинные, свирепые собачьи морды. Их да еще кабанов здесь было больше всего. Отдельно лежало несколько медвежьих черепов – лобастых и скуластых. А на балке, прямо перед входом, как две пики, торчал турий череп. Под ним в ящике из-под сигар я нашел клык пещерного медведя. Я долго вертел его в руках. Это было самое настоящее орудие убийства – массивное, щербатое, свирепо изогнутое, как сапожный нож или ятаган для вспарывания животов. От него так и веяло одиночеством каменного века. Совсем недавно я прочитал исследования одного ученого немца. Пещерный медведь, пишет этот немец, не заслужил своей свирепой репутации. Это было смиренное травоядное животное; и даже так – это было самое первое животное, прирученное человеком. Еще не родился в волчьей норе тот щенок, от которого пошли собаки, а медведь уже ворочался и порыкивал в каменной нише, куда его запер человек.
“Грузное травоядное животное, проводящее треть своей жизни в зимней спячке, – пишет исследователь, – должно быть, было для человека чем-то вроде кладовой. Ощутив голод, достаточно было пойти по подземной галерее, найти нишу и угостить (!) медведя по голове (нет, представляете себе, как это выглядело!). Наш предок поступал почти так же, как современный человек, идущий в хлев, чтобы зарезать свинью”.
Не знаю, не знаю! Все, конечно, может быть: и человеческие, и звериные репутации одинаково неустойчивы. Вот прочел я однажды в специальной литературе, что горилла – смиренное, добродушное животное и ее обожают жители Конго; что страшная зубастая рыба, способная за десять минут обглодать до костей вола, никогда не нападает на человека; что пещерный лев был полосатым, как тигр, и вообще был тигром, а не львом. Даже Джоконда, говорят, не Джоконда, а портрет какой-то куртизанки (только куда же тогда девать ее знаменитую улыбку?!). Что ж, может быть, по этой логике и пещерный медведь тоже не медведь, а что-то вроде допотопной свиньи. Но, по совести говоря, когда я вспоминаю этот желтый разбойничий клык и чувство, с которым его вертел, подбрасывал и взвешивал на ладони, мне не верится немецкому ученому. Нет, это таки был медведь, и клыки у него были медвежьи, людоедские! Я долго таскал его в кармане, подумывая даже, а не просверлить ли и не сделать ли из него талисман, но потом добросовестность взяла свое, и я опустил его обратно в ящик. Так, наверное, он лежит там и по сегодня.
На чердаке было очень жарко и душно. Воздух здесь стоял неподвижной болотной заводью. Свою долю тепла испускало все – еловые стропила, крыша, черепа, пол. Пол-то особенно. На добрый метр он был устлан голубиным пометом. Это мне казалось необъяснимым. Голубей ведь в городе нет, так откуда же взяться их помету? Никто этого не знал. Молодые не интересовались, а старики не помнили. И вот однажды музейный столяр все-таки рассказал мне о верненских голубях. Это был высокий кряжистый старик – пьяница и матерщинник, в промасленной тельняшке, заляпанной краской. Тридцать лет он прослужил в соборе и многое видел: видел он и то, как улетели голуби.
Помню, сидит он перед печуркой, мешает в консервной банке щеточкой черный вонючий клей и не торопясь говорит сварливым голосом:
– Голуби! Ты меня об них спрашивай, кроме меня, никто ничего не может помнить. Ты знаешь ли, сколько их тут было? Фатальоны! (Была у него такая счетная единица – тысячи, миллионы, фатальоны.) Я этих голубей очень хорошо помню. Батюшка раз за краской меня спосылал на чердак – новый иконостас мы делали, так золото понадобилось. Залез туда я – как они взлетят! Как крыльями засвистят! Ну! Сразу стало темно! Закричал я: “Кыш вы туда-то!” – и сорвал голос. Пылью задавился, кашляю, давлюсь, ничего не вижу. Одна пыль в роте, да они свистят крыльями. И все меня по лицу, по лицу, по лицу! Вот ведь сволочи! Вылез я кое-как и бежать. Да как приложусь ногой о ступеньку, чуть не до кости коленку просадил. Прилез вниз в пуху и пыли, все лицо заляпанное, стою и ничего не соображу. Поп меня увидел, как грохнет: “А краска-то где?” А какая там краска! Я еле дух перевожу. “Там, говорю, у голубей ваших, мать ихнюю так…” Грохочет: “Ты что ж, говорит, голубей испугался, что они тебе, такой дубине, и сделать могут?” – “Что? А сбросить вниз в лучшем виде”. Совсем зашелся. “Да что это тебе, говорит, орел или ястреб? Это же, говорит, голубь, голубица, Христова птица, про них в Писании сказано: «Незлобивы, яко голуби». Полезай сейчас обратно, вон художник стоит ждет”. – “Нет, говорю, ваше преподобие, не полезу! И ты мне про птицу-голубицу не толкуй. У Христа особые голуби были, белые, вон что над алтарем или что по крышам ваши сынки-балбесы метлой гоняют, а это, говорю, сволочь необузданная…” Так и не полез, потом уж сам художник лазил. Не знаю уж, как он там с ними…
– А улетели-то они как? – спросил я.
– А улетели они вот как, – ответил он, прихватил тряпкой консервную банку, снял с огня и поставил на стол. – В один час собрались стаей, погуркали, погуркали между собой, взвились, сделали круг над собором и улетели. Весь город смотрел. Вон туда улетели! – Он махнул рукой к горам. – Всё садами, садами летели, а дальше – в лес и в горы. Мой сосед заинтересовался, поскакал за ними, я потом его спрашивал. “Куда делись, говорит, окончательно сказать не могу, я их ночью потерял. Они чем дальше, тем всё ниже летели, потом кто послабже на яблоньку, на траву стал садиться. Ну, а стая-то, конечно, та дальше летела”. Так и скрылись. Вот как они улетели, никто этого не помнит, один я помню.
И сколько потом я ни спрашивал старожилов, сколько ни толковал с местными краеведами, никто ничего прибавить не смог. Вчера их около собора были тысячи, а сегодня посмотрели – ни одного нет. Я и раньше слышал о чем-то подобном. Какая-то таинственная сила иногда вдруг поднимет, взметнет с места какое-нибудь мелкое зверье и гонит, гонит его на новое место. Начинают, например, идти белки. Идут, идут, идут. Идут десятками, сотнями тысяч. Прыгают по сучьям, карабкаются по стволам, ковыляют по земле. Никого не боятся, ничего не видят. Поле так поле, улица так улица – им все дорога. Идут напролом в какую-то только им известную сторону. Так, говорят, в старом Петербурге со Щукина двора однажды двинулись крысы. Было их не сотни тысяч, а миллионы. Шли среди бела дня посередине мостовой. Вставали трамваи, шарахались и неслись, как от волков, хрипящие лошади – крысы всё шли. Пересекли несколько улиц, дошли до Невы и как в воду канули. Было такое же и с альпийскими пеструшками. Но птицы, но сизари…
Я думал об этом, сидя на чердаке и разбирая черепа – волк к волку, тигр к тигру, кабан к кабану.
Однако на чердаке я бывал только изредка. Разборка черепов не входила в мои прямые обязанности. Все служебное время я сидел у себя в “археологическом кабинете”. Так называлась обширная светлая комната на хорах собора. Над этой давнишней надписью кто-то намалевал другую: “Хранитель древностей”, а еще кто-то прибавил: “И ходить к нему строго воспрещается”, а третий просто прибил жестянку – череп и две кости. Я часто думал: что здесь было раньше? Регент ли в ней занимался с хором, божественные предметы сюда стаскивали или еще что? Комната мне не нравилась: было в ней жарко и душно, а главное – высоко, попробуй полазай сюда с полным беременем камней да железа. А камней у меня было много. Почти все экспонаты были камни. Ведь древнее Семиречье – это не античное поселение. Это там амфоры, терракота, камеи, черно-красные вазы – здесь же серые глыбины с надписями, выбитыми железом, каменные болваны, чудовищные бронзовые котлы, которые не повернешь и не подвинешь, светильники на железных козлиных ногах, каждая нога по центнеру. Всего этого у меня собралось столько, что негде было сидеть. Середину “кабинета” занимала огромная стеклянная витрина с надписью: “Индустрия каменного века”. Когда-то эта “индустрия” стояла в самом музее. Теперь ее перетащили ко мне, и она сразу забила всю комнату. Места осталось только для мраморного столика на тонких железных ножках – такие стоят в пивных – да двух стульев.
Придя сюда, я прежде всего решил навести порядок. Заперся и стал все разбирать. Щиты – в одно место, ящики с камнями – в другое, бронза и монеты (монеты лежали в сумках) – от екатерининских пятаков до римских динариев и серебристых чешуек с арабскими надписями – в третье и четвертое. Одно это заняло у меня больше месяца. И тут, на ходу, только на одну минуту открывая и захлопывая ящики, я увидел, какое богатство накопили здесь мои предшественники.
А предшественники у меня были знатные. То и дело, например, попадалась фамилия Кастанье. “Из сборов Кастанье”, “Из коллекции Кастанье”, “Описано Кастанье”, “Смотри рисунок в монографии Кастанье” и так далее. Этим человеком я заинтересовался уже намного позже. Тогда же мне просто было от него некуда деваться. Сколько он насобирал камней! И там Кастанье, и тут Кастанье, и везде один и тот же Иосиф Антонович Кастанье – “ученый секретарь Оренбургской архивной комиссии” (так он подписывался под своими статьями). “Преподаватель французского языка в оренбургской гимназии” (так в одной строчке сообщил о нем Венгеров). Этими титулами, пожалуй, и исчерпывается все, что я о нем знаю. Да и только ли я один? И никто ничего не знал о Кастанье. Много позже мне пришлось просмотреть с добрую сотню словарей и библиографических справочников, я ни в одном из них не нашел упоминания о нем. Так я и не знаю, когда он родился, когда умер и даже какая цена его книгам. Знаю только, что был он подвижен и энергичен необычайно. Семиречью предан фанатично. Куда он только не совался с ним! В Париж, в Музей человека, где он вручил “великому Мортилье” доклад о каменных бабах; в Тулузу, где он говорил о них же со “знаменитым Картальяком”; в Мадрид, где он в археологическом музее изучал иберийские надгробия. В Берлин, на Корсику, в Тунис на развалины Карфагена. Все идеи и образы мировой истории, осевшие золотом, мрамором, гранитом и бронзой, этот человек хотел привлечь для того, чтобы они объяснили ему, что же такое каменные бабы его родных степей. Ничего из этого, конечно, не вышло. Карфаген и царство инков только вконец запутывали дело. Тайна так и осталась тайной. “Да, повторимость идей, как мне сказал еще недавно знаменитый Картальяк, но не общность народа, – меланхолично писал он. – Разве мы не видим египетских пирамид в Мексике, скифских курганов в долине Миссисипи, каменных баб русских степей в древнем царстве инков? Одни и те же причины могут породить одни и те же следствия”. Вот и всё. С чего начал, тем и кончил! Чтобы шагнуть дальше, надо было обладать не только материальной, но еще и теоретической истиной, а откуда мог взять ее Кастанье? На мнимой схожести совершенно разных явлений и предметов вывихивали себе мозги и не такие головы, как многолетний секретарь Оренбургского археологического общества. Но, как теперь сказали бы, краеведом Кастанье был первоклассным: внимательным, знающим, рьяным, из тех, для кого история действительно была музой. О чем он только не писал, что только не описывал, в каком только уголке степи не побывал и какие только истории с таинственными подземельями и скелетами с ним не случались! Писал он и о надгробных памятниках, и о сирийских надгробиях, и о неолитических стоянках, и о свастике, и Бог знает еще о чем.
Конечно, я и в подметки не годился своему предшественнику. Он действительно собрал всю индустрию каменного века: в его ящиках лежали кремневые топоры, стрелы, наконечники копий, обломки кремня, обработанного и круглого, может быть, остатки какой-то палеолитической Венеры. И керамика, керамика… то есть черепки, черепки… Из этих черепков можно было слепить добрую сотню сосудов.
“Гребенчатый орнамент”, “гребенчато-ямочный орнамент”, – писал Кастанье на этикетках. “Ямочный орнамент” – вот это и был самый древний рисунок. Просто лежал однажды человек на берегу реки, тыкал пальцем в песок и смотрел, что получится. И получилась линия, точка, снова линия, снова точка, и вот уже не линия и не точка, а рисунок. А потом кто-то, может, он сам, а может, другой, перенес эти линии и точки на горлышко сосуда и поставил его на огонь обжигаться. Так родился орнамент. И опять, видимо, ничего не произошло и никто ничего не заметил. Только старуха, постоянно дремавшая около огня, покачала головой да ребята завизжали, заплясали и стали просить, чтобы им дали подержать новый горшок в руках. Вот и все, что, вероятно, произошло в тот день у огня. Но орнамент уже родился. Он стал жить, расти, менять свое очертание, усложняться, обрастать новыми подробностями, тяжелеть. Теперь он занимал уже не только горлышко сосуда, но и весь сосуд целиком, заползал вниз, устремлялся вверх, извивался змеей, закручивался спиралями, вспыхивал то тут, то там, действительно стал походить на гребень. Словно раскрылись человеческие глаза, и они увидели то, что не могло даже присниться: чистые геометрические формы. Не круглый лист, не треугольный камень, а круг и треугольник – линию и точку в самых разнообразных сочетаниях. И кроме линий простых, двойных, зигзагообразных, изломанных под разными углами, появились еще и квадраты, овалы и пирамиды. До неузнаваемости изменилась и сама линия. Теперь она падала на мокрую глину пучками, связками, тончайшим излучением, елочками и крестиками. Вот, вероятно, именно так на горлышке пузатого горшка – сколько же десятков тысячелетий прошло с той поры? – зародилась под пальцами мастера прекрасная и почти волшебная абстракция орнамента, к которому мы ныне так привыкли, что даже не замечаем его.
Под пальцами мастера! Я ведь употребил неточное слово. В том-то и дело, что творцом орнамента был не мастер, а мастерица. Не мужчина, а женщина. По отпечаткам пальцев, что сохранились на стенках посуды, ученые пришли к выводу: посуду лепила женщина. Вероятно, так и должно быть. Всякому свое. Мужчины каждый день видели смерть лицом к лицу, и была она то медведем, то пещерным львом. Орнамент прельщал таких охотников меньше всего. Вряд ли они понимали даже смысл и красоту всех этих черточек и ямочек. Слишком уж это было мелко и несерьезно, что-то вроде бус и ожерелья. Мужчины приходили к огню усталые и потные, покрытые своей и чужой кровью. В час отдыха они вырезали на куске кости одиноких мамонтов, бодающихся бизонов, гигантского оленя с откинутыми рогами. Вырезали они и самих женщин. Даже не вырезали, а высекали из кости и камня так, чтоб их можно было покрепче зажать в кулак. Это были прекрасные объемные животные с могучими бедрами, с телом, разделенным на круги и треугольники. Даже теперь радостно глядеть на эти каменные цветки – неповторимых палеолитических Венер.
Вот так и возникло два этих течения – конкретное и абстрактное. Так они и существовали десятки тысячелетий, каждое в своей области – одно на горлышке сосуда, другое на кости и на стене пещеры, – не отрицая и не трогая друг друга.
Здесь нужно оговориться. Я пишу не об абстрактном искусстве, а об абстракции в искусстве, а это совсем разные вещи. Я убежден, что современный абстракционизм вырос совсем не из орнамента.
Первобытный человек – homo primigenius – “человек первородный”, как почтительно называет его наука, был существом положительным и реальным. Красоту он понимал как меру и число, гармонию и соразмерность. Он подмечал эту гармонию и на коже раздавленной им гадюки (ведь и на ее чешую тоже кто-то нанес гребенчатый орнамент), в расстановке листьев на стебле, в весеннем звоне капели, в окраске и пятнах на крыльях бабочек, в смене дня и ночи, зимы и лета. По закону этой же четности и рассчитаны созданные им орнаменты. А абстракционизм пуще всего боится равновесия. Отразите его в зеркалах, и он сразу же умрет, превратившись в обыкновенную обойную ткань. Если великий кроманьонец уравновесил мир на горлышке сосуда, то художник XX века взорвал его динамитом и атомом, пропустил через мясорубку и то, что осталось, полными пригоршнями ляпнул на полотно.
И оказались на полотне сгустки цветов, тени вещей, осколки форм. И опять надо звать кроманьонца, чтоб слепить из дымящихся, растерзанных кусков мира тихую, чуть слышную мелодию каменного века.
Я это впервые ясно почувствовал, рассматривая коллекции Кастанье. И еще мне очень нравились и сосуды сами по себе. Человек меди и бронзы был величайшим мастером своего дела. Его горшки прочны, как каменные. Да они и в самом деле каменные, глина в них смешана с песком и дресвой – крупной зернистой галькой (красные, желтые и зеленые зерна ясно видны в изломах). Она служит как бы кремневым скелетом сосуда, поэтому этот сосуд и живет бессчетное количество тысячелетий. В музее была масса разных сосудов: от маленького обгорелого горшочка, в котором, может быть, кипела похлебка из мамонта, до огромных, в человеческий рост, кувшинов… Эти-то были непростительно молоды. Хорошо, если каждому из них было по семьсот лет. Совершенно гладкие, несокрушаемые, с мастерски вылепленным горлом, со следами гончарного круга на внутренней стороне, они никакой исторической ценности не представляли, а мешали мне страшно. До меня в них уборщицы хранили тряпки и швабры, а в одном оказалось чуть ли не с пуд тыквенных семечек. Я сдуру рассказал об этом кому-то – и вот весь музей начал бегать ко мне за ними в перерыв.
– Дайте, пожалуйста, семечек.
Я махал рукой, и вот сосуд наклоняли, опрокидывали и лезли в него железным совком. Я все ждал, что кто-нибудь ахнет это чудище о каменный пол и оно разлетится. Но сосуд был просто несокрушаем. Как его ни грохали, как ни катали – а пол-то был каменный, – ничего с ним не случилось. А ведь еще с пяток таких сосудов – и мне пришлось бы выбросить из комнаты даже пивной столик и разбирать свои камни, просто сидя на корточках. Поэтому, когда однажды пришел в музей древний старикашка и рассказал, что в горах в колхозе “Горный гигант” весь клубничник усыпан осколками, а в конторе колхоза даже стоят два совершенно целых сосуда, нужно приехать и забрать, я подробно записал весь его рассказ, но никуда не поехал и ничего никому не сообщил. Я и свои корчаги давно выбросил бы на помойку – они ведь тоже были из района “Горного гиганта”, – да как это сделать? Ведь на каждой же этикетка и запись: “Сосуд для хранения зерна. Эпоха караханидов (XI век). Из сборов И. А. Кастанье”.
О старике этом – звали его Родионов – я еще расскажу. Как-то само собой получилось так, что с приходом его в музей все в моей жизни пошло кувырком.
Началось, впрочем, все с того, что рано утром мне позвонили из редакции республиканской газеты и попросили зайти к редактору. Я зашел. Секретарь-машинистка вынула из папки три странички с пышным заглавием “Индийский гость” и подала мне.
– Вот, просили прочесть и дать заключение, – сказала она и снова уткнулась в какие-то листы.
При газете этой я состоял давно, катал прямо на машинку юбилейные статьи, давал информации о всех интересных приобретениях и находках нашего музея, консультировал, правил, знал всех, и меня знали все. Поэтому такие задания мне приходилось получать и выполнять часто. Но сейчас, только пробежав три странички четкого машинописного текста, я обалдел, онемел и вдруг шагнул прямо за стеклянную дверь, в кабинет редактора. Редактора не было, за его столом сидел заместитель – высоченный молодой человек в роговых очках и с трубкой во рту. Его недавно по распределению прислали к нам из Москвы, но он уже сумел задать тон всей редакции: “Старик”, “Старуха”, “А не пойти ли нам, старуха, в «Белую лошадь»…”
– Слушайте, – сказал я, – что это вы мне дали? Это же просто бред.
Он снял очки и стал их протирать. Это были, конечно, очки из оконного стекла, но я первый раз видел, чтоб он остался без них.
– Мнения насчет этого бреда резко разошлись, – сказал он. – Кое-кто считает, что, возможно, это и не вполне бред. Я здесь человек новый, ничего толком не знаю, так что… – И он улыбнулся, показывая великолепные круглые зубы, похожие на облупленные лесные орехи.
Но я даже вздрогнул: наконец-то я его увидел по-настоящему, его лицо, простецкое лицо хорошего деревенского парня, нос картошкой и бурые глаза в крапинках. Но именно это почему-то и рассердило меня больше всего.
– Значит, вы допускаете, – спросил я свирепо, – что удав может бежать из зверинца, проползти через весь город – вы представляете – через весь город! – базар, улицы, площади, парки, дворцы, и доползти до прилавков, свернуться на каком-нибудь из них и перезимовать под сугробами. Ну, знаете…
Но он уже был опять в своих роговых очках и поэтому снова стал насмешливым, неприступным и гордым.
– Ничего я, дорогой старик, не знаю, – отрезал он уже совершенно по-редакторски. – Я всего четыре месяца в этом городе и поэтому ничегошеньки не знаю. Но вот первый вопрос к вам как старожилу: был ли мальчик? Сбежал удав из передвижного зверинца или нет?
– Не знаю.
– Вы не знаете! Вы, старожил, да не знаете! Ну а откуда мне, homo nowa, знать, а? – Он выдвинул ящик стола, вынул конверт и положил передо мной. – Вот, пожалуйста. Читайте.
Я прочитал:
Бюро вырезок: “Газета… номер… от 6 августа…” Сообщение нашего корреспондента “Индийский гость в окрестностях Алма-Аты”.
Алма-Ата. (Наш корр.)
Еще с прошлой осени по колхозу “Горный гигант” ходила молва о нежеланном госте. Его часто видели в роще. Зима прекратила эти разговоры, и только на днях “гость” вновь появился.
Увидели его в саду. Обвился он вокруг ствола и выбирал самые лучшие спелые яблоки.
Член колхоза Луценко рассказывает: “Шел я около часу дня через сад. Вдруг как что-то зашипит около меня: чуть на хвост огромной змеи не наступил. Серая. Длиной метра четыре. Как ствол средней яблони”.
В последние дни в колхозе начали исчезать кролики. Оказалось, что в прошлом году из зверинца на колхозном базаре исчез индийский удав. Пробравшись за город, удав акклиматизировался и сумел где-то пережить зимние холода. Сейчас принимаются меры к его поимке.
– Ну что? – спросил заместитель, когда я бросил вырезку на стол. – Убедительно ведь, кажется: дата, фамилия, место, подробности?
Я только развел руками.
– Хорошо, читайте дальше. Вот вам свидетельство очевидцев. Это уже заметка из нашей газеты. От августа прошлого года.
“Охота на удава”, – прочел я.
За последние дни в районе стана 6-й бригады колхоза “Горный гигант” участилась пропажа кур и кроликов. Колхозники знали вора, но на глаза он показывался редко. 3 августа ребята из 6-й бригады играли в саду недалеко от стана и заметили большую змею. Она поднялась до первых ветвей яблони, срывала яблоки и ела. Ребята догадались, что это удав, и побежали в стан. Колхозники вооружились веревками, длинными шестами, и когда пришли к указанному месту, удава уже не было.
Колхозники решили непременно изловить удава живьем.
Я положил газету на стол и посмотрел на заместителя. Он поймал мой взгляд и улыбнулся.
– Вот мы, – сказал он, – то есть редакция, и просим вас, музей, дать нам научную консультацию на тему: существует удав в природе или нет. Но только точно, ясно, авторитетно, категорично. Понятно?
– Да понятно-то понятно, – сказал я, переминаясь. – Но неужели это вас действительно интересует?
– А как же? – опять очень весело удивился он. – Как же нас это может не интересовать, дорогой старик? Два года ползает по колхозам какое-то чудо-юдо, пугает народ, срывает работу, портит яблони, душит кур – возьмите, возьмите эти вырезки, покажете в музее! – и никто ничего не знает. Так кого же просить навести ясность, как не республиканскую научную организацию? Но если вы отказываетесь – хорошо! Тогда мы обратимся в филиал Академии наук.
– Да нет, почему же, – пробормотал я. – Почему же мы отказываемся? Мы совсем не отказываемся…
– Ну вот, я тоже думаю, что не надо вам отказываться, – улыбнулся он. – К тому же материал интересный, необычный, его, конечно, и напечатают, и перепечатают, но ясность нужна крайняя. Сами знаете, какое сейчас время, как смотрят на паникеров.
Знаю, знаю, ох как знаю…
Я что-то пробормотал, взял заметку и пошел в отдельный кабинет: надо было обдумать все как следует. Подпись под машинописными строчками, что дала мне секретарша, была: “Д. Никитич” (следовательно, понял я, Добрыня-змееборец). Но я сразу же узнал волшебное перо местного златоуста – Даниила Ротатора. (Так я и не знаю, фамилия это или прозвище.)
Тихи вершины Алатау, густы и темны леса его, – писал Д. Никитич, – цветисты альпийские луга и полны чудесных плодов яблочные сады предгорий. Синяя птица прилетает в эти сады из Индии. Она гнездится, эта чудесная странница небес – голубого цвета с голосом флейты, – на таких недоступных скалах, куда не ступала еще нога человека. Никто не сумел до сих пор заключить в клетку синюю птицу! До недавнего времени она была единственным индийским гостем, посетившим наш город. Но вот появился и второй гость – молчаливый, таинственный и древний. Несколько лет тому назад наш город посетил передвижной зверинец. В нем были львы и тигры, барсы и пантеры, в бассейне плавал нильский крокодил, а в отдельном павильоне жила огромная, похожая на дракона змея. Днем она спала, свернувшись чудовищными кольцами, а ночью зеленые фосфорические глаза гада… (Колонка про эти глаза; про то, как удав гипнотизирует свои жертвы; про заклинателей змей, про факиров, полколонки про Саламбо и про ее возлюбленного питона и, наконец, колонка про то, как ночью удав загипнотизировал сторожа и сбежал. Как пришли открывать зверинец, сторож спал, растянувшись на каком-то ящике. Когда его растолкали, он сказал, что его загипнотизировали, – а что скажешь иное?)…С этих пор этот легендарный, библейский зверь поселился в яблочных садах Алатау. Два года он был неуловим и невидим. Но неделю тому назад бригадир шестой бригады колхоза “Горный гигант” Иван Федорович Потапов, обходя хозяйскими шагами свой участок…
Тут я разыскал незанятый телефон и вызвал “Горный гигант”. Подошли сразу. Грубый мужской голос спросил, кого надо. Я ответил: Ивана Федоровича Потапова, бригадира шестой бригады.
– Ну вот это я и есть, – ответил тот же голос. – Кто говорит?
Я ответил:
– Музей.
– Ну и что? – спросил Потапов.
Я сказал, что мы хотели получить от него кое-какие сведения.
– Это какие же еще сведения? – спросил он почти враждебно.
Я начал спрашивать его про удава: сам ли он его видел или слышал от кого и есть ли в колхозе еще кто-нибудь, кто его видел? Когда все это произошло?
Потапов слушал-слушал меня, а потом вдруг тихо спросил:
– Командировочные получил?
– Какие командировочные? – не понял я.
– Какие? – крикнул он вдруг. – Золотые! Я вот про твои дела отпишу и сам приеду сдам вам в контору, тогда узнаешь какие! Бездельник! Черт лохматый! “Подпишите мне, пожалуйста, командировочную”. И я-то, дурак, подписал, мать твою… – Он с размаху бросил трубку.
Я постоял, посмотрел на секретаря-машинистку, почесал лоб – ничего не понял – и поплелся к себе домой.
Вот тут меня и поймал этот проклятый Родионов. Он сидел на лавочке и ждал. Около его сапог лежала на земле наволочка, набитая до краев чем-то твердым и угловатым.
“Уже на дом стали приходить”, – подумал я и спросил:
– Вы ко мне?
– Так точно, к вам! – Он встал. – Мне сегодня сказали, что вы в музее не будете. А у меня сегодня выходной. Я в горах живу. Вот я и осмелился…
Говорил он вежливо, но холодно и важно. И вообще он был весь какой-то подтянутый, с планшетом на бедре, этакий седенький козлик с бородкой клинышком и строгими, выжидающими глазами. А сверх этого ничего: ни улыбочки, ни лишнего жеста. Парило вовсю, а на нем был бордовый шерстяной жилет и сапоги, на голове фуражка, на фуражке – малиновые “молнии”.
“Не отвязаться”, – понял я и сказал:
– Ну что ж, пойдем в комнату, – и толкнул ногой дверь. (Она у меня никогда не запиралась.)
Он осуждающе взглянул на меня, но ничего не сказал. В комнате было прохладно и темно. (Директор мне пожертвовал китайские занавески и жестяной вентилятор, и он целые сутки повизгивал и чуть не прыгал по столу.)
– Вы почтовый работник? – сказал я, подвигая старику кресло (кожаное, поповское, с бесшумно взрывающимися пружинами).
– Был, – ответил он, – сейчас уже на пенсии, работаю счетоводом в кооперативе дома отдыха “Каменное плато”.
– А это что? Далеко от колхоза “Горный гигант”? – спросил я как будто вскользь.
– Да нет, рядом, – ответил он. – Они на прилавках, в саду, а мы внизу, через Алма-Атинку, у шоссе.
– А вы там кого-нибудь знаете? – спросил я. – Всех знаете? Бригадира Потапова не знаете?
Очень нехороший был у меня тон, какой-то напряженно-равнодушный, выспрашивающий, фальшивый. Никак он не мог не заметить этого.
– Это бригадира из шестой бригады? – спросил он. – Нет, не знаю. Так, видеть много раз видел, а вот говорить что-то не приходилось.
Я думал, что он спросит: а зачем мне нужен этот Потапов? Но он ничего не спросил, только сидел, смотрел на меня и ждал. “Вот черт”, – подумал я и спросил:
– Что, змей у вас там, говорят, появился?
Не удивляясь, он пожал одним плечом.
– Да всякое говорят бабы. Я, откровенно говоря, не прислушивался. Мне это всё ни к чему. – Он наклонился над своей наволочкой. – Я вот что хотел показать вам. Если разрешите, конечно…
Вся эта сухость, равнодушие, строгий взгляд, издевательская вежливость и учтивость – всё это, взятое вместе, походило просто-напросто на вызов. И не знаю, зачем я протянул ему статью.
– Прочтите.
Он опустил наволочку, полез в карман жилетки, вынул пухлый сафьяновый футляр с золотыми инициалами, открыл, достал очки, надел, потом поднял со стола один лист и стал читать. Я смотрел на него. Читал он внимательно и хмуро. Прочел один лист, положил его на стол, взял другой, потом третий. Читал вдумчиво, не пропуская ни строки. Дочитал до конца все три листа, снял очки, спрятал в футляр, щелкнул им, положил в карман и сказал:
– Ну что ж, вполне художественно. Только вот про синюю птицу – зря, она не голубая, а темно-синяя с отливами, как вороненая сталь. И поймать ее тоже можно. Трудно, но можно. Я ловил. Это вы перемените. Это ведь дрозд, только зовут его – синяя птица. Так вот…
Он снова нагнулся, размотал бечевку на наволочке и достал довольно большую игрушечную лодку с тремя гребцами на корме. Лодка была черная, а фигурки – желто-палевые. Старик поставил игрушку на стол и посмотрел на меня. А я тоже смотрел на нее и думал: да где же всё это – и лодку, и фигурки гребцов, стоячих, а не сидячих, – видел?
– Позвольте, позвольте, – сказал я, – да ведь это же… – Я хотел сказать: “Это же из музея игрушек”, но почему-то осекся.
Вот только тут он позволил себе чуть-чуть улыбнуться, вернее, не улыбнуться, а только слегка растянуть углы рта.
– Узнали? – сказал он. – Точнейшая копия, могу сказать без хвастовства. Вот вырезал и подношу музею!.. Дар Родионова. – И он слегка даже поклонился.
– Спасибо, – сказал я ошарашенно. – Большое вам спасибо, но… я не знаю… – Я в самом деле не знал, как сказать ему, что эта игрушка – индийская или яванская джонка (даже не подлинник, а ремесленная копия) – ни на кой черт нам не нужна. Да ее и поставить негде, ни к одному отделу она не подходит. – Но только я не знаю… Мы ведь игрушки не собираем, мы республиканский музей.
А он уже опять подтянулся, одеревенел и смотрел на меня сурово.
– Не собираете игрушки? – спросил он любезно. – А вот эта, скажите? Это тоже игрушка? – Он снова наклонился над наволочкой и поставил на стол одну за другой несколько вещей: статую Будды, позолоченную и раскрашенную – алые губы, голубые глаза, белый лотос в руке, потом золотого китайского дракона и, наконец, узорчатую резную башню, похожую на винтовую лестницу с карнизами, перилами, узорной верхушкой, – все это было сделано чисто и точно под слоновую кость. Надо сознаться, что такие работы мне приходилось видеть не часто.
“Да, но делать-то с этим что? – тоскливо подумал я. – Ну, Будда еще туда-сюда – тут где-то рядом был буддийский монастырь, ну а всё это…”
– Так вы полагаете, что все это игрушки? – спросил Родионов. Он сидел на стуле и не отрываясь смотрел на меня.
– Да нет, не игрушки, – ответил я неловко. – Будду мы у вас возьмем и оплатим…
– Ну вот и та лодка тоже не игрушка, – отрезал он и начал собирать и засовывать в наволочку все свои изделия. – Это лодка мертвых из изобразительного музея Пушкина. Если вы археолог, то должны были ее видеть. Там даже фотографии с нее продают. Я по фотографии резал, а потом ходил сличать. А вы говорите: игрушки! Для исторического отдела эти игрушки – первое дело.
Вот черт возьми, надо же, надо же так сесть в галошу! И главное: только что он сказал про музей Пушкина, как я вспомнил, что ведь десятки раз видел я эту барку и даже знаю, где она стоит – по правую сторону от входа, возле шкафчика с мумиями: мумия крокодильчика, мумия кошки, голова женщины на подставке, а рядом, в другом шкафу, на нижней полке – вот эта барка. Но доказывать или говорить что-нибудь, конечно, уже было ни к чему.
– Так вот Будду мы возьмем, – тупо повторил я.
– Спасибо, не надо, – гордо отрезал он. – Пойду через парк, кину детишкам, пусть играют… Теперь вот какое дело…
Он полез в планшет и вынул оттуда что-то большое, плоское, завернутое в суровую тряпку, развернул тряпку, а под ней оказалась пергаментная бумага. Развернул пергаментную бумагу – в ней оказались три небольших осколка сосуда: горлышко, донышко и стенка. Все это было здорово обточено водой. Но я сразу же узнал останки родной сестры своей корчаги. “Ведь притащит, идиот, две или три такие цистерны – в «Горном гиганте» ими все участки засорены – и не повернешься, и не посадишь никого”.
– Откуда это у вас? – спросил я бесцельно, вертя в руках обломки.
– Из колхоза “Горный гигант”, – ответил он спокойно. – Как раз из тех мест, где голубая птица поет и удав ползает.
“Вот проклятый, – подумал я. – А ехать все равно придется”.
– Ну что ж, приеду посмотрю, – сказал я, вздыхая. – Вы оставьте здесь это всё, я потом как-нибудь…
Но он сидел, смотрел на меня так, что я невольно спросил:
– Еще у вас чего-нибудь?
Он вдруг молча наклонился, полез в планшет, достал оттуда сложенный вчетверо лист ватмана.
– Что это? – спросил я, не протягивая руки.
Тогда он, сверкнув глазом, молча развернул, вернее, распахнул бумагу и положил ее передо мной на стол. Это был план. Зеленым карандашом были нанесены холмы, деревья, кудрявые кусты (так символисты изображали облака), а посередине прямоугольник с крупной надписью: “Копать здесь”.
– Ну и что здесь выкопаешь? – спросил я уныло.
Он сверкнул на меня глазом и ответил:
– Если копать по-умному, – это он подчеркнул особо, – то большие вещи можно найти.
– А именно, – спросил я, – корчаги?
Никак не удавалось мне справиться со своим голосом. Как ни хотел я говорить тихо и спокойно, не получалось. Старик посмотрел на меня и отвернулся.
– Разнообразные, – ответил он коротко, опять посмотрел и опять отвернулся. – Два сосуда выкопаны, в правлении стоят, приезжайте заберите, а здесь целый римский город можно откопать.
– Даже уж римский? – улыбнулся я. – Ну-ну.
А мне ведь было по-настоящему совсем не смешно. Я понимал: эта новая идиотская история мне будет стоить изрядно крови. От меня этот кладоискатель пойдет к директору, а у директора пропадают спущенные еще с начала года кредиты на научную работу, за неиспользованием их срезали в прошлом году, срежут и в этом, а в будущем так и совсем не предусмотрят: раз не можете освоить, так зачем просить? Директор был человек новый, в музее никогда не работал, и этот свирепый старик со своими планами, черепками, римским городом, закопанным где-то тут поблизости, здорово может закрутить ему голову. Он ведь не знает, что такие приходят в музей чуть ли не каждый месяц. Один приносит карту местности, где зарыт клад Александра Македонского, другой отыскал в подвале чемодан со старыми бумагами, а в них оказалась десятая глава “Евгения Онегина”, отстуканная на машинке, третий пошел гулять в горы, и там за ним вдруг погнался дикий человек, четвертый же… ну, вот этот четвертый сидит сейчас передо мной и свирепо глядит на меня. Он старый восторженный дурак, но от него скоро не избавишься. У таких мухоморов не поймешь, чего больше – ослиной настойчивости или восторженной петушиной злости.
– Да почему же именно римский? – спрашиваю я уже вяло. – Ну пусть бы какая-нибудь Усуни или Саки, ну это еще туда-сюда, а римляне-то как сюда попадут? Они-то вон где жили!
Он усмехается. Я ему буду толковать про римлян! Так академик смотрит на шарлатана, выдающего себя за профессора.
– А что Александр Македонский воду из Сырдарьи шлемом черпал, вы знаете это? – спрашивает он меня в упор.
Этот проклятый Александр Македонский! Никуда от него не уйдешь в Средней Азии – он проходил везде, произносил афоризмы, зачерпывал воду шлемом, зарывал сокровища в каждом холме.
– Так ведь он же грек был, – кричу я, сорвавшись, – грек! Вы же слышите – Маке-дон-ский! Значит, грек, если Македонский. А потом, где Сырдарья, где Алма-Ата? Есть разница?
Он усмехается все тоньше, все презрительнее.
– Никакой особой разницы. Обе в Казахстане. Сойдите вниз, взгляните на карту. А греки и римляне одной нации.
– Это как же так? – спрашиваю я ошалело.
– Да вот так, – отрезает он. – Античность!
Ну что тут делать и говорить? Я только развел руками, но это-то вдруг и вывело его из себя. Он даже фыркнул по-кошачьи.
– Ну что, что вы на меня машете? – зло заговорил он. – Махать нечего, если дело говорят. Там, коли хотите знать, уже находки сделаны. Пресса об них писала. Вам, как музейному работнику, первому надлежало бы знать.
– Это про римскую монету, что ли? – спрашиваю.
Он зло улыбается.
– Ага! Римскую! Признаете, что римскую? Так что ж, ее нарочно подбросили, что ли?
– Да нет, зачем же, – вяло отвечаю я, – кто ее будет подбрасывать? Монета, вероятно, подлинная.
– Ну и вот, – успокоенно кивает он головой. – Так бы и говорили с самого начала.
Тут и я засмеялся. Так уж это все хорошо получалось. Он крыл меня по всем швам!
А история с монетой была такая: год тому назад (значит, еще до моего поступления в музей) республиканская газета поместила на четвертой полосе большую статью: “Казахстан был римской колонией?” Знак в конце был чистым кокетством. Автор статьи, профессор Института национальной культуры Столяров, никаких вопросов не ставил, а просто утверждал, и всё. Утверждал же он очень многое. Казахстан от Арала до Тянь-Шаня, утверждал профессор, был частью римской провинции “Азия” (“остатки империи Александра Македонского”). Правил этой провинцией римский наместник Сабанар; он впервые ввел в колонии латынь вместо “бытовавшего там греческого языка”. Случилось это, по всей вероятности, в двадцатых годах первого века нашей эры. На западной окраине Алма-Аты, “в районе нынешних садов и огородов”, находился тогда центр провинции с правительственными зданиями и дворцом губернатора. Холмы, тянущиеся вдоль улицы Дачной, не холмы, а “могилы императорских особ”. (Каких-каких?) И наконец, заключал он перечень своих открытий, “представляется несомненным, что клинопись, несколько осложненная по сравнению с ассиро-вавилонской и персидской, была в ходу в Казахстане две с половиной тысячи лет тому назад”.
И обо всем этом поведала профессору римская монета, откопанная где-то в огороде. Статья иллюстрировалась ее перерисовкой. На одной стороне этой монеты был изображен бюст бородатого мужчины “в обычном римском шлеме”, на другой – “фигура человека, освещенного лучами солнца”. (“Ногами он попирает побежденные народы”, – писал профессор.) Вокруг бюста шла надпись, которую автор расшифровывает так: “Imp[erator] Cave[t] Elin[orum] Mu[ndum] Sana[bar]”, то есть “Император хранит мир эллинов Санабар”. На обратной стороне около фигуры человека была другая надпись: “Orines Mu[ndus]” – “Мир Востока”, – и внизу непонятные буквы “Р. X. X. Т.”.
Писалось далее, что монета эта совершенно уникальная. В Эрмитаже, правда, имеется динарий этого же самого Санабара, но надпись на ней халдейская, а не латинская. Английский историк Суингем относит такие монеты к началу двадцатых годов первого века нашей эры. Кончал профессор призывом ко всем научным учреждениям, археологам и краеведам произвести раскопки по Дачной улице. Лет сорок тому находили монеты, утварь, золу, столбики с орлами. Зола – следы кремации, орлы – знамя легионов. Так можно же предполагать, какие сокровища хранят эти холмы!
Через два дня после этой статьи на дачные огороды двинулись люди с заступами и пятериками. И вскоре несчастные холмы выглядели так, как будто на них выпустили стадо носорогов. Но копались не только любители. (Ведь боевые орлы отливались из чистого золота и серебра – передавалось из уст в уста какое-то замечание профессора.) Вся десятая школа – самая большая в городе – вышла сюда на субботник с лопатами. А однажды, проходя случайно по этой же улице, я встретил Добрыню Никитича. Он шел, мудро и загадочно улыбался. Это был пузатый, грузный старик в пенсне, кокетливый и величавый, с розовой лысиной и острым подбородком. В городе его знали. Он преподавал литературу в пединституте и печатал эссе на литературные темы. И я читал их, когда мне попадались. Так, вероятно, возвышенно и мудро писал бы буриданов осел, если бы его научили грамоте. Когда мы поравнялись, Добрыня поднял руку, и я остановился. Поздоровались. Он спросил, читал ли я вечернюю газету. Я ответил, что нет, не успел.
– Прочтите, вам должно понравиться, – посоветовал он. – Я там поместил очень интересный этюд. Ничего особенного, конечно, но очень картинно и впечатляюще. Не понимаю, как они рискнули? – он гордо хихикнул. – Такая, знаете, историческая миниатюра или мозаика золотом. Идут римские легионы, сверкают римские золотые орлы, дышат степи, гремит музыка… ну и тому подобное… Легионы ведет седой римский воин, изрубленный в боях. Ему уже пора на покой, но он все-таки хочет познать неведомое. Обязательно прочтите!
Статью Добрыни я прочитал через пять минут, стоя у газетного киоска.
Жарко дышат надвигающиеся пески, – писал он. – Вспыхивает зарево степных огней, слышатся незнакомые и такие созвучные окружающему миру мелодии. Это просторы неведомой земли… Пески, конечно, не зеленые луга; бесплодные равнины не хлебные поля. Но тот, кто ведет эти легионы, знает: надо идти на восток, свет оттуда… Это своего рода последнее рукопожатие земле… Странно, но факт: римские орлы в своем стремительном полете долетели до предгорья Алатау и смежили свои крылья под алма-атинскими тополями. И там, где сейчас только зеленая трава да синее небо…
И еще, и еще, строк на двести этих “степных огней”, “волшебных мелодий”, “рукопожатий земле”.
После того как я опустил газету, у меня было такое чувство, словно я напился касторки с сахарином. Но чувство-то чувством, а римская-то монета была действительно откопана в огородах на окраине Алма-Аты, и действительно я не считал ее подброшенной. Поэтому и ответить старику на его вопрос мне, по существу, было нечего.
А он сидел на краю стула и глядел на меня с хмурой снисходительностью. Он уже понимал, что я окончательно зашился. Если монета подлинная, то не свят же дух принес ее на Дачную улицу. Значит, действительно римляне были тут.
– Слушайте, – сказал я горестно, – ну как вам все это объяснить? Ну, римская монета, ну, Санабар там какой-то, не слыхал я такого среди римских наместников, ну, царек такой паршивенький периферийный, верно, был – значит, вероятно, мог быть и наместник Санабар. Но ведь грош цена всему этому. Разве римская монета – документ? Разве доказывает она что-нибудь? Эх, вот не были вы никогда коллекционером! Да вы знаете, сколько их разбросано по свету? Тонны! Десятки, сотни тонн! Римляне ими заплевали всю землю. Они как семечки. Нет места, где не валялось бы этого добра. Из рук в руки, из рук в руки – вот и дошла медяшка до алма-атинских огородов. А стоила она и тогда не дороже солдатской пуговицы.
– Да не медяшка она, а серебряная, – рыкнул на меня старик.
– Ну да, серебряная! А знаете, сколько в ней серебра? – спросил я. – Два процента! И того не будет… В этих бляшках девяносто восемь процентов примеси. Когда я учился в школе, любая такая монета шла у нас за двугривенный. Ну, много-много – за полтинник, если была побольше. У меня их полный ящик когда-то был. Так что, если эту ерунду еще учитывать…
Он не стал терять больше со мной времени. Он попросту чинно встал, взял фуражку, надел ее, отряхнул брюки и пошел из комнаты. А на пороге остановился и сказал строго, укоризненно:
– Вот вы такие монеты по школьному делу за двадцать копеек или там за полтинник покупали, ящики ими набивали, все может быть, не спорю – чего не знаю, о том никогда не спорю, – да здесь-то она не покупная, а обретенная. Я же ее лично откопал в огороде. Так что вы меня не агитируйте. И может быть, действительно в Москве по всем улицам римские монеты разбросаны – чего не видел, того не знаю! – но здесь каждая вещь со смыслом… Вот так! И до свиданья.
И он забрал свои вещи и вышел. “Побежал к директору жаловаться”, – понял я.
Глава третья
И действительно, через день директор вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошел, он сидел за письменным столом – высокий, крепкий мужчина лет сорока пяти – пятидесяти, в военной гимнастерке с расстегнутым воротом, с белоснежным воротничком под ним – и писал. Около его локтя лежали три красных черепка – горлышко, донышко и стенка, стояли лодка мертвых и золотой Будда. Я взглянул на них и вздохнул. Директор посмотрел на меня и рассмеялся.
– Те самые, те самые, – сказал он весело. – Ты что же это, дорогой товарищ, о казенном добре не печешься? Какой же ты, к бесу, хранитель, а? Приносит тебе человек ценные экспонаты, отдает, заметь, задаром, а ты нос воротишь, отказываешься. Как же это так? – Он взял Будду и стал вертеть его в руках. – Ты посмотри, от чего ты отказался, чудак! Работа-то какая – смотри! Каждый ноготок отдельно и блестит, сволочь, как наманикюренный. А узор-то, узор на подоле! Его только в лупу рассматривать. – И он действительно вынул лупу и стал вертеть Будду так и этак. – И ведь каждый, каждый завиточек, – сказал он восхищенно. – На, на! Посмотри! Иголкой, что ли, он его резал?
– Да, но нам-то зачем это? – спросил я. – Ну, Будда, ладно, пусть валяется в запаснике. А барка мертвых зачем? Мы что – Древний Египет, Нубия?
– Опять зачем? – Директор откинулся на спинку кресла и строго посмотрел на меня. – Нет, это ты брось. Это ты по-настоящему брось. А антирелигиозная пропаганда? Ее кто за нас вести будет – Пушкин? Мы должны ее вести – ты должен ее вести, научный сотрудник, понимаешь? Вот я еще ему книжку Ярославского дал – “Как живут и умирают боги”. Заказал вырезать Озириса, Адониса и Мирту. Мы всё это выставим во вводном отделе – языческие Христы. А рядом – икона нерукотворного Спаса. Это уж я принесу. Стоит у меня такая, я на ней опыты показывал. Чувствуешь, какая пропаганда? – И он хитро подмигнул мне. – А ты текстовочку напишешь получше, позабористее.
“Да в кого же он меня хочет превратить?” – подумал я и официально сказал:
– Да ведь это дело массовички, Степан Митрофанович, что я-то в этом понимаю?
Он скорбно посмотрел на меня, вздохнул и покачал головой.
– Ах, как это мы любим всё валить на других, то есть так любим, так любим! Она массовичка, а ты научный работник, – прикрикнул он вдруг, – ты ей напишешь, а она твое писание до масс будет доводить, понял? Ну ладно, ты посиди, пожалуйста, одну минуточку тихо. Тут мне одну такую бумажку прислали… – Он вздохнул и покачал головой. – Кто там их только придумывает, не знаю. Сидит какая-нибудь штучка в перманенте и пишет, пишет. Сядь, пожалуйста, не ходи.
Было накурено и жарко. Я подошел к окну и распахнул его настежь, прямо в сирень. Потом взял графин и полил цветы на подоконнике, попробовал включить вентилятор – он не работал. Тогда я вспомнил, что он не работал и вчера, и позавчера, и об этом все говорили и никто ничего не делал, снял телефонную трубку и задумался, вспоминая номер.
– Нет, ты сядь! Сядь! – повторил директор. – В глазах мельтешит! Ну что, в отделе есть что нового?
Я усмехнулся. Что у меня могло быть нового? Да ровно ничего – черепки и камни. Вся “древнейшая история Казахстана” в старой экспозиции умещалась на одной стенке, от окна до окна. Три щита – одна витрина. Щиты были обычные наши щиты – фанера, обтянутая кумачом. На первом щите – зуб мамонта, похожий на окаменевшую губку, а под ним несколько кривых осколков (каменный век); на другом – узкий, как только-только что народившийся месяц, бронзовый серп и круглое зеркало на длинной ручке, кольца от уздечки да три ряда голубых и зеленых бус; на третьем – темно-синие изразцы, содранные московской комплексной экспедицией с какого-то знаменитого мавзолея, да склеенная из осколков белая миска с верной свастикой (феодализм). Витрина же была и того проще: в ней помещался вырубленный кусок могилы – горшочек с просом да кости, собачьи и человечьи. Их открыла и доставила нам лет пять тому назад сотрудница комплексной экспедиции. Сосуд был обгоревший, кривобокий, треснутый, с одной стороны совсем черный, с другой – кирпично-красный, ну, одним словом, такой, какой не жалко было сунуть даже и покойнику в могилу. Погребен в могиле был старик, и, наверно, очень дряхлый, скрипучий старик с ревматическими пальцами и съеденными зубами. И пес около его ног тоже был желтозубый и старый. Больше в могиле не нашли ничего – ни ножа, ни стрел, ни бус.
Но вот эта нищета и является, говорила москвичка, самым ценным в погребении. Курганы вождей, могильные насыпи царей и ханов, погребальные холмы над знаменитыми воинами, убеждала она нас, хорошо известны науке и давно изучены. А эта бедная, заброшенная степная могилка отлично отражает рядовой быт кочевников VI века.
Горшок нравился и мне, но по совсем иным основаниям. Я смотрел на него и думал: ну что ж, горшок как горшок, таких сейчас сколько угодно у деревенских стариков. Сколько раз, наверно, со зла толкали его деду под нос, пнув по дороге его никчемного пса: “Пшел, окаянный! Что лезешь под ноги!” И вот дед умер, пса зарезали, горшок разбили (целый в могилу не кладут), и все это через тысячелетия утратило свое настоящее человеческое значение и стало научной ценностью и памятником. И не сохранилось в этом памятнике ни старости, ни бедности, ни человечества. Осталось одно: “Усуньское погребение VI века” – полутораметровый ящик под стеклом.
О том, какое значение для науки имеет это погребение, очень бойко рассказывала посетителям экскурсоводка моего отдела – молодая разбитная девчонка со звонким голосом и крутым хохолком цвета свежей сосновой стружки: “Подойдите, товарищи, поближе. Так! Всем видно? Всем! Отлично! Итак, переходим к древнейшей истории нашей республики. В этой витрине (девушка, отойдите так, чтобы и всем было видно!) вы видите погребальный инвентарь усуней VI века. Обратим внимание на те предметы, что находятся в могиле… Ну, прежде всего горшок. В нем находилось просо”. И о просе: “А просо, товарищи, одна из древнейших земледельческих культур мира”. Затем о собаке: “Около ног старика, как будто охраняя его, лежат кости собаки. Это не случайно, товарищи. Собака вывела человека в люди”. И пошла, и пошла, и пошла… Об усунях, о саках, еще о чем-то. Голос у девчонки звонкий, вид восторженный, она машет руками, улыбается, поворачивается к посетителям, и вот уже побежал шепоток по рядам, ближние подвигаются еще ближе, дальние приподнимаются на цыпочках и стараются заглянуть в стеклянный ящик с серыми костями и красным черепком. Такая древность! Такая ценность! Такая редкость!
Так продолжалось с месяц, а потом экскурсоводку забрали в отдел реконструкции сельского хозяйства – и около моих щитов стало сразу пусто и скучно. В конце концов туда даже перестали сажать дежурную – перевели вниз, к семиреченским тиграм, а то у одного, самого страшного, обрезали усы. Попробовала было пойти к моим щитам заведующая культурно-массовым сектором, но с ней сразу же вышел грех. Кто-то из экскурсантов вдруг спросил: “А какой урожай проса снимали с га древние усуни в VI веке?” Вопрос был не предусмотренный инструкцией, заведующая смешалась, вспомнила мои рассказы про мифическую египетскую пшеницу, которая якобы дает сам-сто, да и ляпнула: “Сто”, а потом перепугалась еще больше и пояснила: “И отсюда выражение «сторицей»”. Скандал мог получиться грандиозный, с оргвыводами, объяснительными записками и прочими неприятностями. Дело-то в том, что как раз в это время знаменитый Чаганак Берсиев снял самый большой урожай проса в мире, и урожай этот, конечно, далеко-далеко не был сам-сто. Получилось, как тогда любили говорить, опошление подвига знатного просовода или и того хуже – клевета на советскую действительность. Заведующая, сообразив все, после экскурсии, полумертвая от страха, влетела в кабинет директора, рухнула в кресло и заплакала, забилась, захлюпала, закричала.
– Это всё он, он, он! – орала она. – Все этот ваш чертов хранитель! Я знаю, он нарочно под руку рассказывает про египетскую пшеницу. Зачем он рассказывает? Что, у нас в Советском Союзе своей пшеницы нет? Но пусть он не думает, что это ему пройдет. Я знаю, куда пойти!
Пойти она никуда не пошла (успокоили, дали воды, высморкали и не пустили), но возненавидела меня с тех пор люто. После того как у меня не стало экскурсовода, я тихо сидел наверху и инвентаризировал. Но скоро и этому должен был прийти конец: кончались инвентарные карточки. И сейчас, сидя против директора и глядя, как он быстро пишет что-то, видимо, очень решительное, я сказал:
– Работать мне уже не над чем.
Он поднял голову и недоверчиво взглянул на меня.
– Да ну, неужели правда все кончил? Вот молодец! А то говорят, забрался наш хранитель на хоры, и что там делает – никто не знает, наверно, водку со столяром хлещет.
Водку со столяром мы, верно, “хлестали”, но только не в музее, а по холодку в парке, на травке под сиренями.
– Что ж, – ответил я, – не будет карточек, верно, придется водку хлестать, только вот не по сезону она.
Директор задумчиво поглядел в окно.
– Да, жарища, черт ее! В тени сорок! И как ее дед лопает, не понимаю. Я вот сейчас в рот взять не могу, а он выльет пол-литра в кружку от бачка, крутанет – и все одним духом до дна. И не закусывает, собака. Понюхает корочку – и всё. А еще на задышку жалуется. Какая там у него задышка! Его еще лет на сто хватит. Это, брат, не мы с тобой!
Мы оба немного посмеялись.
– Что ж, старых верненских кровей мужичок, – сказал я, – он ее в этом соборе еще лет тридцать тому назад с попами хлестал. Бегал, рассказывает, на Пугасов мост за смирновской очищенной.
– Как ты сказал? Смирновской? – переспросил директор и остановился, прислушался. – Да, да, смирновская, смирновская! Верно, верно, была такая водка – помню! Шустовский коньяк, смирновская водка, папиросы “Зефир”. – Он посидел, подумал, поулыбался чему-то своему и вдруг сказал: – Ну, с этим дедом ладно, пусть… А вот другой дед на тебя в обиде. – Он кивнул головой на тетрадку. – И лодку не взял, и не с полным вниманием отнесся к его плану. Что ты ему насчет древнего горшка сказал? Сказал, что не надо, не поедем за ним?
Я пожал плечами.
– Наоборот, сказал, что надо и обязательно поедем.
– Да? – переспросил он. – Ну и правильно, поезжай, бери горшок и привози к себе. И не тяни ты, Христа ради, с этим, не тяни… Что тут тянуть? Раз вещь древняя, то рассуждать нечего, мы же музей.
– Это конечно.
– Ну, а раз конечно, то и делай как надо! А то вон твоя благожелательница уже ходит с раздутым горлом. “Ничем себя наш ученый утруждать не желает, даже поехать взять музейную ценность и то ему лень”. Чувствуешь змею? А язычок-то ей не привяжешь. Нет, ты поезжай, поезжай, возьми этот горшок.
Он говорил и как бы извинялся передо мной, и я отлично понимал его. Никакого смысла в этих горшках он тоже не видел, но раз мы музей, а горшок древний, то давай его сюда. Таков приказ, не подлежащий обсуждению. А директор полжизни провел в армии, в музей попал по какому-то непостижимому стечению обстоятельств (таких непостижимостей много появилось в эти годы) и поэтому научную дисциплину тоже понимал по-военному. Раз положено, так о чем же тут и говорить! Музей… И все-таки в моем отделе он чувствовал себя всегда несколько неловко, совсем не так, как, например, в отделе хлопководства. Там всё яснее ясного. Вот экспонат, вот диаграмма, вот схема производственного процесса, вот портрет Вождя и над ним крупно: “Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей”. Все понятно и ясно. У меня же ни черта не поймешь: каждая вещь имеет не свою обычную ценность, а какую-то особую, так называемую научную, и законы ее никак не уловишь.
Вот, например, ящики на чердаке. В них черепки; одни черепки обливные, то есть чудесные, блестящие, разноцветные, все в каких-то павлиньих и змеиных переливах; другие – просто-напросто осколки горшка. А ценность у тех и других одинакова. На каждом свой шифр, например: “Тр. 35. Б. Р. 3. С. 4. Б.”, а означает это – “Тараз. Раскопки 35-го года. Баня. Раскоп 3-й. Слой 4-й. Роскопку вел Бернштам”.
Когда я объяснил это директору, он даже руки потер от удовольствия. Так ему понравилось то, что у каждого черепка есть своя формула. И потому ко всему, что я ему показал, директор относился покорно и уважительно, но с каким-то веселым недоумением. Повторяю же, он был военным человеком.
Дел у директора была масса и без меня. Все в музее осыпалось, рушилось, протекало, валялось без призора. Никто не знал, что у нас есть, чего нет и что нам надо еще. Целый день директор мотался по комиссиям, подкомиссиям, наркоматам, главкам и в кабинет возвращался только под вечер, когда спина на гимнастерке делалась у него черной. Человек он был энергичный, хваткий, даже горластый, умел выжимать и уговаривать. Но все это относилось к армейским делам. В музее же у него постоянно что-то не ладилось. То и дело он попадал впросак, писал не то, что нужно, а на самые простые вопросы ответить не мог, просил денег на то, на что не следовало просить, ссылался на то, на что ссылаться не полагается. Дело осложнило еще и то, что в свое время он кое-кого прижал, и те поэтому пакостили ему с истинным удовольствием.
Однажды, зайдя к нему в кабинет, я застал его на диване с мокрым полотенцем на лице. Именно на лице, а не на голове. Из-под мокрого комка высовывался один выбритый до синевы подбородок. Полотенце было тяжелое и невыжатое, вода текла ему прямо на распахнутую грудь, на ломающийся от свежести и белизны воротничок. Я притворил дверь и окликнул его. Он не пошевельнулся. Я поднял его руку. Рука была тяжелая, горячая, но совершенно мертвая. Я положил ее ему на грудь, подошел к телефону и снял трубку, но номер назвать не успел. Он вдруг сбросил полотенце (оно сочно шмякнулось о пол) и сказал: “Не надо. Это голова болит”. И сказал о голове так, как говорят: “Не надо, это рак”. Боль на директора налетала внезапно. Он сидел за столом и писал или разговаривал с кем-то – и вдруг вздрагивал, бледнел, у него отвисала челюсть, он с усилием глотал что-то, зеленел все больше и больше и вдруг очень ровно, опираясь руками о стол, поднимался с места и плавно выходил из кабинета. А потом лежал на диване, плотно закрыв глаза, его тошнило.
И все-таки при всем том он не забывал меня. Раз в неделю, какие бы дела у него ни были, он вдруг вспоминал о том, что наверху, где-то чуть ли не на колокольне, сидит человек, который не то водку там пьет, не то карточки пишет, и, смешливо качая головой и подсмеиваясь, поднимался ко мне.
– Ну, как живем, что нового, хранитель? – спрашивал он.
Новыми были кости, черепки, бронза, которые я то стаскивал к себе с чердака, то опять, занеся в карточки, уносил на чердак и в подвалы. Директор ходил среди моих камней и каменных баб, кряжистый, плотный комбриг в отставке (скажем прямо, в какой-то очень странной отставке), в белой летней гимнастерке, с армейским ремнем, пряжкой-звездой, в брюках галифе и таких надраенных сапогах, что с них все время спархивали солнечные зайчики (только армейцы так умеют чистить сапоги), и улыбался всему, что видел. Вопросов он сначала не задавал совсем, а потом понемногу стал задавать их все больше и больше и, наконец, столько, что мне уже было нечего отвечать. Он много читал, и память у него была отличная, военная. Он ничего ни с чем не смешивал и ничего не путал. И поэтому, когда он брал в руки гладко отшлифованный, серый или черно-синий кусок кремня и коротко говорил: “Неолит”, – спорить не приходилось. Это был неолит. Точно так же, когда я ему однажды показал разукрашенный сосуд, где все гребни, круги, пучки тончайших пунктирных излучений чередовались в какой-то дикой гармонии взлета и падения, в круговом вихре уравновешенных и в то же время взорванных и взметенных линий, он сказал: “Вот только-то сегодня обнаружил в отделе хранения, смотрите, какой чудный андроновский сосуд”, – образованно воскликнул: “А-а-а! Из Ачинска”, – и прошел мимо.
Его уже все труднее и труднее было удивить чем-нибудь.
И все-таки раз я его не только удивил, но даже, пожалуй, потряс. Я показал ему цветы. В маленькой фанерной коробочке со стеклянной крышкой (в таких продавали чернослив) на вате, уже совсем серой, лежали желтые, белые, кремовые, почти черные свернувшиеся лепестки. Каждый с ноготь. Были они сморщенные, ветхие, легчайшие и какие-то очень-очень древние. И чувствовалась в них великая боль увядания. Это была насильственная, грубая смерть цветка. Коробка была наглухо запечатана и лежала в дубовом ящике. Я нашел этот ящик на чердаке среди волчьих и медвежьих черепов.
– Что же это такое? – спросил директор в растерянности.
Я не ответил и сунул коробочку ему в руки. Он бережно, почти робко взял этот крошечный стеклянный гробик с привешенными к нему огромными черными, как пломба, печатями, положил на ладонь и стал рассматривать.
– Сколько лет всему этому? – спросил он тихо.
Я ответил, что не меньше трех тысяч.
– Что? Три?.. – воскликнул он в ужасе. – Что же это такое?
Я ответил, что это белая акация. Когда-то целую ветвь ее сорвали с дерева и возложили на грудь умершего фараона Аменхотепа II. На лбу его, уже пустом, как горшок, лежал венок из лотосов, голубых и белых, а на груди эта акация. Тело этого фараона, сухое, желтое и звонкое, как чурка, отыскал в 1899 году французский археолог Поре в так называемой Долине царей, что около Фив, и снял с груди фараона цветы и еще какой-то амулет. Все это он поднес мадемуазель Ольге Козловой в день ее ангела, 5 декабря. Обо всем этом было написано тушью по-французски на обороте ящика.
– А амулет где? – спросил директор.
– А амулета не было, были только эти цветы. Три тысячи лет тому назад их кто-то положил на грудь покойника – буйного, сильного человека, искусного воина, лук которого никто не мог натянуть, кроме него самого, – так хвастался он даже в своей надгробной надписи. Три тысячи лет они пролежали у него на груди.
– Отдай, отдай в отдел хранения, – сказал директор, – пусть запрут в шкаф вместе с фарфором. Ведь три тысячи лет этой белой акации.
Белые акации цвели в ту пору во всем городе. Это были высокие, гибко изогнутые деревья. От них исходил сладкий, пряный запах, и было под ними всегда темновато. К ним прилетали большие, таинственные, мохнатые сумерницы. Над ними, там, где уж не было ветвей и сияло солнце да небо, кружились золотистые бронзовки. Верно, все так же было и в Египте в тот день, когда кто-то сорвал с дерева эту ветку и возложил на грудь фараона.
А кем он был, этот человек? Жрецом, женой, любимым рабом? Рабыней? Кто же это знает? Никто ничего не может знать про эту смешную малость, про засохшие цветы, найденные в старинной книге или на груди покойника.
– Так ты съезди, возьми горшок, – повторил директор и встал из-за стола. – Возьми! “Возьми себе шубу, да не было б шуму”, как говорит Александр Сергеевич, а то видишь, что он пишет? – Он достал из папки две тетрадные страницы и подал мне. – Вот тут, где отчеркнуто, читай.
Хранитель этого отдела, – прочел я, – человек еще молодой, но гонор у него непомерный. Все-то он знает лучше всех. А как проговоришь с ним десяток минут – видишь, что он полный Профан и Невежда (оба слова с большой буквы). И вот думаешь: да как же можно поручить изучение Родного Нашего Края (все с большой буквы) человеку, у которого нет к нему интереса?! Я очень прошу вас, уважаемый товарищ нарком, посмотреть на эти дела с серьезной точки зрения. Кроме того…
Я бросил письмо на стол.
– Ты на почерк-то, на почерк-то обратил внимание? – сказал директор.
– Почерк потрясающий, – ответил я. – Прямо высший класс! И в остальном он тоже во всем прав. Никакого интереса я к нему не имею и говорить с ним тоже не буду. Начни – и дня не хватит. А он, видать, жук! Вот монету античную откопал где-то в огороде да принес в институт, так ведь какой шум там затеяли: римский легион в Алма-Ате! Дворец проконсула Санабара на месте колхоза “Горный гигант”. Золотые орлы, императорские могилы. Ведь это все с большого похмелья и то не выдумаешь. И ничего – сошло. Здесь напечатали, в Москве промолчали. Кому охота связываться с психами! Так вот он теперь к нам пришел, экспедицию просит туда послать! Гоните вы его в шею!
– Да, просит, просит, – задумчиво согласился директор. – Даже докладную подал. Ну, экспедицию не экспедицию, конечно, а эти… как они у вас там называются? Разведочные раскопки, что ли? Ну, разведочные раскопки сделать можно бы было.
Я хотел огрызнуться, но сдержался и только спросил: какой же смысл он находит в этих разведочных раскопках? Поехать-то, конечно, можно – лето, погода отличная, яблоки поспели, карточки у меня все равно кончились, так почему же не поехать, но смысл-то какой во всем этом? Ну, привезем еще десяток корчаг да черепков, а делать что с ними будем? Их у нас и так с десяток ящиков на чердаке, и все из одного и того же места. Так и простоят, пока кто-нибудь не догадается снести их в мусорную яму.
– Дело не в черепках, – сказал директор. – Да ты что, с ним вовсе не разговаривал? На этом месте под землей находится древнейший город Алма-Ата, вот что он говорит. Есть, есть тут город, это и я слышал. Так вот он толкует, что нашел его. Сколько, мол, ни искали, никто найти не мог, а он на-шел. Видишь, как он повернул.
Я усмехнулся.
Как все-таки легко завести директора, когда начнешь говорить ему о непонятных вещах! Но я ничего не сказал ему. Я только спросил, кого же он думает послать на эти разведочные раскопки. Я бросить отдел не могу, у меня на носу юбилейная выставка Хлудова, целый месяц придется копаться в запасниках музея, отыскивать его картины и рисунки и составлять каталог. Или он думает, что выставку можно отложить? Если отложить, то тогда другое дело, я поеду, поживу с недельку-другую на чистом воздухе.
– Нет-нет, ни в коем случае, – встревожился директор, – занимайся, занимайся, пожалуйста, Хлудовым, это наше первоочередное дело.
Мы помолчали.
– Вот если б еще хоть был один работник, – сказал я вскользь. – Да вы ведь все только обещаете, и до вас у меня был такой же разговор со старым директором, и она мне тоже обещала…
– И она тоже обещала, – горько усмехнулся директор и покачал головой. – Она обещала, и я обещаю, а толку все нет. Да? Голубчик, да откуда же я тебе его возьму, работника-то? Наркомпрос никого не дает, а так, с улицы взять, тоже боязно. Вот у нас сколько всякого добра, и ничего не учтено и не записано, все так и валяется навалом. Я третью докладную пишу, требую категорически.
– И что же?
Он пожал плечами.
– Ну вот, когда дадут, тогда и поедем в горы, – сказал я.
Он вздохнул.
– Да, видно, что уже так. – Он встал, прошелся по комнате. – Видно, так и придется.
Он покачал головой и засмеялся.
– А бедовый тебе попался старикашка, прямо-таки фырчит от злости. Говорит, а внутри его что-то рычит. А ты занимайся Хлудовым, занимайся. Это сейчас наше первоочередное дело… Уже в газетах о выставке объявлено. Беда только, что старик кляузный, сейчас же жаловаться побежит. Ну да уж ладно, пусть бежит. Хлудов для нас сейчас – это самое главное.
На другой день утром я застал в своем кабинете деда-столяра. Дед сидел за пивным столиком и, далеко отставив локоть, что-то старательно выписывал химическим карандашом. Увидев меня, он быстро спрятал лист в карман.
– А я думал, что ты опять не придешь, – сказал он равнодушно.
– Это почему же я не приду? – спросил я, проходя и открывая окно. – Накурил ты здесь.
– Нет, я сейчас много курить не могу, – ответил дед печально. – Сейчас у меня задышка и грудь ломит. Скажи, что это вот тут, под лопатками, колет? Вот тут, тут, смотри.
Дед опять похозяйничал: привел монтера Петьку, и они дулись в козла. Деревянный ящичек с костями торчал из лошадиного черепа (Усуньское погребение), и я сразу его заметил, как только вошел. И пили они тут, конечно. Вчера Клара впопыхах не заперла шкаф с запасными спиртовыми препаратами, а когда спохватилась, то недосчиталась тигрового ужа.
– Уж не дед ли выпил? – сказала она мне.
– Ну вы скажете! – ответил я и отошел поскорее от греха подальше.
– Смотри, дед, – сказал я, – ты такое хлебнешь, что ослепнешь. У Клары гремучая змея пропала, знаешь ты про это?
– Гремучая? – Дед взглянул на меня с неизмеримым превосходством. – Какой же дурак гремучую тащит! Ну взял бы там лягушку или ужа. А то выдумал что украсть – гремучую. Нет, ты вот скажи, отчего у меня задышка. Иногда будто ничего, а иногда так подопрет, вот тут, – он ткнул себя пальцем под лопатку, – ой-ой-ой!
– Ты у директора спроси, – посоветовал я. – Очень он твоей задышкой интересуется. Вчера про нее только и разговор был.
Я прошел к шкафу, отпер его, вынул ящик с карточками, поставил его на стол, придвинул чернила и приготовился работать. Дед сидел, смотрел на меня.
– Ну-ну, – сказал он через минуту. – Что же ты замолчал, рассказывай дальше: разговор был?.. Ну…
– Что ж дальше? – спросил я. – Лопнет, говорит, дед от водки, в самую жару ее дует – вот и весь разговор.
Лицо у деда стало нехорошее – усиленно спокойное.
– Да нет, не весь, – сказал он скрипучим голосом, – ты скрываешь.
Я положил ручку и посмотрел на него внимательно.
– Да говори, говори, – крикнул дед, – что ты жмешься, как… Кого вы там наняли?
– Ну совсем от водки помешался, – сказал я. – Откуда что берет, черт его знает.
– А почему мне директор приказал освободить один верстак в столярке? Мол, другой сюда придет по выходным работать. Что же ты скрываешь-то? Ты все говори.
– Ну и какая тебе беда, пусть работает, выпиливает.
Я снова взял ручку.
Дед недоверчиво покосился на меня, но я сделал вид, что не замечаю, и продолжал писать. Писал и чувствовал, что огромная льдина свалилась с сердца деда и он сразу просветлел и обмяк.
“Глупый ты, дед, – подумал я, – ах, какой же ты дурак! Да разве мы когда-нибудь с тобой расстанемся, старый ты пьяница? Как же этот собор-то будет жить без тебя? А директор – жук! Тоже хорош! Дразнит старика. Да разве два медведя в одной берлоге уживутся?”
– Ничего, дед, держись! Три крепче к носу, мы тебя в обиду не дадим! – крикнул я бодро.
Старик счастливо посмотрел на меня и быстро заворчал:
– Вы уж не отдадите… Вы не отдадите… На вас только понадейся! Знаешь, как я на вас надеюсь? Вот как!
А сам улыбался и улыбался, а потом что-то вспомнил и крикнул:
– Да ведь к тебе красавица приходила!
– Какая еще красавица? – огрызнулся я.
– А бог тебя знает, какая. К тебе, а не ко мне приходила. Если ко мне красавица приходит, так я знаю, какая она. Старое поколение, знаешь, оно какое было…
И он рассказал, какое было старое поколение.
“Ожил дед”, – подумал я и сказал:
– Ладно, дед, а то прискочит сейчас Клара насчет этого ужа…
– Да она с Кларой и говорила, – сказал дед счастливо, – ей-богу, ей-богу… Ничего ей не открыла, ничего! Та и так, и сяк, и “передать, может быть, что-нибудь”, “дайте телефон, он позвонит” – та ничего! Вся покраснела, пошла и говорит: “Звонят тут ему всякие!”
И дед хмыкнул.
Он был заводила и озорник, этот семидесятилетний пьяница с толстым сизым носом. Пил он как дьявол, столярное дело знал ангельски, любил поозорничать, посмеяться, посплетничать, а может – кто же его знает? – еще и вправду погуливал.
– Так, значит, не приходила, а звонила, – сказал я. – Так почему ж ты знаешь, что она красавица?
– Знаю, – хмыкнул дед, – я раз сам к телефону подходил. Знаешь, какой голосочек – незабудочка! Вот у барышни Фольбаум был такой голосок. “Скажите, когда я могу увидеть…” – и тебя по всему артикулу. “Можете, говорю, увидеть сегодня, его Совнарком вызвал, сейчас ожидаем обратно”. – “Ах, большое, большое вам мерси”. – “Пожалуйста, мы всегда хорошим барышням служить рады”. Так что ты в трусах сегодня не сиди, а то она придет, а ты, как Ванька малый, без брюк, довольно стыдно будет. (Был у него такой какой-то Ванька малый – предел человеческого падения, серости и дурости. Меня он с ним сравнивал еще редко и то больше за глаза, зато по отношению к остальным этот несчастный Ванька так и не слезал у него с языка.)
– Ну, ладно, дед, – сказал я, – иди-иди, а то, верно, она придет, а мы тут с тобой…
Пришла она только на следующий день. Я сидел и писал карточки и вдруг поднял голову и увидел привидение! Да, да, это первое, что пришло мне в голову, – привидение! Так она была страшна и так бесшумно появилась на пороге.
– В чем дело? – закричал я, вскакивая (я был все-таки в одних трусиках, иначе здесь было невозможно работать). – Музей закрыт!
Она чуть улыбнулась и сказала:
– Мне нужны вы. Я похожу по музею, одевайтесь! (Голос был, правда, мелодичный и молодой.)
Через пять минут она пришла снова и представилась: прозектор медицинского института, вдова профессора Ван дер Белен.
– У меня к вам дело.
– Садитесь, пожалуйста, – пролепетал я, а сам сесть не смог да так и стоял до конца разговора.
Она давила меня всем – своей осанкой, желтым верблюжьим лицом, скулами, несгибаемым бурым пальто, словно выкроенным из жести, черным пузатым портфелем, который она сейчас же положила на стол.
– Вот что я хочу вас спросить, – сказала она, чуть кривя тонкие, высокомерные губы. – Нет ли у вас в музее хорошего скульптора?
Я сказал, что и никакого-то нет, есть только мастер по муляжам.
– Муляж-жи? – переспросила она. – Нет, это мне, конечно, не подходит. Дело в том, что мне надо вылепить бюст… – Она достала из портфеля застекленный портрет и поставила на стол. – Вот, смотрите!
Я посмотрел.
– Это что, портрет? – спросил я.
– Да, – ответила она, – это портрет! Это портрет моего любимого человека, доктора Блиндермана. Я его сама сожгла, теперь я хочу вылепить его бюст.
Я молчал и ошалело смотрел на нее.
– Ну, конечно, он сперва заболел, умер, а потом я его сожгла, – объяснила она, улыбаясь. – Вы так на меня смотрите, что…
– Да нет, нет, – сказал я поспешно, – ничего особенного. Только, может быть, вы мне как-нибудь объясните…
– А все очень просто, – сказала она и начала рассказывать.
Действительно, история оказалась сумасшедшей, но не очень сложной.
Любимый человек Ван дер Белен был хирургом и работал в городской больнице. За что-то лет пять тому назад он попал в ссылку и уже кончал ее. Дома его ждали жена и дети, а он вдруг рехнулся и сошелся с этой страшной, костлявой, как смерть, старухой. Ван дер Белен была мрачна, юмористична, деятельна и ничего на свете не боялась. Маленький доктор Блиндерман (он был, верно, крошечный, я видел его фотографии – чижик-пыжик в пиджаке) боялся всего и паче всего повторного ареста. Так они жили, работали, встречались. Потом доктор Блиндерман заболел и слег. Осень 37-го года в Алма-Ате была очень плохой – дождливой, холодной, гриппозной. И Блиндерман схватил воспаление легких. Болезнь, как сказала мне Ван дер Белен, сразу приняла галопирующую форму. Доктор Блиндерман бредил, вскакивал, кричал, чтоб его спрятали, что за ним пришли, а над ним сидела страшная старуха Ван дер Белен, меняла ему влажную повязку на голове, поила чаем и уговаривала. Никого в комнате больше не было, никто не интересовался доктором Блиндерманом. Через неделю он умер. Старуха сожгла его в анатомической печи и собрала пепел в жестянку с надписью “Сахар”. Затем достала где-то цветочную рассаду, высадила ее на жестяной поднос, и с тех пор доктор Блиндерман всегда стоял среди цветов. Так прошло несколько месяцев, старуха все продолжала думать и выдумывать. И додумалась. Летом 1938 года она стала посещать квартиры кое-каких алма-атинских художников. Она просила хозяина уделить ей пять минут, садилась, клала портфель на колени, вынимала банку и рассказывала всю историю жизни и смерти доктора Блиндермана. Художники пугались, шарахались, кричали, что она взбесилась, чтоб она немедленно катилась к чертовой матери, что на нее сейчас спустят собак, милицию вызовут. Но смутить Ван дер Белен, старую смолянку, урожденную грузинскую княжну, было просто невозможно. Она засовывала банку опять в портфель, ласково просила извинения и уходила. Выдержка у нее бы-ла железная, а кроме того, она верила, что скульптор обязательно найдется. Деньги у нее на это были. Она целых полгода питалась молоком и хлебом и копила. И действительно, скульптор нашелся. Это был какой-то безумный изобретатель-химик и художник одновременно. Он сразу же заболел ее мыслью – слепить бюст неизвестного ссыльного из его же пепла. Он позвонил ей в прозекторскую и сказал, что он согласен. “Хорошо, – ответила старуха, – завтра я принесу вам его”. А ночью к Ван дер Белен постучались два румяных паренька, третий – управдом и предъявили ордер на арест. И первое, что спросили они, было: “А где же доктор Блиндерман?!” – “А вон, в резеде”, – кивнул управдом на подоконник. И тогда один из пареньков смеющейся походкой (все трое были в отличном настроении) подошел, взял в руки кругленького застекленного Блиндермана и сказал весело: “Вы все-таки не ушли от нас, доктор Блиндерман!”
Полностью конец этой невероятной истории я узнал только через несколько лет. Но все основные элементы ее – смерть доктора Блиндермана, портрет, бюст, арест – я знал тогда же и рассказал директору. Он выслушал меня, не перебивая и ничего не спрашивая. И только когда я кончил, бросил ручку, которой играл, и спросил, правда ли это. Я сказал, что в основном да.
– Нехорошее дело, – вздохнул он, – очень, очень нехорошее.
– Жалко старуху, – сказал я.
Он удивленно поднял голову.
– Старуху? Эту ведьму-то? Вот уж кого ни капельки не жалко, старая психопатка и пакостница. Я бы такую дрянь дальше зеленого ларька не пускал, а ее, видишь ли, в трупарню допустили, бол-ва-ны!
– Да, – сказал я, – это вы правильно. Шекспировская ведьма! Она и внешне похожа – посмотрите!
И я открыл том Шекспира, лежавший у меня на столе, и показал ему рисунок. Он долго смотрел, а потом как-то смущенно, совершенно иным тоном сказал:
– Вот Шекспир! Я ведь его всего не читал, брат. Только что на сцене видел. А мне “Макбета” хочется прочесть. Есть он тут? – И он ушел, унося книгу.
А часа через два он снова зашел ко мне, уже поутихший, спокойный, и мирно спросил, кто у нас занимается вводным отделом.
Я засмеялся. У нас, собственно говоря, и вводного отдела-то не было, был просто вестибюль с фигурой мамонта (его намалевали прямо на стене в натуральную величину). Витрина с куском металлического метеорита, который очень быстро украли (мне и до сих пор, по совести говоря, жалко его, преотличный был метеорит, килограмма на три, отшлифованный с одной стороны до зеркального блеска, с другой – сохранивший всю свою первозданность – бугристый, черный, лобастый, опаленный огнем и холодом космического пространства). Висело еще несколько красочных таблиц – происхождение Вселенной: везде взрывы, букеты желтого пламени, мрак, схема Канта – Лапласа, схема Чемберлена – Мультона, схема Джинса (о Фесенкове и Шмидте тогда еще никто не слышал).
Вот, пожалуй, и весь отдел. Да, была еще одна старая книга XVIII века “О многочисленности миров” с великолепным форзацем (гравюра на меди), изображающим коперниковскую систему мира. Я приобрел эту древность в букинистическом магазине и подарил заведующей отделом хранения. Тогда этот отдел только что оформлялся.
Вот с этой книги и начался разговор о вводном отделе.
Я ответил ему, что отдел этот растет сам по себе; вот найдет, положим, Клара у себя альбом “История религии”, принесет его нам – мы и выдерем несколько таблиц, застеклим и повесим; принесут нам школьники кусок глинистого сланца с отпечатком древней рыбы – мы его приспособим туда же. А вот недавно попался нам зуб ископаемой лошади…
– Да, да, – сказал директор задумчиво, – понятно, листки из альбома, зуб… Самотек, халтура!.. – И вдруг спросил: – А кто поместил среди этих таблиц и зубов книгу о системе мира, вышедшую двести лет тому назад?
Я ответил, что я.
Он полминуты молча смотрел на меня, а потом вдруг хлопнул по плечу.
– Ну, молодец, – сказал он как-то даже растроганно. – Есть вкус и выдумка… Есть! В нашей работе это главное. Вот что значит настоящая вещь. Повесь ты не книгу, а фотографию – и все пропало, пойдут мимо и не взглянут. Ты знаешь, ведь эту самую книжку святой Синод постановил уничтожить. Един Бог и един мир, и никаких тебе множеств. Вот и весь тут сказ. – Он сел. – Напиши-ка об этом текстовочку, я дам литературу, хорошо?
Я кивнул головой.
– И так, знаешь, – он мужественно потряс кулаком, – покрепче, покрепче, вот как мы читаем об этом в красноармейских аудиториях: “Ненавидя и страшась человеческой мысли, мракобесы в черных рясах решили…” Понимаешь? Напишешь?
Я ответил:
– Если сумею, то напишу.
– Сумеешь, – великодушно успокоил он меня. – Ты сумеешь! Это твоя статья в “Казправде” о республиканской библиотеке? Что там находится первое издание Галилея? Твоя?
Я ответил, что написали эту статью мы вместе с одним из сотрудников библиотеки, Корниловым. Он мне показал эту книгу; кажется, она даже еще не заинвентаризована.
– Ну? – Глаза директора загорелись охотничьим огнем. В нем сразу проснулся пропагандист-агитатор, член ОВБ (Общества воинствующих безбожников). – Даже еще не заинвентаризована? Слушай, а как бы нам ее сюда, в музей, на витрину, а? И надпись над обеими книжками: “Борьба церкви против разума – книги, запрещенные инквизицией православной и католической”. Это в том же месте, где языческие Христы.
“Христы… Вот напасть-то, не забыл, значит…” – подумал я и сказал:
– Не отдадут нам эту книжку. Там одна такая тетка сидит…
– Не отдаст? – посмотрел на меня директор. – Ну, это еще как сказать. Тут все дело в бумажке, как бумажку составить. Ты сам посуди, кто у них там по-латыни читает? Лежит и лежит она на полке. Не твоя статья бы, так никто о ней и не знал. Ну ладно, я об этом поговорю кое с кем. Как фамилия-то тетки? Аюпова? Аюпова, Аюпова! Встречались как будто где-то на заседании в Наркомпросе, кажется.
Продолжение этого разговора было самое неожиданное.
Через два дня директор позвал меня к себе, открыл ящик стола и вынул то самое прижизненное издание Галилея в бело-желтом переплете из свиной покоробленной кожи, которое я с таким трепетом держал в руках месяц назад.
– Что, дали сфотографировать? – спросил я.
Он довольно расхохотался.
– Сфотографировать! Придумаешь! Я для этого книг не беру, я если что беру, так насовсем. – Он хлопнул ладонью по книге. – Наша! Триста лет нас ждала, из Голландии к нам приехала. Поместим на всеобщее обозрение. И вообще надо, надо тебе заняться вводным отделом. Мы же музей! Должны воспитывать. На одних камнях далеко не уедешь, товарищ археолог!
И снова засмеявшись и снисходительно похлопав меня по плечу, он ушел. А я остался и начал о нем думать.
Как он попал к нам? Почему его не послали, скажем, инспектором в Осоавиахим или не сделали директором физкультурного института? Как вообще его можно было запрятать в музей? Надо сказать, что я и до сих пор не уяснил потаенный смысл этого назначения. Но, вернее всего, и никакого смысла не было. Просто надо было сунуть куда-то человека, вот и сунули. Сошлись мы с ним совершенно неожиданно. Оказалось, что мы интересуемся одной и той же областью, но с разных сторон. Я вплотную лет пять занимался кризисом античной мысли I века, а следовательно, зарождением христианства. А он лет двадцать как читал лекции на антирелигиозные темы, разоблачал поповские чудеса, обновлял иконы, превращал воду в кровь. Поэтому у нас нашлось много общих интересов. Лектором он был превосходным. Аудиторию чувствовал, так сказать, кожей, пряжкой своего красноармейского ремня, сбить его было невозможно. И поэтому попы его боялись по-настоящему. А к тому же опять-таки та же несокрушимая красноармейская память. Он помнил наизусть и тексты, и критику их.
Тексты знал и я, но совершенно с другой стороны, а в ряде случаев и совершенно по-иному. Поэтому мы чаще спорили, чем соглашались. Но и это было тоже хорошо. Как все антирелигиозники того времени, он вопросы понимал прямо и лобово и так же лобово отвечал на них. Чертил, например, на доске родословную Христа (все это наизусть, наизусть!) – у Матфея так, у Луки этак. Так как же, товарищи красноармейцы, на самом деле?
Для меня, понятно, все это никакого значения не имело. Я говорил ему о той вулканической почве, на которой возникло это молодое, поразительно сильное и живучее течение, о том, что, когда в начале нашей эры республика превратилась в монархию, а вождь ее – сначала в императора, а потом в Бога, для обнаженной, мятущейся человеческой мысли не осталось ничего иного, как отвернуться от такого Бога и провозгласить единственным носителем всех ценностей мира человека. Но тогда пришлось перенести царство его за пределы жизни, ибо на земле ме́ста для человека уже не оказалось. Директор все это отлично понимал, но вместе с тем это никак его не интересовало. В красноармейскую аудиторию с такими разговорами не сунешься. И конечно, он был прав. Мои ученые построения только вконец запутали дело. Попы (а их у нас появилось немало, директор задумал провести инвентаризацию музея, и ему потребовались грамотные люди; не шутка ведь – описать и занести в картотеки двести тысяч экспонатов), так вот попы, слушая меня, только поддакивали и кивали головой (“Вот как теперь, оказывается, студентов учат: очень хорошо, молодой человек, очень хорошо! Что перед этим наше семинарское образование? Да разве нас, дураков, когда-нибудь так учили? Поэтому так и получилось все, что мы дураками были!”). Директор же их клал с ходу. Они только слабо барахтались под его железными аргументами. Нужно сказать, что теперь этот тип пропагандиста-беседчика вымер почти начисто. Но мое поколение его помнит. В двадцатые годы в рабочие клубы, школы взрослых, просто библиотеки и столовки пришло целое поколение этаких-разэтаких молодых, задорных, красивых, голосистых командиров. В течение нескольких часов они начисто разделывались с Богом, попами, церковью, самогонщиками, кулаками, спекулянтами и кончали свою лекцию показом какой-нибудь картины, такой же залихватской, отчаянной и веселой, как и они сами. (Ну, например, “Комбриг Иванов” – 1924 года. Комбриг пленяет своей громоносной антирелигиозной лекцией в клубе дочку попа и увозит ее на кавалерийском седле. И вот ведь великая культура гражданского стиха двадцатых годов! Все титры в картине были написаны стихами!)
Старая интеллигенция не любила таких лекторов. Она честила их архаровцами и хулиганами, называла их лекции похабщиной – то ли дело нарком Луначарский! Но из эпохи этих людей уже не выкинуть. Они вошли в нашу жизнь так же плотно, как входили расписные агитпоезда с зелеными драконами и мускулистыми рабочими кумачового цвета, как Окна РОСТА, карикатуры Моора, красочные плакаты Маяковского.
Вот на этой красочности мы и сошлись с директором вторично. Оба мы понимали и любили художника Хлудова, выставка которого впервые открылась в залах нашего музея летом 37-го года.
Глава четвертая
Жил в городе Верном такой художник, автор многочисленных этнографических картин, кажется, по выслуге лет еще статский советник, учитель рисования верненской мужской гимназии Николай Гаврилович Хлудов[6].
В молодости он был строг и педантичен, а под старость сделался чудаковатым и смешным. Угощал гостя в половине тридцатых годов папиросами “Ю-ю”. Очень хотел получить государственный заказ, но никак не мог понять, зачем ему заключать договор с государством. Спрашивал, как можно за пять дней написать плакат метров в десять, когда он, Хлудов, и на картину в один метр тратит больше месяца. “Я вижу – все вы сошли с ума”, – сказал он скорбно и отмахнулся. (Так заказ и не состоялся.)
Судьба послала этому чудаку при редком долголетии еще и завидную плодовитость. Добрая сотня картин и этюдов до сих пор хранится в запасниках Центрального музея. Картинная галерея взять их отказалась. “Что за художник? – сказали искусствоведы. – Ни стиля, ни цвета, ни настроения. Просто бродил человек по степи да и заносил в свой альбом все, что ему попадалось на глаза, – казаха, казашку, казачат с луком, еще всякое”. Так ничего и не взяли. И когда я, готовясь к юбилейной выставке, попросил кое-кого из Союза художников показать, где и что повесить, на меня поглядели как на блажного. “Господи, да валяйте их всех подряд, – сказал мне самый известный, – из чего тут выбирать? Это же все Хлудов”. И я повесил все подряд – казаха с ковром в руках, и девушек в реке, и ребятишек с луками, и ночную грозу, и расчудесных казаков-семиреков на конях и с шашками наотмашь, и еще множество всякой всячины, и все они висели и сияли, и вокруг них всегда останавливались. Ведь это был Хлудов!
Вскоре после этого мне предложили написать о нем небольшую популярную статейку для журнала. Я ухватился за это предложение – перерыл все музейные архивы, собрал целую папку фотографий, а потом написал с великим трудом с десяток мучительно вялых страниц и бросил всё. Ничего не получилось. Не нашлось ни слов, ни образов. В редакции меня выругали, а статью через год написал другой, уже настоящий искусствовед. Один кусок из его статьи я уже цитировал. Вот еще два о мастерстве художника.
“Единственное влияние, которое испытал Хлудов, – это влияние верещагинского натурализма. Хлудов достигал временами значительных результатов, соединяя скупую, выдержанную гамму с четким рисунком”.
А рисунки эти описываются так. “Уйгурская школа” – восемь мальчиков сидят на полу во время урока по чтению Корана, позади учитель-мулла с длинной палкой-указкой; “Жатва” – семья казаха жнет пшеницу на переднем плане, одна из женщин наливает другой в чашку кумыс; “Ночная баранта” (грабеж) – горный пейзаж, ночью в грозу несколько казахов угоняют косяк лошадей; “Похищение невесты” – молодой казах переносит через реку девушку, на другом берегу поджидает его товарищ с лошадьми.
Вот и всё. Десяток раскрашенных фотографий, этнографические документы о быте казахской степи начала века – восемь мальчиков, четыре казаха, одна девушка, один мулла. Этим исчерпана жизнь художника.
Я не хочу ни оскорблять этого искусствоведа, ни тем более спорить с ним прежде всего потому, что, вероятно, в чем-то он прав, но, вероятно, также прав и я, когда говорю, что он ничегошеньки не понял в Хлудове[7]. И та моя давняя статья об этом художнике не удалась мне, конечно, только потому, что я тоже пытался что-то анализировать и обобщать, а о Хлудове надо разговаривать. И начинать статью о нем надо со слов “я люблю”. Это очень точные слова, и они сразу ставят все на свое место. Так вот – я люблю…
Я люблю Хлудова за свежесть, за радость, за полноту жизни, за красоту событий, которые он увидел и перенес на холст.
Я люблю его за солнце, которое так и бьет на меня со всех его картин. Или яснее и проще: я люблю и понимаю его так, как дети любят и понимают огромные литографии на стене, чудесные поздравительные открытки, блестящие переводные картинки, детские книги с яркими лакированными обложками. Все в них чудесно, все горит. И солнце над морем (солнце красное, море синее), и царский пурпур над золотым ложем, и наливные яблочки на серебряном блюдечке – один бок у яблочка красный, другой (с ядом) зеленый, и темные леса, и голубейшее небо, и луга нежно-лягушачьего цвета, и роскошные кочаны лилий в синем, как небо, пруду. Вот и Хлудов точно такой. Только, пожалуй, гениальный таможенник Руссо не боялся рисовать такими ясными, я бы сказал, лобовыми красками, как он. Именно красками, а не тонами – тонов у него нет, как и нет у него иных настроений, кроме радости и любования жизнью. Он заставлял луга пестреть цветами, коней подыматься на дыбы, мужчин гордо подбочениваться, красавиц распускать волосы. Он вытаскивал узорную парчу, ковры, ткани и все это вываливал грудами перед зрителем. “Смотрите, я все могу!” Рисовальщиком он был великолепным, даже не рисовальщиком, а мастером рисунка. Иногда он просто кокетничал своей техникой, тем, что он все может. Вдруг возьмет и вычеканит ни с того ни с сего на уродливом, тяжелом браслете из черного серебра старинный казахский узор или вдруг распишет кошму так, что рисунок ее сделается рельефным – прямо хочется потрогать! Или пропустит солнечный луч через воду – и вода вспыхнет и засветится. Все, что он видел, он видел с точностью призматического бинокля. А ведь в такой бинокль не уловишь ни тонов, ни переходов. Одни цвета да жесткий, четкий контур: дерево, холм, человек на холме. Нечто похожее, но только еще резче и жестче можно найти в рисунках, приложенных к научным отчетам и описаниям старинных экспедиций (все старинные естествоиспытатели отлично рисовали). Точность этих рисунков равнялась только той латыни, которой она сопровождалась. Животные в таких рисунках были видом, человек – типом или народностью. Ученый, стоящий над художником, начисто лишал его творческой свободы, но зато он учил его конкретности, точности, бережному обращению с вещью, заставлял не только изображать мир, но и разнимать его на части. Это и была наука. До души такие художники через платья, тюрбаны и побрякушки дорваться не могли, зато плоть они любили и передавали ее отлично. История несправедливо отнеслась к этим великолепным рисовальщикам, она не сохранила нам имен. А об этом стоит пожалеть. Все эти фактографы и протоколисты были романтиками и фантазерами.
Попробую пояснить это примером. Лет четыреста пятьдесят тому назад какой-то предприниматель или капитан корабля привез в славный город Нюрнберг носорога и выставил его в балагане, а художник Дюрер протискался через толпу зевак, открыл альбом и начал рисовать. Рисунок у него получился очень точный. Носорог как носорог. Можно определить все: и породу, и возраст зверя. И все-таки повторяю (я даже не полностью понимаю, как это выходит): это не только реальный носорог – это еще чудовищный и фантастический зверь “Апокалипсиса”. Его панцирь распростерт, как крылья дракона или гигантской летучей мыши. У птеродактилей, как их рисуют в фантастических романах, точно такие крылья. Ясно видны сочленения, сухие пальцы и когти, какие-то скрепки и шляпки гвоздей. Вся фигура его словно выкована в кузнице оружейника. В ней куют мечи, щиты, шлемы, нагрудники, вот выковали для украшения арсенала и этого зверя. Это то самое чудовище, о котором в книге Иова написано: “Он поворачивает хвостом, как кедром, ноги у него, как медные трубы, кости, как железные прутья”. Таким Дюрер его увидел и зарисовал. Но мы-то с детства знаем совершенно другого носорога. Это просто-напросто громоздкая, неповоротливая скотина, толстокожая и нечистоплотная, с узенькими свиными глазками и тяжелым задом. Он громоздко ворочается в загоне, сопит, фыркает, грузно шмякает по соломенной подстилке так, что летят навозные брызги. Таким мы его узнали в детстве по зоопаркам и учебникам зоологии, и иным нам его уже не увидеть, даже после Дюрера.
Но посмотрите на его рисунок – и вы поймете, что приходило в голову мастера, когда он впервые открывал свой альбом перед клеткой зверя.
А раскрашенные гравюры Бюффона! Это был преудивительный человек, этот Бюффон – натуралист, путешественник, придворный остроумец, гениальный стилист и кавалер многих орденов. И это был еще человек, который вдруг захотел принять на себя обязанность Ноя. Он проинвентаризовал все живое – всех чистых и нечистых, и сделал это со всем блеском в томах, переплетенных в бурую кожу и залитых золотом.
Конечно, современным зоологам нечего делать с этой горой книг, но зато какие там гравюры! Разве можно равнять с ними рисунки иллюстраторов Брема? И те были мастерами первого класса. Каких павлинов они, например, рисовали – великолепных, блестящих, распахнутых, как гигантский веер! Как умели они передать мягкость пуха райской птицы, мельчайшие чешуйки на крыльях колибри, светоносность, изумруд и бронзу оперения зимородка! Они вырисовывали каждое перышко, схватывали свечение раковины, блеск пера, лоск шерсти, тусклый желтый огонь глаз зверя. Но поздно, слишком поздно они пришли со своими кисточками. За сто лет прошло удивление, выдохся восторг первооткрывателей, и остались на их долю только верность рисунка, твердость руки, зоркость глаза. И сразу же их великолепные картинки превратились в олеографии. Все удивительное, неповторимое, сказочное ушло из их рисунков безвозвратно.
Кто хочет вступить вместе с Робинзоном на его необитаемый остров, кто хочет полюбить Пятницу, пусть отыскивает в музеях и библиотеках старинные альбомы, листает их голубоватые страницы, всматривается в точные и четкие зарисовки! Только там найдешь портреты невиданных людей, зарисовки с еще неизвестных животных. И не в мастерстве, конечно, дело. У рисовальщика была одна задача – дать точный документ, не нарисовать, а запротоколировать. Но разве не чувствуется, когда смотришь на эти необычайные линии, изгибы и формы, дрожь, которая вот-вот охватит карандаш художника? Вот, например, гравюра в одном из томов Бюффона – птица-носорог. Она чудовищна, огромна, зловеща – этакий тропический черный рогатый ворон. Художник был скрупулезен, он ничего не упустил. Его карандаш и резец доходили только-только до определенного предела и останавливались на нем; но чувствуется, как хотелось ему пририсовать этому дьяволу еще второй рог, сделать его клюв крючковатым, как нос у ведьмы, а ногти когтистыми, вообще намекнуть как-нибудь, что тут и до черта не так уже далеко. И другая гравюра – гриф. Смотришь и понимаешь, что художник рисовал птицу, а вспоминал-то дракона. И размах дьявольских крыльев, и перья, похожие на чешую, и стальные когти, и змеевидная, морщинистая шея гада – все, все ясно выдает мысль художника. Он понимал, что гриф вышел из рук создателя не совсем таким, каким был задуман, что не все намеки в нем расшифрованы, не все дожато, додумано до конца. И будь, например, Господом Богом он, художник, все брошенное мимоходом было бы доведено до полной ясности. Дракон был бы драконом, а черт – чертом. Но над художником стоит ученый, и мысль о всей этой дьявольщине только чуть-чуть сквозит в точных, уверенных линиях его карандаша.
Таковы были старинные рисовальщики. И Хлудов тоже мог бы на всю жизнь остаться только одним из них. Но его окружали горы, пески, моря, зелень, голубейшее небо, цветастая земля – и он бросил карандаш и взялся за кисть. И недаром, конечно, взялся. Мир заблистал, задвигался, замерцал в его полотнах. Он так и не расстался – старый учитель рисования провинциальной гимназии – со своей почти фотографической сухостью и жесткостью рисунка, так и не узнал иных цветов и красок, кроме тех, которые выдавливаются на холст из тюбика.
Я уже писал: ему были недоступны ни полутона, ни переливы. Он не признавал ненастье и серое небо. Все, что он видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. Но тут ему уже не было соперников. Ведь он рисовал не только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которые ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот необычайный край. И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеется от радости. Конечно, радость эта грубовата. Хлудов был начисто лишен того чувства, которое заставляет художника вдруг останавливаться в сумерках перед кустом сирени или перекатывать в руках светящуюся раковину. Но зато какие великолепные кисти винограда – сочного, спелого, тяжелого, пронизанного насквозь зеленым солнышком – несет на лотке разносчик фруктов! Он стоит в древесной тени темной и светлой аллеи – рослый, сильный красавец, солнце жгуче пробивает сквозь листву и рассыпает на песке желтые медали и браслеты. На разносчике белая, сверкающая рубаха, высоко засученные брюки, крепкие, босые, бронзовые ноги, и сам он – бронзовый, молодой, крепконогий, с полновесной тяжестью на голове. Только взглянешь – и сразу станет легко на душе. Вот все это – жаркий полдень, зеленоватые потемки, тени и свет на песке, груда виноградных кистей, рослый улыбающийся красавец – и есть мир Хлудова. И вот что интересно. Семиреченская степь, как всякая древняя страна, просто набита памятниками. Огромные мазары, развалины великолепных мечетей – пышные, как взбитые подушки, – надгробия с узорчатыми надписями и полумесяцем, каменные бабы – целые мертвые города, населенные каменными людьми… Но ведь Хлудов все это попросту не заметил. Ни одной такой его зарисовки я не знаю. Вероятно, где-то в каких-то альбомах что-то подобное и есть, но картины на эти темы он определенно не рисовал. Он жил только настоящим, интересовался только сегодняшним, проходящим, живым.
Ясно, какой храм они построили с Зенковым. Однажды я это понял с полной отчетливостью. Долгое время на чердаке валялось несколько длинных черных досок, никто на них не обращал внимания, но как-то я перевернул их и через пыль и лампадную копоть увидел проступающую живопись. Досок было много – наверно, десятка полтора, я их все обтер мокрой тряпкой и выставил вдоль стены. И они все стояли в ряд – воины, цари и мужи. Одни суровые и решительные, другие – затуманенные раздумьем предстоящего подвига; на них сверкали панцири, латы и мечи, над ними парили нимбы и небесные короны. Потом был какой-то старец с детски-розовым лицом и длинной благостной бородой. Он истово заводил глаза горе, а под ним лежали разбитые скрижали – осколки синеватого мрамора. Красавицы с нежным овалом лица, голубоглазые, тонколядые, пышноволосые, держали в длинных прохладных пальцах пальмовые ветви и лилии. Были видны все мерцающие лепестки, маркие, желтые, похожие на гусениц тычинки. Были еще и детские личики с крылышками (зачем их оторвали от земли и сделали ангелами?). Были быки и львы, змеи и голуби. Наверное, я наткнулся на остаток того самого большого иконостаса, о котором верненский батюшка Марков, грешивший стишками, писал в “Семиреченских ведомостях” так:
- Иконостас здесь резной и прекрасный,
- Золотом чисто, искусно покрыт,
- Он грандиозный, высокий, трехчастный,
- Точно охвачен огнем и горит.
И он действительно горел со всех сторон и со всех досок. Горел даже на чердаке. Даже через пыль и копоть. Даже через десятки лет забвения и пренебрежения.
И когда я ушел от этих досок и спустился вниз под белый купол музея, к высоким окнам, под целые столбы и туннели света, к своим каменным, бронзовым, медным и железным векам, я понял, почему Зенков поручил украшать храм именно Хлудову.
И мне стало очень радостно за них обоих.
Глава пятая
Недели через две после этой выставки директор забрался ко мне наверх и спросил, не знаю ли я такого – Николая Семеновича Корнилова. Я ответил, что если он говорит о том молодом человеке, который служит в публичной библиотеке, то знаю. Раза два мне пришлось обращаться к нему по разным личным нуждам. Один раз я его просил доставить мне две очень важные для меня книги, другой раз, когда меня послала в библиотеку редакция “Казахстанской правды”, он водил меня по отделам и показывал книжные редкости. Ведь речь, наверно, идет о том самом индексаторе Корнилове, что показал мне издания Галилея.
– О том самом, о том самом, – обрадовался директор. – Там этой завали, по его словам, осталось еще ящиков двести, и никто не знает, что в них – то ли старые газеты, то ли арабские рукописи. Вот он сидит и пишет на них карточки. Год сидит и еще два года, говорят, просидит. Вот порядочек! – Директор засмеялся. – Десять лет гниют у них эти ящики, и никому до них нет никакого дела. Как привезли их в двадцатых годах заколоченными, так они и стоят, а все нас ругают за беспорядок! Так что ж, достал он тебе книги?
Я сказал, что нет, – наверно, не нашел или позабыл.
– Не нашел! – махнул рукой директор. – Конечно, не нашел. А то б он принес.
– Нет, нет, он не трепач.
– Слушай, так вот он к нам в музей просится. Что-то не нравится ему там, никак с начальством сладиться не может. С Аюповой, с Актовой! – крикнул он, смеясь. – Как ты на это смотришь?
Я сказал, что буду очень рад такому начальнику, археологу.
– Вот именно, – подхватил директор, – вот именно, что он археолог. Но только почему ты говоришь “рад начальнику”? Сотруднику рад, а не начальнику.
– Как же не начальник? – сказал я. – Он специалист и будет как раз на месте, а меня вы переведите куда-нибудь к тиграм. Так мне уж надоели эти черепки да камни…
– Ну, ну, – махнул рукой директор, – ты тоже выдумаешь. Тигры! Так вот я пришлю его к тебе завтра же – потолкуйте.
Назавтра Корнилов не пришел, и на этом разговоре все пока и кончилось.
И вот однажды я повстречал Добрыню в парке. Медленно и важно шагал он по аллее. Со всех сторон с ним здоровались. Он отвечал чуть заметным наклоном лысины, розоватой, как кусок мыла. Поблескивало пенсне, мягко лоснилась эта самая лысина, руки с бескостными кистями висели, как ласты, и весь он, круглоголовый, грузный, с перетянутым животом, походил на дрессированного динозавра средней величины. Удивительно много в нем было чего-то от большой желтой вялой ящерицы. Увидев меня, Добрыня остановился, нахмурился и сделал мне знак пальцами подойти. Я подошел, мы поздоровались.
– Вы что? – спросил он, подходя. – Хотите оформить Корнилова?
Я ответил, что да, хотим, был такой разговор.
– Да боже мой, – махнул на меня Добрыня мягкой розовой ладонью. – Да что вы? Вы не знаете, почему он уходит из библиотеки?
– Нет!
Добрыня сделал испуганные глаза.
– Да он с Аюповой так поссорился, что она его выгнала. Да нет, как же вы этого не слышали?
Ничего я не слышал про это, но Аюпову, ученого секретаря библиотеки, знал хорошо. Мне несколько раз приходилось обращаться к ней с просьбами. Надо сказать – то были пренеприятнейшие минуты моей жизни. Аюпова была высокой сухой черноволосой женщиной с резкими, мужскими жестами, острыми глазами орехового цвета и жестяным голосом. Она носила черный костюм с узкой юбкой, похожей на брюки – так она плотно облегала колени, и почти мужские ботинки с очень высокой шнуровкой. Лицо у нее было узкое, длинное, желтое, цвета промасленной бумаги. Волосы она подрубала скобкой и много курила. Смотрит на тебя, молчит, хмурится, думает что-то свое и грызет папиросу. Вечно она была занята, вечно ей было не до посетителей, и принимала она меня наспех: или расхаживала по кабинету, или держала телефонную трубку в руке. Говорить с ней было не только неприятно, но и нелегко. В середине разговора она вдруг что-то вспоминала и говорила скороговоркой: “Одну минуточку!” – и хватала трубку. Разговоры по телефону у нее были короткие и резкие. Все кончалось тем, что, не договорив и не дослушав, она кому-то приказывала: “Сделайте!”, “Возьмите!”, “Зайдите!” – со звоном бросала трубку на рычаг, хватала ручку и что-то быстро записывала в настольный блокнот. С десяток секунд губы ее еще шевелились, а потом она вздыхала и поднимала на меня тяжелые, холодные глаза с постоянным выражением скуки и рассеянности и говорила: “Да, я слушаю вас, слушаю”. И слушала, хмурясь и играя ручкой, до тех пор, пока опять, что-то вспомнив, снова не хваталась за трубку. Вероятно, все это было пустяками, мелочью, на которые не следовало обращать внимания. Но, выходя из кабинета, я каждый раз давал себе твердый зарок: ну, хватит! Больше ни ногой! Однако нужда была сильней меня, и через неделю я снова уныло и робко стучался в белую дверь с черно-золотой дощечкой: “Ученый секретарь. Прием посетителей ежедневно от 3 до 4.30”. Улыбалась Аюпова очень редко и для меня всегда совершенно неожиданно. Ты ее просишь дать для выставки такую-то редкую книгу, разрешить сделать такие-то и такие-то фотографии с такого-то издания, она долго слушает тебя, молчит, смотрит на крышку стола да грызет папиросу, а потом вдруг поднимет голову, улыбнется и скажет: “Ну, хорошо, берите”.
Через минуту, идя по улице, я ломал себе голову: что же я бахнул ей такого смешного или нелепого? С чего это вдруг она улыбнулась? И ничего придумать не мог. А потом вдруг раз понял: “Господи! Да ведь она рассмеялась просто потому, что ответила «хорошо»”. Отказывала же она без улыбки, смотря прямо в глаза и никогда не смягчая короткий отказ никакими извинениями или объяснениями. Нельзя – и всё. Вот что я знал об ученом секретаре библиотеки, и если время от времени при встречах с ней меня смущала и раздражала одна мысль, или, вернее, один вопрос, то только такой: “Да кого же, черт возьми, какую кожаную куртку, какого стального комиссара играет эта пожилая, издерганная и, видимо, достаточно несчастная женщина?” И все-таки в ее личной порядочности я не усомнился ни разу. И не потому не усомнился, что верил в ее сверхскучную пресную добродетель, а просто оттого, что мне никогда не хотелось думать о ней больше пяти минут, то есть как раз столько времени, сколько мне требовалось, чтобы дойти до библиотеки музея. Но сейчас, когда Добрыня мне сказал, что у Корнилова вышло что-то с Аюповой и Аюпова его уволила, мне вдруг стало по-настоящему неприятно. Я как-то очень ясно и четко почувствовал, что значит поссориться с Аюповой. Я представил себе, как она стучит маленьким желтым кулаком по стеклу стола, так что дребезжат ручки в бронзовом стакане, как она кричит, как все время хватается за телефонную трубку, прерывает разговор, а ты стоишь ждешь, гадаешь, что же последует за этим. Я, наверное, даже поморщился, потому что Добрыня обрадованно воскликнул:
– Да как же вы этого не согласовали! Нет, нет, ничего вы себе на шею не берите, зачем вам все это нужно?
Я поблагодарил Добрыню и пошел к директору. Директор задумчиво ходил по кабинету, увидев меня, обрадовался и крикнул:
– Слушай, а там у тебя…
Но я не дал ему досказать и выложил все, что услышал. Он сразу же нахмурился, подошел к дивану, сел, дослушал меня до конца, а потом спросил:
– НУ а что этот Добрыня так беспокоится? Ему-то какое дело?
Я пожал плечами.
– Информирует, предостерегает, – покачал головой директор и усмехнулся. – Экий, прости господи, банный лист. К каждому заду обязательно прилипает. Ну что ему это, а? – Он вопросительно посмотрел на меня и опять пожал плечами. – И ведь талантливый человек, вот что обидно, – продолжал он с горечью. – Такой отличный исторический писатель, а… – И, махнув рукой, он встал и опять заходил.
– Что? – От изумления я даже сел на диван. – Что вы сказали? Добрыня – отличный писатель?
Директор остановился и тоже удивленно посмотрел на меня.
– А ты разве не читаешь его статьи? – спросил он. – Отлично пишет, живо, красочно, с огоньком. Такие картины иногда рисует! Ты что же, не согласен?
Я ничего не ответил, только рукой махнул, и тогда директор ехидно улыбнулся и мелко закачал головой.
– Эх, брат, какие же, однако, вы все завистники, – сказал он укоризненно. – Пишете, а нет в вас широты душевной. Того великодушия нет, что было у классиков. Никак нельзя у вас при одном похвалить другого. Сразу же и обида. Вот и ты! Ты тоже очень неплохо пишешь, я твои статьи всегда с большим удовольствием читаю, даже жене всегда показывал: “Вон, Валя, посмотри, что наш хранитель написал”. И та статья, например, про библиотеку, из-за которой все произошло с Корниловым, совсем, совсем неплохо написана. Очень много интересных данных. Но все это не то, не то… Понимаешь, картин у тебя тех нет. Огонька не хватает, души мало. Пишешь складно, связно, логично, читать интересно, а вот не зажигаешь ты, как Добрыня. Нет, не зажигаешь… А ведь зажечь – это главное. Как это мы еще в школе-то учили? “Сейте великое, доброе, вечное”.
Он был в ударе и проговорил бы еще час. Но я его перебил.
– Слушайте, – сказал я, – вы говорите, что все вышло из-за моей статьи о библиотеке. Что же тут могло выйти? И при чем тут Корнилов?
Директор недовольно посмотрел на меня. Ох уж эти завистники, разве они что-нибудь понимают, когда затронули их самолюбие!
– Ну, обиделась на тебя эта Аюпова, – сказал он с легким раздражением. – Что ты там пишешь о недостатках библиотеки? То тебе нехорошо, это тебе нехорошо, потом какую-то сотрудницу, которая тебе все эти недостатки показывает, выдумал. А там такой никогда и не было. Ну, а водил тебя по библиотеке Корнилов. Так Аюпова на него и налетела: “Как вы смели?” Он ей: “Да вы ведь сами меня к нему приставили!” – “Как я вас приставила? Что вы на меня как на мертвую валите!” Он ей тоже чего-то хорошее сказал… Ну и пошло! Короче говоря, он уже подал заявление об уходе.
– Здорово! – сказал я ошалело. – Откуда вы всё это знаете?
– Да от него и знаю. Я же с самого начала сказал: он у тебя сидит в комнате и ждет. А ты тут о Добрыне со мной споришь. Кто как пишет, разбираешь! Иди скорей, а то уйдет. Ведь целый час человек дожидается.
Корнилов сидел за столом и смотрел стереоскоп. Стереоскоп, надо сказать, был у меня замечательный. Огромный ящик из полированного красного дерева, блестящий, вместительный, с большими светлыми стеклами и богатым набором диапозитивов. Диапозитивы были чудесные, раскрашенные. Сзади они освещались электрической лампочкой так, что на них горело и играло все – павлины, фонтаны, фейерверки, потешные огни, радуги, северное сияние, салюты из пушек, веера в Версале. А сзади панорамы был еще потайной ящичек, и в нем лежали другие диапозитивы, тоже раскрашенные и тоже на стекле, но секретные. В этом же ящике я нашел желтую, сложенную вчетверо листовку. Она была набрана крупными кудрявыми буквами и обведена черной узорчатой рамкой с парящей ласточкой и улыбающимися карликами. Текст внизу листовки был такой:
Чудо XX века! Первый раз в городе Верном!
В казенном саду показывается: Электростереопанорама!
Обширная программа в двух отделениях
I отделение
Волшебное путешествие за пятачок во все концы земного шара.
Снимки сделаны специальными нашими корреспондентами и раскрашены в Лейпциге от руки в аристократическом заведении Брокгауза.
Вы увидите —
слонов в девственном лесу Цейлона,
удава, душащего буйвола,
охоту негуса на львов,
тигра, терзающего свою несчастную жертву,
пещеру скелетов, охоту на китов, русалку, изловленную арабами в Красном море.
А также
Многое другое!!!
Внимание мужчин!
II отделение
За дополнительную плату в гривенник
(с включением благотворительного сбора)
Сорок видов пикантных женщин.
Мир женской красоты!
Красотки Парижа, Берлина, Лондона и Мадрида в натуральном виде.
Разоблачение чудес света и полусвета.
Мадам Европа в объятиях негра.
Австрийские гусары берут приступом крепости любви.
“Так вот, моя Симона, где твоя корона”. Пикантная повесть в трех частях (в красках).
Господ офицеров просим проглядеть наше зрелище бесплатно.
Нижние чины платят половину. Женщины и дети до 16 лет к просмотру второй части программы не допускаются.
Панорама работает беспрерывно, до 12 часов ночи.
Спешите, спешите, спешите!!! Только несколько дней! Перед отъездом в Москву и Петербург!
Кажется, я ничего не переврал в этой пышной и многообещающей программе. Хотя что-то пропустил уж наверное. Это ведь был большой развернутый тетрадный лист, густо заполненный текстом.
Панораму эту я нашел на чердаке среди ящиков и черепков. Она была запыленная, грязная и заляпанная штукатуркой. Я ее вычистил, отмыл горячей водой, а потом снес в столярку к деду, и он через два дня принес ее, завернутую в чистую простыню, и торжественно поставил на стол – крепкую, новенькую, пахнущую клеем и грушей.
– Ну, теперь верти опять хоть до утра, – сказал он. – Включи-ка свет, поставь баб.
Я поставил, и дед так и прилип к стеклу.
– Вот ведь собаки, – говорил он, покряхтывая от удовольствия и вертя ручку. – Что только не придумают, а?.. Вот ученые люди, а?.. Ах ты черт! Ты смотри, смотри! – И хохотал до слез.
Он досмотрел всех баб до конца, а потом спросил:
– А пол-литра где?
Я вытащил из-под стола бутылку зубровки, и мы ее распили тут же, перед панорамой. Дед охмелел, развалился и стал рассказывать.
– Мне эта панорама, можно сказать, старая знакомая. Ты знаешь, сколько я ее лет помню? – спросил он вдруг сурово. – Да лет, наверное, сорок, никак не меньше! Цирк “Интернационал” был, и она тут же рядом стояла в зеленой будке. Так жены мужиков из нее, ровно из гадючника, за шиворот таскали: “Ты чего там не видел?” Сколько тут крику было! Но ты вот что, однако, – он сделал обеспокоенное лицо, – ты эту музыку с бабами спрячь подальше. Поставь опять львов или слонов, а то знаешь как попасть может? Тут и меня не пощадят, музей все-таки.
И я опять поставил львов, слонов и русалок, а красавиц убрал. Теперь Корнилов сидел перед ящиком и крутил ручку. Когда я вошел, он поднял голову и сказал просто и весело – так, как будто мы расстались с ним всего два часа тому назад:
– Вы знаете, ведь точно такие же картины я смотрел лет двадцать пять тому назад в Москве, на Чистых прудах.
Я поглядел на стол. На панораме лежало два больших тома в серых переплетах: “Каменный период” Уварова. Значит, все-таки не забыл, принес, молодец!
– Вот за книги вам большое спасибо, – сказал я. – Это как раз то, что мне нужно.
– Да, да, – ответил он невнятно, – очень рад, – и весь словно ушел в ящик.
Я прошелся два раза по комнате, открыл окно, включил вентилятор и остановился около него.
– Слушайте, – сказал я. – Что ж там у вас произошло в библиотеке?
Он досадливо поморщился.
– Я сейчас посмотрю и расскажу, – сказал он.
“Что за чудак”, – подумал я. Я хотел что-то сказать, но вдруг словно ветер подул на меня и прорвалась какая-то пелена. Я совершенно ясно вспомнил и будку на Чистых прудах, о которой он говорил, и точно такой же ящик с видами Египта и Индии, и другой ящик в углу, запретный и таинственный, от которого меня постоянно гнали (теперь-то я знаю почему), и жестяной силомер с русским богатырем Иваном Поддубным (румяные бицепсы и лихо закрученные усы), и электрический прибор со шнурами и блестящим металлическим цилиндром (“Прошу попробовать. Полезно для здоровья”), и другой ящик – не то шарманку, не то музыкальную шкатулку. Когда в боковой прорез его опускали монетку, он играл несколько вальсов – это иголки цеплялись за иголки.
А еще я помнил военный оркестр. Посередине бульвара, на небольшой площадке, усыпанной темно-желтым влажным песком, стояла высокая круглая беседка. В ней сидели солдаты и трубили. Был тут и турецкий барабан, и тромбоны, и тарелки, и флейты. Но самое главное были все-таки трубы. Через каждые десять минут оркестр играл новый вальс или мазурку. Когда первый круглый звук вдруг, словно ком, вылетал из трубы и, подпрыгивая, скакал по газонам или вдруг остро и тонко прорезала воздух, как будто пропиливала лобзиком, труба, все мамки, няньки и бонны, неподвижные и важные, как бронзовые божки, вставали с лавок, брали нас за руки и вели к беседке. Музыканты играли, вытаращивая глаза, надувая щеки, краснея от натуги и солдатской бравости. Играть на весь бульвар в жару было тяжело, но они старались, во время игры часто вынимали платки и прикладывали ко лбу, гимнастерки их на спине всегда были черные. Маленький сухой человечек, крылатый, всеведущий и грозный, парил над ними. Музыканты глядели на его палочку, на маленькие цепкие руки, его свирепое лицо и били, свистели, трубили. И белые строганые пюпитры вспомнил я, и ноты на этих пюпитрах, писанные лиловыми чернилами, и самую музыку – торжественную, громогласную, нелепую и пышную, какую-то очень уверенную в себе.
А затем, посмотрев и послушав все, я сошел по лесенке из беседки, пошел по утоптанному песку, прошел меж зеленых и красных ведерочек, золотистых обручей, палочек-скакалочек, ярко-красных песочниц, разноцветных мячиков, обошел беседку, пригнул голову и юркнул в свое самое заветное, самое таинственное, самое-самое волнующее – в ту пещеру, на которую в упор в течение всего лета смотрели няньки, бонны, трубачи, дети и все-таки ничегошеньки не видели.
Только я один знал и видел все. Здесь всегда было сыро, прохладно и сумрачно. В самый ясный солнечный день тут стояли тихие рассветные сумерки. Когда я нырял туда, никто на целом свете не мог меня отыскать. Меня искали, мне кричали, мне приказывали не валять дурака и выходить, потому что меня все равно видят. Но я сидел тихо-тихо, и ничего не могли понять, куда же я делся. Только что стоял здесь и канючил: “Пойдем к пруду. Ну, пойдем же к пруду”, – и вдруг как в землю провалился. А я ведь сидел совсем-совсем рядом, так рядом, что протяни только руку – и схватишь, и никто меня не видел. Никто сюда не заглядывал – один я! Здесь я находил массу самых интересных вещей. Они безвозвратно пропадали там на земле и появлялись здесь, около моих ног. Особенно много было здесь всех родов мячиков – больших и совсем крошечных, светлых и серых, очень тугих черных и тонкокожих, расписанных секторами в нежные, переходящие друг в друга тона. Их искали, об них горько-горько плакали, из-за них ссорились (“это ты взял и забросил”), и они все лежали тут около меня. Были мячики совсем новые и звонкие, как бубен, только тронь – и они сейчас же оживут, запрыгают и полезут тебе в руки. Были мячики совсем старые и дохлые, ткни их пальцем – образуется глубокая, долго не пропадающая впадина. На такие я и внимания не обращал. А один раз мне попалась даже очень дорогая заводная игрушка – крошечный автомобильчик, черный, блестящий, аккуратный, как жужелица (мы отыскивали таких под камнями, на газонах). Он лежал на боку, зацепившись за какую-то щепку, и, когда я его взял в руки, он вдруг защелкал, загудел, забился в моих руках, как пойманная ящерица.
В этом чудесном месте я впервые узнал тихую сумеречность пещер, таинственность и тишину глубоких расселин. Впрочем, о тишине-то я, конечно, зря. Никогда здесь не бывало тихо. Ревели трубы, ухал барабан, в такт им бахали о гудящие доски кованые солдатские сапоги, ибо мое убежище (надо же наконец сказать) было под полом той самой беседки, в которой сидел военный оркестр.
Беседка стояла как на сваях. Между дощатым настилом и землей было пустое пространство. Туда вечером дворники прятали метлы, лопаты, ведра и огромные белые скребки. Взрослые туда могли пролезть только на брюхе. Я же входил свободно, только чуть пригибал голову. В солнечный день здесь было жарко, сыро и сумрачно, как в тропическом лесу. Всюду, как пальмы, торчали сваи. Одно время среди них поселилось целое семейство страшных, одичалых кошек, грязных, мохнатых и зеленоглазых ведьм. Это были свирепейшие создания, и из их угла постоянно раздавалось злобное шипение, будто я потревожил гнездо черных кобр.
И пруд я вспомнил тоже, и дощатые мостки, длинные деревянные вечно влажные лестницы, и серебристо-белые и серые лодки, имена которых было принято произносить вслух – “Орленок”, “Шантеклер”. Вспомнил я и безногого гармониста на колесиках, который, лихо перекосясь, играл по заказу гуляющих, и студентов в малахитовых фуражках, и веселых молодцов (наверное, приказчиков) в расшитых русских рубашках с отложными воротами и елочками на вороте, и других приказчиков – постарше, солидных и медлительных, в твердых пиджаках и соломенных шляпах из твердой же соломки, затем девушек, вечно пунцовых, в белых блузах, с бархоточками на шее – от них всегда пахло карамельками. Благородные господа сюда не ходили. Чистые пруды были маленьким грязным прудишком. И бульвар этих господ тоже не устраивал – был заплеванный семечками и тесный. И оркестр был не по этим господам, и играл не то, что нужно было им по их учености, и публика собиралась здесь совсем не та.
– А оркестр помните? – спросил я Корнилова и положил ему руку на плечо. – Как он играл “На сопках Маньчжурии”, помните?
Он сразу же вскочил со стула.
– Как? – сказал он изумленно. – Чистые? Значит, вы тоже… – Он схватил меня за руку. Мы стояли и смотрели друг на друга. – Значит, и вы…
Тут у меня к глазам и горлу подступили слезы, и я как-то ослаб и сел на стул. В это время отворилась дверь и вошел директор.
– Ну, – сказал он, улыбаясь, – договорились? Отлично. Хранитель древностей, принимай нового сотрудника. Это ты виноват, что он здесь появился! Он же вылетел из-за твоей статьи.
Статью, о которой идет речь, я написал по заданию редакции, и она была помещена в одном из мартовских номеров газеты.
Я писал, что
среди крупнейших книгохранилищ Союза Казахстанская публичная библиотека имени Пушкина в Алма-Ате занимает одно из первых мест. По далеко не полным сведениям, фонд ее содержит свыше 610 тысяч томов на тридцати пяти языках народов мира.
Библиотека, писал я далее, располагает замечательными редкостями: вот, например, полный комплект томов французской энциклопедии Дидро – все тридцать пять томов ее. Затем первое издание Эразма Роттердамского “Похвала глупости”. (Очень интересна внешность казахского экземпляра. Он весь исписан различными почерками. На первой странице неуклюжие знаки какой-то тайнописи, в середине на полях скоропись XVI века, на последней – четкие еврейские письмена. Сколько же разных людей по-разному читало и штудировало эту книгу!)
Затем я писал о книге Галилея. Том самом издании, которое перекочевало к нам на экспозицию вводного отдела:
Следующая книга написана по-латыни. Вот ее далеко не полное заглавие: “Книга автора Галилео Галилея, лиценциата Пизанской академии, экстраординарного математика, в которой содержится 7 диалогов о двух мирах Птоломея и Коперника с прибавлением об описании и движении земли”.
На форзаце гравюра – три астронома наблюдают восходящее солнце. Возле дряхлого Аристотеля и кряжистого Птоломея, похожего на кулачного бойца, – гибкая и молодая фигура Коперника. Это знаменитая книга. Ей, положившей начало современной астрономии, посвящены толстейшие монографии на всех языках мира. Ее происхождение детально обследовано целыми поколениями историков. Книга Галилея вышла во Франции в феврале 1632 года, а в 1633-м шестидесятилетний автор на коленях и в рубище отрекался в подвалах инквизиции от истин, изложенных в семи диалогах.
В библиотеке хранится экземпляр издания, выпущенный знаменитой голландской фирмой “Эльзевир” после осуждения ее автора. Чтобы не погубить Галилея, издатель старательно оговаривается, что книга выпущена без ведома автора. Инквизиции пришлось сделать вид, что она верит в эту наивную оговорку.
С внешней стороны издание сделано с тем замечательным тактом, изяществом и простотой, которые делают имя Эльзевиров нарицательным. Глядя на чистый, четкий шрифт книги, невольно веришь странной легенде о том, что типографский набор Эльзевиров был отлит из чистого серебра.
И наконец, так сказать, под занавес, я наносил заключительный удар. Но как раз в это место статьи и вкралась опечатка, из-за которой впоследствии поднялось столько шума.
Последняя книга, – писал я, – которой ограничилась наша беглая разведка, не отнесена администрацией к числу редких. Она скромно стоит на нижней полке, не привлекая внимания. Однако даже самый беглый, поверхностный осмотр оказался достаточным, чтобы определить ее колоссальную, не поддающуюся пока учету ценность. Это огромный фолиант по истории инквизиции, датированный 1685 годом. С редкой обстоятельностью, год за годом, рассказывает эта жуткая книга о пытках, казнях и религиозных гонениях. Неизвестный художник ее щедро иллюстрировал. Дыбы, костер, четвертование, виселица – вот тема этих мрачных прекрасных гравюр.
Что это за книга, как она попала в Казахстан? Имеется ли еще где-нибудь хоть один экземпляр? На эти вопросы заведующий иностранным отделом тов. Попятна никакого ответа дать не смогла. А между тем есть основание думать, что книга эта является уникальной. Книга эта ждет своего исследователя.
Кончалась статья так:
К сожалению, научная обработка и использование этого огромного культурного богатства не находятся на должной высоте. Редчайшие издания XVI–XVII веков покрываются пылью, бесплодно ожидая читателя. Ученая часть библиотеки в ряде случаев сама не знает, какими сокровищами она владеет. Сорок тысяч томов на 25 европейских языках обслуживаются одним сотрудником. Конечно, ни о какой научной работе при таких условиях разговаривать не приходится.
…Приходится констатировать, что Государственная публичная библиотека Казахстана, являющаяся одной из богатейших библиотек Союза, располагающая книгами мировой ценности, свое богатство знает из рук вон плохо.
Все это было напечатано в воскресном номере. Аюпова прочла и обомлела. Статья о библиотеке, о том, что эта библиотека является одной из крупнейших в Советском Союзе, о том, что ее фонды необозримы, сокровища, хранящиеся в ней, неоценимы, а она и ее работники ничего не знают и ничего не ценят. Что все это значит? Кто позволил какому-то нахалу из редакции рыться в ее библиотеке, что-то выявлять, что-то не одобрять, кого-то выделять, во что-то вмешиваться? И она, ученый секретарь, ничего не знает! “Товарищ Попятна, видите ли, водила этого хлюста по фондам! Так где же эта Попятна, ну-ка дайте ее сюда, я поговорю с этой Попятной по-своему”. – “Да никакой товарища Попятной у нас нет”, – отвечают ученому секретарю перепуганные сотрудники. “Вот как! – шипит ученая дама. – Я так и думала, что никакой Попятной у нас нет. Ясно, что всё брехня. А ну-ка позвать того артиста, который водил корреспондента по библиотеке”.
