Ум тронулся, господа! Аномалии мозга глазами нейробиолога бесплатное чтение
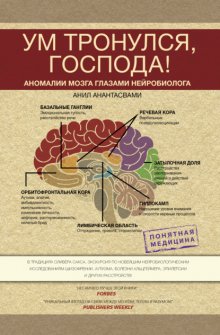
Серия «Понятная медицина»
© Анантасвами А., 2022
© Иванова Е. А., перевод, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Тем, кто хочет отпустить, но не понимает,
кто должен что отпустить.
Переводчик выражает особую признательность Д. Г. Литинской, кандидату философских наук, доценту кафедры клинической психологии РАНХиГС, за помощь в работе над этой книгой.
Кажется невероятным, что нецентрическая вселенная, во всей ее пространственно-временной необъятности, создала именно меня…
Ничего на меня похожего никогда не было, но вдруг в определенное время и в определенном месте появился определенный материальный организм, который есть я, покуда этот организм существует. Почему к этому приводит существование одного представителя одного вида?
Томас Нагель
Пролог
Притча о человеке, пожранном людоедом, впервые встречается в древнеиндийском буддистском тексте учения Мадьямика («Срединный путь»). Текст датируется примерно 150–250 гг. н. э. и являет весьма неприглядную картину буддистского представления о природе личности.
Некий путник в далекой стране находит опустевший дом и решает в нем переночевать. В полночь в дом приходит людоед, который приносит труп и кладет его рядом с путником. Вскоре появляется второй людоед, и они начинают спор о том, кто же первым принес мертвеца. Каждый из них утверждает, что труп принадлежит ему. Не придя к согласию, они обращаются к путнику с просьбой рассудить, кто же из них принес труп.
Путник, понимая тщетность лжи, – потому что если его не убьет первый, то это сделает второй, – говорит правду: мертвеца принес первый людоед. Второй, озлобившись, отрывает путнику руку. То, что происходит дальше, придает притче зловещий оборот. Первый людоед немедля отрывает руку от трупа и приделывает ее на место оторванной у путника. И понеслось: второй отрывает у путника часть тела, а первый тут же заменяет ее на такую же, взятую у мертвеца. В итоге они заменили все: руки, ноги, туловище и даже голову. Наконец, два людоеда обедают трупом досыта и уходят.
Путник, которого людоеды оставили в доме, потрясен происшедшим: тело, в котором он родился и вырос, съедено монстрами, а то, в котором он оказался, собрано из совершенно других частей. Так есть у него тело или нет? Если да, то его ли это тело – или чужое? Если же нет, то что ему делать с останками, на которые он смотрит?
На следующее утро наш герой, недоумевая, продолжает путь. Наконец, он встречает группу буддистских монахов и спрашивает их: «Существую я или нет?» Монахи отвечают встречным вопросом: «А ты кто?» Путник не знает ответа. Он даже сомневается в том, что он – личность, и рассказывает монахам о встрече с людоедами.
Что бы ему ответили современные нейробиологи на вопрос «Кто я»? Пускай некоторые наверняка бы указали на невозможность чего-то подобного с точки зрения биологии, у них все равно бы нашлись любопытные ответы на данный вопрос. Такие ответы и попытки понять, что же есть «я», и составляют эту книгу.
Глава 1
Живые мертвецы
Кто же говорит: «Меня не существует»?
Людям до́лжно знать, что мозг, и только мозг, есть средоточие наших удовольствий, радостей, смеха и деяний, а равно горестей, страданий и слез… Все наши страдания – в мозге. Безумие же – плод его разжижения.
Гиппократ
Стоит мне попытаться уловить это «я», существование которого для меня несомненно, определить его и резюмировать, как оно ускользает, подобно воде между пальцами.
Альбер Камю, «Миф о Сизифе»
Адам Земан никогда не забудет тот телефонный звонок. Это было, как он потом вспоминал, похоже на скетч «Монти Пайтон»: его просил немедленно приехать психиатр. В психиатрическом отделении был пациент, утверждавший, что его мозг умер. Земану показалось, что его вызывают скорее в реанимацию. Однако, как он мне сказал, «такой звонок вряд ли поступит из отделения интенсивной терапии».
Пациенту, Грэму, было 48 лет. Расставшись со второй женой, он впал в глубокую депрессию и попытался покончить с собой. Он наполнил ванну, залез в нее и бросил туда электрическую грелку, надеясь, что его убьет током. К счастью, сработал предохранитель и Грэм остался жив. «На первый взгляд с ним ничего не случилось, но спустя несколько недель он уверовал в то, что его мозг умер», – рассказывал Земан, профессор неврологии в Эксетерском университете в Англии.
Это было весьма четкое убеждение, из-за которого Земану пришлось вести очень странные разговоры. «Смотрите, Грэм: вы меня слышите, видите, понимаете мои слова, помните свое прошлое и можете внятно выражаться. Ваш мозг, безусловно, работает», – говорил он пациенту. Тот отвечал: «Нет-нет, мой мозг умер. Мой разум жив, но мозг – мертв».
Хуже того: Грэм после неудачной попытки самоубийства был в смятении. «Он был будто бы воскрешенным или полумертвым», – говорил Земан. – «Он проводил немало времени на кладбищах, полагая, что там он среди своих».
Земан задавал Грэму множество вопросов, пытаясь докопаться до сути его убеждения. Было ясно, что изменилось восприятие Грэмом самого себя и мира, и изменилось фундаментально. Ему казалось, что больше не нужно есть и пить. Он перестал получать удовольствие от вещей, которые раньше ему нравились. «Вот он закурил – и ничего». Грэм утверждал, что ему не хочется и не нужно спать. Конечно, он и ел, и пил, и спал – но его желания и ощущения очень сильно потускнели.
Грэм потерял то, что есть у всех нас: остроту наших собственных желаний и эмоций. Страдающие деперсонализацией часто говорят о такой эмоциональной пустоте; то же самое бывает и при депрессии, когда эмоции теряют остроту. Однако у этих пациентов нет таких устойчивых представлений о своем несуществовании. У Грэма потеря живости ощущений была столь заметной, что, как сказал профессор Земан, «на основе таких изменений он пришел к выводу, что его мозг умер».
Земан считает, что у такого сильного расстройства есть два основных фактора. Первый – сильнейшее изменение качества самоощущения и мироощущения: в случае с Грэмом у того будто выдернули из-под ног коврик эмоций. Второй – изменение способности рационализировать эти ощущения. «Здесь, – говорит профессор, – истинно и то и другое».
Мания Грэма была непреклонна перед свидетельствами обратного. В разговорах с Земаном он почти сдавался и практически видел, что его представление ложно. Он признавал, что весь спектр его умственных способностей на месте: он мог видеть, слышать, говорить, думать, запоминать и так далее.
– Грэм, очевидно, что ваш разум жив, – говорил Земан.
– Да-да, разум жив.
– Разум прямо связан с мозгом; так что, несомненно, жив и ваш мозг.
Но Грэм на эту уловку не попадался: «Он говорил: “Разум-то жив, а вот мозг – мертв. Он умер тогда в ванне”. Можно было предъявить ему доказательства, казавшиеся неопровержимыми, но он отказывался их признавать», – рассказывал мне Земан. Интереснее всего было то, что у пациента развилась такая яркая иллюзия ощущения себя мертвым потому, что он считал мертвым свой мозг. Приняла бы она другую форму в эпоху, когда юридическое определение смерти не подразумевало смерть мозга?
За всю свою медицинскую практику Земан лишь однажды встречал пациента, считавшего себя мертвым. В середине 1980-х годов, когда он был врачом-стажером в Бате, в Англии, ему пришлось лечить женщину, измученную несколькими серьезными операциями на кишечнике и испытывавшую сильный голод: «В итоге она впала в сильную депрессию и убедила себя в том, что она умерла. Это, как ни странно, мне казалось понятным, потому что она была очень сильно травмирована».
Земан заметил у Грэма схожие симптомы и диагностировал у него синдром Котара – расстройство, которое впервые выделил и описал французский невролог и психиатр XIX века Жюль Котар.
Если вы пройдете по улице Медицинской школы (улица Эколь де Медсин) (rue de l’École-de-Médecine) в 6-м округе Парижа, вы увидите впечатляющую колоннаду. Выдающийся образец французского неоклассицизма, она образует портик здания Университета Париж Декарт. По замыслу архитектора Жака Гондуэна, создавшего этот фасад в конце XVIII века, он, привлекая внимание, кажется открытым и гостеприимным.
Я пришел в отдел редких рукописей библиотеки Школы медицины, чтобы взглянуть на документ, посвященный Жюлю Котару. Это панегирик, написанный Антуаном Ритти, другом и коллегой Котара, в 1894 году, спустя почти пять лет после его смерти. Котар самоотверженно выхаживал дочь Ритти, больную дифтеритом, но заразился сам и умер в 1889 году. Мы знаем о Котаре в основном из этой речи, экземпляр которой, в числе других текстов, хранится под кожаным переплетом старинного тома с простой надписью на корешке: РАЗЛИЧНЫЕ БИОГРАФИИ (MÉLANGES BIOGRAPHIQUES). Я листаю страницы текста Ритти. На первой странице – рукописная пометка «В знак высочайшего уважения» и подпись: Ant. Ritti.
Котар более всего известен описанием того, что называется бредом отрицания (nihilistic delusions, délire des négations)[1]. Однако до того, как придумать это определение, Котар впервые описал «бред ипохондрика в сильной меланхолии» в своем докладе на заседании Французского медико-психологического общества 28 июня 1880 года. В пример он привел случай 43-летней женщины, которая утверждала, что «у нее “нет мозга, нервов и внутренностей, а только кожа да кости”, а также, что “нет ни бога, ни дьявола”, и что ей не нужна пища, потому что “она вечна и будет жить вечно”. Она просила сжечь себя заживо и неоднократно пыталась покончить с собой».
Вскоре Котар ввел термин «бред отрицания», а после его смерти медики назвали этот синдром в его честь. Со временем «бред Котара» стал обозначать самый яркий симптом этого синдрома – уверенность пациента в том, что он мертв. Тем не менее синдром включает в себя набор симптомов, в число которых уверенность в своей мертвости или собственном несуществовании входит отнюдь не всегда. Другие симптомы – уверенность в том, что различные части тела или органы отсутствуют либо гниют, чувство вины, ощущение себя проклятым или обреченным и, как ни парадоксально, даже убежденность в собственном бессмертии.
Однако с философской точки зрения интереснее всего как раз вера в собственное небытие. До недавних пор краеугольным камнем западной философии являлось изречение французского философа XVII века Рене Декарта: «Я мыслю, следовательно – существую» (Cogito ergo sum). Декарт установил четкий дуализм разума и тела: тело принадлежит материальному миру, занимает пространство и существует во времени, тогда как сущность разума есть мысль, и он не простирается в пространство. Для Декарта cogito («я мыслю») не обозначало мыслительный процесс как «четкое и ясное интеллектуальное восприятие, не зависящее от чувств». Учение Декарта подразумевает, согласно философу Томасу Метцингеру, что «человек не может ошибаться относительно содержимого своего разума».
Этот посыл картезианства искажается при многих расстройствах, включая болезнь Альцгеймера, при которой пациенты не отдают себе отчета о своем состоянии. Синдром Котара – также большая загадка. Метцингер утверждает, что нам стоит обратить внимание на то, каково это – страдать синдромом Котара; на то, что философы называют феноменологией расстройства. «Пациенты могут не только четко заявлять, что они мертвы, но и то, что они не существуют вовсе». Хотя заявления явно живого пациента о том, что он мертв, кажутся до невозможности нелогичными, они-то и составляют феноменологию синдрома Котара.
Я вышел из библиотеки на улицу Эколь де Медсин и обернулся, чтобы снова взглянуть на надпись «Университет Рене Декарта», высеченную в камне над колоннадой. В поисках следов Котара в университете имени Декарта была какая-то интрига. Что говорит расстройство, названное в честь Котара, о картезианстве? Не говорит ли пациент с синдромом Котара: «Я мыслю, следовательно – не существую?»
«Кто тот Я, который знает, что у меня есть телесное Я, образ Я, чувство самоидентичности во времени и личные стремления? Я знаю все это и, более того, я знаю, что я это знаю. Но кто обладает этой познавательной перспективой?» [2].
Вот именно – кто? Лиричные рассуждения американского психолога Гордона Олпорта в абзаце выше формулируют главную загадку человеческого бытия. Мы инстинктивно и в мельчайших подробностях знаем, кого он имеет в виду. Он здесь, когда мы просыпаемся, и исчезает, когда мы засыпаем, – возможно, затем, чтобы появиться в наших снах. Это ощущение прикрепленности к телу, которым мы владеем и распоряжаемся и посредством которого мы воспринимаем мир. Это чувство персональной идентичности, растянутое во времени, от самых первых воспоминаний и дальше, в воображаемое будущее. Все это увязано в единое целое. Это – наше самосознание. И все же, хотя ближе себя самого никого нет, познание природы «себя» остается величайшей задачей.
Очевидно, что самость, – self, – завораживала человечество на протяжении всей его истории. Павсаний, греческий путешественник и географ II века н. э., приводит изречения семи мудрецов с фронтона Аполлона в Дельфах. Одно из них – «познай себя».
Кена-упанишада, один из самых аналитичных и метафизических индуистских текстов, начинается так: «Кем посылается ум, что попадает в свою цель? <…> Кем приведено в движение слово, что говорят люди? Кто предназначил глаз и ухо к их работе?»[3]. Блаженный Августин говорил о времени, но вполне мог сказать так о «я»: «Если никто меня о нем не спрашивает, то я знаю – что, но как объяснить вопрошающему – не знаю»[4].
От Будды до современных философов и представителей нейронаук люди ломают голову над природой личности. Реальна ли она или это только иллюзия? В мозге ли личность, и если да, то где она там? Нейронауки говорят, что наше самоощущение – следствие сложнейших взаимодействий между мозгом и остальным телом, процессов в нервной системе, которые изменяют личность миг за мигом, и эти мгновения сливаются воедино, давая нам целостное ощущение индивидуальности. Мы часто слышим, что личность – это иллюзия, сложнейший трюк, разыгранный природой. Однако все рассуждения о трюках и иллюзиях скрывают главную истину: убери личность – и не будет никакого «я», которое можно было бы одурачить, а иллюзия лишится объекта.
От Университета Декарта примерно полчаса пешком по Рю де Эколь (rue des Écoles), мимо Национального музея естественной истории, до больницы Питье-Сальпетриер, где Жюль Котар начал свою карьеру интерном в 1864 году. Туда я пришел на встречу с Дэвидом Коэном, руководителем отделения детской и подростковой психиатрии.
За время своей врачебной практики Коэн наблюдал немало пациентов с синдромом Котара, что, учитывая редкость этого расстройства, дало ему возможность как следует к нему присмотреться. Мы говорили о конкретной пациентке – пятнадцатилетней Мэй, одной из самых молодых больных синдромом Котара, известных науке. Коэн ее не только лечил, но и много общался с ней после выздоровления, что позволило ему установить связь ее иллюзий с личной историей. Ему удалось пронаблюдать, как личность, даже в расстроенном состоянии, как при синдроме Котара, подвергается влиянию персонального нарратива и даже преобладающих культурных норм.
Примерно за месяц до того, как попасть к Коэну, Мэй стала ощущать очень сильную тоску и подавленность, а затем и сомневаться в собственном существовании. К моменту поступления в больницу она была в кататоническом состоянии – молчала и не двигалась. «Она пугала даже медсестер», – сказал мне Коэн. Однако после нескольких дней в психиатрическом стационаре она восстановилась достаточно для того, чтобы произносить в день несколько слов, которые аккуратно записывали медсестры. Из таких обрывистых подсказок и разговоров с ее родителями Коэну удалось понять, что произошло с Мэй.
Семья Мэй – из среднего класса, католики, кроме нее еще двое детей. Сестра, на десять лет ее старше, вышла замуж за стоматолога. В семье были случаи депрессии: мать Мэй до ее рождения страдала от депрессии, а одна из теток проходила курс электросудорожной терапии (ЭСТ). Во время сеанса ЭСТ через мозг пациента пропускается электрический ток, который вызывает судорожный припадок. Часто ЭСТ эффективна при лечении тяжелых депрессий, хотя к ней почти всегда прибегают в качестве последнего средства, когда ничто другое уже не помогает[5].
Расстройство Мэй вписывалось в классическое определение синдрома Котара. «Она говорила нам, что у нее нет зубов, нет матки, и что ей кажется, что она уже умерла». Коэну было довольно сложно описать ее состояние на неродном для него языке: «Не знаю, как это по-английски… morts vivants». Потом я посмотрел в словарь: в дословном переводе с французского это «живые мертвые».
«Она хотела, чтобы ее похоронили… в гробу», – говорил Коэн.
Спустя шесть недель лечение не принесло результата, и Коэн предложил ЭСТ. С учетом семейной истории ее родители немедленно дали согласие. После шести сеансов Мэй вроде бы вернулась к норме, и Коэн решил прекратить электросудорожную терапию, но немедленно случился рецидив, и сеансы были продолжены. На этот раз лечение удалось, не считая головных болей, некоторой дезориентации и небольших провалов в памяти. Когда Мэй заговорила, казалось, что она проснулась после кошмарного сна.
Разговор Коэна с Мэй, – когда шла речь об иллюзиях, врач просил ее откровенно говорить обо всех ассоциациях, которые только приходили в голову, – выявил интересные совпадения. Например, иллюзия отсутствия зубов, похоже, была как-то связана с мужем ее сестры, стоматологом. Коэну показалось, что Мэй питает к свояку какие-то чувства. Она говорила о том, что ни за что не хочет у него лечиться. Коэну снова было трудно подобрать английское слово, он сказал “pudique” – «застенчивая». Она говорила о свояке «так, что было понятно, что она перед ним ни за что не разденется догола». Иллюзия отсутствия матки была связана, вероятно, с эпизодами мастурбации. «Она чувствовала себя очень виноватой из-за этого и думала, что, наверное, у нее будет бесплодие».
Коэн особо отметил, что конкретные иллюзии связаны с особенностями биографии и культурным контекстом. Для подтверждения последнего он привел пример 55-летнего мужчины, который был его пациентом в 1990-е годы. Коэн диагностировал у него синдром Котара. Этот пациент считал, в частности, что болен СПИДом, хотя на самом деле этой болезни у него не было. Коэн пришел к выводу, что это связано с его гиперсексуальностью в маниакальной фазе биполярного расстройства, от которого он также страдал. До 1970-х годов ипохондрические иллюзии у пациентов с синдромом Котара, если у них были также и венерические болезни, обычно связывались с сифилисом – бичом общества с точки зрения культуры тех лет. Что интересно, этот пациент также заразился сифилисом во время военной службы (Коэн провел анализ на антитела и убедился в этом). Однако его иллюзия в рамках синдрома Котара, который развился десятилетия спустя, оказалась связана не с сифилисом, а с ВИЧ и СПИДом, заместившими в общественном сознании сифилис в роли «божьей кары за плотские прегрешения». Сифилис же в качестве ипохондрической иллюзии при синдроме Котара теперь почти не встречается. По словам Коэна, «это единичный случай, [но], думаю, весьма показательный».
Для Коэна синдром Котара раскрывает механизмы самости. Расстройство – это глубокое нарушение жизненного равновесия и пример того, что «я» связано с телом, биографией и социокультурным окружением. Мозг, тело, разум, личность и общество неразделимо связаны между собой.
В Эксетере Адам Земан наблюдал что-то похожее у своего пациента Грэма. Иллюзией в этом случае было то, что разум жив, а мозг – мертв. «Это, так сказать, современная вариация бреда Котара. Чтобы вообразить, что мозг умер сам по себе… [нужно иметь] представление о смерти мозга, а это сравнительно недавнее медицинское открытие».
Еще более загадочным показался Земану характерный дуализм иллюзии Грэма, что «нематериальный» разум может существовать отдельно от мозга и тела. «Мне кажется, что это очень хорошая иллюстрация дуализма, к которому склонно большинство из нас. То, что разум может жить при мертвом мозге, – весьма радикальная его форма», – говорит Земан.
Если же отбросить философские рассуждения, то ситуация Грэма показалась Земану печальной: «Он был заторможенным и “уплощенным”, в его голосе почти не было эмоциональных ноток. Иногда проскакивало какое-то подобие улыбки, но в целом выражение лица было почти неизменным. Было ощущение, что его существование крайне уныло, а любая мысль требует немалых усилий».
Пациент с синдромом Котара обычно пребывает в глубочайшей депрессии – куда более глубокой, чем большинство из нас может представить. Это мне продемонстрировал еще один французский психиатр, Уильям де Карвальо (William de Carvalho), щеголеватый франко-сенегалец, с которым я тоже встретился в Париже, в его офисе на авеню Виктора Гюго. Он проиллюстрировал мне линейным графиком место на шкале депрессии, где находится синдром Котара. Слева он отметил «норму», потом добавил справа: «в тоске», «в депрессии», «в глубокой депрессии», «в меланхолии» – через равные промежутки. Затем он добавил ряд точек, потому что последовательность стала нелинейной, и в конце этого ряда написал: «синдром Котара». Элегантный в словах не менее, чем на вид, он выразился так: «Синдром Котара похож на огромную черную стену высотой от Земли до Сатурна, по другую сторону которой не заглянуть при всем желании».
У де Карвальо была частная практика, но помимо нее он работал и в парижской больнице Святой Анны. Он вспомнил, что в начале 1990-х у него был пациент с синдромом Котара и классическими признаками «меланхолической омеги». Это определение проистекает из описаний меланхолии в книге Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у людей и животных»: «выражение лица, при котором кожа сморщивается над носом и между бровей и напоминает греческую букву “омега”». На основании живых описаний Дарвина термин «меланхолическая омега» предложил в 1878 году немецкий психиатр Генрих Шюле (Heinrich Schüle).
Пациентом доктора де Карвальо был пятидесятилетний инженер и поэт. Мужчина сфальсифицировал попытку убийства своей жены: он схватил ее руками за шею, остановился и попросил вызвать полицию. Когда полицейские прибыли, они увидели крайне беспокойного, скорее даже невменяемого человека, так что вместо участка они отвезли его прямо в больницу Святой Анны. (Этот случай был своего рода повторением: в 1980 году французский философ Луи Альтюссер, страдавший от депрессии, задушил свою жену, и его сперва отвезли в психбольницу вместо тюрьмы.)
На следующий день де Карвальо встретился с этим человеком в больнице. «Я его спросил: “Зачем вы попытались убить свою жену?”. Он ответил: “Ну, за такое преступление я заслуживаю отрубания головы”. Он надеялся, что его убьют, хотя смертная казнь во Франции уже была отменена».
Этот пациент демонстрировал крайнюю форму еще одного симптома синдрома Котара – чувство вины. «Он сказал мне тогда, что он хуже Гитлера. Он попросил нас помочь с его убийством, потому что он слишком плох для человечества».
Пациент потерял вес, борода его разрослась и растрепалась, он перестал мыться, потому что считал, что не имеет права принимать душ и использовать столько воды. В больнице решили снять о нем фильм (для собственного архива), когда он еще страдал от синдрома Котара. Во время съемки он как-то натянул себе на голову белую простыню, сказав де Карвальо: «Я так ужасен, что не хочу, чтобы люди на меня смотрели и касались такой гадости». Доктор ему ответил, что это всего лишь фильм, и никто его таким образом не коснется, и услышал в ответ: «Я знаю, но все равно я очень плохой». Общественное сознание повлияло на иллюзию и этого человека: он был уверен, что именно он был виноват в эпидемии СПИДа[6] и что другие люди могут подхватить эту болезнь, просто посмотрев запись.
Спустя много месяцев, когда он выздоровел (и лечение включало электросудорожную терапию), де Карвальо посмотрел с ним вместе этот фильм. В конце двадцатиминутной записи бывший пациент повернулся к доктору и сказал: «Это было очень интересно, но кто это?». Де Карвальо показалось, что тот шутит: «Это вы», – сказал он. «Нет, это не я», – был ответ.
Вскоре де Карвальо понял, что не стоит пытаться его переубедить: это был совсем не тот человек, который погрузился во тьму синдрома Котара.
Учитывая, сколь сильна депрессия при этом заболевании, психиатрам казалось странным, почему большинство больных не пытаются совершить самоубийство. Отчасти, конечно, оттого, что пациенты неспособны на решительные действия, как олень в свете фар автомобиля. Однако де Карвальо считает, что они не пытаются покончить с собой, потому что уверены, что уже умерли. «А мертвее мертвого не будешь».
Когда Земан начал беседовать с Грэмом и осознал, сколь глубока депрессия и сильны иллюзии, он заподозрил глубинную неврологическую причину. Что-то изменило самоощущение Грэма и восприятие им своего окружения. Один специалист, тем не менее, знал, где искать ответ: Стивен Лорис из Льежского университета в Бельгии. С согласия Грэма Земан отправил его в Льеж в компании санитара. Грэм добрался до университетской больницы Льежа и спросил доктора Лориса.
Помощница подняла телефонную трубку. Лорис, как и Земан, никогда не забудет этот звонок: «Доктор, у меня тут пациент, который говорит мне, что он мертв. Подойдите, пожалуйста».
Многие пациенты, с которыми работает Лорис, находятся в очень плохой форме. Какие-то в коме, какие-то в состоянии невосприимчивого бодрствования (в российской практике, как и ранее в зарубежной, это называется «вегетативным состоянием»), кто-то в минимальном сознании, а у других синдром запертого человека (они находятся в сознании, но полностью парализованы и могут лишь двигать глазами).
Спустя более десяти лет работы с такими пациентами, а равно и со здоровыми людьми, группа Лориса определила сеть ключевых участков мозга в лобной доле (части коры головного мозга сразу за лобной костью черепа) и в теменной доле (расположенной сразу за лобной). Лорис считает активность этой сети индикатором осознанного восприятия. Это восприятие, по его словам, можно проанализировать в двух измерениях. Первое – это восприятие внешнего мира: все, что вы ощущаете с помощью чувств, будь то зрение, осязание, обоняние, слух или вкус. Другое измерение – это внутреннее восприятие, куда теснее связанное с личностью, которое включает ощущение своего тела; мысли, порождаемые независимо от внешних стимулов, а также создание мысленных образов – как правило, самореферентных. «Безусловно, так ограничивать подход к сознанию во всей его сложности и полноте – это сверхупрощение, но мне кажется вполне разумным ограничиться этими двумя измерениями», – подчеркивает он.
И, разумеется, группа Лориса продемонстрировала, что лобно-теменная сеть, связанная с осознанным восприятием, – это на самом деле две различные сети. Активность в одной соответствует восприятию внешнего: это сеть латеральных лобно-теменных участков мозга, зоны на внешних сторонах лобной и теменной долей. Другая коррелирует с восприятием внутреннего и, предположительно, связана с аспектами личности. Это сеть зон вдоль срединной линии – медиальные части лобной и теменной долей рядом с продольной щелью, разделяющей два полушария.
Изучение здоровых пациентов показало, что эти два измерения восприятия имеют обратную корреляцию: если вы обращаете внимание на внешний мир, то активность в сети, связанной с восприятием внешнего, возрастает, тогда как в участках, связанных с восприятием внутреннего, она снижается, и наоборот.
Помимо этой лобно-теменной сети, есть еще один важнейший отдел мозга, участвующий в осознанном восприятии, – таламус. Между таламусом и лобно-теменной сетью существуют двусторонние связи, и Лорис в своих исследованиях предполагает, что динамика обмена информацией и ее обработки в этих отделах – это то, благодаря чему мы переходим из состояния «едва проснулся» до полного сознательного восприятия окружающего мира.
В ходе нашего диалога Лорис, однако, настаивал, что «нам не стоит скатываться в неофренологию», имея в виду френологию, сомнительную дисциплину, которой положил начало австрийский[7] врач Франц Йозеф Галль (1758–1828). Галль утверждал, что за каждую умственную способность отвечает свой особый отдел мозга, и эти отделы формируют определенные выступы на черепе. Согласно этой теории, можно было просто пощупать чей-нибудь череп и выяснить таким образом относительную силу «органов» в мозге этого кого-то. Лорис также подчеркнул, что личность нельзя определить в какую-то одну часть мозга.
Когда Лорис встретился с Грэмом, тот тоже показался ему весьма подавленным. Лорис отметил, что зубы Грэма почернели, потому что он перестал их чистить. Грэм повторил Лорису то же, что рассказал Адаму Земану: что его мозг мертв. «Он отнюдь не притворялся, – сказал мне Лорис, – так что мы его просканировали».
Я спросил, не был ли он против сканирования. Лорис ответил: «Он сказал: “Мне все равно”». Несмотря на свое состояние, Грэм, говоря о себе, продолжал употреблять «я» – местоимение первого лица в единственном числе.
Коллектив Лориса провел два томографических сканирования мозга Грэма – магнитно-резонансное (МРТ, MRI) и позитронно-эмиссионное (ПЭТ, PET). МРТ не выявила никаких структурных изменений мозга. А вот изображения с позитронно-эмиссионного томографа показали кое-что очень интересное: метаболическая активность лобно-теменной сети, связанной с осознанным восприятием внешнего и внутреннего, оказалась очень низкой. Часть сети осознанного восприятия внутреннего составляет так называемая СПРРМ, сеть пассивного режима работы мозга, которая продемонстрировала активность в процессе самореферентных действий. Ключевой узел этой сети – отдел мозга, называемый предклиньем (прекунеус, precuneus) – имеет больше связей с другими отделами мозга, чем большинство других частей. В случае Грэма СППРМ и предклинье вели себя слишком тихо – почти так же, как Лорис наблюдал у пациентов в состоянии невосприимчивого бодрствования. Конечно, Грэм был под действием медикаментов, но Лорис считает, что только лишь действием лекарств столь низкий метаболизм объяснить нельзя.
Замедленный обмен веществ также был отмечен на латеральных поверхностях лобных долей – в частности, отделов, которые, как известно, задействуются в процессе рационального мышления.
Хотя и Лорис, и Земан предостерегают от поспешных выводов на основании лишь одного случая, подобный результат наводит на размышления. Весьма вероятно, что сниженная метаболическая активность в области срединных областей мозга привела к тому, что у Грэма изменилось самовосприятие – вероятно, резко снизилось самосознание. Однако поскольку обмен веществ замедлился и в других частях лобных долей, пациент оказался не в состоянии вывести себя из этого измененного состояния, как это, возможно, удалось бы ему в ином случае. Он убедил себя в смерти своего мозга.
Более свежее исследование, опубликованное в ноябре 2014 года, также говорит в пользу этой гипотезы. Два индийских врача лечили 65-летнюю женщину с деменцией, и в какой-то момент она стала демонстрировать классические признаки бреда Котара. Саянтанава Митра из мединститута имени Сароджини Найду в Агре написал мне в электронном письме: «Наша пациентка утверждала: “Думаю, что я умерла, и я – не я”, “Я не существую”, “В моем мозге ничего нет, там просто вакуум”, и “это заразно, я заражаю своих близких родственников и виновата во всех их страданиях”».
Коллектив Митры сделал ей магнитно-резонансную томографию, которая показала, что лобно-височные области мозга атрофировались. Они, в частности, отметили, что один из глубинных отделов, островок Рейля, был сильно поврежден в обоих полушариях. В последнее время появляется все больше доказательств, что островок Рейля отвечает за субъективное восприятие состояния тела – один из важнейших аспектов осознанного восприятия собственного «я». Таким образом, поврежденный островок Рейля, вероятно, затруднял восприятие пациенткой собственного тела, а деменция подрывала ее способность противостоять ложным ощущениям, что и привело ее к убежденности в том, что она мертва.
Врачи прописали ей умеренные дозы нейролептиков и антидепрессантов. Она оправилась достаточно для того, чтобы участвовать в психотерапевтических сеансах, в которых врач использовал МРТ-изображения ее мозга, чтобы, по словам Митры, «доказать ей, что ее уверенность в смерти ее мозга – чушь». Психотерапевту удалось заставить пациентку отказаться от ложной убежденности. В итоге женщину выписали, и ее состояние при помощи лекарств продолжает улучшаться.
Грэм в итоге тоже выздоровел. К счастью, у большинства людей синдром Котара излечим, хотя лечение иногда включает электросудорожную терапию.
«Полагаю, что бред Котара – это победа метафоры над сравнением, – сказал мне Земан. – Бывает, что всякий из нас, просыпаясь утром, чувствует себя полумертвым. Так что изменения самовосприятия, которые можно выразить подобным сравнением, не так уж редки. Однако самое удивительное в синдроме Котара то, что люди, им страдающие, начинают трактовать такое сравнение буквально. А чтобы это случилось, должно произойти какое-то потрясение рассудка».
Малое количество пациентов с синдромом Котара означает, что нейробиологические основы их иллюзий еще предстоит полностью понять. Но все же ясно, что синдром Котара позволяет нам приоткрыть завесу тайны над природой личности.
Возьмем, например, то, что философ Шон Галлахер называет принципом иммунитета – эта идея восходит к трудам австрийского философа Людвига Витгенштейна. Имеется в виду, что если сказать, к примеру: «Я считаю, что Земля плоская», то это будет заблуждением относительно формы планеты Земля, но не будет таковым в части «я» – субъективной личности, высказывающей суждение. При использовании местоимения «я» оно относится исключительно к субъекту восприятия и ни к кому более. Я ведь не могу ошибаться на этот счет? Или могу?
Расстройство Котара определенно заставляет философов задуматься (если их вообще надо к этому принуждать), так же, как и другие заболевания – скажем, шизофрения. В бреде Котара твердое убеждение «Я не существую», казалось бы, опровергает принцип иммунитета. Но даже если заблуждающийся и не прав по поводу природы своего существования (что в данном случае аналогично плоскости Земли), принцип иммунитета несокрушим, потому что все равно есть «я», высказывающее суждение, и это «я» относится исключительно к тому, кто считает себя несуществующим.
Что или кто есть это «я»? Этот вопрос красной нитью проходит через всю эту книгу. Кем бы или чем бы ни было «я», оно заявляет себя субъектом некоего опыта.
Но как мозг, со всеми его физическими, материальными процессами, порождает кажущуюся нематериальной частную психическую жизнь (в основе которой, похоже, находится «я», субъективность)? Это и есть так называемая трудная проблема сознания. Нейронауки пока на этот вопрос ответить не могут. Философы с пеной у рта спорят о том, может ли наука решить эту проблему, или же она иллюзорна и исчезнет, когда мы лучше узнаем устройство мозга. В этой книге нет решения трудной проблемы сознания с точки зрения нейронаук, потому что такого решения пока нет вовсе.
Однако эта книга обращается к природе личности. Один из способов рассуждать о личности – это предположить ее многогранность. Мы не есть что-то одно ни для других, ни даже для себя, мы многолики. Великий американский психолог Уильям Джеймс определил по меньшей мере три[8] такие грани: «материальное Я», включающее в себя все, что «я» отождествляет с «собой» или «своим»; «социальное Я», зависящее от взаимодействия с другими («у человека столько социальных Я, сколько индивидуумов признают его и имеют его образ в своем сознании») и «духовное Я» («внутреннее и субъективное бытие человека, его психические возможности и установки»).
В поиске «я» весьма помогает представление его в двух категориях – «Я-объект» и «Я-субъект». Получается, что некоторые «Я-объекты» оказываются сами себе субъектами. Например, если вы говорите: «Я счастлив», то чувство счастья, которое составляет часть вашего самоощущения на этот момент, относится к категории «Я-объекта». Вы осознаете это состояние как состояние вашего бытия. Однако «я», которое ощущает счастье, осознает свое собственное счастье – это более скользкое, трудноуловимое «Я-субъект». То же самое «я» может пребывать и в депрессии, и в экстазе, и в любом другом состоянии между этими полюсами.
Если мы будем помнить об этом различии (если взять работы Лориса, в которых показано, что у здоровых субъектов активность лобно-теменной сети постоянно переключается между восприятием внешнего и внутреннего), окажется, что изменяется содержимое сознания: от восприятия внешних стимулов к восприятию аспектов своего «я». Когда вы осознаете себя, включая свое тело, воспоминания и историю жизни, аспекты «я» становятся содержимым сознания. Это составляет «Я-объект».
Возможно, что части этого «Я-объекта» при синдроме Котара не воспринимаются ярко. То, что определяет объекты в нашем сознании как «мое» и «не мое», дает сбои (в следующих главах мы рассмотрим некоторые механизмы, которые могут отвечать за это определение). В случае Грэма, вероятно, не хватало чувства «моего» – живости восприятия того, что обычно относится к телу и/или эмоциям. В итоге несостоятельная убежденность в том, что он пребывает в состоянии клинической смерти, укоренилась в его осознанном восприятии как нечто само собой разумеющееся, при условии, что латеральные лобные доли его мозга были малоактивными и работали плохо.
Но независимо от того, осознает человек происходящее или нет, есть ли кто-то, кто всегда будет субъектом ощущения? Если вы полностью поглощены чем-то внешним, скажем, меланхоличным скрипичным соло, и в вашем сознании нет никакой информации о «я», будь то ваше тело или ваша работа, – покидает ли вас чувство, что именно вы испытываете это ощущение?
Чтобы поближе подобраться к некоторым ответам, можно обратиться к восприятию людей, страдающих от различных нарушений самоидентичности, и это восприятие будет своего рода окном в самоидентичности. Каждое подобное расстройство проливает свет на какой-либо фрагмент самоидентичности, нарушенный расстройством и иногда приводящий к разрушительным заболеваниям.
Эти слова из книги Лары Джефферсон «Это мои сестры: Записки изнутри безумия» (Lara Jefferson, These Are My Sisters: A Journal from the Inside of Insanity) не оставляют сомнений в ущербе, наносимому «я» шизофреника. «Что-то со мной случилось – не знаю что. Все, что было мной, раскрошилось и рассыпалось в прах, и из этого возникло создание, о котором я не знаю ничего. Я ее не знаю… Она нереальна – она не я… она я – и потому что я все еще при себе, то даже если я маньяк, я обязана как-то с собой разобраться».
Все же в разрушении есть подсказки, что же делает нас теми, кто мы есть. Эти заболевания для изучения «я» – то же, что очаговые поражения для изучения мозга. Это трещины на фасаде «я», которые позволяют нам изучить не доступный иным образом, практически неприступный, текущий и постоянный нейронный процесс. Пусть содержимое следующих глав – вовсе не исчерпывающий список всех нейропсихологических расстройств личности, я выбрал те из них, которые отвечают двум критериям: во-первых, они подходят для изучения какого-то определенного аспекта «я» и, во-вторых, есть заметные текущие исследования, которые направлены именно на изучение таких состояний в разрезе «я».
В случае с болезнью Альцгеймера есть ощущение истории с продолжением. Если вы не можете декларативно ответить на вопрос «Кто я?» («Я Ричард», «я отставной профессор» и так далее) потому, что вас подводит память, или же потому, что повреждены отделы и участки мозга, отвечающие за эти характеристики, пропало ли у вас ощущение своего «я»? Если пропало, то целиком ли? А вдруг, несмотря на распад целостного самоописания, – того, что иногда называется нарративом или автобиографическим «я», – другие аспекты вас все еще функционируют?
Ральф Уолдо Эмерсон[9], вероятно, страдал от болезни Альцгеймера. При этом он весьма красноречиво писал о памяти и ее роли в формировании нас такими, какие мы есть. Однако Эмерсон был до странности равнодушен к своей собственной деменции. Это одно из свойств болезни Альцгеймера – больные не отдают себе отчета о своем состоянии. Болезнь по кусочкам разбирала его личность, включая и самоидентификацию как больного.
В следующей главе мы рассмотрим болезнь Альцгеймера и ее роль в разрушении личности, одновременно задаваясь вопросом: сохранилась ли хоть сколько-нибудь личность в теле, несмотря на сильные повреждения мозга на поздних стадиях болезни? Знаменитый американский композитор Аарон Копланд (1900–1990) также страдал от болезни Альцгеймера. Иногда он не понимал, где он находится, но все равно мог дирижировать оркестром, исполняющим его сюиту «Весна в Аппалачах». Так кто же размахивал дирижерской палочкой?
Синдром нарушения восприятия целостности собственного тела – любопытное состояние, в котором люди ощущают, что какие-либо части их тела, – обычно конечности, – им не принадлежат. Нередко это приводит к тому, что они отсекают эти части. И это, как бы ужасно оно ни было, позволяет нам взглянуть на то, как мозг выстраивает ощущение собственного тела, «телесное Я».
Шизофрения может фрагментировать личность, но эта фрагментация неполная благодаря чувству контроля над своими действиями, которое есть у каждого из нас. А что, если это чувство, – важнейший аспект «я» – дает сбой? Приведет ли это к психозу?
Далее, есть деперсонализация – расстройство, которое лишает личность эмоционального субстрата и делает нас чужими самим себе и подчеркивает роль эмоций и чувств в создании личности.
Аутизм может дать ключ к развитию личности. Дети с расстройствами аутистического спектра обычно не могут инстинктивно «считывать» других людей, что впоследствии приводит к трудностям социального взаимодействия, однако не связана ли эта способность со способностью к «считыванию» собственного разума и, следовательно, с самосознанием? Недавно вышла крайне интересная новая работа, в которой предполагается, что корни этой неспособности лежат в неспособности мозга с аутистическим расстройством рационализировать тело и его взаимодействие с окружающим миром, что приводит сначала к неуверенному «телесному Я», а потом и к поведенческим проблемам.
Внетелесные переживания и более сложный эффект доппельгангера (при котором люди взаимодействуют с двойником собственного тела) показывают, что даже самые элементарные вещи, которые мы принимаем как должное, – привязка к телу, идентификация себя с ним и взгляд на мир только глазами, – могут дать сбой, позволяя нам, таким образом, взглянуть на компоненты, необходимые для «низкоуровневого я», которое, по идее, предстоит всему прочему.
Экстатические припадки порождают состояние на границе мистического, когда мы действительно находимся здесь и сейчас и полностью осознаем свое существование, но при этом, парадоксально, мы безграничны и приходим к состоянию трансцендентального единства. Укажет ли это состояние на сущность личности – такой, которая, наверное, живет считанные мгновения и составляет предмет спора о том, существует ли личность вовсе?
В завершение мы отправимся в Индию, в Сарнатх, где Будда произнес свою первую проповедь два с половиной тысячелетия назад. Буддистское отрицание «я» симфонично тому, что о «я» говорят некоторые современные философы, что «я» иллюзорно. Но так ли это? Говорит ли эмпирический опыт в пользу того, что «я» – выдуманная сущность? То, что мы узнаем, изучая нарушения личности, помогает нам найти ответы на старые вопросы и, наверное, задать несколько новых.
Будучи в Париже у Дэвида Коэна, я спросил его о Мэй, пятнадцатилетней пациентке с синдромом Котара: «Кто та, кто говорит, что ее не существует?». Коэн ответил: «Это и есть тайна психиатрии. Мы всегда считаем, что есть что-то… что поддерживает связь с реальным миром даже в самом безумном состоянии».
В Льеже аспирантка Стивена Лориса Афина Демерци, которая помогала сканировать и лечить Грэма, рассказала о нем то, что напомнило мне, что несмотря на иллюзию смерти мозга, самое главное сохранилось. Сразу после того, как Грэм вылез из томографа, Демерци спросила его:
– Вы в порядке?
– Да, – ответил Грэм.
– Живы-здоровы?
– Не то что жив, но здоров, – был выразительный ответ.
Личность невероятно крепка и пугающе хрупка. Надеюсь, что эта книга поможет нагляднее представить ключевой парадокс того, что мы есть.
Глава 2
Разгадка вашей истории
Память, личность, нарратив и как в них разобраться
Память, соединяя непостижимую тайну с непостижимой тайной, творит невозможное силою своих божественных рук; скрепляет воедино прошлое и будущее, созерцая их, и существуя в том и другом… придавая целость и достоинство человеческой жизни. Она соединяет нас с нашей семьей и друзьями. Таким образом возможно создать дом.
Ральф Уолдо Эмерсон
Все эти моменты исчезнут во времени, как слезы под дождем
Репликант Рой Бэтти, к/ф «Бегущий по лезвию»
Я сижу с Алланом и Мишель в гостиной их калифорнийского дома. Аллан расположился на большом, коричневой кожи, диване с высокой спинкой; пышная белая борода, усы, лысеющая макушка и удивительно темные брови придают ему аристократический облик. На первый взгляд все вроде бы на месте. Мишель сидит в кресле рядом с ним. Я спрашиваю Аллана, есть ли у него братья или сестры. Он отвечает, что нет, немедля поправляясь: «А, у меня был брат, полоумный». «Умственно отсталый», – аккуратно вмешивается Мишель. «Умственно отсталый, – соглашается Аллан. – Никто не знал, что он был умственно отсталым, пока ему не исполнилось года четыре. Мне было восемнадцать. Я многого не понимал». «Но тебе было десять лет, когда ему было четыре», – говорит Мишель. «Хорошо», – отвечает Аллан.
Я спрашиваю: «Аллан, а хорошо ли вы помните своего брата?».
«Я расстраивался из-за него. Потому что он не мог говорить и все такое. Я с ним гулял или что-то в таком духе. Он ни разу не сказал ни слова». После короткой паузы Аллан добавляет: «Я даже не знаю, жив ли он. «Нет, милый, он умер, – говорит Мишель. – Он умер в тот год, когда мы с тобой встретились».
Аллан и Мишель познакомились почти тридцать лет назад. Аллан преподавал философию в колледже, Мишель в свои сорок была акушеркой, вернувшейся на студенческую скамью, ощутив, что жизнь ее зашла в тупик.
«Ты помнишь, как он умер?» – спрашивает Мишель. «Мне казалось, что он вроде как умер во сне».
На самом деле брата Аллана госпитализировали по поводу тромба. Он выпал из окна на верхнем этаже больницы и разбился насмерть. Тогда, тридцать лет назад, Аллан сказал Мишель, что его брат, учитывая его слабые умственные способности, не сообразил бы выпрыгнуть. Вероятно, он просто хотел домой и вышел через окно, думая, что он на первом этаже.
Когда Мишель напомнила об этом Аллану в ходе нашего разговора, он произнес: «А, я об этом хотел забыть, но нет… выпал из окна…». Он бормочет, его речь бессвязна.
«Что сказали в больнице?» – спросила Мишель. Аллан ответил: «Я был слишком расстроен и слишком мал, чтобы это понять».
Мишель поворачивается ко мне и напоминает, что, когда его брат умер, Аллану было пятьдесят лет.
21 декабря 1995 года немецкие ученые обнаружили голубую картонную папку, которую не могли найти почти девяносто лет. В ней содержалась история болезни некоей Августы Д., 51-летней жительницы Франкфурта. Рукописная заметка внутри, датированная 26 ноября 1901 года, содержала запись диалога между Августой [Детер] и ее лечащим врачом, Алоизием (Алоизом) Альцгеймером. Немецкие исследователи опубликовали ее в журнале «Ланцет»[10] в 1997 году. Ответы Августы выделены курсивом. Вопросы врача – жирным шрифтом[11].
Она сидит на кровати с беспомощным выражением на лице. Как вас зовут? Августа. Ваша фамилия? Августа. Как зовут вашего мужа? Августа, думаю. Вашего мужа? Ах, моего мужа… Она смотрит на меня, будто бы не понимая вопроса. Вы замужем? За Августом. Фрау Д.? Да-да, Августа Д. Сколько времени вы уже провели здесь? Три недели. Что это? Я показываю ей карандаш. Ручка. Сумочку, ключ, дневник и сигару она определила верно. На обед она ест цветную капусту и свинину. На вопрос, что она ела, отвечает шпинат. Когда она жевала мясо, то на вопрос, что она ест, ответила картофель, а потом хрен. Когда ей показывают различные предметы, спустя короткое время она не помнит, какие предметы ей показывали. В промежутках она всегда говорит о близнецах.
Спустя три дня Альцгеймер записал следующее:
На какой улице вы живете? Я вам скажу, мне надо немного подождать. О чем я вас спросил? Ну, это Франкфурт-на-Майне. На какой улице вы живете? Вальдемарштрассе, не, нет… Когда вы вышли замуж? Я сейчас не знаю. Та женщина живет на том же этаже. Какая женщина? Та женщина там, где мы живем. Пациентка называет: Фрау Г., фрау Г., здесь, ступенькой ниже она живет… Я показываю ей ключ, книгу и карандаш, она называет их правильно. Что я вам показал? Я не знаю, я не знаю. Это сложно, не правда ли? Так волнительно, так волнительно. Я показываю ей три пальца: Сколько пальцев? Три. Вы все еще взволнованы? Да. Сколько пальцев я вам показал? Ну, это Франкфурт-на-Майне.
Августа умерла 8 апреля 1906 года. К тому моменту Альцгеймер переехал из Франкфурта в Мюнхен, где работал в Королевской психиатрической клинике, так что он попросил переправить мозг Августы туда. Он «подготовил образцы из тонких срезов ткани этого мозга [и] пропитал их солями серебра». Зафиксировав эти срезы между стеклянными пластинками, «Альцгеймер отложил свою всегдашнюю сигару, снял пенсне и внимательно посмотрел в свой великолепный цейссовский микроскоп. Там, под увеличением в несколько сотен раз, он наконец увидел ее заболевание».
Прошло лето. Осенью, 4 ноября, Альцгеймер представил свои открытия на 37-й Конференции психиатров Юго-Западной Германии в Тюбингене. У Августы, по его словам, было «прогрессирующее нарушение когнитивных функций, очаговые симптомы, галлюцинации, иллюзии и психосоциальная некомпетентность». Более того, клетки коры ее мозга показывали странные отклонения.
В следующем году Альцгеймер опубликовал статью, озаглавленную «Характерное серьезное заболевание коры головного мозга», в которой он подробно описал эти отклонения. Одно из них было обнаружено внутри нейронов: «в центре нормальной в прочих отношениях клетки выделяются характерной толщиной и особой плотностью одна или несколько фибрилл». Альцгеймер также отметил и описал «милиарные очаги» – участки между клетками, в которых он обнаружил скопления странного вещества.
Это была новая форма деменции. В 1910 году Эмиль Крепелин, директор Королевской психиатрической клиники, предложил для обозначения таких странных случаев деменции термин «болезнь Альцгеймера» и написал: «Все еще неясно, как клинически интерпретировать эту болезнь Альцгеймера. Хотя анатомические исследования предполагают, что мы имеем дело с очень серьезной формой сенильной деменции, фактически это заболевание иногда начинает развиваться незадолго до наступления пятидесятилетнего возраста».
Аномалии, обнаруженные Альцгеймером в мозге Августы Д., были тем, что сейчас называется нейрофибриллярными клубками и бляшками бета-амилоидного белка. Хотя исследователи в области нейронаук продолжают спорить, с чего все начинается – с нейрофибриллярных клубков или же с бета-амилоидных бляшек (а некоторые хотят выяснить, есть ли у этих нейропатологий предшественники), очевидно, что эти необычные белки участвуют в безжалостном развитии болезни Альцгеймера.
Если бы Августа Д. пришла на прием к невропатологу в наши дни, у нее была бы диагностирована болезнь Альцгеймера.
В середине 1980-х, когда акушерство в Калифорнии регулировалось мягко, Мишель работала подменной акушеркой, помогая при родах на дому. Однако, когда законодательные ограничения в профессии стали для нее препятствием, она решила снова пойти в школу медсестер. В ходе учебы она посещала также и занятия по философии, которые вел харизматичный пятидесятилетний профессор. В кожаной куртке и больших роговых очках, с седой шевелюрой и такой же седой бородой, он неспешно входил в аудиторию, где не без драматизма обсуждал философию и деятельность правительств. Мишель вспоминала его слова: «Я считаю, что в правительствах должны работать румынские цыгане и балетные танцоры, а не диктаторы и жадные политики». Она была очарована.
Вскоре они начали встречаться («множество записочек на двери и тайные свидания после занятий», – говорила Мишель). Он разводился со своей женой и много пил; у нее тоже был трудный брак, который начал рассыпаться как раз тогда, когда она снова стала студенткой. У обоих были дети. Но ничего из этого не остановило их, когда они влюбились друг в друга.
В день первой встречи с Алланом я спросил его о восторженном отношении Мишель к нему. «Скажем так, мы оба были в восторге друг от друга», – произнес он неожиданно твердым и уверенным голосом. «Это было… – тут он запнулся в поисках подходящего слова, – штуки, которые крутятся в воздухе». Я предложил «торнадо». «Да, торнадо», – согласился он.
Со временем они вместе купили дом (тот, куда я пришел), поженились, путешествовали вместе (и нередко – по Европе)[12] и выстроили свои жизни вокруг друг друга. Мишель вспомнила, что один из ее сыновей отметил это в тосте на их свадьбе: «Моя мама и Аллан всегда противостояли окружающему миру… У них получилось… Они стали жить друг для друга, невзирая на трудности».
Ничто в личности Аллана не указывало Мишель на то, что случится в будущем. «Когда это стало происходить, я не могла, не могла представить, что у него когда-либо будет деменция», – сказала она.
Первые звоночки прозвенели весной 2003 года. Мишель с Алланом отправились на выходные на Ийл-ривер в Северной Калифорнии и остановились в гостинице «Бенбоу Хисторик» в Гарбервилле. Когда они вернулись домой в понедельник, то обнаружили, что автоответчик буквально разрывался от сообщений, оставленных секретарем кафедры и студентами Аллана. Аллан напрочь забыл, что он запланировал на тот день итоговый экзамен. Это было первым серьезным признаком того, что с его памятью что-то не так.
В сентябре того же года они отправились в отпуск в Европу, и Мишель обнаружила, что Аллан не воспринимает ничего нового. Он постоянно терялся, не ориентировался в сельской Франции, вставлял банковскую карточку в терминал автоматического видеопроката и даже не мог собрать свой чемодан.
По возвращении в Калифорнию у Аллана проявились новые признаки деменции. Он забыл, как добраться до дома своей дочери, жившей неподалеку. Прочее тоже не складывалось: «Как-то я пришла домой и обнаружила, что он чистит ванну, не отключив электричество. А когда я сказала ему пойти и повернуть рубильник, он отправился в гараж, расположенный в другом конце дома»[13], – сказала мне Мишель.
На прием к неврологу они пришли спустя год. Аллан не смог пройти некоторые стандартные тесты (например, отсчитать от 100 по 7, что требует от пациента сосредоточения и помогает выявить ухудшение когнитивных способностей: 100, 93, 86, 79, 72 и т. д.), но все равно показал себя весьма неплохо, что врач отнес на счет высокого интеллекта Аллана. Результаты МРТ указали на закупорку некоторых мелких кровеносных сосудов. Невролог диагностировал раннюю стадию сосудистой деменции (затруднение когнитивных процессов из-за плохого мозгового кровообращения). Через несколько лет диагноз был изменен на болезнь Альцгеймера.
Тем временем менялась и личность Аллана. На протяжении всего их романа и до постановки диагноза супружеской жизни Аллан был добр и обаятелен. Конечно, у них с Мишель, как и у всякой пары, случались споры, но они разрешали их обсуждениями практически сразу. «Он был, – по словам Мишель, – исключительно адекватным».
А когда развилась болезнь Альцгеймера, он таким быть перестал. Малейший спор – и Аллан выбегал из дома, хлопнув дверью, и «мчался прочь в своей машине». Еще он без нужды писал записки – старая привычка, позволявшая заглянуть в его изменяющуюся личность. «Некоторые из них были очень обидными, – сказала Мишель. – Если я его зачем-то звала, он писал “Нытье номер 5”». Или просто: «Сука, сука, сука…».
Записки раскрыли и то, каким мучительным был для него диагноз «деменция». Мишель вспомнила одну из них, гласившую: «Вытащи меня из этой гребаной дыры». Аллан прочитал все книги о своей болезни, до которых смог добраться, и даже «Последний выход» – книгу, предлагающую неизлечимо больным выход в виде эвтаназии (ее он держал на столике в ногах кровати). Он сказал Мишель: «Я ни за что не хочу снова носить подгузники. Я не желаю оказаться в доме престарелых. Лучше отвези меня на Залив[14] и столкни с пирса». Мишель знала, что она этого ни за что не сделает. «Аллан, я не могу, меня посадят, – вспоминала она сказанное ему. – Меня обвинят в убийстве. Если ты хочешь так сделать, я это пойму, но сделай это сам. Я поддержу твое решение, но помогать тебе в этом не стану».
Перед лицом болезни Альцгеймера острота и интеллектуальный склад ума Аллана обернулись палкой о двух концах. «Для него не было ничего страшнее мысли о том, что он теряет то, что ценит больше всего – свой мозг, свой интеллект», – сказала Мишель.
«Болезнь Альцгеймера крадет у вас того, кто вы есть. Не думаю, что для человека есть что-то страшнее мысли о том, что есть накопленные за всю жизнь воспоминания, системы ценностей, место в семье и обществе, – и есть болезнь, которая подкрадывается и день за днем обрывает эти связи, раздирая по швам то, что действительно определяет, кто я как личность [курсив автора книги]», – говорит Рудольф Танзи, профессор неврологии в Гарвардском университете, красноречиво описывая пугающий исход болезни Альцгеймера в документальном фильме телекомпании PBS «Забывание: Портрет болезни Альцгеймера».
Поговорите немного с теми, кто, как Мишель, ухаживает за своими близкими и любимыми, и вы неизбежно придете к выводу, что болезнь разрушает саму сущность человека. По крайней мере, снаружи это выглядит именно так.
«Это очень тяжело, – говорит Клэр, шестидесятилетняя жительница Калифорнии норвежского происхождения, – когда кто-то, с кем ты вырос, исчезает прямо на твоих глазах». Отцу Клэр 90 лет, у него поздняя стадия болезни Альцгеймера. Родственники перевезли его в дом престарелых, но Клэр и ее мать часто посещают его. «Он не изменился внешне, но, когда смотришь ему в глаза – там ничего нет, – сказала мне Клэр голосом, переходящим в шепот, – там нет совсем ничего».
Обширная медицинская литература соглашается с Клэр. Взгляните на описания влияния болезни Альцгеймера: «постепенная эрозия личности», «распад личности», «дрейф к грани небытия», и даже «полная потеря себя».
При этом есть ученые, особенно в области общественных наук, которые подвергают эти утверждения сомнению. Если болезнь Альцгеймера разрушает личность, продолжается ли это разрушение до того, когда не остается в прямом смысле ничего? Мы знаем, что эта болезнь уничтожает когнитивные способности вплоть до того, что человек не может за собой ухаживать, когда надевание штанов или чистка зубов становятся чем-то невозможным. Не говоря уж о способности вспомнить дату и время, или об узнавании членов семьи. Учитывая, однако, что сенсорные и моторные функции не затрагиваются, остается ли что-то от личности, когда способности к распознаванию и им сопутствующие полностью стираются?
Ответы на эти вопросы заставляют нас вернуться к тому, что философы, ученые и специалисты по общественным наукам считают личностью. Кто-то уверен, что личность – это, в своем основании, повествовательный конструкт. Действительно, одна из ключевых особенностей личности – нарратив, повествование. То есть история или истории, которые мы рассказываем другим и, конечно же, самим себе, о том, кто мы есть. Эти истории зависят от вспоминания и воображения. «Индивиды составляют частные и личные истории, связывая различные события своих жизней в единые и понятные целые. Это истории о личности. Они – основа самоидентификации и самопонимания и отвечают на вопрос «кто я?», – писал психолог Дональд Полкингхорн.
Несложно принять то, что наши различные нарративы – это часть личности, но состоит ли личность исключительно из нарративов, или у нее есть иные аспекты, существующие до формирования нарративов? Некоторые философы настаивают, что нарративы составляют личность во всей ее полноте, – и когда нарратив исчезает, не остается ничего. Для них «личность – это ничего более созвездия переплетенных нарративов, возникающая сущность, которая постепенно разворачивается из историй (и, таким образом, формируется ими), которые мы рассказываем и рассказывали о себе».
Такой взгляд на нарратив-как-самость даже помещает когнитивный акт конструирования нарративов в сердце самобытия. Однако переживания людей, страдающих болезнью Альцгеймера, ставят как минимум два препятствия подобному взгляду на личность.
Первое – это идея о том, что познание и его роль в создании нарративов занимают центральное место в личности. Пиа Контос из университета Торонто наблюдала людей с деменцией более десяти лет и считает такой взгляд неверным. Она сказала мне: «Есть что-то в том, что мы есть, что существует отдельно и независимо от познания».
Она понимает, что это утверждение противоречиво. «В таком аспекте подвергается сомнению все западное представление о самости, поскольку основа [нашего понимания самости] – это рациональность, независимость и контроль. Это, скажем так, идет [от Декарта], от разделения между разумом и телом. Но это не просто разделение тела и разума, а весьма определенный взгляд на дуализм, в котором тело оттесняется в ничто. Тело здесь – просто пустая оболочка и абсолютно все, что касается самоощущения, чувства контроля, преднамеренности, – относится к разуму». Контос хочет ввести тело в дискурс самости, контроля и даже памяти.
Таким образом, даже если бы мы рассматривали самость как нарратив, этот нарратив не относился бы целиком к сфере познания – у тела здесь тоже есть право голоса.
Кроме того, болезнь Альцгеймера отвергает нарративоцентричный взгляд на личность и иным образом. Возникают трудности и у тех, кто утверждает, что наилучшим образом личность понимается как не только состоящая из нарративов, но и как составляемая ими, и что нет ничего, кроме собственно нарративов. Хотя заболевание и делает человека неспособным иметь и рассказать связную историю, нет ясного понимания того, что остается после того, как эта история распадается. «Никоим образом не очевидно, что… какой-либо оставшийся опыт – лишь анонимный и не имеющий принадлежности эпизод, в котором “субъект” более не чувствует боли или неудобства как собственных», – пишет философ Дан Захави. Понимание того, что остается после исчезновения нарративной личности, может нам указать на внутримозговые процессы, которые порождают личность.
Захави, например, настаивает на том, что личность, до того, как она становится нарративной, должна быть чем-то минимальным, чем-то способным быть субъектом опыта в любой отрезок времени.
Итак, несмотря на неумолимую деградацию, болезнь Альцгеймера позволяет нам исследовать личность с более глубокой и тонкой точки зрения. Проявляющаяся картина личности расскажет нам, каково быть человеком с конечной стадией Альцгеймера, и повлияет на наше отношение к таким людям.
Примерно в то же время, когда у отца Клэр диагностировали Альцгеймера, он отправился в местный полицейский участок – в маленьком городке в часе езды к северу от Сакраменто, Калифорния – и вручил полицейским свое ружье. «Я избавился от пушки, потому что боюсь, что решу ей воспользоваться», – объяснил он Клэр. Вскоре после этого родители Клэр продали ферму и переехали в дом поменьше. Ферма стала слишком тяжким бременем для них.
Родители Клэр переехали в Америку из Европы, когда девочке было четыре года. Отец был ученым, работавшим на крупную компанию, он пользовался бешеной популярностью, рано вышел на пенсию, приобрел ферму для своей семьи – мать Клэр всегда мечтала об этом – и стал вести совершенно новую жизнь среди фермеров и скотоводов. Во время одного из визитов на ферму Клэр заметила, что что-то не так. Они устроили барбекю. Отец, который всегда этим занимался, повернулся к Клэр и сказал: «Я совсем не знаю, как это делается». Клэр подумала было, что он шутит; конечно же он прекрасно знал, как готовить барбекю! «Ладно тебе, ты точно знаешь, что делать», – сказала она. «Нет, Клэр, нет. Что-то не так», – ответил он. Ему это казалось таким же странным, как и то, что он не мог вспомнить некоторые слова.
Он и раньше говорил Клэр, что временами ему приходится подбирать нужные слова для понятий, которые были у него в уме (подобным образом Аллан боролся со словом «торнадо»). Клэр поняла, что для отца это было серьезно. «Наверное, все так говорят о своих отцах, и особенно о своих отцах с болезнью Альцгеймера, но в моем случае, думаю, это было правдой, – рассказывала мне Клэр. – Он был необычайно образованным человеком. Он говорил на семи языках и говорил хорошо. Так что слова обычно не представляли для него трудности, и, когда они начали ускользать от него, он был весьма этим озабочен».
А забот прибавлялось. Клэр вспомнила один ключевой момент, когда она поняла, что отцу становится хуже. Подтолкнуло ее к этому открытию его давнее увлечение – парусный спорт. Он был опытным моряком, ориентировался в море ночью по звездам, порой снимал судно, приглашал друзей и путешествовал по Великим озерам, даже по Карибскому морю. Однажды, в 1980-х, они плыли вдоль Сент-Барта (с «интересными» попутчиками, там было двое аргентинцев, Клэр была единственной женщиной на борту), когда начался сильный шторм. Клэр считала, что «надо выбираться отсюда», но отец (капитан) пока что не собирался этого делать. Шлюпку, прикрепленную к их судну, швыряло под ветром и волнами, она черпала воду. Все были за то, чтобы отвязать шлюпку, но отец Клэр отказывался от этой идеи. При этом он всегда заботился о своей яхте. Вплоть до того, что мог ночью проснуться с мыслью о том, что якорь плохо закреплен. Он поднимал Клэр среди ночи, и они вместе шли ставить якорь.
Прошло больше десяти лет, Клэр и ее двоюродная сестра решили отправиться с отцом на яхте. К этому моменту они уже понимали, что с ним что-то не так. Поэтому в этот раз кузина Клэр взяла на себя обязанности капитана, а Клэр – старшего помощника. Отец выполнял роль простого матроса. «Он выполнял свои обязанности на яхте, он отлично со всем справлялся, но он был счастлив, что его освободили от ответственности. Он вовсе не был обижен или возмущен этим», – вспоминала Клэр. Но по некоторым признакам можно было догадаться, что он испытывает трудности. Иногда, когда Клэр и ее кузина совершали сложный маневр, папа мог встать, рискуя получить удар раскачивающейся траверсой. Ей приходилось кричать, чтобы он сел. Тем не менее, когда они легли на курс и поставили отца за штурвал, он мог ориентироваться по компасу и управлять парусами.
А потом внезапно, ни с того ни с сего, говорил: «Какой сегодня день? Какой сегодня день? Какой сегодня день?»
Несколько лет спустя (уже после того, как ему диагностировали болезнь Альцгеймера) Клэр и ее папа прогуливались по центру маленького прибрежного городка и увидели церковную ярмарку. Там была выставлена на продажу деревянная модель яхты. Отец взял ее в руки. «Он все смотрел и смотрел на нее. Он знал, что ему это интересно. Но у меня было также чувство, что он не осознавал, почему ему это было интересно, – говорила мне Клэр. – Он ничего такого не говорил. Это выражалось в его позе, во взгляде. Он как будто смотрел, но на его лице не отражалось понимания». Когда-то умелый моряк, он теперь не мог распознать яхту.
Она знала, что Альцгеймер у папы продвинулся за пределы нарушений кратковременной памяти.
Многое из того, что нам известно о памяти и мозговых отделах, поддерживающих ее, происходит из изучения одного необычного человека, который (к сожалению или к счастью) жил одним моментом с возраста двадцати семи лет. Студенты, изучающие психологию и неврологию, знают его как пациента Г.М.; звали его Генри Молейсон (принятое написание: Молисон), 1926 года рождения. У Генри начались эпилептические припадки, когда ему было десять лет, вероятно, из-за небольшой травмы головы, полученной несколькими годами ранее (но причина была до конца неясна, это могла также быть генетическая предрасположенность, учитывая, что двоюродные братья Генри со стороны отца также страдали эпилепсией). Припадки раз от раза становились тяжелее. Противосудорожные средства не помогали, так что Генри, когда он окончил школу, с трудом справлялся с работой на типографском конвейере. В итоге, в 1953 году, когда Генри было двадцать семь лет, нейрохирург Уильям Бичер Сковилл из Хартфордской больницы в Коннектикуте решился на рискованную операцию, чтобы вылечить Генри от эпилепсии.
Сковилл просверлил два отверстия прямо над глазницами Генри, вставив в них плоские шпатели для мозга – нейрохирургическая версия обычного шпателя для языка – разделив лобную и височную доли в двух мозговых полушариях. Это дало ему доступ к мозговым структурам медиальной височной доли: миндалевидному телу и гиппокампу. Он изъял часть нормальной мозговой ткани, включая части миндалевидного тела и гиппокампа. Эффект, который произвела эта операция на Генри, чье имя ради анонимности сейчас сокращается до Г.М. в академической литературе, вошел в учебники по неврологии.
Г.М. продолжал принимать противосудорожные препараты, и частота его припадков значительно сократилась (с раза в неделю до раза в год). Но с его памятью произошло нечто куда более интригующее. Он «не узнавал более персонал больницы, не был в состоянии дойти до ванной и как будто не помнил ничего из вчерашних событий, произошедших в госпитале». В статье 1957 года Сковилл и психолог Монреальского неврологического института, Бренда Милнер, опубликовали психологическое исследование Г.М.: «Обследование было проведено 26 апреля 1955. Повреждение памяти очевидно и бесспорно. Пациент считает, что сегодняшняя дата – март 1953, а его возраст – 27 лет. Непосредственно перед тем, как зайти в смотровую, он говорил с доктором Карлом Прибрамом, тем не менее он не сохранил воспоминания об этом и отрицал факт общения с кем-либо. В разговоре он постоянно обращался к событиям из детства и, по-видимому, едва ли осознавал, что ему сделали операцию».
Г.М. продолжал жить без новых воспоминаний (такое состояние называют антероградной амнезией), а всему, что он мог помнить о прошлом, тоже был предел. Милнер продолжала изучать Г.М., затем передала эстафету своей студентке Сюзанне Коркин. В 1984 году Коркин писала:
«Поразительной чертой Г.М. является стабильность его симптомов на протяжении 31 года после операции. Он до сих пор имеет глубокую антероградную амнезию, не знает, где он живет, кто ухаживает за ним, или что он ел в последний раз. Его догадки относительно того, какой сейчас год, обычно промахиваются на 43 года, а затем, когда он продолжает вычислять, он дает себе самому на 10 или 25 лет меньше, чем на самом деле. В 1982 году он не узнал себя на фотографии, сделанной в день его сорокалетия в 1966. Тем не менее у него сохранились отрывочные воспоминания, например, он знает, что астронавт – это человек в космосе; что некая публичная личность по имени Кеннеди была убита; а рок-музыка – это «та музыка, которую сейчас слушают».
История Г.М. осветила разные типы памяти, которыми мы обладаем. Какие-то области памяти были нетронуты, какие-то полностью уничтожены. Изначально его кратковременная память была прекрасной; он мог запомнить ряд чисел на протяжении десятков секунд. Но хирургическое вмешательство исказило некоторые формы его долговременной памяти.
Его семантическая память – способность запоминать факты и идеи – была в основном не повреждена, но это касалось лишь того, что он испытал сам до операции. Тем временем эпизодическая память – воспоминания о некотором опыте, привязанные к месту и времени, – была в плачевном состоянии еще до операции. Семантическая и эпизодическая память являются формами долговременной памяти, называемыми декларативной или явной (эксплицитной) памятью, которая требует от нас сознательного доступа к информации. Антероградная амнезия Г.М. дошла до такой стадии, что он не имел декларативной памяти о чем-либо, произошедшем после операции (хотя он смог вспомнить план этажей дома, куда он переехал после операции и где жил с 1958 по 1974; постепенное накопление знаний на протяжении лет было достигнуто, несомненно, тем, что он физически находился и передвигался в одном и том же пространстве годами, и это некоторым образом помогло Г.М. сформировать воспоминание о том месте, где он жил, – драматическое свидетельство роли тела в формировании личности в тандеме с мозгом).
Другая обширная категория долговременной памяти называется имплицитной (скрытой), недекларативной или процедурной памятью. Это память, которой не требуется осознанный доступ. Например, мы знаем, как управлять велосипедом. Это воспоминание, к которому мы обращаемся неосознанно. Именно академический труд Милнера о Г.М., опубликованный в 1962 году, показал нам, что разные мозговые структуры вовлечены в работу разных типов памяти. В этом труде описано, как Г.М. показали две нарисованные звезды, одну внутри другой. Его попросили повторить этот узор, рисуя между линиями внешней и внутренней звезды. Чтобы усложнить задание, Г.М. рисовал, глядя на отражение в зеркале своей руки, карандаша и узора из звезд. Удивительно, но Г.М. справлялся с заданием все лучше и лучше на протяжении трех дней, при этом он не помнил того, что делал это задание раньше. Стало ясно, что хирургическое вмешательство не разрушило его процедурной памяти. Оставался вопрос: какие именно структуры мозга были повреждены? Документы Сковилла, опубликованные вскоре после операции Г.М. в 1953 году, были крайне показательны для своего времени, но они не поставили точку в этом вопросе. В 1990-х и 2000-х Г.М. прошел через несколько томографий, но они, как и прочие исследования, были неинвазивными и, следовательно, ограниченными в области конкретных исследований иссеченных областей мозга. Но многое открылось после его смерти.
Г.М. умер 2 декабря 2008 года. Его тело перевезли в больницу Масс Дженерал в Чарльстоне, Массачусетс, где нейрохирурги провели девять часов, изучая его мозг. В конце концов невропатолог извлек мозг Г.М. из черепа. Результатом стала высококачественная 3D-модель мозга Г.М., созданная на основе многочисленных МРТ-сканирований. Наконец стало возможным разъять мозг Г.М. при помощи компьютера. Полученные новые изображения подтвердили то, что открылось на более ранних МРТ-исследованиях: задняя половина гиппокампа Г.М. в обоих полушариях – Сковилл полагал, что он удален полностью, – была нетронута. Но кое-что Сковилл удалил полностью: энторинальную кору – границу между гиппокампом и новой корой (уникальной частью коры головного мозга, присущей млекопитающим). Болезнь Альцгеймера начинается в энторинальной коре и распространяется. Согласно исследованиям: «Этот участок коры мозга подвергается самым сильным повреждениям во время болезни Альцгеймера».
Что касается Г.М., «забывчивого и незабвенного», не оставив потомства, он оставил огромный след в науке. Его глубокая амнезия стала поводом для споров о том, было ли у него осознание себя как личности после операции. Похожим вопросом задаются те, кто сегодня сталкивается с болезнью Альцгеймера.
Когда большинство из нас рассуждает об осознании личности, мы пытаемся придумать историю о том, кто мы есть. Если бы вам предстояло рассказать о себе кому-то другому (или даже самому себе), вы, вероятно, углубились бы в свой альбом эпизодических воспоминаний, которые вас определяют. Назовем это нарративной личностью (эти аспекты личности не являются исключительно когнитивными, но также реализованными, как подчеркивает Пиа Контос). Нарратив, согласно определению, является последовательностью эпизодов, сведенных во единое. В некотором смысле это и есть мы – на первый взгляд цельное повествование. Будучи людьми, мы имеем также способность проектировать это повествование в будущее. Наша нарративная личность, следовательно, представляет собой не только воспоминания о прошлом, но и фантазии о будущем. В последние десятилетия многочисленные исследования показали, что те же отделы мозга, которые отвечают за воспоминания о прошлом, задействованы в конструировании сценариев будущего. Например, если вы хороший моряк, каким был отец Клэр, вы будете использовать одни и те же отделы мозга, вспоминая прошлогоднее путешествие или воображая странствия по морям спустя несколько лет. Ключевые участки мозга, которые формируют эти системы, включают медиальную височную долю (те части, которые ближе к средней линии), включая гиппокамп и энторинальную кору. Именно эти участки мозга первыми становятся жертвами болезни Альцгеймера; именно здесь болезнь обретает точку опоры для разрушительного шествия, в конечном итоге стирающего способность человека выстраивать последовательную нарративную личность.
У некоторых пациентов с Альцгеймером это разрушение нарративной личности проявляется в основном как анозогнозия – непризнание того факта, что вы больны Альцгеймером. Джозеф Бабински ввел термин «анозогнозия» в 1914 (по-гречески «агнозия» означает «недостаток знания», а «нозос» значит «болезнь»), чтобы описать крайне странное поведение некоторых из пациентов, у которых была полностью парализована левая часть тела. В своих записях он отмечал: «Я хотел бы обратить внимание на умственное расстройство, которое мне довелось наблюдать… которое состоит в том, что пациенты как будто игнорируют существование у них паралича или же не осведомлены о нем». Пациенты Бабински не просто отрицали паралич или были не осведомлены о нем, они пытались обосновать свое неведение. Бабински писал об одной из пациенток: «Если ее просили подвигать правой рукой, она тут же исполняла команду. Если же ее просили подвигать левой рукой, она сидела спокойно и вела себя так, будто просьба была обращена к кому-то другому». Особенно острую форму анозогнозия принимает в так называемом синдроме Антона Бабинского (в честь невролога Габриэля Антона, 1858–1933), когда пациенты, ослепшие из-за повреждения обеих сторон затылочных долей, настаивали на том, что они могут видеть.
Анозогнозия во время болезни Альцгеймера варьируется от легкой неосознанности до откровенного отрицания. Невролог Уильям Джагаст, эксперт по болезни Альцгеймера в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, сталкивался с полным спектром реакций за все время клинической практики. «Пациента приводит к врачу супруга, а пациент говорит: “Да вы с ума сошли, со мной все в порядке!”, а потом они дерутся и все такое… Но чаще всего пациент не замечает [болезнь], не знает о ней, а не [отрицает]», – говорил мне Джагаст. Часто, после напряженных бесед с пациентами, во время которых Джагаст сообщал им диагноз, пациент вскоре о нем забывал. Это соответствует природе болезни. «Сообщаешь им, что у них Альцгеймер, что им нужно перестать водить машину, – им обязательно понадобится водить. Семья говорит: “Доктор сказал, что у тебя Альцгеймер”, а они отвечают: “Не говорил он такого!”»
Аллан тоже не хотел прекращать водить машину. До официальной постановки диагноза у него случались панические атаки на автострадах. Поэтому ездил он только по городу, но Мишель это все равно беспокоило. Она, бывало, находила необъяснимые вмятины на его машине, следы столкновения с другими транспортными средствами (Аллан клялся, что виноват другой водитель, но Мишель подозревала, что это была вина Аллана). Однажды Аллан попытался замаскировать поцарапанное крыло краской из баллончика. Социальный работник из клиники Аллана предупредил Мишель, что на него могут подать в суд, если по его вине произойдет происшествие (к тому времени ему уже поставили диагноз). Врач Аллана предупредил Отдел автотранспортных средств, который в свою очередь направил Аллану письмо с просьбой прийти и пересдать экзамен на права. «Он и впрямь собрался сдавать экзамен, чтоб его! – говорила Мишель. – Я поверить не могла!» Но, к ее облегчению, машину у Аллана угнали и разбили. А для Аллана это был удар. «Он был сам не свой. Он написал целую эпитафию своей “Хонде” на желтом листе бумаги о том, как много она для него значила, какой трагедией было потерять ее, как он утратил с ней часть своей личности, – рассказывала мне Мишель, – как будто его чувство личности было разрушено».
Анозогнозия Аллана была, вероятно, легкой в сравнении с уровнем отрицания больных параличом. Тем не менее Альцгеймер позволяет нам понять нервные механизмы анозогнозии и ее соотношение с нашим чувством личности. Именно эти механизмы изучает Джиованна Замбони, нейробиолог Оксфордского университета. В одном из исследований она обнаружила, что пациенты с болезнью Альцгеймера и анозогнозией гораздо лучше оценивали поведение близких друзей, сиделок или родственников, нежели свое. Команды, которые выполнялись во время томографии, показали, что медиальная префронтальная кора (МПФК) и левая передняя височная доля у пациентов с Альцгеймером были менее активными во время самооценки, чем во время выполнения заданий, требующих оценки других (у пациентов с незначительными нарушениями такой разницы не наблюдалось).
Тестирование показало, что анозогнозия при болезни Альцгеймера не является проблемой исключительно памяти – это проблема личности. «Она отражается в избирательной неспособности обновлять информацию, касающуюся вас, но не касающуюся других», – говорила мне Замбони.
Робин Моррис, нейропсихолог Института психиатрии в Кингс Колледже в Лондоне, согласен с этим мнением. Моррис полагает, что анозогнозия при болезни Альцгеймера проистекает из большей проблемы, чем забывание диагноза. У нас, по утверждению Морриса, есть особая форма семантической памяти, связанная со знанием о самих себе, – система саморепрезентации. Эта «персональная база данных» отличается от семантического знания о прочих объектах и фактах окружающего мира и вообще о внешних вещах. «Есть нечто совершенно особенное в нашей саморепрезентации», – говорил Моррис во время нашей встречи в Лондоне. Он предположил, что при Альцгеймере «люди не интегрируют новую информацию в свою систему саморепрезентации».
Согласно Моррису, саморепрезентация – это в основном эпизодическая память о себе, каким-то образом перешедшая в семантическую. Она, так сказать, семантизировалась. Случай пациента Г.М. подтверждает идею о том, что важнейшие данные нашей эпизодической памяти фиксируются и хранятся в семантизированной форме, отдельно от прочих эпизодических воспоминаний. Когда Сюзанна Коркин спрашивала: «Какое ваше любимое воспоминание о матери?», Г.М. отвечал: «Ну, что она просто моя мать». Как выяснила Коркин, хотя у Г.М. были воспоминания о детстве, «он был неспособен вызвать в памяти эпизодические воспоминания о матери или об отце – он не мог рассказать ни об одном событии, произошедшем в конкретное время и в конкретном месте». Тем не менее у него было чувство личности, ощущавшееся, как до операции.
Если наша система саморепрезентации работает хорошо, то эпизодические воспоминания постепенно конвертируются в семантические, создавая суть нашей личности. При болезни Альцгеймера процесс нарушается. Способность мозга обновлять саморепрезентацию подорвана, о чем свидетельствует анозогнозия и, более основательно, изменение нарративной личности. Формирование нарратива замедляется или даже останавливается. Пациенты углубляются в истоки своей памяти, во времена, когда лишь закладывался краеугольный камень нарративной личности, когда ковалась их непрерывная самобытность. Лишь жестокостью судьбы можно объяснить то, что тот аспект нашего чувства личности, который позволяет нам совершать передвижение во времени, вспоминая или создавая идентичность, которую философы называют автоноэтическим сознанием, – последним созревает в юности и первым разрушается под ударом болезни Альцгеймера.
В тот день, когда я познакомился и поговорил с Алланом, он был невероятно мил. Мишель была этому рада: именно в это время суток, по ее словам, до обеда, открывалось маленькое окошко осознанности перед тем, как Аллан снова станет труднодоступным.
«Вас беспокоит будущее в связи с болезнью Альцгеймера?» – спросил я Аллана.
«Нет, я уже не думаю о будущем, – сказал он, – мне семьдесят, семьдесят один». (Ему было восемьдесят один на тот момент, семьдесят было, когда ему поставили диагноз). «Я прожил хорошую жизнь. Могло быть и хуже. Я решал мировые проблемы, у меня двое детей, теперь уже двое внуков. Это хорошо. Я повидал мир, когда служил в авиации». Это было во время дислокации в Германии, он увидел весь ужас разрушений, принесенных Второй мировой войной. Его глубоко поразило посещение концлагеря в Дахау, это укрепило его мнение о том, что мир был бы куда лучше, если бы им управляли не диктаторы и политики, а цыгане и балерины – Мишель пояснила, что так он называл «людей, стесненных в средствах и любящих искусство».
Мишель указала – и я с ней согласен – на то, что Аллан цеплялся за самые сильные свои воспоминания: начиная с того времени, как он начал служить в авиации, и до того, как стал преподавателем по философии. На то была причина. Это был период формирования и закрепления самобытности Аллана. «Мы думаем, что вы более тщательно встраиваете эти воспоминания в свое чувство личности, формируя более длительные репрезентации, – говорил мне Робин Моррис. – Эти базовые строительные блоки – основные понятия, определяющие, кто вы есть, – не меняются в течение жизни или же меняются незначительно».
На финальной стадии болезни Альцгеймера они тоже будут поражены, но на тот момент Аллан имел резервные воспоминания о том, каким он был в 18 лет, когда его трижды исключали из школы за курение. Школьный психолог посоветовал ему вступить в ряды ВВС, так он и поступил. Его отправили на базу в Мюнхен, в Германию, где он выучился на авиамеханика. В возрасте 22 лет он вернулся в Сан-Франциско, где начал работать в авиакомпании и посещать занятия в местном колледже. Он хотел стать радиоведущим, но один из преподавателей сказал, что его голос для этого не подходит, и убедил его брать занятия по философии. Совет оказался дельным – Аллан полюбил философию, начал преподавать и со временем стал уважаемым и любимым многими профессором.
Когда я беседовал с Алланом, он не всегда был точен в деталях или в последовательности событий (я точно знаю, о чем говорю, Мишель меня просветила).
Например, когда Аллан рассказывал о преподавателе, который предложил ему изучать философию, он сказал: «Это тот самый, который сказал: “Теперь, когда тебя выгнали… сигареты… Почему бы тебе не пойти служить в авиации?”». А на самом деле, к моменту встречи с этим преподавателем, Аллан уже отслужил в авиации, и тот предложил ему посещать занятия по философии.
Если бы Мишель не рассказала мне историю Аллана заранее, мне было бы сложно выстроить эти воспоминания в правильном порядке. К концу нашей встречи в тот день Мишель оставила нас с Алланом наедине, чтобы мы могли еще побеседовать. Я снова спросил его о его жизни. Вот фрагмент этого разговора, записанный дословно, когда мы снова вернулись к разговору о службе в авиации, уже многократно упомянутой:
«Тут мы вступили в авиацию, и мы продолжали придумывать ситуации… совсем как вы. Все хотели летать, а потом один сказал, нет, у вас алгебра. Кто-то мне сказал, что у меня нет алгебры. И я тогда сказал, хорошо, займусь чем-нибудь другим. Мы сели на поезд до Сан-Франциско, поехали в Бостон, сели на корабль, корабль был ненамного больше, чем эта комната, и там было двенадцать-пятнадцать человек, а самое интересное было то, что… многим из них… было плохо. А я нет. Мы выходили наружу, и нас тошнило. У меня даже фотография была. Да.
Потом мы сошли с поезда. Где-то два с половиной дня до Мюнхена. Мюнхен в центре Германии, вот это где. Все… Американцы и немцы вместе. Мы были там… ладно… два года… потом мы поехали обратно. Там я стал работать в авиакомпании. А все мне говорили: “А почему ты в колледж не идешь? Ты же всегда книжки читаешь!” А это детективы были».
Одно яркое воспоминание Аллан упоминал во время разговора несколько раз: фермеры махали солдатам, когда их поезд проносился по полям. Аллану было восемнадцать, когда он увидел этих фермеров через окно поезда. Но вот точно вспомнить, было ли это в Техасе или в Германии, он не мог. Пока что Альцгеймер не стер самые яркие воспоминания Аллана, но многое перепутал в его голове.
При встрече в офисе в Лондоне Робин Моррис указал на два ключевых изменения, которые происходят с пациентами с болезнью Альцгеймера. Одно, как мы уже видели раньше, – это то, что они не могут приобретать новые знания о самих себе и поэтому не могут обновлять свою нарративную личность. Другое – это то, что, вероятно, существуют структуры мозга, отвечающие за поддержку нашей личности, которые поражаются Альцгеймером, поэтому пациенты обращаются к самым устойчивым частям своего нарратива. Эти устойчивые воспоминания обычно относятся к поздней юности и ранней зрелости – совсем как та версия самого себя, которую вызывал в памяти Аллан в своих бессвязных воспоминаниях.
Даже здоровые люди, если попросить их рассказать о жизни, вспомнят больше событий из того времени, когда им было от десяти до тридцати лет, чем из периодов до и после этого возраста. У психологов это называется выпуклостью воспоминаний.
Эта выпуклость имеет большое влияние на нашу личность. Мартин Конуэй, психолог в Университете Сити в Лондоне, разносторонне изучил вопросы памяти и личности. Конуэй представляет себе личность как совокупность иерархически выстроенных задач. Эта иерархия разделяется на множество мелких подзадач, чем мельче, тем специфичнее. Например, у вас есть цель стать спортсменом – и все меньшие и меньшие задачи будут охватывать все более специфические цели, вплоть до цели «пробежать сегодня пять километров». Конуэй определяет понятие «рабочей личности», исходя из этой иерархии задач, цель рабочей личности – привести в соответствие специфические задачи (стать спортсменом) и текущее положение дел (скажем, сидение на диване) и убедиться в том, что противоречие между двумя этими состояниями минимально (то есть встать с дивана и пойти бегать). Иными словами, рабочая личность управляет своим поведением.
Помимо рабочей личности, Конуэй определяет то, что он называет концептуальной личностью, тот аспект личности, который содержит идею того, кто мы есть посредством общения с другими людьми, включая семью, друзей, общество и культуру в целом.
Роль рабочей личности, по модели Конуэя, – регулирование поведения и помощь в формировании воспоминаний, совмещенных с концептуальной личностью и ее задачами. Совместимость не обязательно точная. Например, простыми словами, мне важно помнить, выключил ли я газ на кухне. Такая кратковременная память должна соответствовать реальности с большой долей точности; цена ошибки будет высока. Тем не менее для мозга невозможно (по крайней мере, для большинства из нас, кто не владеет фотографической памятью на мельчайшие подробности) хранить подобные воспоминания до бесконечности. Поэтому долговременная память в меньшей степени скована соответствием реальности и более связана с «согласованностью» – это значит, что все, что попадает в хранилище долговременной памяти, не должно диссонировать с нашей концептуальной личностью и ее задачами, которые сами по себе подвержены влиянию долговременной памяти. Как считает Конуэй, автобиографическое знание в долговременной памяти «содержит то, чем личность является, являлась и может являться», тогда как рабочая личность контролирует, что именно попадает в долговременную автобиографическую память, и то, насколько труден доступ к этим данным. Автобиографические истории влияют на то, кто мы есть, что мы делаем, чем мы можем быть: определенные начала требуют определенных концов; истории могут стать нашей реальностью. Согласно Конуэю, нервные процессы, реализующие рабочую личность, также обеспечивают более легкий доступ к тем долговременным воспоминаниям, которые согласуются с нашими задачами, чем к тем, которые не согласуются. Принципиально то, что воспоминания о том опыте, который был крайне важен в выполнении жизненных задач, имеют крепкую ассоциативную связь с личностью и ее историей.
Это возвращает нас к понятию выпуклости воспоминаний. «В поздней юности и ранней зрелости есть критический момент, когда вы определяете понятия о самом себе», – говорил мне Робин Моррис. Мы формируем суть нашей нарративной личности именно в этот период.
Так, нарративная личность подвержена влиянию очень значительных событий в жизни человека, и эта личность – или воспоминания, связанные с этими событиями, – в свою очередь влияет на ваши дальнейшие действия, управляет развитием вашего нарратива. Вершиной является потребность личности в согласованности.
У пациентов с Альцгеймером нарративная личность рассеяна по нескольким фронтам. Во-первых, повреждена способность формировать новые эпизодические воспоминания. Также подводит встраивание сути этих воспоминаний в нарратив. Даниэл Мограби, аспирант Морриса из Рио-де-Жанейро, называет это окаменевшей личностью: история, которую может рассказать о себе человек, останавливается, когда его поражает Альцгеймер. Когда нарративная личность функционирует нормально, эпизоды жизни выстраиваются в связную историю. На ранних стадиях Альцгеймер не дает развиваться повествованию, ограничивая его периодом до возникновения болезни. Альцгеймер продолжает обрубать нарратив до тех пор, пока он не превращается в набор разрозненных эпизодов. В конце концов и они исчезают.
Термин «окаменевшая личность» не прижился среди некоторых коллег. «Звучит так, будто пациент с Альцгеймером мертв или окостенел, – говорит Моррис. – Если это не так, мне этот термин близок. Все же нужно с осторожностью навешивать ярлыки на людей. С другой стороны, науку нельзя ограничивать политкорректностью. Неудобную правду не спрячешь».
А правда состоит в том, что нарративная личность «каменеет», а затем начинает ухудшаться, пациент возвращается к критическим моментам в своей нарративной личности, к воспоминаниям, сформированным тогда, когда личность определялась наиболее интенсивно, когда самая ее сущность проникала насквозь в тело и мозг. Тем не менее, и до этих критических моментов Альцгеймер добирается. Несмотря на способность Аллана вспоминать о юности и зрелости, Мишель замечала длительные периоды, когда он просто «исчезает, исчезает». Она смотрела в его глаза и видела лишь пустоту. Все сиделки пациентов с Альцгеймером подтверждают опыт Мишель. «Там больше вообще никого не было», – говорила она мне.
Но не поспешны ли заключения сиделок? Или же пациенты с Альцгеймером действительно лишены сознания? Моррис утверждает, что тяжкое бремя науки состоит в том, чтобы доказать, что пациенты действительно бессознательны, а их личность отсутствует.
Пиа Контос не согласна с заявлением о том, что пациенты с Альцгеймером полностью лишены личности. Она утверждает, что даже в случае очевидного тяжелого когнитивного упадка сохраняется форма самосознания; прекогнитивное, пререфлективное самосознание, встроенное в тело человека. Она черпает вдохновение в трудах французского философа Мориса Мерло-Понти и французского социолога Пьерра Бордью. «Бордью и Мерло-Понти подталкивают [нас] к мысли о том, как наше тело помогает нам взаимодействовать с миром, не полагаясь на сознание», – говорит она.
Она была свидетелем примеров такого «телесного самосознания», проводя исследование в лечебных учреждениях для людей с болезнью Альцгеймера. Одно наблюдение – за пожилым мужчиной, у которого были тяжелые когнитивные повреждения, он мог говорить лишь несколькими словами, не всегда связно – очень впечатлило ее. Однажды, в день Симхат Тора, важный еврейский праздник, пациенты отправились в синагогу в пансионе долговременного пребывания. Старик стоял в очереди, ждал, когда его позовут к бимаху (кафедре), чтобы пропеть молитву. «Я увидела, как этот джентльмен встал в очередь, я помню, что у меня внутри все сжалось, – говорила Контос. – Я подумала, что это будет катастрофа, он же и двух слов связать не мог!»
То, что произошло дальше, ее поразило. Когда его имя произнесли, старик уверенно вышел к кафедре и произнес слова молитвы четко и ясно. Можно было бы возразить, что у него осталось неповрежденное сознание, которое помогло ему. Однако Контос думает иначе.
«Я долго анализировала этот случай и пришла к выводу, что в событии имела место оркестровка. Прикосновение к Торе, присутствие раввина, присутствие верующих. Все это вызвало в нем то, что Бордью называет “габитус”, а я назвала это “телесным самосознанием”, и это обусловило его действия в тот момент, – говорит Контос. – Если бы вы отвели этого господина в его комнату и попросили бы там прочесть молитву, он бы этого сделать не смог».
Телесная личность заключается в том, что «телесные привычки, жесты и действия поддерживают и сохраняют человечность и индивидуальность». Мерло-Понти утверждает, что все мы рождаемся с телом, изначально способным к сообщению с миром. «Ничто человеческое не бестелесно», – писал он. За образец он взял навык слепой печати. Если вы искусны в слепом наборе текста, то этот процесс является для вас действием, не требующим, чтобы вы думали о расположении клавиш на клавиатуре. «Знание печати, – утверждает Мерло-Понти, – заключено в руках и дает о себе знать лишь тогда, когда совершается телесное усилие, это знание не может быть воспроизведено в отрыве от этого усилия».
Бордью расширил представление о роли тела за границы его первичной способности: в теле, по его словам, объединены наши социальные и культурные привычки. Отсюда и взялось понятие «габитус». «Габитус – это совокупность предрасположенностей и форм ноу-хау, функционирующих за пределами сознания на пререфлективном уровне», – пишет Контос. Под предрасположенностями имеется в виду «форма существования, привычное состояние… тенденции, склонности или задатки», согласно Бордью.
Контос совмещает «изначальную телесность» Мерло-Понти с «габитусом» Бордью, придя к собственному видению телесной личности. «У всех нас есть телесная личность; у меня есть, у вас есть. Просто, когда наше сознание не повреждено, она не заметна, она как бы в фоновом режиме. Но когда у нас возникают когнитивные нарушения, она выходит из тени, – говорила Контос, – пререфлективная способность сообщения с миром становится еще важнее перед лицом когнитивных нарушений, потому что она становится единственным средством связи с миром».
Телесная личность стирает различия между телом и разумом, она предоставляет телу сделать нас теми, кто мы есть. Со времен Декарта западная наука превозносила разум, отводя телу роль сосуда. По мере того как наука оставляет позади Декарта и перерастает жесткое противопоставление между телом и разумом, вековое наследие все еще сбивает нас с толку, когда мы говорим о полной потере личности у пациентов с болезнью Альцгеймера. «Из-за картезианства и этого постоянного обесценивания тела мы сами теряем когнитивные способности: берем и утверждаем, что у людей с Альцгеймером отсутствует личность, – говорит Контос. – Но есть еще и это фундаментальное измерение нашего существования, которое не сдается». Если мы откажемся от наследия Декарта и перестанем разделять тело и разум, откроется новая перспектива в развитии теории личности.
Итак, телесная личность включает в себя разум и тело, но совершенно не обязательно задействует сознание. Мозг физически делится на три области: полушария большого мозга, покрытые корой, мозжечок и ствол мозга. Мозжечок играет важную роль в функционировании процедурной памяти и в координации движений тела, он остается относительно невредимым до самых поздних стадий болезни Альцгеймера. Поэтому даже по мере того, как атрофируется кора больших полушарий головного мозга и деградирует сознание, некоторые области комплекса «тело-мозг» продолжают функционировать и воспроизводить аспекты нашей личности.
Эту мысль до Контос донесла другая пациентка с болезнью Альцгеймера. Это была пожилая женщина с тяжелыми когнитивными нарушениями: она не могла говорить, самостоятельно есть, одеваться и была прикована к инвалидной коляске. Также она страдала недержанием. Когда медсестры привозили ее в столовую и надевали на нее слюнявчик (их надевают всем пациентам, чтобы они не испачкались), она вытягивала из-под слюнявчика нитку жемчуга и укладывала поверх, чтобы всем было видно. «Она не приступала к еде, пока не проделает это, – говорила Контос, – эта привычка пробивалась сквозь толщу деменции с завидным постоянством. Я не знаю, как это назвать, если не самовыражением».
Но формирование сложной нарративной личности (когнитивной или телесной) может включать в себя нечто более фундаментальное: способность быть субъектом опыта. Когда я встретил Аллана, мне было ясно, что, несмотря на бессвязность его речи, он все еще испытывал опыт в своем спутанном нарративе. Возможно, что на поздних стадиях болезни Альцгеймера, когда нарративная личность полностью утрачена, все, что остается, это личность-субъект, испытывающая опыт в преднарративных формах. Можно утверждать, что личность в своем первоначальном виде и есть личность-субъект, и она не является нарративом. Кто или что является личностью-субъектом? Увы, те, кто находится во власти болезни, не могут рассказать нам, каково это – жить вне нарратива, – да и спрашивать их об этом было бы жестоко.
Мы вынуждены искать ответы где угодно еще, чтобы понять, в чем заключается суть субъективности. Например, чтобы слепая печать стала телесным навыком и частью нарративной личности, нужно ли мне чувствовать клавиши кончиками пальцев и знать, что я дотронулся до клавиши в противоположность ощущению, будто это делает кто-то другой? Или, например, нужно ли мне ощущать, что это именно мои пальцы? Эти вопросы кажутся из ряда вон выходящими, но в следующей главе мы увидим, как что-то, что мы принимаем как должное, – обладание частями тела – может восприниматься иначе в ходе эксперимента или в силу патологий. В последнем случае последствия могут быть крайне тяжелыми.
В машине играет песня Билли Джоэла «It’s Still Rock and Roll to Me» («Для меня это все еще рок-н-ролл»), пока я паркуюсь на стоянке дома престарелых, куда приехал, чтобы повидаться с отцом Клэр. «Что не так с одеждой на мне / Ты не скажешь: галстук не широковат?» Полуденное калифорнийское солнце печет, это особенно чувствуется в моей машине, где кондиционер едва работает. Клэр ждет меня снаружи. Она вводит код безопасности: это нужно не только для защиты от посторонних людей, но, скорее для того, чтобы обитатели – в основном пациенты с Альцгеймером – не терялись, а они к этому весьма склонны. Мы идем по коридору к комнате ее папы (на двери все еще висит плакат ко дню его рождения: в прошлом месяце ему исполнилось девяносто). Пара пожилых дам улыбается нам, одна из них говорит: «Доброе утро!» и добавляет секунду спустя: «Или добрый день, не знаю». Даже не могу сказать, позволила ли она себе пошутить таким образом или нет. В любом случае это добавляет жизнерадостности этому месту.
Мы встречаемся с отцом Клэр в общем холле. Я такую сцену видел только в кино. Около двадцати мужчин и женщин, все пожилые, сидят, некоторые в полусонном состоянии, некоторые относительно бодры. По телевизору показывают фильм, громко. Это недавний фильм с Майклом Кейном («Последняя любовь мистера Моргана», как я потом выяснил). Клэр указывает на папу – он сидит в своем собственном кресле, которое мать Клэр привезла ему, ведь так ему будет удобнее, чем на больничных стульях. Он спит. Клэр подходит и ласково подталкивает его. «Папа! Папа!» – говорит она. Он просыпается, вид у него возмущенный. Клэр хочет взять его за руку, но он сердито отталкивает ее руку. Она делает вторую попытку, он протягивает руку как для рукопожатия, слегка повернув ее руку. Она отпускает его. Он явно расстроен, что его разбудили. Мы на минуту оставляем его и идем к нему в комнату.
У Клэр есть ключ от папиной комнаты: все комнаты закрываются на ключ, иначе пациенты начинают гулять по комнатам. Обстановка простая и скудная. На стенах висят фотографии в рамках, напоминающие о молодости отца Клэр. На одной фотографии он – красавчик за штурвалом. Тут много семейных фотографий. На столе лежит скрап-блокнот из цветной поделочной бумаги, такие делают дети. Это подарок, который сделала сестра Клэр – там собраны ключевые моменты папиной жизни: вот его фотография в семнадцать лет; вот мама и папа Клэр на регистрации брака в Европе; а вот гребцы из их команды делают арку из весел для жениха и невесты, выходящих из церкви; вот семья на пляже в Морро Бэй, Калифорния – Клэр и ее сестры еще совсем малышки; вот их дом в Миннесоте, где выросла Клэр; вот делают яму для барбекю (тот редкий случай, когда папа Клэр что-то делал своими руками); вот папа Клэр на обложке журнала их компании, он там капитан на яхте; вот поездка на годовщину свадьбы, ему тогда было около семидесяти; а вот фото десятилетней давности. «С тех пор было очень сильное ухудшение», – говорит Клэр.
Сестра Клэр с помощью этого скрап-блокнота хотела растолкать дремлющую память отца, вернуть ему нарратив, связное повествование его жизни, его личность, но, как заметила Клэр, попытка не возымела успеха.
Мы возвращаемся к папе Клэр. На этот раз он не против того, чтобы Клэр взяла его за руку. Он даже сжимает костяшки ее пальцев в ответ. Клэр целует его, потом еще несколько раз, и он проделывает то же самое и улыбается. Я спросил, значит ли это, что он узнал ее. Клэр отвечает, что не знает. Он ни слова не сказал. И другого способа выяснить это нет. Я тоже пытаюсь пожать ему руку, поначалу он не отвечает, а затем улыбается и твердо жмет мне руку. Он тоже сжал мне костяшки пальцев. Нельзя сказать точно, что он понимает.
Или можно. Тот момент, когда он сжал руку Клэр, напомнил ей ее детство, когда папа ловил ее за руку, играя. А она вздрагивала каждый раз. «Ха-ха, шутка!», – говорил он. Может ли быть так, что где-то внутри этого тела отец Клэр сопротивляется уходу, в том фрагменте его личности, где он сильный, крепкий мужчина, играющий с дочуркой?
Где-то спустя полтора месяца я встретил Аллана, Мишель отвезла его в дом престарелых. Аллан по целым дням бывал без сознания и страдал от жестокой диареи. Мишель провела несколько бессонных ночей, меняя простыни и подмывая его. Поняв, что одной ей не справиться, она отвезла Аллана в дом престарелых, для начала присмотреться; там было красиво, на заднем дворе было полно деревьев, почти целый парк. Аллану как будто понравилось. Когда они возвращались оттуда, Мишель спросила: «Думаешь, тебе понравится там?» И была очень удивлена, когда он ответил: «Думаю, там неплохо, будет неплохо».
Он сказал это с такой ясностью, что Мишель почувствовала себя виноватой. «О, Аллан, я чувствую себя ужасно. Я буду очень скучать по тебе. Мне очень тяжело решиться на это. Но я знаю, что сама не справлюсь», – сказала она.
«Все в порядке, – сказал он, – мы всегда будем вместе, что бы ни случилось».
«Это потрясло меня, – говорила мне Мишель, – его способность общаться со мной так ясно в тот день была просто феноменальной. Он вновь стал очень тихим. Но в тот день я чувствовала, что мы очень близки».
Аллан провел две недели в доме престарелых, а потом ушел.
Я встретил Мишель через несколько недель после его смерти. Мы сидели в той же гостиной, где я познакомился с Алланом. На маленьком столике у коричневого кожаного дивана Аллана Мишель поставила маленькую белую вазу со свежими цветами из сада, а на его любимые книги поставила маленькую керамическую черепашку. Свеча лавандового цвета горела перед фотографией в рамке, на ней были молодые Мишель и Аллан. На высокой спинке дивана лежал аккуратно сложенный коричневый вельветовый пиджак Аллана.
Глава 3
Человек, которому была не нужна его нога
Действительно ли чувство, что ваше тело и различные его части принадлежат вам, основано на реальности?
Нога неожиданно приобрела жуткий характер – или, что точнее и менее связано с воспоминаниями, лишилась характера вообще, стала чуждым загадочным предметом, на который я смотрел, который трогал без каких-либо ощущений, узнавания и выявления отношений к целому. Только когда я стал смотреть на нее и чувствовать, что ее не знаю, что она не часть меня и, более того, я не знаю, что это за «вещь» и частью чего является, я потерял ногу[15].
Оливер Сакс
Теоретически фантомной может быть любая часть вашего тела, кроме, конечно, мозга; мозг фантомным быть не может по определению, потому что именно там и происходят все наши мысли.
В. С. Рамачандран
Это был не в первый раз, когда Дэвид попытался ампутировать себе ногу. Когда он только окончил колледж, он попытался сделать это при помощи жгута, сооруженного из старого носка и тюковочного шпагата. Дэвид заперся в своей спальне в доме родителей, упер перевязанную ногу к стене, чтобы остановить приток крови. Через два часа боль стала нестерпимой, страх ослабил его решимость. Развязывать жгут, который сдерживал кровь, могло быть смертельно опасно: поврежденные мышцы ниже уровня жгута могли выбросить в тело токсины, это вызвало бы отказ почек. Несмотря на это, Дэвид самостоятельно снял жгут; хорошо, что накладывать его он так и не научился.
Неудача не ослабила желания Дэвида избавиться от ноги. Оно начало пожирать его, поглощать его сознание. Нога всегда казалась ему инородным телом, самозванкой, навязанной вещью. Каждую секунду своей жизни он воображал, каково это, быть свободным от ноги. Он стоял только на «хорошей» ноге, стараясь не опираться на плохую. По дому он скакал на одной ноге. Сидя, он часто отталкивал «плохую» ногу в сторону. Это была просто не его нога. Он начинал винить ее в своем одиночестве, но жил он в маленьком доме на окраине, опасался общества и боялся заводить отношения, Дэвид не хотел бы, чтобы кто-то узнал о его единственной странности.
Дэвид – ненастоящее имя. Он не стал бы обсуждать свои проблемы, если бы ему не гарантировали анонимность. Когда он согласился поговорить лично, мы встретились в зоне ожидания, в невзрачном ресторане внутри невзрачного торгового центра в окрестностях одного из крупнейших городов Америки. Дэвид – красивый мужчина, внешне похож на одного резковатого голливудского красавчика, чье имя я не называю, потому что Дэвид боится, что его коллеги узнают его по этому намеку. Он хорошо хранит свою тайну: я был всего лишь вторым человеком, которого он лично посвятил в свою историю с ногой.
Жизнерадостная гитарная музыка не подходит под настроение Дэвида. Рассказывая о своем состоянии, он с трудом переводит дух. Я слышал его надтреснутый голос, когда мы раньше говорили по телефону, но теперь тяжело было видеть, как эмоции переполняют этого взрослого мужчину. Сработала пищалка: для нас освободился столик. Однако Дэвид не хотел идти внутрь. Хотя его голос дрожал, он хотел еще поговорить.
«Дошло до того, что я приходил домой и плакал, – так он мне раньше рассказывал по телефону. – Я смотрел на других людей и видел, что они счастливы. А я застрял здесь, я несчастен. Эта странная одержимость не дает мне идти дальше. Логика у меня в голове была такая: нужно срочно что-то с этим делать, потому что, если я буду ждать подходящего момента, жизнь так и будет проходить мимо меня».
Дэвиду нужно было время, чтобы открыться. Раньше, когда мы только познакомились, он был застенчив и вежлив и признался, что не умеет рассказывать о себе. Он всячески избегал профессиональной психиатрической помощи, опасаясь, что это скажется на его карьере. И тем не менее он понимал, что катится по наклонной. Дом начал ассоциироваться у него с одиночеством и депрессией. Вскоре он начал приходить домой, только чтобы поспать; он не мог не разрыдаться, когда находился дома днем.
Однажды вечером, где-то за год до нашей встречи, когда стало совсем невыносимо, Дэвид позвал друга. Дэвид сказал, что хотел бы кое-что сообщить. Друг проявил достаточно эмпатии, это и нужно было Дэвиду. Пока Дэвид рассказывал, его приятель искал информацию в интернете. «Он сказал, что в моих глазах всегда было что-то такое, даже в детстве, – говорил Дэвид, – в глазах у меня была боль. Как будто я что-то скрывал».
Когда Дэвид открылся другу, оказалось, что он не одинок. В интернете он нашел сообщество других людей, которые мечтали избавиться от той или иной части тела – обычно конечности, иногда двух. Все эти люди страдали от синдрома, который известен как расстройство идентичности целостности тела, или BIID[16] (body integrity identity disorder). В научном сообществе нет единого мнения по поводу того, насколько корректен термин BIID. Предлагали также название «ксеномелия» от греческих слов «чужой» и «конечность», но я в этой главе буду использовать аббревиатуру BIID.
Онлайн-сообщество – это спасение для тех, кто страдает от BIID, там многие узнают, что у этого заболевания есть официальное название. У сообщества есть несколько сайтов, несколько тысяч участников и даже внутренняя иерархия. Есть «почитатели»: это те, кого привлекают люди с ампутациями, зачастую сексуально, но сами они не хотят, чтобы им делали ампутацию. Есть «энтузиасты» – это те, кто выражает желание пройти через ампутацию. Далее следуют «нуждающиеся» – те, кто испытывает особо сильное желание подвергнуться ампутации.
Один из энтузиастов рассказал Дэвиду о бывшем пациенте с BIID, который давал другим энтузиастам контакты одного хирурга в Азии. За отдельную плату этот врач неофициально проводил ампутации. Дэвид написал посреднику в «Фейсбук», но больше месяца не получал ответа. По мере того, как таяли его надежды на хирурга, его депрессия усугубилась. Нога настойчиво вмешивалась в его мысли. Он вновь решился избавиться от нее сам.
Вместо жгута в этот раз он запасся сухим льдом. Это довольно популярный метод самостоятельной ампутации среди членов BIID-сообщества. Смысл в том, чтобы довести мешающую конечность до такой стадии обморожения, что врачам не останется ничего другого, как ампутировать ее. Дэвид заехал в местный «Уолмарт» и купил два больших мусорных ведра. План был грубым, но простым в исполнении. Сначала он поместит ногу в ведро с холодной водой, чтобы ослабить чувствительность. Затем он опустит ее в ведро с сухим льдом и доведет до неизлечимого обморожения.
Он купил бинты, но не смог найти сухого льда и необходимых обезболивающих, ведь ему нужно было держать ногу во льду на протяжении восьми часов. Дэвид отправился домой в отчаянии, у него было два ведра и бинты, и он был готов на следующий день отправиться на поиски недостающих ингредиентов. Обезболивающие были обязательны, он знал, что без них ничего не выйдет. Перед сном он проверил почту.
Вот оно. Входящее сообщение. Посредник вышел на связь.
Мы только начинаем понимать, что такое BIID. То, что медицинские организации перестали считать это извращением, бесполезно. Тем не менее есть свидетельства, что такое состояние существует уже сотни лет. В недавнем исследовании Питер Бруггер, глава нейропсихологического отделения Университетского госпиталя в Цюрихе, Швейцария, описал случай одного англичанина, который отправился во Францию в конце XVIII века и попросил хирурга ампутировать ему ногу. Когда хирург отказался, англичанин вынудил его проделать операцию под дулом ружья. По возвращении домой он отблагодарил хирурга 250 гинеями и письмом, в котором писал, что его нога была для него «непобедимым препятствием» на пути к счастью.
Первое современное исследование этого состояния датируется 1977 годом, когда The Journal of Sex Research опубликовал статью об «апотемнофилии» – желании быть подвергнутым ампутации. Исследование категорически причислила желание подвергнуться ампутации к парафилии, это общий термин для девиантных сексуальных желаний. Несмотря на то, что на самом деле большинство людей, которые хотят ампутацию, испытывают сексуальное влечение по отношению к ампутантам, из-за термина «парафилия» возникало некоторое непонимание. В конце концов, гомосексуальность тоже одно время считалась парафилией.
Одним из соавторов исследования 1977 года был Грег Фурт, который впоследствии стал практикующим психологом в Нью-Йорке. Фурт сам страдал от этого состояния и спустя время стал одной из главных фигур в BIID-движении. Он хотел помочь людям справиться с этой проблемой, но медикаментозное лечение давало противоречивый эффект, и на то были причины. В 1998-м Фурт представил своему другу одного хирурга без лицензии, который согласился ампутировать ногу его друга в клинике в Тихуане, в Мексике. Пациент скончался от гангрены, а хирург попал за решетку. Примерно в то же время шотландский хирург Роберт Смит, практиковавший в Фолкирке в Окружном королевском лазарете, на короткое время стал лучом надежды для страдающих BIID, так как он открыто практиковал операции по ампутации на добровольцах. Но ажиотаж в СМИ заставил британские власти запретить подобные процедуры. Деятельность Смита вызвала несколько статей о BIID, в некоторых говорилось о том, что идентификация и описание этого состояния может привести к его распространению, своего рода пропаганде.
Фурт не отчаивался, он нашел в Азии хирурга, который был готов проводить ампутации за $6000. Но Фурт искал хирурга не для себя, он стал посредником, дававшим контакты хирурга страдальцам. Он также написал Майклу Фирсту, психиатру из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Фирст был заинтригован, он провел исследование с участием пятидесяти двух пациентов. То, что ему удалось выяснить, было весьма показательно. Все пациенты были одержимы мыслью иметь тело, которое было бы отлично от того, что они имели в реальности. Как будто было несоответствие между их внутренним ощущением своих тел и реальными физическими телами. Фирст, который позже лоббировал более широкое исследование BIID, убедился в том, что имеет дело с расстройством личности.
«Термин, который предлагали вначале, «апотемнофилия», вызывал больше проблем, – говорил он. – Нам нужен был термин, аналогичный «расстройству гендерной идентичности» (gender identity disorder). GID – это термин, воплотивший идею того, что у человека существует функция, называемая гендерной идентичностью, это ваше ощущение себя как мужчины или как женщины, которое может быть повреждено. Какой термин можно создать по аналогии? Термин «расстройство идентичности целостности тела» предполагает, что существует нормальное ощущение комфорта в том, как устроено тело, и то, что это ощущение повреждено».
В июне 2003 года Фирст обнародовал свои изыскания на встрече в Нью-Йорке. На этой встрече были Роберт Смит, Фурт и многие из тех, кто страдает BIID. Один из них был тем самым посредником Дэвида, назовем его Патрик.
Фурт подошел к Патрику и его жене и без предупреждения обратился к нему с потрясающим предложением. «Стоим себе, едим сэндвичи, а он и говорит мне: “Не заинтересованы ли вы в хирургической операции?”». Патрик всю жизнь провел под давлением BIID. Он даже не колебался. «Да, черт возьми! Да, да, да! Ни слова больше!» До сих пор Патрик не знает, почему Фурт из всех присутствовавших выбрал его. Патрик не религиозен, но в этом случае он видит перст провидения.
На следующий вечер Патрик и его жена отправились к Фурту на обследование. Фурт с пристрастием расспрашивал Патрика, пытаясь выяснить, насколько серьезно его намерение. Было ли это последствием BIID или сексуальным фетишем? Насколько это влияет на его жизнь? Допрос продолжался два часа. Патрик уже было испугался, что «провалился». Но, к его радости, Фурт согласился подписать направление. Так все и началось. Спустя десять месяцев случилось то, чего он так страстно желал, – его прооперировали. Меньше чем через год после этого Патрик сам стал посредником.
Сидя в своем доме в маленьком, провинциальном американском городишке неподалеку от океанского побережья, Патрик вспоминал тот день, когда жена узнала о его навязчивой идее. Это было в середине 90-х. Как почти все страдающие BIID, Патрик испытывал влечение к людям с ампутациями, он загружал и распечатывал фото из Интернета. Однажды его жена сидела за компьютером, а Патрик сидел в кресле-качалке. Она заметила стопку распечаток. Это были фотографии мужчин, хотя и «полностью одетых, никакой обнаженки или чего-то такого». Момент был неловкий. «Должно быть, она решила, что я гей, – вспоминает Патрик. – Я, наверное, был пунцовый». Патрик попросил ее взглянуть на фото внимательно. Так она и сделала, и тут поняла, что все эти люди на фото были с ампутациями.
Патрик сказал своей жене, что у него было странное чувство по отношению к своей ноге с четырехлетнего возраста, чувство, которое постепенно переросло во всепоглощающее желание избавиться от нее. Для нее это был шок: они были женаты не первый десяток лет, и подобное открытие, что он скрывал от нее такое годами, было сложно принять. Но его признание также принесло облегчение. Более сорока лет Парик страдал в одиночестве. Патрик вырос в маленьком американском городке, в семье консервативных родителей, в эпоху, когда люди «не верили в посещение специалистов по ментальному здоровью»; он был озадачен своими ощущениями. В начале 60-х, когда он был подростком, его одержимость ампутациями привела его в библиотеку ближайшего крупного города, где он рассчитывал найти литературу на интересующую его тему. К его удивлению, большинство фотографий людей с ампутациями были вырезаны и украдены. Так он понял, что он не единственный человек на свете, кого пожирает странная одержимость.
«Должен был быть кто-то еще, такой же, как я, – говорил мне Патрик, – но как бы я нашел его?»
Время шло, Патрик боролся со своими мыслями о ноге: «Как мне избавиться от нее? Что мне делать? И как мне это сделать? Я не хочу умереть в процессе». Если он видел фотографию человека с ампутацией или, еще хуже, такого человека на улице, это бередило его раны. «Это прямо сводило меня с ума, – говорил он, – это могло продолжаться несколько дней. Все, о чем я мог думать, – это то, как мне избавиться от ноги». Его тревожность росла, он умолял Бога и заключал сделки с дьяволом: «Возьми мою ногу, сохрани ее кому-нибудь другому», – заклинал он. И, несмотря на все страдания, он молчал четыре с половиной десятилетия. Одиночество было почти невыносимым.
Меньше чем за год до открытия жены он наткнулся на анонимное объявление в местной газете. Человек, который опубликовал его, признавался в желании подвергнуться ампутации конечности, он был энтузиастом. Патрик написал по указанному адресу и вступил в переписку с этим человеком. Вскоре они встретились, и энтузиаст рассказал Патрику о других людях, которые тоже хотят подвергнуться ампутации. Это было такое облегчение! «Боже мой! Я не одинок! – вспоминал Патрик. – Я не сумасшедший!»
Впрочем, обретение товарищей по несчастью не облегчило его страданий. Несмотря ни на что, отчаяние Патрика росло. Он решился на самостоятельную ампутацию. Он был наслышан о людях, которые ложились на рельсы, чтобы поезд отрезал им конечность, или простреливали себе ноги дробовиком. «С поездом была одна проблема: если он движется с большой скоростью, ты запросто можешь погибнуть, зацепившись за поезд. Тебя просто перемелет колесами, – говорил он. – Я совсем не хотел умереть в процессе, но и не собирался жить, не попробовав избавиться от ноги».
Другой энтузиаст, который уже сделал себе домашнюю ампутацию, предложил Патрику вначале потренироваться. И Патрик, прежде чем взяться за ногу, решил для начала отрезать себе часть пальца. Он соорудил жгут из ручки и эластичной ленты и поместил палец в термокружку со льдом и спиртом. После того, как часть пальца онемела так, что Патрик не мог его согнуть, он взял молоток и долото, и отсек часть пальца повыше первой костяшки. Отделенную часть он размозжил молотком. «Чтобы его не смогли пришить, даже если захотят», – сказал мне Патрик.
Это было сделано еще и для прикрытия: в больнице Патрик сказал, что ему на палец упал тяжелый предмет. Когда врач вколол в палец обезболивающее, Патрик притворился, что ему больно. На самом деле палец все еще ничего не чувствовал.
Около десяти лет назад Патрик отправился в Азию, чтобы увидеться с врачом, с которым его свел Грег Фурт. Он вошел в больницу в пятницу вечером, и ему пришлось ждать до вечера субботы, когда его вкатили на кресле в операционную. «Это был самый длинный день в моей жизни», – сказал он мне. На следующий день он проснулся после наркоза. «Я посмотрел вниз и не мог поверить своим глазам. Наконец-то ее не было! – рассказывал он. – Я был в экстазе». Единственное, о чем он жалел, так это о том, что не сделал этого раньше. «Я бы не вернул себе ногу за все деньги мира, вот как я счастлив теперь».
Принятие его состояния отразилось и на обстановке дома. Перед операцией дети подарили ему куклу Кена, которую он хранит в пластиковой коробке вместе с альбомами с фотографиями людей с ампутациями, которые он собирал, будучи молодым. На кукле надеты красные шорты; одна нога заканчивается под коленом, обрубок замотан в белую марлевую повязку. В доме Патрика я видел игрушечный скелет, висящий на люстре, я тогда не придал ему значения. «Посмотрите внимательно», – сказал Патрик. И тогда я заметил, что у него, как и у Патрика, не было части пальца и части ноги. Еще там была статуэтка Давида Микеланджело на каминной полке. У него тоже не было части ноги. Семья признала проблему Патрика и таким образом отмечала его освобождение от BIID. Патрик теперь казался абсолютно успокоенным и жил в гармонии со своим телом.
Это чувство освобождения и облегчения знакомо всем пережившим ампутацию пациентам с BIID, которых изучали специалисты. Это наблюдение рассеивает по крайней мере одно опасение, что если ампутировать здоровую конечность, то пациент захочет продолжения. Почти во всех отчетах, разве что кроме ранних стадий BIID, конечность всегда одна.
Фурту, в свою очередь, диагностировали рак, и он умер в 2005 году, не дождавшись ампутации для себя. Когда Патрик проходил предоперационное обследование у него, то обещал, что после ампутации будет помогать всем, кто в этом нуждается. Перед смертью Фурт позвал Патрика к себе. Возьмет ли он на себя роль посредника для связи с хирургом из Азии? Патрик согласился и на протяжение девяти лет выступал в роли посредника для страдающих BIID. Так или иначе, они его находят. И Дэвид нашел его как раз перед тем, как собирался заморозить себе ногу сухим льдом.
Примерно за год до операции психолог спросил Патрика, принял бы он таблетку от BIID, если бы она существовала. Он с минуту подумал и ответил: возможно, он сделал бы это, когда был моложе, но не теперь. «Это то, что я есть и кто я есть», – сказал он.
«Это то, что я есть». Все пациенты с BIID, с которыми я разговаривал и о которых я слышал, используют примерно те же слова, описывая свое состояние. Когда они формируют представление о себе, полное и всецелое, оно не включает в себя некоторые части их конечностей. «Как будто мое тело заканчивается в середине бедра правой ноги, – говорил Фурт создателям документального фильма “Совершенная одержимость”, BBC, 2000 года, – а остальное – это уже не я».
В том же фильме шотландский хирург Роберт Смит говорит в интервью: «За эти годы я убедился, что существует небольшая группа пациентов, которые изначально ощущают, что их тело неполноценно, имея нормальный набор из четырех конечностей».
Большинству из нас такое даже представить себе сложно. Ваше чувство личности, так же, как и мое, вероятно, привязано к телу, в котором имеется полный набор конечностей. Мне невыносима сама мысль, что к моему бедру кто-то приблизится со скальпелем. Это мое бедро. Для меня это чувство собственности само собой разумеется. Но это далеко не так у тех, кто страдает BIID, в том числе и у Дэвида. Когда я попросил его описать, что он чувствует, он сказал: «Ощущение такое, будто моя душа не достает до ноги».
Неврология в последнее десятилетие доказала, что это чувство собственности по отношению к частям тела до странного пластично даже у здоровых людей. В 1998 году ученые-когнитивисты Университета Карнеги – Меллона в Питтсбурге провели интересный эксперимент. Испытуемых посадили за стол и попросили положить левую руку на стол. Рядом с настоящей рукой клали резиновый муляж. Между ними помещали экран, так чтобы испытуемые видели только резиновую руку, а не свою настоящую. Затем проводили по рукам (настоящей и резиновой) кисточкой. Испытуемые после говорили, что ощущали прикосновение кисточки к резиновой руке, а не настоящей, несмотря на то что они были в сознании в то время, когда кисточка прикасалась к настоящей руке. Что еще более важно, многие говорили, что ощущали резиновую руку как свою собственную.
Иллюзия резиновой руки показывает, что то, как мы воспринимаем свое тело, – это динамический процесс, в который постоянно встраиваются различные ощущения. Визуальная и тактильная информация, ощущения в суставах, сухожилиях и мышцах, которые обеспечивают нам полноценное чувство взаиморасположения частей нашего тела, соединены и, таким образом, дают нам чувство обладания телом. Это чувство является ключевым компонентом нашего чувства личности. И если процесс, создающий чувство обладания, проходит неправильно – например, как с резиновой рукой – мы чувствуем какой-то подвох.
Вероятно, у мозга есть разные механизмы, создающие чувство обладания. Например, как мы увидим в следующей главе, мозг создает чувство инициативы мысли и действий – чувство того, что именно вы совершили действие, например взяли бутылку в руки, или что именно вы подумали о чем-то, и это была именно ваша мысль, а не чья-то еще. Это так называемое чувство свободы воли является ключом к обладанию вашими мыслями и действиями (когда оно нарушено, последствия могут быть тяжелыми, включая психопатическое расстройство или шизофрению).
Итак, если мы ощущаем, что обладаем чем-то неодушевленным, вроде резиновой руки, можем ли мы обладать чем-то, что вообще не существует? Похоже, что да. Пациенты, потерявшие конечность, иногда могут ощущать ее присутствие, часто сразу после операции, а бывает, что и годы спустя после ампутации. В 1871 году американский врач по имени Силас Уэйр Митчелл придумал термин «фантомная конечность» для подобного феномена. Некоторые пациенты даже ощущали боль в фантомных конечностях. К началу 1990-х, благодаря передовым работам невролога В. С. Рамачандрана из Калифорнийского университета, Сан-Диего, было установлено, что фантомные конечности не что иное как свидетельство нарушения представления о теле в мозге человека.
Мысль о том, что наш мозг имеет некую карту представления о теле, возникла в 1930-х, когда канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд исследовал мозг пациентов в сознании, которые проходили хирургическое лечение от тяжелых случаев эпилепсии. Он обнаружил, что каждая часть тела имеет соответствие на поверхности коры мозга: чем чувствительнее часть тела – например, ладони и пальцы или лицо – тем большая часть мозга за нее отвечает. Как выяснилось, эта карта включает в себя гораздо больше, чем то, что находится на поверхности тела. Согласно исследованиям неврологов, мозг составляет план всего, что мы воспринимаем, от нашего тела (как с поверхности, так и изнутри) до атрибутов внешнего мира. Эти карты составляют объекты сознания.
Наличие таких карт объясняет существование фантомных конечностей. Хотя пациент и потерял конечность, карта коры головного мозга остается невредимой, фрагментированной или измененной – она может влиять на восприятие конечности, в том числе и на способность чувствовать боль. Даже люди, родившиеся без конечностей, могут испытывать фантомные ощущения в руках или ногах. В 2000 году Питер Бруггер писал об очень образованной даме сорока четырех лет, родившейся без предплечий и ног, которая тем не менее чувствовала их как фантомные, сколько себя помнила. С помощью МРТ и транскраниальной магнитной стимуляции команда Бруггера выявила ее субъективный опыт ощущения фантомных конечностей: части тела, которые отсутствовали от рождения, могли быть представлены в сенсорной и моторной коре. «Фантомы отсутствующих от рождения конечностей являются душой без плоти, – говорил мне Бруггер, – ничто не превратилось в плоть и кость». Мозг имел карту отсутствующих частей тела, хотя реально конечности так и не развились.
Столкнувшись с BIID, Бруггер увидел параллели с теми, что испытывала его пациентка. «Должно быть обратное явление, плоть без души, – говорил он, – это и есть BIID». Тело полностью развито, но почему-то его представление в мозгу неполно. Карта части конечности или конечностей была повреждена.
Неврологов особенно заинтересовала правая верхняя теменная доля (ВТД), область мозга, которая отвечает за построение карты тела. Команда Бруггера выяснила, что эта область тоньше в случае с BIID, а другие исследования показали, что она может функционировать различно при таком состоянии. В 2007 году Пол МакГеок и В. С. Рамачандран составили карту активности мозга у пациентов с BIID и контрольных испытуемых. Исследователи постукивали по ступням контрольных испытуемых и наблюдали активность ВТД. Но пациенты с BIID вели себя по-другому: правая ВТД показывала весьма скудную активность, когда постукивали по «ненужной» ноге, но она реагировала нормально, когда постукивали по другой ноге.
«Мы утверждаем, что у этих людей есть отклонения в развитии, либо врожденные, либо приобретенные на ранней стадии развития этой части мозга, – говорит МакГеок, – эта конечность не отображается в мозгу адекватно. Пациенты находятся в состоянии конфликта, несоответствия, которое они видят и чувствуют».
Почти наверняка можно сказать, что здесь играют роль и другие части мозга. Недавно ученые выпустили обзор ряда экспериментов над чувством «обладания телом», включая иллюзию с резиновой рукой, и определили существование сети областей мозга, которые объединяют ощущения тела и его непосредственного окружения и ощущения, связанные с движением частей тела. Эта сеть включает несколько областей от участков коры, отвечающих за моторный контроль и тактильность до ствола мозга. Эта сеть, как предполагают ученые, отвечает за то, что называется «матрицей тела» – ощущением физического тела и непосредственным его окружением. Из-за того, что эта сеть помогает обрести внутренний физиологический баланс тела, она реагирует на все, что угрожает целостности и стабильности тела. Интересно, что физические различия в мозгу пациентов с BIID, которые определил Бруггер, включают в себя изменения практически во всех областях этой сети. Может ли BIID быть следствием изменений матрицы тела? Именно так думает команда Бруггера.
Важно подчеркнуть, что эти открытия являются корреляциями – они не доказывают, что нервные аномалии и есть причины BIID. Читателям этой книги этот факт нужно держать у себя в голове. Существует тенденция в неврологии, называемая нейробиологическим редукционизмом, особенно в изучении расстройств, заключающаяся в том, что взаимоотношения мозга и разума рассматриваются как улица с односторонним движением. Мозг влияет на ментальную активность, но никак не наоборот. МРТ– или ПЭТ-сканирования обычно говорят об относительных изменениях в активности специфических областей мозга у человека с расстройством по сравнению со здоровыми показателями. Но кроме очевидных случаев неврологического нарушения, такие сканирования показывают нам корреляцию между активностью мозга и состоянием человека; они не устанавливают со стопроцентной точностью, вызвало ли наблюдаемое анатомическое или функциональное отклонение в мозгу состояние пациента (такое как BIID) или же подобные отклонения в ментальной активности (навязчивая мысль: «Это не моя нога», например) ведут к изменениям в мозге.
Затем возникает вопрос, как тело дает установки, а матрица тела транслирует их в чувство личности. А что касается пациентов с BIID, как искаженная карта тела ведет к навязчивому желанию ампутации?
Философ Томас Метцингер проводит исследование того, почему люди, страдающие BIID, могут отвергать часть своего тела, и это связано с идеей личности. «Обладание телом, его ощущениями и его различными частями является фундаментальной частью чувства личности», – пишет Метцингер в книге «Туннель Эго». В его теории мозг создает модель, репродукцию окружающего мира, в котором существует тело. Внутри этой модели мира находится модель личности: репродукция самого организма, которая нужна, чтобы «регулировать взаимоотношения с окружающим миром» и поддерживать организм в оптимальном состоянии.
То, что мозг создает подобные модели, следует из классического труда 1970-х годов, который математически точно продемонстрировал, что «любой регулятор… должен создавать модель того, что он регулирует». Так что, если мозг регулирует тело, он должен создавать его модель, и это модель личности.
Важно, что лишь небольшая часть этой модели личности связана с сознанием. Метцингер называет это моделью феноменальной личности (МФЛ). Содержание этой модели – это то, что мы осознаем, включая ощущения тела, эмоции и мысли. Другими словами, содержание МФЛ – это наше эго, наша идентичность как субъект опыта. В любой момент времени в ней могут содержаться состояния тела, являющиеся частью нашей модели личности, но не частью МФЛ, и в этом случае мы не будем осознавать или субъективно испытывать эти телесные состояния. А содержание этих моделей: мира, личности, феноменальной личности – постоянно меняется. Также то, что отделяет содержание модели мира от содержания МФЛ, – это территория осознанности: объекты в модели мира я не ощущаю как свои, в то время как объекты МФЛ, чем бы они ни были, по определению принадлежат мне.
Если Метцингер прав, тогда до того, как начнет действовать иллюзия резиновой руки, безжизненная рука, которую видит испытуемый, является частью его модели мира, но не МФЛ. То есть по отношению к ней я не испытываю чувства обладания. Мы попадаем под власть иллюзии, так как она меняет нашу МФЛ: наш мозг вытесняет представление о живой руке представлением резиновой руки, которая теперь встроена в нашу МФЛ. А поскольку все в МФЛ находится на территории осознанности, мы ощущаем резиновую руку как свою собственную. В случае с BIID конечность или другая часть тела как будто неправильно отражена в МФЛ. Лишенная осознанности, она отторгается (довольно занятно было бы предположить, что синдром Котара может быть следствием нарушений МФЛ).
Идеи Метцингера дают нам ключ к пониманию того, почему люди с BIID могут желать ампутации конечности, которую они не считают своей. Моя личность – определяемая содержанием МФЛ – это не только моя субъективная идентичность; это также основа границ между тем, что мое, и всем остальным, между мной и не-мной. «Это орудие и инструмент, – объяснял Метцингер во время нашего телефонного разговора. – Это что-то, что появилось в процессе эволюции, чтобы поддерживать и защищать целостность всего организма, и это включает в себя четкую границу между понятиями “я” и “не-я” на разнообразных функциональных уровнях. Если представление в мозгу нарушено и оно говорит тебе, что это не твое, не твоя конечность, мозг делает вывод, что это очень опасная ситуация».
МакГеок, Рамачандран и их коллеги продемонстрировали это на примере простого и красивого эксперимента. Они изучали двух человек, которые добровольно согласились на ампутацию: мужчину двадцати девяти лет, который хотел, чтобы ему ампутировали ногу ниже правого колена; и мужчину шестидесяти трех лет, который хотел ампутацию обеих ног: левой ниже колена и правой ниже бедра. Любопытная черта людей, страдающих от BIID: они почти всегда могут с точностью поделить конечность на ту часть, которую они считают своей, и ту, которую не считают. Это разделение устойчиво на протяжении времени (согласно Рамачандрану, это состояние скорее неврологическое, нежели психологическое). В ходе эксперимента ученые записали реакцию проводимости кожи (РПК), используя электроды, присоединенные к ладоням испытуемых, на укол булавкой выше или ниже линии «желаемой ампутации».
РПК нельзя контролировать усилием воли. Большинство людей, когда до них дотрагиваются, или когда они слышат шум, или когда они получают эмоционально возбуждающие стимулы, демонстрируют повышенную РПК. Исследование Рамачандрана показало, что, когда пациентов с BIID кололи в той части конечности, которую они ощущали как чужую, РПК была в два или три раза выше, чем в нормальной части конечности. Одна из интерпретаций этих данных такова: когда укол булавкой приходился на часть, которую они хотели ампутировать, он воспринимался как повышенная угроза.
Команда Бруггера также пришла к похожим выводам. Когда пациентов с BIID одновременно похлопывали по чужой и нормальной частям конечностей, они раньше откликались на прикосновение к отторгаемым частям: их мозг ставил эти тактильные стимулы в приоритет.
Оба исследования предполагают гиперосознанность в отношении отторгаемых частей конечностей. Как будто пациенты с BIID уделяют повышенное внимание тем частям тела, которые они ощущают как чужие. «Как будто в их телах есть активные инородные элементы, которые привлекают повышенное внимание; следовательно, они приоритетны для их височной доли, – говорит Бруггер, – оглядываясь назад, можно сказать, что в этом есть смысл».
Тем не менее есть горькая ирония в том, что отторгаемая часть тела привлекает больше внимания, чем все остальное тело. BIID можно сравнить с состоянием, известным как соматопарафрения, при котором люди отрицают обладание ногой или рукой или даже половиной тела. Расстройство часто возникает из-за того, что человек пережил паралич одной стороны тела, порой в неосознанном состоянии. Но в BIID нет такой функциональной проблемы. Поэтому повышенное внимание мозга к отторгаемой части тела имеет смысл, только если принять тот факт, что эта рука или эта нога не является частью телесной личности, созданной мозгом. BIID говорит нам о том, что даже если мы теряем чувство обладания частями тела, все еще есть «Я» – личность как субъект – которая испытывает недостаток осознанности в конечности. К сожалению, отторгаемая часть тела становится предметом одержимости, как и все чужеродное, что пристает к телу; одержимости, которая приводит к ампутации.
Негативные внутренние реакции – частое явление, когда люди впервые слышат о добровольных ампутациях. Около пятнадцати лет назад, когда внимание СМИ к BIID было на пике, биоэтик Артур Каплан, тогда работавший в Университете Пенсильвании, назвал это «абсолютным, полным безумием упорствовать с просьбой покалечить кого-либо».
Спустя более десяти лет на страницах академических журналов все еще идут дебаты относительно этичности добровольных ампутаций. Действительно ли это аналогично пластическим операциям, таким как уменьшение груди, как это позиционируют пациенты с BIID? Некоторые биоэтики опровергают эту точку зрения, поскольку ампутация влечет за собой постоянную инвалидность. Другие указывают на то, что пластические операции тоже могут привести к функциональной неспособности, как например, когда уменьшение груди влечет за собой неспособность кормить грудью. Некоторые сравнивают BIID с нервной анорексией, как наиболее подходящей аналогией, так как в обоих случаях искажен образ тела. Согласно аргументам этой стороны, в ампутации в случае с BIID нужно отказывать, так же как пациентов с анорексией иногда кормят против воли. На это можно возразить: анорексики имеют искаженное, иллюзорное представление о теле, объективные измерения показывают, что вес их тела опасно мал. Но не существует объективного измерения внутреннего чувства несоответствия у пациентов с BIID.
Споры продолжаются, частично из-за того, что BIID не является официально признанным медицинским расстройством. Также не хватает данных о том, как добровольные ампутации влияют на жизнь пациентов. Вот история хирурга, оперировавшего Дэвида, ортопеда по специальности.
Доктор Ли – имя изменено – мужчина около сорока пяти лет, дружелюбный, с открытой улыбкой. Он как будто смирился со своей тайной практикой. Когда пациент с BIID впервые подошел к нему шесть лет назад, у него были сомнения, поэтому он изучил BIID настолько тщательно, насколько мог, общался с пациентом несколько месяцев перед тем, как решился провести ампутацию. Он знал, что рискует карьерой врача. Будучи религиозным человеком, он вместе с женой даже молился об этом, пытаясь возложить бремя ответственности на высшие силы. «Господи, если ты считаешь, что это неправильно, помешай мне как-нибудь, – вспоминает он. – Не знаю как, но помешай». А поскольку все шло гладко, он воспринял это как божественную санкцию.
Доктор Ли убежден в том, что то, что он делает, этично. Он не сомневается в том, что пациенты с BIID страдают. В вопросе, проводить ли ампутацию, чтобы облегчить их страдания, он обращается к определению здоровья Всемирной организации здравоохранения: состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или немощей. Насколько ему известно, людей с BIID нельзя назвать здоровыми, не существует нехирургического лечения или свидетельств эффективности психотерапии. Майкл Фирст в исследовании 2005 года, в котором принимали участие пятьдесят два пациента с BIID, упомянул, что 65 % прошли психотерапию, но она не возымела эффекта на их желание подвергнуться ампутации (хотя справедливо и то, что половина из них не сообщала психотерапевту о подобных желаниях).
Конечно, остается вопрос, являются ли люди с BIID психически больными. И вновь ученые, которые изучали этих пациентов, говорят, что это не так. Доктор Ли настаивал на том, что его пациенты не были сумасшедшими (и, как мы увидим в следующей главе, психоз при шизофрении подразумевает глубокие изменения реальности, испытываемой субъектом; ни один пациент с BIID, с которым я общался, не говорил ни о чем подобном).
Напротив, доктор Ли считает, что многие из его пациентов были высокоэффективными личностями – пилотами, архитекторами, врачами. А для доктора Ли доказательство того, что BIID – это реальное состояние, находилось в почти мгновенной перемене, которые он наблюдал в своих пациентах после хирургического вмешательства, по сравнению с теми, кто вынужден был подвергнуться ампутации, скажем, после автоаварии. Принудительные ампутации травматичны даже для сильнейших из людей, они могут страдать впоследствии от жестокой депрессии. «А потом ты видишь этих людей с BIID, которые прыгают на костылях в первый день после операции».
Пол МакГеок, который изучал пациентов с BIID, пришел к тому же выводу. «Они бесконечно счастливы. Я еще не встречал ни одного, который не был бы рад после ампутации конечности», – говорит он. Но, будучи таким же убежденным сторонником добровольных ампутаций, как и доктор Ли, он подчеркивает: «Я перестану делать это в тот момент, когда хоть один из пациентов раскается в сделанной операции. Пока что не было ни одного».
Если BIId когда-либо признают и добровольные ампутации станут легальными, тайная программа доктора Ли закончится. «Я буду очень рад, если это случится. Мне не придется больше нести этот груз, – говорит он. – Прямо сейчас я разрываюсь между бременем хирургических операций и желанием помочь им». Затем в минуту слабости он признается, что ему будет не хватать хирургической практики: «Возможно, это моя странность».
Будет ли ему не хватать денег, сумма достигает 20000 долларов США за операцию? Ответом было эмоциональное «нет». Он сказал, что получает столько же за легальные операции для иностранцев в сфере медицинского туризма и за успешную местную практику. Он отметил, что такая цена покрывает все: расходы на больницу, оплату для ассистентов хирурга, даже питание и осмотр достопримечательностей для пациентов. «Вы платите не за операцию. Вы платите за риск, который с ней связан, – говорит он, – вам нужно, чтобы все были счастливы. Мы не о пустяках говорим. Если это раскроется, мы лишимся лицензии». Он сказал, что готов взять на себя риск, если его пациенты довольны.
В то утро, когда Дэвиду была назначена операция, я решил встретиться с ним и с Патриком в их номере в отеле. Мы преодолели тысячи миль, чтобы оказаться здесь, в тесном азиатском городе. Снаружи было жарко и душно, улицы запружены машинами. Шикарные авто и простые развалюхи соперничали за место на дороге с автобусами и велосипедами. В ноздри ударяли пары бензина. Вонь просачивалась в окна высококлассных отелей и офисных зданий. В этом отеле, в номере, обитом деревянными панелями, к счастью, был кондиционер.
Я всю ночь думал о предстоящей Дэвиду операции и ощущал тревогу за него. Я представлял себе, какой страх он, должно быть, испытывает: страх перед операцией, страх непонимания со стороны друзей и семьи, страх инвалидности. Но в то утро Дэвид ничего похожего не чувствовал. Он сказал, что такие вещи его больше не тревожат. В отличие от последующей бумажной рутины. Чей номер дать в качестве экстренных контактов? Можно ли ему разглашать их адреса и телефоны? Патрик предложил дать ложные номера, поменять цифру-другую. «Тебе придется привыкнуть ко лжи», – сказал он.
Я продолжал задаваться вопросами. Я спросил Дэвида, был ли он у психиатра. Обычно Патрик дает направление на операцию лишь после того, как психиатр подтвердит у пациента BIID. Дэвид у психиатра не был. Патрик положился на свое суждение, дав ему направление на операцию, сказав, что увидел в Дэвиде самого себя: ту же агонию, те же мысленные терзания. К тому же Дэвид не мог позволить себе консультацию психиатра. Он и так с трудом наскреб денег и влез в долги, чтобы собрать 25000 долларов на саму операцию, перелет и десятидневное проживание в отеле на двоих.
Доктор Ли согласился на операцию по рекомендации Патрика. Они работали вместе с тех пор, как познакомились через сообщество людей с BIID около шести лет назад. Дэвид был благодарен доктору Ли за помощь. «Вы же знаете, – говорил он мне в отеле, – я собирался сделать это сам. Я бы только навредил себе». Внезапно Дэвид начал рыдать. Патрик стал успокаивать его, Дэвид извинился. «Каждый раз, когда я вспоминаю, как собирался сам себе ампутировать ногу, я плачу», – сказал Дэвид. Дэвид вновь выразил уверенность, что, если бы ему не назначили операцию, он бы попытался отрезать себе ногу сам. «Я больше так не могу».
Хирург забрал его вскоре после полудня. Учитывая, что вся эта процедура потребует ухищрений, чтобы обойти больничных работников и медсестер, доктор Ли был на удивление спокоен. «А куда деваться? – ответил он, когда я позже спросил о таком поведении. – Я не могу показывать пациенту, что я нервничаю». Он отвез нас к себе домой, отвел в гостиную и попросил Дэвида присесть.
Доктор Ли изложил свой план: он отвезет Дэвида в больницу, сказав, что тому нужна операция из-за состояния сосудов. Ни о чем не догадывающиеся медсестры приготовят пациента к обычной операции – а потом, уже под операционными лампами, доктор Ли скажет, что здесь потребуется ампутация. Анестезиолог и другие хирурги будут посвящены в план, медсестры останутся в неведении.
В гостиной доктор Ли постелил на пол какую-то из своих старых вещей и поставил на нее ногу Дэвида. Он быстро забинтовал стопу, лодыжку и икру. Это была мера предосторожности. Так любопытные работники больницы не увидят, что нога здорова. Он расписал порядок допуска в рецептурном блокноте и проинструктировал Дэвида, какие симптомы он якобы испытывал в последние несколько дней: боль, сопровождающаяся судорогами, онемение время от времени. Это для персонала приемного отделения. Диагноз, который подразумевали эти симптомы, даст доктору Ли возможность назначить ампутацию во время операции, и это решение никто из присутствующих в операционной не подвергнет сомнению.
Мы поехали к маленькому госпиталю на окраине города. Элитные отели уступили место низким зданиям и торчавшим то тут, то там домам с импровизированными жестяными крышами вдоль немощеных грязных улиц. Сам госпиталь располагался прямо у дороги в одном ряду с мясной лавкой, ломбардом, мастерской по ремонту электроники и парикмахерской, вывеска которой обещала безопасное и эффективное выпрямление волос.
Доктор Ли не числился в этом госпитале; как и многие врачи частной практики, он имел право оперировать в разных больницах. Он высадил нас у больницы. Дэвид, теперь он был на костылях, должен был пройти в приемное отделение. Купятся ли они на его историю? Мы прошли в отделение неотложной помощи. Оно было просто обставлено. Десять железных кроватей с матрасами, покрытых чистыми простынями, были разделены плотными занавесками. Конечно, не высокие технологии первого класса, но чисто и функционально.
Медсестра попросила Дэвида сесть и спросила, на что он жалуется. Он пересказал то, что велел доктор Ли. Лечащий врач, мужчина в очках, в голубой полосатой рубашке, со стетоскопом на шее, взял направление и нахмурился, прочитав его. Он перегнулся через стойку, чтобы взглянуть на ногу Дэвида. Увидев бинты, он спросил, была ли у Дэвида травма ноги. Нет, ответил Дэвид и повторил симптомы тихим голосом. Врач ушел.
Дэвид был подавлен. Патрик со своим протезом ноги как будто чувствовал себя отлично; он этот сценарий проходил много раз. Дэвид, несмотря на то, что вел себя тихо, очень нервничал, и я нервничал, хотя и был просто наблюдателем. Что, если лечащий врач начнет задавать вопросы? Что мы трое, двое из которых на костылях, делаем в этой части света? Что если они вызовут полицию? Затем, когда Дэвид заполнил бумаги, медсестра привезла каталку. Она вставила катетер в его левую руку и подсоединила капельницу, висевшую на стойке на каталке. Она ушла. Я посмотрел на Патрика. «Поверить не могу, что это и впрямь происходит», – прошептал он с облегчением. Вошел медбрат, мы встали и пошли за ним, а он катил Дэвида в больничную палату. Приманка проглочена.
В палате мы отправили хирургу сообщение, что Дэвида приняли. Доктор Ли потом сказал мне, что он сам успокаивается лишь в тот момент, когда получает такое сообщение. Теперь оставалось лишь ждать.
Пока мы ждали в палате, Патрик начал давать Дэвиду советы, как жить без ноги. Не закрывать глаза, если стоишь без опоры, например. Потеряешь равновесие и упадешь. Всегда носить с собой обезболивающее: споткнешься и упадешь на культю, и будет очень больно.
Медсестра пришла и проинформировала Дэвида, что его прооперируют в течение нескольких часов, затем мы вновь остались одни. Мы считали капли физраствора в капельнице Дэвида: около двенадцати капель в минуту. Я спросил Дэвида, что он скажет, когда вернется домой. Он сказал, что расскажет ту же историю, что и здесь, в больнице. Доктор Ли снабдит его полной медицинской выпиской. Патрик вспомнил, что он сам рассказывал: он подхватил в отпуске быстро распространяющуюся инфекцию под названием «огонь Святого Антония». Болезнь вызвала гангрену в ноге, и ее пришлось ампутировать. И все поверили. Потом Патрик посоветовал Дэвиду сделать одну вещь в последний раз, ведь после операции он уже этого больше сделать не сможет: скрестить ноги. Дэвид скрестил ноги. Было похоже на то, что мы почтили потерю минутой молчания.
Вскоре два медбрата ввезли каталку. Дэвид улегся на нее, и его повезли в операционную. Патрик подбодрил его, показав поднятый вверх большой палец. Я не знал, что сказать, и просто еле слышно прошептал: «Удачи!».
В больнице было тихо, пустые сиденья выстроились вдоль тускло освещенного коридора. Лишь в операционной все кипело. Дэвид лежит на операционном столе под наркозом, безразличный к боли. Верхняя операционная лампа освещает его бедро. Доктор Ли берет скальпель и делает длинный глубокий надрез точно в том месте, где и нужно Дэвиду, на его атлетичной, мускулистой здоровой ноге. Хирург старательно и проворно разрезает мышцы. Он прижигает мелкие кровеносные сосуды, держась подальше от больших вен, артерий и нервов. Он вытягивает нервы, освобождает их от окружающей мышечной ткани, режет и оставляет. Нервы втягиваются в мягкую ткань верхней части бедра как резиновые жгуты. Он зажимает большие кровеносные сосуды, обрезает их, затягивает проксимальный и дистальный конец. Проксимальный три раза для очистки совести. Операция занимает больше времени, чем предполагалось, так как нога мощная, налитая кровью. Наконец, он протягивает под бедренной костью гибкую пилу. Ассистент надавливает на ногу. Доктор Ли начинает пилить самую крепкую кость в теле. Затем он занимается сосудами, нервами, мышцами и кожей под костью и, наконец, нога отделена. Время накладывать шов. Первым делом он сшивает мускулы, затем фасцию, крепкую фиброзную ткань, окружающую мышцы. Очень важно правильно сшить фасцию, ошибка может привести к мышечной грыже, это серьезное осложнение. Наконец, хирург стягивает кожу и подкожную ткань. Там, где была нога, осталась лишь культя.
Я не был в операционной той ночью. Но я ходил по пустому коридору, пытаясь подглядеть, что творится за матовыми стеклами дверей, ведущих в операционную. Я снова и снова размышлял об операции (которую доктор Ли описал мне в подробностях). Каждый раз мне было грустно и страшно. Дэвид был совершенно здоровым мужчиной с совершенно здоровой ногой, и все же он решился на добровольную ампутацию в чужой стране. Он доверился команде хирургов, которая работала, прикрываясь обманом. Как много должен выстрадать человек, чтобы дойти до такого: уложить себя под нож, в окружении незнакомцев, в маленьком, богом забытом госпитале в тысячах миль от дома?
Патрик еще спал, когда раздался стук в дверь. Прошло уже больше трех часов с тех пор, как увезли Дэвида. В дверях стоял медбрат в хирургическом костюме и резиновых перчатках. Он обратился к Патрику: «Ногу надо захоронить, как можно скорее». Ему нужны были деньги на захоронение. Патрик вручил ему наличные. «Хотите взглянуть на ногу? – спросил медбрат. – Она уже в контейнере». Патрик такого желания не изъявил. Медбрат ушел. «Ну что ж, все кончено. Я рад, – сказал Патрик, – он этого хотел. Ему это было нужно».
Вскоре пришел и доктор Ли. Он сообщил, что операция прошла успешно, хотя и заняла больше времени, чем обычно. Дэвид чувствовал себя хорошо, он спал и восстанавливался. Доктор Ли предложил подвезти меня до отеля, и я согласился. Во время поездки он рассказывал об операции. «У него хорошо развита мускулатура, – сказал доктор Ли. – Мышцы сокращаются, и крови больше. Нужно будет соблюдать осторожность». В его голосе я услышал удовлетворенность от проделанной работы: «Поразительно, но результат налицо, – сказал он, имея в виду изменения в поведении своего пациента с BIID, – завтра сами увидите!»
На следующий день я с нетерпением ждал момента, когда отправлюсь в госпиталь. Я купил плитку горького шоколада для Дэвида и взял такси. Когда мы приехали, я вошел через главный вход, прошел приемное отделение, остановился на секунду у матовых дверей операционной. Затем я пошел в палату к Дэвиду и постучался. Большинство пациентов лежат пластом после таких операций, но только не Дэвид. Он сидел в кровати, его культя была тщательно забинтована и укрыта марлей. Он все еще был под капельницей. Ему капали трамадол, наркотический анальгетик. К его телу был прикреплен мочеприемник. Он выглядел уставшим, но после операции тогда прошло лишь двенадцать часов. Я пожал ему руку и вручил шоколадку. Дэвид развернул обертку, отломил кусочек и начал есть. Он сел на своей больничной койке с таким видом, будто прошлой ночью ничего особенного не произошло. Наш разговор постепенно утомил его. Он заснул.
Когда я зашел к нему на следующий день, капельницы и мочеприемника уже не было. Пара костылей стояла около кровати Дэвида; он уже прошелся до душа и обратно, в точности, как и предсказал хирург. Он улыбался и непринужденно смеялся, когда мы говорили. Напряжение, которое читалось на его лице все это время, ушло. Я почувствовал облегчение, даже счастье.
Месяцы спустя я написал Дэвиду. Он сказал, что не сожалеет ни минуты. Как будто впервые в жизни он чувствовал себя целым.
Глава 4
Скажи мне, что я здесь
Когда ваши действия не ощущаются как ваши, и что это значит для личности
Что дает мне право говорить о каком-то «Я» и даже о «Я» как о причине и, наконец, еще о «Я» как о причине мышления? <…> мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу[17].
Ницше
Для верного постижения иллюзии важно освободиться от предрассудка о том, что в корне ее лежит бедность рассудка[18].
Карл Ясперс
10 марта 2013 года. В Бристоле было очень холодно, гораздо холоднее, чем в Лондоне, который находится в двух часах езды на поезде к востоку и откуда я только что приехал. Я встретился с Лори и ее мужем Питером на вокзале в Бристоле. Мы собирались сходить на парковку, где таким же холодным ноябрьским днем 2008 года Лори собиралась прыгнуть с крыши и покончить с собой.
Питер привез нас на парковку и по спиральной рампе начал подниматься на террасу на крыше восьмиэтажного здания. «Ты к краю не подходишь, – сказал Питер Лори, – не надо искушать судьбу». Лори, казалось, не была в этом убеждена. Когда мы поднимались на эстакаду она пищала, как ребенок на американских горках: «Уиииии!»
Мы припарковались на седьмом этаже и взошли на террасу. Дул сильный ветер. Несколько минут Лори силилась вспомнить место, с которого хотела спрыгнуть. Ничего знакомого. Даже парапет был слишком высоким. «Я бы не смогла сюда забраться, – сказала она. – Я думаю, они все тут поменяли, чтобы больше никто сюда не забирался». Но этот парапет выглядел старым, тут явно ничего не меняли. Мы продолжили поиски.
Мы нашли это место. Оно было на самом верху. Там парапет был и с внешней, и с внутренней стороны рампы. В тот судьбоносный ноябрьский день Лори вначале заглянула во внутреннюю часть. Внизу было грязно (была куча щебня), и Лори решила, что это слишком мягко для самоубийства. Она прошла к внешнему парапету высотой ей по грудь и шириной с ее стопу и как-то забралась на него. Если бы она спрыгнула, то упала бы на бетон.
Сейчас, когда стоишь у стены, видишь авангардную пятидесятифутовую скульптуру впереди: колонна, покрытая шифером, а наверху диск из солнечных панелей в форме зонта, над которыми вращаются лопасти двух ветряков. «Я помню, как смотрела на это, – сказала Лори, – они как раз строили эту штуку в 2008-м».
Скульптура стоит на длинном островке безопасности. Вдали видны многоэтажные здания, а за ними многоярусная башня церкви Св. Павла, которую в Бристоле называют церковью Свадебного пирога. Даже замышляя самоубийство, Лори любовалась этим видом. Это дало ей возможность передумать. Интересно, прыжок убил бы ее или лишь парализовал? Пока она раздумывала над исходом, какой-то мужчина увидел ее снизу и крикнул: «У вас все хорошо?» Лори не ответила. «Думаю, он вызвал полицию», – сказала мне Лори. Полиция и спасла ее. Они забрали ее в ближайший полицейский участок, где она сутки находилась под наблюдением в камере предварительного заключения, согласно Закону Великобритании о психическом здоровье.
До сегодняшнего дня Лори думает, что это было не ее решение совершить самоубийство. «Я была под влиянием… какой-то силы, – говорит она. – Это не я решила. Кто-то пытался столкнуть меня с края».
Вскоре после инцидента Лори диагностировали шизофрению. Но эта информация не изменила ее ощущений от того дня, когда она пыталась спрыгнуть со стены. Сидя в «Старбаксе» в торговом центре у парковки, она продолжает выражать скептицизм по поводу того, что мысли, которые вынуждали ее прыгнуть, ее собственные. «Я все еще не могу понять, находится ли это вне меня», – говорит она.
Месяц спустя я был на конференции, посвященной «слуховым галлюцинациям», в Стэнфордском университете. Первая докладчица закончила говорить о музыкальных галлюцинациях и отвечала на вопросы. Один слушатель прочитал вопрос, который некая Софи разместила в «Твиттере» (конференция транслировалась онлайн). Внезапно женщина, сидевшая в первом ряду, подняла руку. Когда докладчица в замешательстве посмотрела на нее, женщина сказала: «Извините. Это я Софи». В аудитории послышался смех.
У меня же реакция была неоднозначной. Я приехал на конференцию, чтобы встретиться с Софи (из Чикаго), поэтому меня смутило то, что она в этот момент писала в «Твиттере». Она смотрит конференцию удаленно? Она не приехала в Стэнфорд? Увидеть ее в зале было большим облегчением.
Я впервые узнал о Софи от Луи Сасса, профессора клинической психологии и эксперта по шизофрении из Ратгерского (Рутгерского) университета в Нью-Джерси. «Она самый красноречивый человек с шизофренией, которого я встречал», – сказал мне Сасс. Несколько лет назад, еще до ее личной встречи с шизофренией, Софи связалась с Сассом, потому что нашла его работы интересными. Сасс уже несколько десятилетий настаивал, что шизофрению следует рассматривать как комплексное расстройство личности и самосознания, и этот взгляд нашел отклик у Софи, чья мать страдала от шизофрении. Потом однажды Сасс получил письмо от Софи, которое он вспоминает со словами: «Ничего себе, забавные вещи происходят…» – Софи, как оказалось, сама страдала от психотических срывов.
Софи выросла с матерью, страдавшей от психоза (состояние, при котором чувство реальности сильно меняется). Повзрослев и получив образование в области психологии и философии, Софи поняла, что ее мать склонна к паранойе и эротомании («Она была убеждена, что все вокруг влюблены в нее») и что это следствие шизофрении. Но в возрасте четырех лет она понятия об этом не имела. Мать отвозила Софи и ее брата в магазин, а сама отказывалась туда заходить. «Когда тебе четыре-пять лет, это довольно странно – загружать полную тележку продуктов и расплачиваться чеком, который подписали твои родители, – рассказывала Софи. – Но в то же время я принимала ее такой, какая она есть».
Примерно в то время, когда Софи перешла в старшую школу, она поняла, что с мамой, да и с их семейной жизнью что-то не так. Паранойя у матери обострилась. Она думала, что в гениталиях у них имплантированы подслушивающие устройства, что они везде, даже в собаке, весь дом прослушивается. Она просила детей пройти целый квартал, чтобы поговорить с ними вдали от дома.
На этом история шизофрении в семье Софи не заканчивается (как будто этого мало). Первый муж матери испытал обострение шизофрении, когда изучал философию, диагноз подтвердили в государственной больнице в Калифорнии. «Мы выросли в страхе перед ним, – вспоминает Софи, – [мама] думала, что он выберется из больницы, найдет нас и убьет ее. Я понятия не имею, имеет ли это хоть какую-то реальную основу. И мы росли в страхе перед ним, но в то же время она романтизировала его талант, гений. В доме было полно его книг по философии».
Полки были забиты Кантом, Гегелем, Хайдеггером, Карлом Ясперсом. Софи даже читала дневники этого человека, которые задокументировали его погружение в безумие.
При всем при том Софи вспоминает детство с удовольствием, ей удалось вырасти любознательной и интеллектуально развитой. Она получила стипендию Корнелла и отправилась в Непал работать с общественными организациями, а затем провела полтора года в Японии. Она вернулась в США и отправилась в Университет Орегона в Юджине изучать континентальную философию. Одним из ее наставников был Джон Лисейкер, который написал множество трудов по шизофрении, психозам и личности. На старших курсах, все еще не испытывая симптомов психоза, Софи написала Луи Сассу. Ее заинтересовали его идеи о шизофрении, «сопроводительном безумии» и параллели, которые он видел в модернизме.
«Если вам нужна хорошая аналогия с тем, что испытывают шизофреники с их симптомами, советую взглянуть на авангардное модернистское и постмодернистское искусство двадцатого века, – говорил Луи Сасс. – Я вовсе не имею в виду, что модернизм и есть шизофрения или что шизофрения и есть модернизм, но есть четкая параллель, которая помогает нам понять детально, что происходит при шизофрении».
Необычное стечение жизненных обстоятельств привело Сасса к подобному взгляду на шизофрению и к вышедшей в 1992 году книге «Безумие и модернизм». Это был его первый опыт в модернистской литературе. Изучая в Гарварде в конце 1960-х английский язык и литературу… он увлекся модернизмом, написал исследование по Набокову («который был в известной степени модернистом») и углубленно изучал поэзию Т. С. Элиота и Уоллеса Стивенса. Шизофрения тогда была предметом жарких споров. Шотландский психиатр Р. Д. Лэйнг написал на эту тему провокационную книгу «Разделенное Я». Сасс проходил курс в Гарварде, для которого нужно было прочесть эту книгу. И как раз в это время у его близкого друга развилась шизофрения.
Почти сорок лет спустя, сидя за кухонным столом в своей бруклинской квартире, Сасс вспоминал, как его друг катился по наклонной из-за шизофрении. Признаки того, что с ним что-то не так, были заметны уже в старшей школе. Те, у кого шизофрения развивается типично, проходят путь от преморбидной стадии (до того, как проявятся какие-либо признаки надвигающегося психоза) до продромальной стадии (пик психоза) и, наконец, до полномасштабного психоза. «Его преморбидная личность, говоря научным языком, – я-то, конечно, так о нем не думал, он был моим другом – была, как сейчас можно судить, типична для человека с шизофренией», – говорит Сасс.
Его друг был очень нестандартным и крайне самостоятельным (особенность, которая заставит Сасса подвергнуть сомнению привычный взгляд на ментальные расстройства, согласно которому при них всегда наблюдается ослабление самостоятельности). «Мы, «нормальные», были так невозможно обыкновенны с его точки зрения, – говорит Сасс, – так трусливы, по-своему… Например, вы же не решите постоять на голове здесь у меня дома. Он бы так и сделал, если бы ему взбрело это в голову. Он выделывал совершенно скандальные вещи. Он вообще ничего не боялся».
Однажды в школьном кафетерии его друг взял порцию рыбы со своей тарелки и швырнул ее через весь зал на учительский стол. Такое поведение можно было бы описать как «мотивированное определенной оппозиционностью, духом противоречия, настойчивым желанием самостоятельности, презрением к нормальности», – говорил Сасс. Не то чтобы это не было свойственно всем подросткам его возраста. Но «сам способ, которым мой друг заявлял об этом, был… довольно радикальным; настолько, что его можно было бы назвать безумным, что бы это слово ни значило».
Шизофрения поначалу называлась Dementia praecox, термин был введен в 1890-х немецким психиатром Эмилем Крепелином. Переименовал расстройство в шизофрению швейцарец Юджин Блейлер в 1908 году. Dementia praecox, или преждевременное слабоумие, среди прочего подразумевает интеллектуальное бессилие. Другой, ныне непопулярный, взгляд на шизофрению заключался в том, что человека считали деградировавшим до умственного состояния ребенка, лишенного зрелого рассуждения взрослого человека. Другой стереотип, популяризованный антипсихиатрическим движением и некоторыми представителями литературного авангарда, романтизировал шизофреников, дикарей, ощущающих глубинные желания и инстинкты.
Сасс и его друг поступили в разные колледжи. Сасс – в Гарвард, потом продолжил изучать психологию в Калифорнийском университете, Беркли, а практику клинической психологии проходил в Медицинском центре Университета Корнелла, ранее известном как больница Нью-Йорка. Тем временем состояние его друга ухудшалось. Он бросил колледж, а затем покончил с собой. И на Сасса это наложило тяжелый отпечаток.
Дома Сасс вспоминал, как посещал своего друга после психотических срывов. Один раз Сасс застал его танцующим на одной ноге – он несколько недель трудился над этим и теперь демонстрировал свои таланты в гараже своей матери. Однако в его стремлении не было никакой дальнейшей цели, или желания произвести впечатление, или желания самосовершенствования, или какого-то нарциссичного самолюбования.
«Он был радикальным и, на мой нормальный взгляд, безумным приверженцем самостоятельности. Я не говорю, что я чем-то лучше него, но меня глубоко задевало на каком-то этическом и эстетическом, на интеллектуальном уровне, что все у него шло не так, как надо, – говорил Сасс. – Строго говоря, это всегда неудобная правда – истинная природа феномена во всей его парадоксальной сложности».
Что пытается доказать таким образом Сасс, – и он не одинок – это то, что психиатрам следует отступить от описания шизофрении через термины дефицита – отсутствует то, отсутствует это – и начать говорить о ней через позитивные утверждения. «Позитивные» не в смысле «положительные». Имеется в виду, что необходимо узнать, что значит быть шизофреником, понять феноменологию шизофрении, а не только лишь отметить ее несоответствия культурным стандартам.
Одним из способов понять шизофрению, по мнению Сасса, может стать пристальный взгляд на искусство (кубизм Пикассо, дадаизм Марселя Дюшана, сюрреализм Джорджио де Кирико и Ива Танги, например) и литературу модернизма (скажем, Франц Кафка и Роберт Музиль, Т. С. Элиот и Джеймс Джойс). Такое искусство может помочь нам ощутить, что такое опыт шизофреника. В различных чертах модернизма и постмодернизма Сасс видит нить отчуждения, а также того, что он называет «гиперрефлексивностью» (некое преувеличенное самосознание, которое берет то, что обычно является имплицитным средством нашего опыта и превращает его в эксплицитный объект чрезмерного внимания). «Вместо спонтанного наивного восприятия – беспрекословное принятие внешнего мира… и других людей, и собственных чувств, как модернизм, так и постмодернизм пропитаны колебаниями и отчужденностью, разделением или раздвоением, при котором эго освобождается от нормальных форм взаимодействия с природой и обществом, зачастую принимая себя и свой опыт как объект», – пишет он.
Лори вспоминает свои ощущения от первого столкновения с шизофренией. Это было в день Гая Фокса осенью 2005 года. По всей стране запускали фейерверки, отмечая события 5 ноября 1605 года, когда полиция раскрыла заговор с целью взорвать здание Парламента в Лондоне. Лори было семнадцать, она училась в школе-пансионе в Кентербери. Она смотрела на фейерверки, потом вернулась в комнату и села в кресло. У нее было странное чувство. Как будто нечто ее контролирует, нечто овладело ею, какая-то внешняя сила. Она сидела так пару часов, ничего не делая, отдавшись этому ощущению странности. Затем она взяла макетный нож и порезала себе левую руку. А потом пошла спать. Проснувшись на следующее утро, она вновь порезала себя, на этот раз глубже. Кровь никак не останавливалась. «И тут я каким-то образом вернулась к реальности, и я подумала: “Боже, да я же порезалась!”», – рассказывала мне она. Лори с подругой побежали к врачу.
Этот случай был первым серьезным знаком того, что что-то идет не так. Случай в День Гая Фокса привлек внимание к тому, что она начала чувствовать несколькими месяцами ранее: тревожное ощущение, что ее отправят в родную страну, хотя для беспокойства реальных причин не было. До этого момента она справлялась с этими страхами. Но мысли становились все более настойчивыми и частыми. Они были почти слышимыми, она «ощущала их извне», когда они роились у нее в голове. Все они были связаны с отъездом из Великобритании. И неизбежно одно и то же повторялось рефреном: «“Никто по тебе скучать не будет, если ты уедешь, ты бесполезна, ты ошибка”, вроде того», – рассказывала она.
К марту 2008-го Лори резала себя с десяток раз. Это было, когда они вместе с Питером, тогда еще ее парнем, отправились за границу, чтобы познакомиться с ее родителями. Ночью, когда все ушли наверх спать, Лори показала Питеру шрамы на своей руке.
«“Ужас какой!” – вот что я тогда сказал», – рассказывал Питер в тот день, когда мы обедали в пабе под названием «Дыра в стене» в Бристоле.
«Ты сказал: “Господи Иисусе!”», – поправила его Лори.
«Ну да, точно», – сказал Питер.
Вскоре после того разговора с Питером Лори начала слышать голоса. Она помнит, что это случилось в мае 2008 года. Не совсем понятно, были ли это голос одного человека или троих, так как они эхом повторяли друг друга в ее голове. Но это был голос средних лет с британским акцентом. Женщина или женщины обращались прямо к ней, велели резать глубже, убить себя. Голоса, как выяснилось, говорили во втором лице, что оттягивало постановку диагноза «шизофрения». И винить в этом можно Курта Шнайдера, немецкого психиатра первой половины XX века. Шнайдер создал перечень первичных признаков шизофрении. Среди них слуховые галлюцинации в третьем лице, когда голоса говорят друг с другом о пациенте. Хотя у Лори были и другие первичные признаки (спутанность мыслей, ощущение посторонних мыслей в голове; первичные заблуждения, иллюзии, которые являются непрошенными, без всяких предвестников, в случае Лори это было ощущение того, что все, что ее окружает, приобретает невыразимую странность), ее психиатр, имевший своеобразные взгляды и придерживавшийся устаревших идей Шнайдера, полагал, что голоса, говорящие во втором лице, нехарактерны для шизофрении и говорят, скорее, о психотической депрессии (хотя сейчас мы знаем множество примеров, когда шизофреники слышат голоса, обращенные непосредственно к ним).
Постановку диагноза затрудняет разбросанность симптомов. Симптомы обычно классифицируются как позитивные (иллюзии, галлюцинации), негативные (апатия, эмоциональная вялость) и гебефренические (такие как спутанная речь). Диагностика часто требует исключения других расстройств, прежде чем определить шизофрению. В случае Лори это было так: сначала ей диагностировали депрессию, потом пограничное расстройство личности. Тем временем попытки самоубийства становились более серьезными. Один раз она приняла восемьдесят таблеток парацетамола и две недели мучалась рвотой. Вскоре после этого она попыталась спрыгнуть с крыши восьмиэтажной парковки. И примерно в это время психиатр диагностировал у нее шизофрению.
В 2009 году ее состояние ухудшилось. Она вновь пыталась убить себя, теперь уже передозировкой антипсихотического средства. Само ее чувство личности было под угрозой. «В тот период интенсивного проявления симптомов мне казалось, что вся моя личность распалась, исчезла; у меня ее просто не было», – говорила она. Например, если она вытягивала вперед руку, ей казалось, что рука удлиняется и тянется вдаль бесконечно. «Мое чувство личности, телесной и психологической, или их обеих вместе просто покинуло меня, – говорила она. – Если даже я просто сидела, я казалась себе прозрачной, почти. Не физически прозрачной, конечно, метафорически».
Сасс и его коллега Джозеф Парнас, психиатр Копенгагенского университета в Дании, полагают, что ответ на загадку шизофрении кроется в личности. Ученые долго пытались вывести общую гипотезу о шизофрении. Какой общий механизм может быть в основе разнообразных симптомов: позитивных, негативных и гебефренических? Может ли это быть расстройством самого основания нашего существования, расстройством нашего чувства личности?
Пытаясь понять суть шизофрении, немецкий психиатр Карл Ясперс ввел термин Ich Störungen, который буквально означает «расстройство “я”». Ясперс использовал этот термин, чтобы обозначить, что основные признаки шизофрении все так или иначе связаны с нарушением границ между личностью и другими, личностью и окружающим миром.
Сасс и Парнас считают, что шизофрения является результатом еще более глубокого, базового расстройства личности. Это мнение отдает должное долгой традиции европейской феноменологии, «учении о прожитом опыте». Среди феноменологов известны такие авторы, как Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер, Морис Мерло-Понти и Жан-Поль Сартр. Именно посредством анализа жизненного опыта пациентов Сасс и Парнас пришли к следующему тезису: шизофрения подразумевает разрушение базовой формы личности. Чтобы понять эту точку зрения, представим себе личность как сущность, состоящую из слоев. Там есть теперь уже знакомая нам нарративная личность – истории, которые мы рассказываем о себе и самим себе, идентичность, которая соединяет настоящее и будущее. Но еще до возникновения рассказчика внутри нас существует личность как субъект, которая способна рефлексировать различные аспекты себя, которые в свою очередь создают личность как объект (наш нарратив является одним из этих аспектов, или объектом для личности-субъекта). Сасс и Парнас ориентируются на личность-субъект: это «факт того, что я чувствую, что я существую в данный момент времени, я ощущаю чувство бытия [субъекта], чувство бытия чем-то, с чем происходят события, и от которого события исходят», – говорит Сасс. Они называют это ипсеичностью, или самостью (с латинского ipse значит «себя»).
Во время нашей встречи Сасс красноречиво импровизировал, объясняя мне свои идеи: «Самость есть то, из чего исходят усилия воли, и то, к чему устремлено восприятие. Она есть внутреннее ощущение того, что вы находитесь здесь. Но, конечно же, вы не думаете об этом. Это чувство, и оно по своей природе не может быть объектом сознания, – говорил он. – Вы можете сказать, что усилия воли происходят из ничего, и к ничему устремлено восприятие; примерно так Уильям Джеймс это и описывал».
«Не может быть объектом сознания…» В этом утверждении и содержится ключ к идеям Сасса и Парнаса о том, что же происходит при шизофрении. Это расстройство, по их утверждению, подразумевает некую гиперчувствительность, при которой чрезмерное внимание уделяется таким аспектам личности, которые обычно просто существуют, не будучи удостоены особого внимания. «Различие тонкое, но весьма важное с точки зрения феноменологии между тем, чтобы просто поднять руку, и тем, чтобы воспринимать движение руки как объект вашего внимания, – говорит Сасс. – Это совершенно разные вещи».
Сасс и Парнас обращают внимание на другое совершенно противоположное расстройство самости, которое, по их мнению, присутствует при шизофрении. Они называют его «уменьшенным вниманием к себе»: редуцированное чувство бытия сущностью, с которой происходят события, или бытия сущностью, являющейся субъектом сознания. Сасс пишет: «Опыт личностного присутствия как сознание, воплощенный опыт настолько фундаментален, что любое его описание будет пустым или тавтологичным; хотя его отсутствие ощущается довольно остро».
Лори тому свидетель. В дни, предшествовавшие ее попыткам самоубийства на крыше автостоянки, она чувствовала всепоглощающую пустоту. «В таком состоянии я ощущала вокруг себя и внутри себя сплошное небытие, я не могла ничего делать, – говорила она. – Я думала, что если я ничего не могу сделать, то я сама ничто. Я все равно что мертва».
Сасс и Парнас утверждают, что, когда самость нарушена, размывается основа нашего бытия, создается плодородная почва для психозов и всевозможных эмпирических странностей.
На ранних стадиях психотического срыва Софи тоже замечала небольшие изменения. Софи говорила своей подруге, француженке, о том, что она видит мир в частицах и ощущает его примерно так, как если бы она подула на здание, а оно бы рассыпалось и растворилось в воздухе. «До сих пор я не знаю, где случилось непонимание, то ли она все не так поняла, то ли не так объяснила, переводя мои слова с английского профессору, но почему-то они решили, что я готовлю взрыв», – рассказывала Софи (blow (англ.) – дуть, взрывать). Ее исключили с философского факультета, где она училась, и угрожали арестом, если ее увидят в кампусе. Софи все равно отправилась в кампус, чтобы увидеться с научным руководителем, который отказался с ней встречаться и захлопнул дверь прямо перед ней. Софи сначала временно отстранили от занятий, а затем спустя полтора года исключили.
Еще до того, как это случилось, учеба давалась Софи с трудом. Она внезапно обнаруживала, что не может произнести ни слова, иногда часами, хотя мысленно формулировала предложения превосходно. Слова просто не выходили из нее. Это было ужасно неудобно, учитывая, что у нее была нагрузка ассистента и она посещала занятия для докторантов. Будучи не в состоянии позволить себе качественную психиатрическую помощь, Софи отправилась в психиатрический госпиталь в Чикаго, где принимали малоимущих пациентов. Опыт был пугающим. Медсестра в приемном отделении сказала подруге, сопровождавшей Софи: «Я официально диагнозы не ставлю, но по тому, что вы мне тут рассказали, ясно как день, что она шизик». Софи было неприятно. «Я же была прямо там», – рассказывала Софи, и в ее голосе даже спустя столько лет сквозит возмущение.
В госпитале ее заперли в скромной комнате в окружении других пациентов с различными ментальными нарушениями, включая злоупотребление психоактивными веществами. Сидя среди пациентов, которые бродили по палате, кричали и стенали, Софи почувствовала себя в этом месте еще хуже. «Меня все это беспокоило, хотя я и выросла с мамой и привыкла к подобному», – говорила она. Ее подруга, ужаснувшись условиям, в которых содержалась Софи, помогла ей выбраться из заточения.
К счастью, Софи нашла хорошо финансируемую программу, занимавшуюся первичными случаями психозов. Она позвонила руководителю клиники. Ответ не заставил себя ждать. «Она сказала: “Я хочу встретиться с вами в семь утра”, – вспоминает Софи. – Она была невероятно милой и очень успокоила меня, хотя прошла только ночь и один день». Софи записалась на программу интенсивного лечения. Но несмотря на разговоры с руководителем клиники в течение недели, на лечение антипсихотическими препаратами, Софи не была уверена в том, что у нее психоз, частично из-за того, что ей казалось, что ее взгляд на мир имеет смысл, просто он не такой, как у других, за это отдельно стоит поблагодарить ее философское образование. Безумие ее матери было «глубоко нерационально, всякие заговоры, теории и все такое», а у самой Софи было восприятие мира как иллюзии, где жесткие границы стирались и сливались в аморфное целое, и это не казалось ей нереалистичным. Физические тела были иллюзией. Даже реальное существование людей как индивидуумов было неточным. «Это вполне соответствовало тем вопросам, которые веками задавали философы», – говорит Софи.
Тем временем шизофрения влияла на ее личность все глубже. Исчезли границы между внутренним и внешним мирами. «Внезапно все стало выглядеть так, будто мой внутренний мир открылся всем», – вспоминает она. Во время сеансов с психиатром ее все время спрашивали, получает ли она сообщения, скажем, по радио, или слышит ли она голоса. Пока сообщений и голосов не было, Софи не была уверена в том, есть ли у нее психотическое расстройство или нет. Она начала фокусироваться на объектах, пытаясь выяснить, общаются ли они с ней, а также концентрироваться на своих мыслях. «Именно это Луи [Сасс] называл бы гиперрефлексивностью в самом сознательном смысле – чем больше я концентрировалась на своих мыслях, тем более объективизированными они становились, тем больше я ощущаю их на слух», – говорит Софи.
Шизофрения изменила отношения Софи с ее телом. «Мои руки не выглядели как мои, – говорила она, – как будто был какой-то секундный разрыв между движением моей руки и осознанием того, что это действие совершила и задумала я».
То, что испытывала и продолжает испытывать Софи, является расстройством так называемого чувства личной инициативы. Это часть нашего чувства личности, которая дает нам осознание того, что мы производим действия. Если я поднимаю стакан воды, я знаю, что это именно я его поднимаю. Может ли нечто настолько само собой разумеющееся быть неисправным? И может ли это вызвать психоз – восприятие искаженной, несуществующей реальности? Ответ уходит корнями в эксперименты на рыбах, мухах и глазах, которые ставили в начала XX века.
Посмотрите направо, налево, вверх и вниз. Что происходит с видом, на который вы смотрите? Если с вашей зрительной системой все в порядке, вы увидите, что находится слева или справа от вас, но сама обстановка, на которую вы смотрите, останется на месте, хотя ваши глазные яблоки вращаются. Но задумайтесь на минуту. Наш мозг знает, что сигналы, которые попадают на сетчатку, происходят либо от того, что наши глазные яблоки движутся, либо от того, что движется что-то в нашем поле зрения. А откуда он знает, что именно там движется?
Чарльз Белл и Ян Пуркине в далеких 1820-х независимо друг от друга установили, что ответ на этот вопрос сообщает нам нечто очень важное. Когда ваши глаза двигаются, мозг нейтрализует ожидаемое движение зрительного образа, потому что знает, что это он, мозг, инициировал это движение, следовательно, зрительный образ неподвижен. Но когда в поле зрения что-то движется, такой нейтрализации не происходит, и мы видим движение.
Затем, в 1950-м, Эрих фон Хольст и Хорст Миттельштедт провели эксперимент, проиллюстрировав это в довольно причудливой форме. Они повернули шею мухи Eristalis, так чтобы ее голова смотрела в противоположную сторону: «Eristalis имеют тонкую и гибкую шею, способную поворачиваться на 180° относительно продольной оси. Если это проделать, а голову зафиксировать относительно туловища, положение глаз получается обратным», – пишут они. Муха стала вести себя странно: в темноте она двигалась так, будто ничего не произошло, но при свете она начинала летать кругами по часовой стрелке или против нее, выбирая направление случайно, когда включали свет и придерживаясь его. В том же году независимо от этого эксперимента нейробиолог Роджер Сперри провел похожий опыт. Хирургическим путем он повернул на 180° левый глаз иглобрюхой рыбы (Sphoeroides spengleri), ослепив ее на правый глаз («Малый размер, распространенность, отсутствие чешуи и общая выносливость делают эту рыбу подходящим объектом для хирургических экспериментов», – писал Сперри.). Когда рыба оправилась после операции, то также плавала кругами, либо налево, либо направо.
Фон Хольст и Миттельштедт ввели термин Efferenzkopie, или эфферентная копия, чтобы объяснить произошедшее. Сперри использовал термин подтверждающий сигнал[19]. Суть в обоих случаях была одна и та же. Мозг животного генерировал команду произвести движение. Такой же сигнал, копия, посылался в зрительный центр. Нервная система использует копию, сравнивая ожидаемое движение с сигналом от реального движения и стабилизируя соответственно движения животного – что-то вроде механизма обратной связи, чтобы двигаться правильно в заданном направлении. Но если голова или глаза вывернуты, система обратной связи дает сбой и множит ошибки, вместо того чтобы устранять их, и животное движется по кругу.
И что же у всего этого общего с шизофренией, психозом и чувством личности?
В 1978 году Ирвин Файнберг из госпиталя для ветеранов в Сан-Франциско решил разобраться с этим вопросом. Эксперименты показывали, что моторные действия могут производить подтверждающие сигналы или копии, по крайней мере на примере животных. Можно ли использовать такие сигналы, чтобы отличить «я» от «не-я»? Скажем, вы пошевелили рукой. Может ли мозг использовать подтверждающий сигнал, чтобы определить, двигается ли рука, потому что именно вы пытались ей пошевелить, или же она двигается по какой-то внешней причине?
Вопрос звучит странно, но на деле он вполне реален. До того, как Файнберг опубликовал свои исследования, канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд писал об опытах, в ходе которых он стимулировал моторную кору мозга пациентов, проходивших диагностические операции для лечения эпилепсии. Стимуляция вызывала движение руки. Но пациент настаивал, что он рукой не двигал и что это Пенфилд вызвал движение руки. Все из-за того, что пациент не инициировал этого движения, мозг не давал никаких моторных команд, следовательно, не было никаких подтверждающих сигналов; поэтому, предположительно, мозг отнес это движение не к «я», а к внешнему воздействию. Файнберг утверждал: «Субъективный опыт этих разрядов [или сигналов] нужно соотносить не с чем иным, как с нашей волей и намерением».
Файнберг пошел еще дальше. А что, если подтверждающие сигналы присущи не только моторным действиям, но и мыслям? Может ли похожий механизм в формировании мыслей подтверждать, что эта мысль принадлежит именно этому человеку, а не кому-то другому? Файнберг предположил, что так оно и есть. Он даже посчитал слуховые галлюцинации следствием нарушений в механизме подтверждающего сигнала. О считал, что подобные нарушения действительно лежат в основе некоторых странных симптомов шизофрении, даже размытия границ между «я» и «не-я», похожего на то, которое наблюдалось у Софи и Лори и бесчисленных людей, страдающих от шизофрении. «Следовательно, если есть подтверждающий сигнал, позволяющий нам различать движение, вызванное нами самими, и движение, вызванное внешней силой, он таким образом способствует различению «я» другими. А его неисправность может вызвать необычные искажения границ тела, о которых говорят пациенты с шизофренией», – пишет Файнберг.
В периоды усугубления психоза Лори слышала голоса несколько раз в неделю, женские голоса говорили ей, что она бесполезна и само ее существование ошибочно. Ее муж, Питер, понимал по ее виду, что она слышит голоса. «У нее был пустой взгляд, она сидела, уставившись в пространство. Или она отвечала голосам; вдруг неожиданно что-то говорила, – рассказывал Питер. – Сразу было понятно, что она общается с голосами».
Питер тоже общался с голосами посредством Лори. Она рассказывала, что голоса говорят ей, что ее жизнь – ошибка. «Почему они так считают?» – спрашивал Питер. Голоса отвечали: «Потому что ты не получила степень». Питер спорил с голосами, Питер утверждал, что для Лори не все потеряно, что она просто взяла академический отпуск (это было правдой). Это продолжалось полчаса, иногда час, и постепенно голоса сдавались.
Лори представляется очень созерцательным человеком, склонным к анализу. Эти черты ее характера заставили ее усомниться в своем состоянии. Ей были нужны ответы. Она сумасшедшая? Ее самокопание вылилось в отчетах, которые она писала, когда была еще студенткой и боролась с шизофренией. В одном из них она призывает психиатров прислушиваться к пациентам. Ее собственный опыт, когда она обратилась к психиатру вскоре после попытки спрыгнуть с крыши парковки, показателен. Она объяснила ему, что она как будто наблюдала за собой отстраненно, в третьем лице, пытаясь покончить с собой. Это как будто была не она. Психиатр отмахнулся от ее наблюдений, язвительно заметив, что она неплохо ему все разъяснила. Встретив такое безразличие, Лори умоляла психиатров понять, насколько неприглядна реальность, которую навязывает людям шизофрения, чтобы облегчить отчуждение, испытываемое страдальцами.
В психиатрии распространена идея, почему шизофреники сталкиваются с такой болезненной реальностью, и опирается эта идея на понятие сигналов самоконтроля. Идея о том, что животные могут различать аспекты «я» и «не-я» при помощи этого механизма, проверена даже на уровне одного нейрона. Сверчки (Gryllus bimaculatus) стрекочут на поразительно высоких частотах – до 100 дБ. Эти звуки синхронны с движениями крыльев, сверчки издают их, складывая крылья. Как в этой какофонии звуков сверчок, у которого очень чувствительный слух, отличает свои собственные звуки от внешних? Оказывается, существует интернейрон, который отвечает за это. Нейрон подтверждающего сигнала (НПС) срабатывает синхронно с моторным нейроном, контролирующим движение крыла; он срабатывает, когда крыло складывается. Работа НПС тормозит слуховые нейроны, отвечающие за восприятие звука, так что сверчок не слышит тех звуков, которые он сам вырабатывает. Когда НПС не срабатывает и не происходит подтверждающего сигнала, услышанные звуки считаются внешними, не производимыми самим сверчком, и сверчок сам начинает петь.
И дело не только в сверчках. Сходный механизм нейрона подтверждающего сигнала наблюдается у червей-нематод, певчих птиц и даже у обезьян-игрунок.
Не прошло и десяти лет с предположения Ирвина Файнберга в 1978 году о том, что сбой в механизме подтверждающего сигнала мозга может лежать в основе различных симптомов шизофрении, как Крис Фрит, клинический психолог, тогда работавший в госпитале Нортуик-Парк в Харроу, Великобритания, создал свою «модель компаратора» того, как зарождается наше чувство личной инициативы – то самое чувство, благодаря которому мы ощущаем, что отвечаем за свои действия. В то время Фрит утверждал, что расстройство этого очень важного аспекта личности стоит за многими первостепенными признаками шизофрении: слуховые вербальные галлюцинации, спутанность мыслей, иллюзия контроля (иллюзия того, что кто-то контролирует ваши действия).
Хотя модель и видоизменилась с течением времени, суть ее осталась неизменной. Скажем, вы хотите пошевелить рукой. Моторная кора мозга отправляет команду мышцам руки. Моторная кора копирует команду в другие области мозга, которые используют копию, чтобы предсказать сенсорные последствия движения руки. Тем временем рука двигается, вызывая определенные ощущения (тактильные, проприоцептивные или визуальные). «Компаратор» сопоставляет настоящие ощущения с предсказанными. Если несоответствия не возникло, мы чувствуем, что мы выполнили действие – мы обладаем действием, у нас есть чувство личной инициативы. Несоответствие заставляет нас чувствовать, что ответственность за совершенное действие несем не мы, а какой-то внешний агент.
Обращение к этой модели легко себе представить. Она позволяет мозгу погасить ответ на самогенерируемые ощущения (например, глухоту сверчка по отношению к издаваемым им звукам). Она дает механистическое объяснение того, как мозг проводит грань между «я» и «не-я», по крайней мере в отношении моторных действий. И очевидно, что эта способность утрачивается при шизофрении.
Взять, к примеру, щекотку. Практически невозможно пощекотать самого себя. Фрит вместе с Сарой Джейн Блэкмор и Дэниэлом Волпертом объяснили, почему это так. Изучая здоровых людей, исследователи обнаружили, что пара мозговых областей куда менее активна, когда испытуемые сами дотрагиваются до своей левой руки, чем когда это делает экспериментатор. Мозг подавляет ответ на генерируемые им самим ощущения (поэтому мы не можем сами себя пощекотать). Область мозга, отвечающая за подавление, скорее всего, мозжечок, и, вероятно, делает он это, предугадывая эффект от самогенерируемого движения.
Блэкмор, Фрит и их коллеги в дальнейшем выяснили, что люди, испытывающие слуховые галлюцинации и иллюзии контроля, ощущали прикосновения к левой руке как равно интенсивные, щекочущие и приятные, вне зависимости от того, кто до них дотрагивался, экспериментатор или же они сами. Другими словами, многие люди с шизофренией способны сами себя пощекотать.
Есть и другие свидетельства. Джудит Форд и Дэниэл Маталон из медицинского центра для ветеранов Сан-Франциско и Калифорнийского университета, Сан-Франциско, продемонстрировали, что здоровые люди, прямо как сверчки, подавляют ответ мозга на самогенерируемые звуки. ЭЭГ мозга здоровых людей показывает синхронность, которая предположительно является копией команды напрягать голосовые связки, оригинал которой отправляется в слуховую зону. Затем сигнал ЭЭГ под названием N1, свидетельствующий об активности слуховой зоны, подавляется спустя примерно 100 миллисекунд после того, как здоровый человек издает звук. Это правдоподобное объяснение того, что предугаданный звук сравнивается с настоящим издаваемым звуком, поэтому внешний звук распознается как самогенерируемый и, следовательно, игнорируется. N1, тем не менее, не подавляется, когда звук является внешним, что указывает на то, что человек его слышит.
Этот механизм не работает при шизофрении. Это говорит о том, что механизм копирования, скорее всего, нарушен. У шизофреников сигнал N1 не подавляется при самогенерируемых звуках, значит пациенты слышат свои собственные звуки точно так же, как они слышат внешние звуки (Сасс предполагает, что это разновидность гиперрефлексивности – склонность принимать за внешний объект то, что обычно подразумевается само собой и, следовательно, является проводником самости). Не будет ошибочным предположение о том, что подобные нарушения механизма компаратора могут стирать границы «я» и «не-я» при шизофрении.
Тут подошло время узнать поподробнее, что же в точности идет не так при шизофрении. Когда я совершаю движение руками, я испытываю два чувства: чувство обладания руками и чувство инициативы, которое заставляет меня ощущать, что это именно я совершаю движение. Мы наблюдали в предыдущей главе, как BIID может быть связан с потерей чувства обладания частями тела. Тем временем мы видим, что при шизофрении может возникать искаженное чувство обладания телом, и еще больше свидетельств о том, что искажается чувство инициативы.
В 2008 году когнитивный невролог Маттис Синофцик из Тюбингенского университета, Германия; философ Готтфрид Фосгерау из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе и их коллеги узнали кое-что еще более любопытное. Они утверждают, что чувство личной инициативы следует разделить на неконцептуальное чувство инициативы (неосмысленное, инстинктивное) и более когнитивное суждение инициативы. Команда Синофцика утверждает, что, тогда как чувство инициативы основано на копиях моторных сигналов и компараторах, сопоставляющих предугаданные действия с реальными сенсорными ответами, суждение инициативы зависит от когнитивного анализа окружающей действительности и наших представлений о ней, который называется постдиктом. «Если вы находитесь в комнате одни, и что-то падает со стола, ваше знание о мире подскажет вам, что вещи сами по себе со стола не падают, из чего вы сделаете вывод, что это вы и уронили эту вещь, даже если у вас нет сенсорного моторного чувства того, что вы что-либо сделали», – говорил мне Фосгерау во время телефонного разговора.
Конечно, все это происходит в мгновение ока, так сказать. Тем не менее, эти механизмы возможно расстроить. Исследования показали, что люди с шизофренией имеют нарушенное чувство инициативы, и, компенсируя это, они полагаются больше на суждение инициативы, которое зависит от внешних факторов, таких как визуальные образы. Это означает, что на экспериментальном уровне они воспринимают себя как будто снаружи, выражая таким образом гиперрефлексивность и отсутствие базового чувства существования. Этим можно объяснить и то, о чем говорила Софи: разрыв в долю секунды между движением руки и чувством того, что это именно она инициировала это движение – разрыв, который заставлял ее сомневаться в том, что ее руки принадлежат ей.
Ничто из этого не отрицает модели компаратора. На самом деле Синофцик и его коллеги признают, что их результаты «поддерживают утверждение о том, что механизм компаратора при шизофрении нарушен». Действительно, из-за этой дисфункции люди с шизофренией больше полагаются на суждения о внешнем мире, восполняя свое чувство инициативы.
Так, если человек с шизофренией возьмет пульт и включит телевизор, он может не ощутить, что это он совершил это действие. Телевизор, тем не менее, включается, а пациент делает вывод, что это кто-то заставил его сделать это. В случае с Лори она не ощущала, что сама порезала себя в Ночь Гая Фокса. «Хотя это и выглядит как мое решение или волеизъявление совершить такое, – говорит она, – так что да, [происходит] потеря инициативы».
Допустим, она знала, что не принимала решения резать себя, альтернатива очевидна: виноват кто-то другой. «Я думаю, это вполне естественно, искать объяснение. Это происходит со мной, я хочу знать, почему, как и любой на моем месте, – говорит она. – Значит, против тебя действует враг, заговорщик». Паранойя – частое следствие таких состояний.
Итак, модель компаратора и ее варианты помогают нам понять, почему человек с шизофренией может чувствовать, будто его действия контролируются извне, и как это может привести к паранойе. Или почему звуки, которые издает человек, могут казаться ему произнесенными кем-то другим. Но что если никто никаких звуков не издает, и сам ты молчишь, но все равно при этом слышишь голоса?
Джудит Форд последние десять лет провела, размышляя о слуховых вербальных галлюцинациях (СВГ), это научное название голосов в голове. В конце 1990-х Форд переключилась с изучения старения и болезни Альцгеймера на изучение голосов. Сначала она анализировала данные, собранные другими исследователями, и писала статьи. «У меня были маленькие дети, и по-другому я не могла», – говорит она. Но вскоре она осознала, что ей нужно разговаривать с пациентами, уделять внимание их индивидуальному опыту. Именно эти беседы и вскрыли некоторые нюансы того, что она изучала. Например, один из пациентов рассказал ей, что до того, как он начал принимать антипсихотический препарат под названием «Зипрекса», с ним говорил дьявол. А на «Зипрексе» с ним заговорил Бог. Он все еще слышал голоса, но теперь уже добрые, а не злые.
Такие озарения наполняли работу Форд. Здоровые люди тоже слышат голоса, но они в основном позитивные и, по-видимому, контролируемы. Совсем не так, как у пациентов с шизофренией, среди которых 75 % слышат голоса. Голоса звучат очень реалистично, как «особенные, чужие голоса». Обычно они негативны, навязывают насилие по отношению к себе (как было с Лори) или к другим, иногда доводят до самоубийства или даже убийства.
Феномен голосов, навязывающих насилие по отношению к другим людям, ярко описан Анной Девесон, австралийской писательницей и автором документальных фильмов, в книге «Скажи мне, что я здесь», где она повествует о своем сыне Джонатане, подростке с прогрессирующей шизофренией, и о том, какую непосильную дань платили этой болезни Джонатан, Девесон и вся семья. В тяжелом состоянии Джонатан надолго пропадал, а потом внезапно возвращался. Он мог стать агрессивным. В одной душераздирающей части своей книги Девесон описывает сцену, когда ей вместе с инспектором Брендой (тогда только поступившей на службу), которая наблюдала за Джонатаном, приходилось противостоять ему:
«Когда Бренда приехала, Джонатан лежал на большом диване, лицом к морю. Он кивал сам себе, как будто прислушивался к голосам, но вслух ничего не говорил. Мы спросили его, слышит ли он голоса. Джонатан подозрительно взглянул на нас и сказал: «никаких голосов нет». Он сказал что-то еще, но очень тихо. Бренда подалась вперед и сказала, что не расслышала его.
– Я сказал: «Только голос Анны»! – прокричал он.
– Где голос Анны?
– Наговаривает на меня. В моей голове.
– Джонатан, я на тебя не наговариваю. И я не в твоей голове. Я здесь.
Он взглянул на меня, глаза его бегали, мы почувствовали, как эта скачущая энергия наполняет всю комнату, стекает с потолка и со стен, это было похоже на электрошок.
– Бог сказал мне, что я должен тебя убить, Анна. И Бренду тоже, если она не заткнется.
Он удалился из комнаты, размахивая руками. Через пару секунд он вернулся, посмотрел на нас, пробормотал что-то и снова ушел. Больше он не возвращался».
Есть что-то крайне неудовлетворительное в попытках найти механистическое объяснение сложным слуховым галлюцинациям Джонатана. Но научное объяснение должно с чего-то начинаться. Одна теория объясняет такие вербальные слуховые галлюцинации как неверно воспринятую внутреннюю речь, которая не принимается нами за нашу собственную речь. Мы все знаем, что такое внутренняя речь – это наш внутренний монолог, внешне не озвученный, иногда вполне отчетливый для нас самих, несмотря на его безмолвность, а иногда имеющий более имплицитную манеру (вы сами ведете сейчас внутренний монолог, читая это предложение). Но Форд утверждает, что вербальные слуховые галлюцинации не похожи на осознанную внутреннюю речь, они больше похожи на непрошеные мысли (что-то вроде снов наяву или блуждания разума). Вопрос в том, как блуждание разума превращается в СВГ?
Ральф Хоффман из Йельского университета и его коллеги выяснили, что у людей с шизофренией наблюдается гиперсвязанность между языковыми областями мозга и скорлупой, глубинной мозговой областью, которая отвечает за осознанное восприятие звука. Хоффман утверждает, что гиперсвязанность позволяет активности языковых областей вторгаться в сознание в виде голосов.
Погрузившись глубже в эту проблему, Форд и ее коллеги исследовали сеть мозговых областей у 186 пациентов с шизофренией, которые слышали голоса. Каждый из них был помещен на шесть минут в МРТ-сканер. Эти данные сравнили с данными от 167 здоровых волонтеров. В случае со здоровыми волонтерами блуждание разума в состоянии покоя показало активность в следующих областях мозга: префронтальная кора (ПК), эта область наиболее активна, когда мозг находится в покое, она часть сети участков мозга, отвечающих за молчание, она также тесно связана с самореферентной мозговой деятельностью (она включается, так сказать, когда вы абстрагируетесь от внешней задачи и размышляете о себе самом); область Брока, в передней части левого полушария, которая задействована в производстве речи; скорлупа (или путамен), которая, как мы только что увидели, задействована в осознанном восприятии речи; миндалевидное тело, которое находится глубоко внутри височной доли и отвечает за реакцию на испуг и угрозу; парагиппокампальная извилина, которая активизируется, если возникает подозрение; и слуховая кора, которая, как следует из названия, задействована в слышании.
Но у пациентов, которые слышали голоса, сканирование показало, что все эти области мозга гиперсвязаны: префронтальная кора – с областью Брока, скорлупой и слуховой корой; а скорлупа – со слуховой корой. Все это, по идее Форд и ее коллег, могло привести к тому, что обычные праздные мысли превращаются в патологические слышимые голоса при шизофрении. А как насчет негативного тона этих голосов? Возможно, что гиперсвязанные миндалевидное тело и парагиппокампальная извилина – каждая из которых обычно отвечает за реакцию на испуг – повышают уровень страха, неуверенности и подозрительности, ассоциирующихся с этими голосами.
В этом пазле осталась одна финальная деталь. Почему эти голоса звучат так, будто принадлежат кому-то другому? Как мы видели ранее, работа Форд с вызванными потенциалами показала механизм эфферентной копии/подтверждающего сигнала, который нарушен у людей с шизофренией. А в ходе эксперимента с МРТ-сканированием выяснилось, что у пациентов, которые слышат голоса, область Брока и слуховая кора связаны хуже – возможно, чтобы эфферентная копия все же проложила дорожку к слуховой коре. Так что голоса, которые обычные люди воспринимают как свой внутренний монолог, для людей с шизофренией звучат как чужие.
«Сырьем для слуховых вербальных галлюцинаций, я считаю, является не [осознанная] внутренняя речь, а непрошеные мысли», – говорит Форд. А позже, в электронном письме, она поделилась личными переживаниями, связанными с ее покойной матерью: «По сути, когда мне в голову приходят непрошеные мысли и становятся осознанными, я слышу тональность, просодию и интонацию голоса матери, которая говорит мне: “Ты слишком много взяла на себя, дорогая”. Я не думаю, что она говорит со мной из могилы, – писала она, – но, если бы у меня был психоз, я бы именно так и считала».
Значит, у человека с психозом гиперсвязанные области мозга могут превратить непрошеные мысли в слышимые голоса; голоса, которые звучат мрачно. Нарушенное чувство личной инициативы заставляет воспринимать звучание этих голосов как чужое, не принадлежащее нам. В центре всей этой расстроенной системы находится нечто, называемое «прогностическим мозгом». Происхождение чувства личной инициативы является одним из примеров того, как механизмы прогнозирования в мозге создают наше чувство личности. Эта идея набирает популярность. Может ли весь мозг быть прогностической машиной, генерирующей не только чувство личной инициативы, но и эмоциональные состояния, благодаря которым мы чувствуем, что живем, состоим из плоти и крови? Как мы увидим в дальнейших главах, неврологи применяют эти идеи, чтобы объяснить синдром деперсонализации и даже такие сложные состояния, как аутизм.
Одно дело изучать искаженное чувство личной инициативы экспериментально, и совсем другое – объяснять всю совокупность симптомов, которые предположительно зарождаются при шизофрении. Непостижимое и ужасающее их разнообразие замечено психологом и психотерапевтом Лорен Слейтер в книге «Добро пожаловать в мою страну». Вот как она описывает первую встречу с группой шести хронических шизофреников:
«Вот Тран, по прозвищу Мокси, маленький вьетнамец с шоколадной кожей, который переехал в эту страну после войны, он кланяется незримому Будде весь день в коридоре. Вот Джозеф, у него облезлая борода, он кладет зеленую боевую каску на подушку, когда спит. Чарльзу сорок два, и он сгорает от СПИДа. Ленни однажды стоял голым в Гарвард-Ярд и читал стихи вслух. Роберт верит, что кругом взрываются плоды, которых никто, кроме него, не видит. А еще есть Оскар, 166 килограммов, требующий постоянного орального удовлетворения от самых разнообразных особей женского пола, от английской королевы до Крисси, соседской собачки ши-тцу».
Столкнувшись с такими пациентами, сложно поверить, что лишь расстройство чувства личной инициативы может привести ко всем прочим губительным симптомам шизофрении, как это предположил Крис Фрит, впервые выдвинув гипотезу с моделью компаратора. Вскоре после предположения Фрита стало ясно, что ощущение чужих мыслей у себя в голове сложно объяснить, используя эту модель. Сейчас даже он сам признает, что его модель не учитывает вторжения чужих мыслей. Синофцик, Фосгерау и их коллеги считают свою модель, которая разделяет чувство личной инициативы на собственно чувство и суждение, более подходящей для объяснения вторжения чужих мыслей. По их мнению, искаженное суждение инициативы приводит к ощущению чужих мыслей в голове.
Не всех это убеждает. Сасс, например, соглашаясь с тем, что нейробиология нарушенного чувства личной инициативы совместима с идеей того, что шизофрения является в основе расстройством личности, подвергает сомнению то, что нарушение мозговой деятельности может быть причиной шизофрении. Он называет это предположение «материалистичным». Что если бы вы могли изменить то, как здоровые люди относятся к своему опыту – возможно, путем самоанализа или медитации – и показать, что их мозг проходит через те же нейробиологические изменения, что и у людей с шизофренией. Выяснится, что связь здесь коррелятивная, а не причинно-следственная.
Ральф Хоффман имеет похожее мнение относительно шизофрении. Да, ученые (в том числе, и он сам) обнаружили дисфункцию в нервной системе и тяжелые анатомические изменения в мозге многих пациентов с шизофренией. Но являются ли эти изменения причиной шизофрении, или же наблюдаемые изменения являются результатом «частого и основательного ухода от социального взаимодействия, работы или школы», который может быть предвестником шизофрении? «Так, если вы возьмете человека в возрасте позднего отрочества, вступающего во взросление, и подвергнете его отчуждению, заставив жить таким образом годами… Что произойдет с мозгом в отсутствие когнитивного обогащения и выполнения задач? – говорит Хоффман. – Я предполагаю, что по крайней мере некоторые случаи, которые мы считаем “нейродегенеративными процессами»”, могут быть вызваны состоянием отчуждения, в котором находятся эти люди».
Хоффман поражен тем фактом, что психотические симптомы являются формой взаимодействия личности с другими. Он предполагает, что индивиды, лишенные значимого социального взаимодействия, заполняют пустоту психотическим опытом. «Получается так, что в отсутствие связи с реальным миром, ролевыми моделями, реальными местами человек все больше поглощен психотическим опытом, который в дальнейшем приводит к еще большему отчуждению, – говорит Хоффман. – Вырабатываемый изнутри опыт становится все более и более значимым, все происходит относительно быстро. Он вроде как бросает вызов устаревшему разделению разума, тела и мозга».
Он бросает вызов и любому утверждению о том, что есть лишь один тип взаимодействия между нарративной личностью и личностью-субъектом (самость у Сасса и Парнаса или минимальная личность у Захави): необязательно, чтобы только изменения личности-субъекта приводили к расстройствам нарративной личности; обратная зависимость тоже существует. Помимо этого, шизофрения показывает нам, что чувство личной инициативы – которого мы не осознаем, если с ним все в порядке, – является одним из аспектов личности, составляющей личности-объекта. Даже в самых запущенных случаях шизофрении остается личность-субъект, испытывающая состояние психоза. Так кто или что же это «я»?
Для человека с шизофренией все это философствование является слабым утешением. А для проницательных, организованных взрослых людей, таких как Лори, осознание своего состояния может быть проклятием. Например, иногда вы находитесь в состоянии психоза, а иногда нет. Как вам понять, когда у вас психоз? «Люди не теряют биографической, семантической, перцепционной и телесной памяти о своем прошлом, о том, на что похож мир, – говорит Софи. – Все дело в различии между тем, каким стало все вокруг, и каким оно было до [психоза]».
В психиатрии даже есть термин для такого затруднительного положения: «двойная бухгалтерия». Это понятие пришло из психиатрии начала XX века и доработано в последние годы Сассом благодаря диалогам с Софи и другими людьми, поделившимися опытом психозов. Пациентам приходится сталкиваться с двумя или даже со множеством версий реальности. «Вам почти постоянно приходится принимать решения, которых другие люди обычно не принимают. Что у вас в приоритете? Которая из возможных версий реальности для вас важнее? – говорит Софи. – В соответствии с чем вы собираетесь действовать?» Столкнувшись с подобной дилеммой, пациенты нередко впадают в полное бездействие. Этот феномен демонстрирует силу нарративной личности: без последовательной истории о самом себе человек неспособен к действиям; нам нужен нарратив для того, чтобы функционировать.
Лори прекрасно понимает, что голоса в ее голове, паранойя, сообщения, которые она будто бы получает – все это в некотором смысле продукт измененной личности. «Но это понимание парадоксально. Без этого понимания вы боитесь внешней угрозы. А с ним начинаете бояться себя самого, – говорила мне Лори. – Без этого понимания вам кажется, что за вашими действиями стоит кто-то другой, кто-то другой отвечает [за ваши действия], но вместе с этим пониманием приходит осознание того, что все лишь в вашей голове. И это тоже страшно. Как ни крути, вы проиграли».
Глава 5
Я как будто во сне
Роль эмоций в формировании личности
Из каких глубин наши чувства берут свои цвета? Я имею в виду, что есть реальность каждого чувства?
Вирджиния Вулф
Я навсегда отчужден от самого себя[20].
Альбер Камю
Когда я сказал Николасу, что приеду к нему, я недооценил размеры Канады. Полет из Сан-Франциско до Бостона занял шесть часов, затем еще десять часов по дороге из Бостона до Сент-Джона, Нью-Брунсвик (все из-за двух неверных поворотов где-то на окраине штата Мэн), еще три часа на пароме через залив Фанди до Новой Шотландии, а потом еще час с небольшим ехать до Кингстона, где двадцатитрехлетний Николас живет со своей невестой и их дочкой, тогда еще малышкой.
Когда паром причалил у Новой Шотландии, я поехал к деревне Кингстон по трассе вдоль долины реки Аннаполис. Был поздний июнь, раннее лето. За городом все зеленело. Земля сбросила весеннюю игривость и дышала бесстыдным здоровьем. Вдоль дороги выстроились лиловые люпины. Я доехал до Кингстона через несколько минут после того, как съехал с трассы, и оказался у цели своей поездки – двухэтажного белого здания за круглосуточным супермаркетом. Николас ждал меня и вышел меня поприветствовать.
Я, пожалуй, не ожидал, что у него будет столько татуировок. Из-за татуировок на шее казалось, что под голубой рубашкой у него надета футболка. И несмотря на закатанные рукава, цвет его кожи на правой руке было невозможно различить. На предплечье красовался изогнутый японский карп, символ превратностей судьбы. Ниже на руке был компас, «показывающий путь в жизни», и алмаз, потому что «сопротивляется давлению». «Довольно банально», – признал он. На левом запястье были инициалы членов его приемной семьи, которая приняла его как родного после того, как он в 16 лет закончил реабилитацию; с ними он впервые обрел дом. «Это было почти как нормальное детство», втиснутое в три или четыре года.
Когда он сжимал кулаки и сводил их вместе, под костяшкой каждого пальца виднелась буква; из них складывались слова «плыви» и «тони». Это тоже банально, по его словам. «Это очень просто, и это как раз про меня, особенно с этой болезнью. Я либо буду бороться и поправлюсь, я надеюсь на ремиссию. Или… Не знаю… утону… Не буду бороться». Он явно пытался выразить, что значит это «тони». «Может, и самоубийство. Может, это значит – просто больше не пытаться».
Первые воспоминания Николаса относятся к моменту рождения его сестры. Ему тогда было четыре. Родители и дети жили вместе. Но их нельзя было назвать счастливой семьей. У его родителей были зависимости. Отец, чьим основным занятием была работа кровельщика, был алкоголиком. Мать, которая сидела дома, была пьяницей и сидела на опиатах, таких как «Оксиконтин» и «Дилаулид». Николас уже успел провести год в приюте, ему тогда было три, его вернули родителям по решению судьи. Годом позже родилась его сестра. Но ничего не изменилось. Родители продолжали колоться, пить, драться или даже исчезать на несколько дней, оставляя детей на других членов семьи.
Затем мать ушла от отца. «А отец провел пару дней в полусознательном состоянии, насколько я помню», – рассказывал мне Николас. За детьми пришли из службы опеки. Они обнаружили, что Николас пытался позаботиться о сестре («Она была очень-очень маленькой»). Он вспоминает, как пытался накормить ее хлопьями. Когда сотрудники службы опеки пришли, он стоял на стуле у раковины, пытаясь помыть посуду. Дети провели несколько последующих лет в приютах.
Когда Николасу было примерно девять, дети вернулись к матери, недавно вновь вышедшей замуж. Однако жизнь с отчимом оказалась не лучше. Мать и отчим принимали наркотики потяжелее, такие как крэк-кокаин. Они вечно орали и дрались, а наркотики питали их нездоровые мании: например, они обвиняли дуг друга в том, что кто-то припрятал таблетки или скурил последнюю дозу. Бесконечные сцены повторялись каждый день, но некоторые Николас запомнил особенно хорошо. Однажды, глубокой ночью, Николас и его сестра проснулись от криков, доносившихся из спальни родителей. Дети пошли на звук. Николас велел сестре ждать у двери, а сам зашел. Он увидел, как отчим толкнул мать на старый телевизор, телевизор упал. В другой раз отчим бегал за ней с мачете. Она убежала в спальню и заперлась там. «Я не знаю, правда ли он собирался ее зарезать или же просто хотел напугать», – сказал Николас. Отчим ограничился тем, что вонзил мачете в дверь бельевого шкафа.
Дом у них находился в тихом спокойном местечке в Бриджуотере, Новая Шотландия, где люди заняты бесконечной стрижкой газонов у своих домиков «за четверть миллиона». Дом, где жил Николас, был другим. Он был меньше других. Семье выдали его в рамках программы по поддержанию людей с низким доходом. В большинстве случаев то, что происходило в доме, оставалось в доме: родители Николаса тщательно скрывали свои пороки.
Вдобавок к пренебрежительному отношению, которое терпел Николас в раннем детстве, теперь ему приходилось сталкиваться с насильственными отношениями со стороны матери и отчима. «”Долбаный идиот, ты хоть что-то может сделать нормально? Что с тобой не так?” и все в таком духе… очень тяжелые слова», – говорит Николас. Бывало, отчим его бил. «К счастью, это было редко. Я даже рад, что так вышло. Хотя иной раз задумаешься, что хуже – физическое насилие или эмоциональное». Я спросил, подвергался ли он сексуальному насилию. «Нет, – ответил он, – и за это я тоже благодарен».
В возрасте десяти-одиннадцати лет у Николаса начались мимолетные случаи диссоциации – всего десять секунд – эпизоды, происходившие случайно, иной раз в школьном автобусе или во время пения гимна в школе. «Я ощущал себя абсолютно отделенным от физического тела, – говорит Николас. – Это состояние совершенно лишает возможности общаться или вообще что-то делать на протяжении этих десяти секунд».
Пик наступил, когда Николасу было двенадцать. Они с сестрой были в комнате, когда услышали крик с кухни. Кричала их тетя. Кажется, они с матерью курили крэк, Николас точно не помнит. Зато отлично помнит, как мать корчилась в конвульсиях на полу кухни. У нее был приступ. Она ударилась о ручку дверцы шкафа головой во время падения, у нее шла кровь. Изо рта у нее шла пена. Отчим подбежал к ней и перевернул ее на бок, чтобы она не подавилась рвотой. Для Николаса это был поворотный момент. «Помню, как подошел к ней на три-четыре шага, и все совершенно изменилось, – вспоминает Николас, – я как будто только что был наяву и внезапно заснул. Все стало как в тумане. Все казалось незнакомым, непонятным».
Следующие четыре года Николас жил в этом затуманенном состоянии. Все: вещи вокруг него, его собственное тело и личность – ощущалось нереальным. Долгий тревожный сон.
В книге, опубликованной в 1845 году, немецкий психиатр Вильгельм Гризингер ссылался на письмо пациента к выдающемуся французскому психиатру Жану-Этьену Доминику Эскиролю.
«Хотя я и окружен всем, что способно сделать жизнь счастливой и беспечальной, способность испытывать наслаждение и удивление для меня становится или уже стала физически невозможной. Во всем, даже в самых нежных ласках моих детей, я нахожу лишь горечь. Я покрываю их поцелуями, но между нашими губами будто что-то стоит. И это ужасное что-то стоит между мной и радостями жизни. Мое существование неполноценно… Каждое из моих чувств, каждая часть меня самого как будто отдельна от меня, мне будто больше не дозволено чувствовать… Я не испытываю внутри себя ощущения от воздуха, когда дышу… Мои глаза видят, мой дух воспринимает, но ощущение того, что я вижу, совершенно отсутствует».
Сам Эскироль писал о таких пациентах и их опыте: «Они считают, что бездна отделяет их от внешнего мира. Я вижу, я слышу, я осязаю… Но более не тот, каким был раньше. Объекты не доходят до меня, они не идентифицируются с моей сущностью; плотное облако, вуаль скрывает оттенки и черты объектов».
То, что описывают эти пациенты, сегодня называют деперсонализацией. Слово вошло в психиатрический лексикон в 1890-х, когда французский психолог Людовик Дюга использовал его, описывая «состояние, при котором чувства и ощущения, обычно сопровождающие ментальную активность, кажутся отдельными от личности». Дюга обнаружил это слово в дневниках швейцарского философа Анри-Фредерика Амьеля. В своем труде «Интимный дневник» (Journal Intime), который был опубликован лишь после его смерти, Амьель писал: «Я обнаружил, что воспринимаю свое существование как будто из могилы, из другого мира; все мне кажется странным; а я сам как будто вне своего тела и индивидуальности; я деперсонализован, отделен, брошен на произвол судьбы. Это безумие?»
Немецкий психиатр начала XX века Карл Ясперс дал особенно точное описание того, что может происходить при деперсонализации. Все, что заявляет о себе в нашем сознании, «будь то восприятие, телесное ощущение, представление, мысль, чувство, – все получает особый тон «моего личного», имеющего качества «Я», качества персональной принадлежности. Это и называется персонализацией… Если же психические проявления сопровождаются уверенностью в том, что они не мои, а чужие, автоматичные, независимые, происходящие извне, они называются деперсонализацией».
Есть те, кто утверждает, что временная деперсонализация является эволюционной адаптацией к крайней опасности. В середине 70-х Рассел Нойес-мл. и Рой Клетти из Медицинского колледжа университета Айовы опросили шестьдесят одного человека, откликнувшегося на объявление в студенческой газете. В объявлении просили откликнуться тех, кто имеет «опыт переживания моментов угрозы для жизни». Вот типичный ответ от двадцатичетырехлетнего молодого человека, который вспомнил случай, когда его «фольксваген» занесло на «скользком после дождя повороте» и вынесло на встречную полосу. «Машина крутилась, а у меня было чувство какой-то расслабленности, я как будто обкурился, – рассказывал он, – я вообще не думал об опасности, ее как будто не существовало. Я как будто плыл по течению. Это было похоже на выход из реальности. Я как будто вышел за границы этого мира, где у тебя есть ощущение тела, сидящего в машине, воздуха, который ты вдыхаешь, в какое-то другое измерение».
Основываясь на этом опросе, Нойес и Клетти сделали следующий вывод: «Интерпретация деперсонализации как защитной реакции на угрозу жизни или ассоциирующуюся с ней тревогу кажется неизбежной… Следовательно, перед лицом угрозы жизни личность становится наблюдателем того, что происходит, и эффективно устраняется от опасности. Отделение, по-видимому, является главным адаптивным механизмом, который в деперсонализованном состоянии приносит огромное облегчение».
Если деперсонализация и впрямь является эволюционной адаптацией, есть смысл предположить, что у всех нас есть встроенная способность входить в такое состояние, при котором мы сами себе становимся чужды. Если предположить, что такой нейробиологический механизм существует, верно и то, что некоторые из нас впадают в это состояние легче, чем другие. Назовем это предрасположенностью (природа). Тогда окружение (воспитание) играет свою роль в функционировании этого механизма. Например, насилие, пережитое в детстве, и возникшая вследствие травма могут привести к деперсонализации, как, возможно, случилось и с Николасом. Употребление наркотиков тоже может иметь такой результат.
Сара стройная хрупкая женщина – подвижная, энергичная, чуть за тридцать. Она сейчас запускает свой онлайн-бизнес в Нью-Йорке. Мы встретились у нее в офисе и отправились в ближайшее кафе, чтобы обсудить опыт, который она пытается понять. «Что, черт возьми, вообще происходит?» – задает она риторический вопрос.
За три недели до нашей встречи она навестила друга в Ист-Виллидж. Был субботний вечер. Ее друг покуривал травку, чтобы расслабиться. Она присоединилась к нему, хотя по пальцам могла пересчитать случаи, когда такое с ней бывало. Утром в воскресенье друг предложил ей попробовать аддерол. Обычно аддерол выписывают при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), наркотиком он стал среди тех, кто ведет напряженную интеллектуальную работу и использует аддерол, чтобы сконцентрироваться и улучшить производительность. Друг Сары, без пяти минут выпускник, принимал аддерол, чтобы заниматься больше и дольше. Сара никогда раньше не пробовала. Они разделили одну таблетку. Но на этом они не остановились. Тем же вечером они выкурили по косяку, покурили кальян, выпили.
Утром в понедельник Сара проснулась с туманом в голове. «Такое бывает после веселых выходных, так что я не придала этому значения», – сказала она мне.
В шесть часов утра во вторник она отправилась на йогу. Она все еще ощущала затуманенность, отделенность от реальности. «Все было как во сне, – говорила она, – я сомневалась в том, жива ли я еще». Тем не менее она добросовестно работала, совершала деловые звонки и встречалась с деловыми партнерами.
К утру среды лучше не стало. Только хуже. Она начала плакать. «Вот дерьмо! Я что, умерла? Я что, смотрю на свою жизнь со стороны?» – так она думала тогда. «Я все говорила себе: “Надо из этого выбраться. Я вляпалась во что-то, чего не понимаю”. Я паниковала. Больше всего меня беспокоило то, что я ни во что не верила».
Она сомневалась в самой себе и в реальности того, что ее окружало. Ее не оставляло ощущение, что все это ей снится. Она села на поезд, идущий в центр города, чтобы поехать на встречу, и поняла, что ей страшно. Она смотрела на попутчиков и спрашивала себя: «Они здесь? А я здесь?»
В среду вечером – это была ночь новолуния – Сара отправилась в синагогу помолиться, это было для нее привычно. По дороге она остановилась у киоска и заказала тако, полностью уверенная, что тако не появятся. Стоя на тротуаре в Нью-Йорке, она сказала сама себе: «Их не будет; зря я заказала эти тако. Я проснусь, и выяснится, что это все сон». Заказ ей, конечно, скоро вручили. «Я буквально сказал вслух: “О Боже! Я жива! Ффуух!”»
Сара прошла то, что психологи называют «испытание реальностью» – есть осознание объективной реальности, но ее субъективное ощущение было искажено, а она пыталась привести их в соответствие. Единовременное подтверждение в виде реальных тако мало чем ей помогло. Во время вечерней молитвы он ощущала тревогу, голова кружилась от постоянного внутреннего диалога, поиска подтверждения того, что она существует, – она ощущала себя отделенной от самой себя. Когда молитва была окончена, она, стараясь не встретиться ни с кем взглядом, кинулась домой. Она снова начала плакать. «Я мертва. Я умерла. Я совсем умерла», – думала она.
В четверг она позвонила знакомой медсестре. Та сказала: «Слушайте, невозможно, чтобы наркотики оставались в вашем теле все это время». Медсестра посоветовала пить больше жидкости и отдыхать. Не помогло. В пятницу утром тот самый друг – я теперь хорошо с ним знаком – зашел к Саре. Как только наш общий друг увидел ее, Сара выпалила: «Я боюсь, что я уже умерла!» Они посидели несколько минут, потом решили отправиться на местную станцию скорой помощи – неподалеку, шесть кварталов пешком. Сара рыдала всю дорогу и продолжала рыдать на станции скорой помощи. «Это и вправду было странно», – вспоминает она.
Она все спрашивала своего друга: «Ты уверен, что я жива? Я здесь? А ты здесь?» Друг успокаивал ее: «Да, да, мы живы». Врач на станции скорой помощи все списал на действие наркотиков (хотя и сказал, что это странно, что эффект продолжается так долго), выписал ей ативан от тревожности и отправил домой.
Но чувство нереальности у Сары не прекратилось. Жизнь все еще казалась сном – какой-то отстраненной, как будто она плыла по течению. Сара пыталась описать свое состояние повседневным языком. Она не знает точно, каким образом все прошло спустя три недели. То ли время прошло, то ли помог массаж, который ей назначил терапевт, оказавшийся также «энергетическим целителем». «Слушайте, я задолбалась», – сказала Сара массажистке и объяснила свои ощущения. Женщина отнеслась к ней с пониманием: «О, со мной такое тоже бывает. Вам придется научиться с этим справляться». Она рассказала Саре, что энергия течет в ее тело и вытекает из него через макушку, и ей нужно остановить поток вращательным движением кисти руки, как будто закрывая воображаемую бутылку. Массажистка дала и менее эзотерический совет: «Займитесь йогой; вам нужно почувствовать, что вы вернулись в свое тело. Топайте ногами, делайте что угодно, чтобы вернуться в тело, и все будет хорошо».
Сара почувствовала себя немного лучше, когда вышла от массажистки. Она решила увеличить нагрузку в йоге, она практиковала йогу регулярно каждое утро на протяжении последних шести лет. На следующий день после массажа она решилась на нечто экстремальное даже для нее: двухчасовая практика парной йоги. «Я отзанималась один сеанс и собралась уходить, и тут один инструктор мне сказал: “Оставайся’. И я такая: “Я все равно сплю, что мне еще делать?” – и осталась. И мне стало немного лучше».
Началось восстановление, и к моменту нашей встречи, когда все это продолжалось уже три недели, Сара была здорова.
«Вам нужно почувствовать, что вы вернулись в свое тело… Топайте ногами, делайте что угодно, чтобы вернуться в тело».
Есть доля правды в этом, на первый взгляд, деревенском совете. Неврологи могут покраснеть за целительницу от нью-эйджа и ее советы, но, если почитать, что сами неврологи говорят о личности, станет ясно, что чувство телесности, ощущение бытия в теле и с телом – это ключевой аспект того, кто мы есть.
Самый яростный защитник мнения о том, что тело есть основание личности, – невролог Антонио Дамасио. В последней книге «Я. Мозг и возникновение сознания» он пишет: «Центральной идеей этой книги является мысль о том, что тело есть основание сознания». Дамасио верит, что сознание нуждается в проявлении личности. Его концепция начинается с идеи ментальных образов, формирующихся в мозгу. Под этим он подразумевает не образы в нашем сознании. Скорее, речь идет о паттернах активности нейронных цепей. В зависимости от паттерна активности определенная нейронная цепь в мозге может находиться в очень разных состояниях. Каждое состояние, пишет Дамасио, эквивалентно ментальному образу. На этом этапе Дамасио не говорит о сознательности. Это несложно понять. Хорошо известно, что большая часть активности мозга бессознательна, мы никогда и не узнаем о ней.
Основная задача мозга – следить за тем, как организм ест, пьет, двигается и спит. Организм может выжить, только если его внутренняя биохимия остается в приемлемых для него границах. Есть так называемые гомеостатические границы, и процессы, которые поддерживают тело в этих границах, называются гомеостазом (термин предложен американским физиологом Уолтером Кэнноном). Процесс гомеостаза индивидуален для каждого организма. Например, холоднокровные животные (такие как рептилии) принимают температуру окружающей среды – поэтому для активности им нужно искать тепло, а телам теплокровных животных (млекопитающих и птиц) нужно поддерживать почти постоянную внутреннюю температуру, из-за этого приходится больше есть в холод, чтобы выработать больше энергии, или потеть, чтобы охладиться. Мозг превосходно выполняет функцию поддержки гомеостаза. Но мозг сам является частью организма, а не какой-то внешней силой, выполняющей роль кукловода, дергающего за веревочки. Чтобы выполнять свою работу, мозгу нужно отслеживать, что происходит в теле, снаружи тела и внутри самого мозга, составляя планы или карты. Паттерны активности нейронных цепей и являются такими картами. Эти карты представляют собой содержимое нашего разума (в том числе бессознательного).
Следующая стадия гипотезы Дамасио – это так называемая протоличность, «которая предвосхищает реальную личность». Протоличность составлена из ментальных образов наиболее устойчивых аспектов нашего тела (таких как состояние внутренних органов). Дамасио подразумевает, что верхний отдел мозгового ствола ответственен за создание карт и генерирование образов. Структуры верхнего отдела мозгового ствола неразрывно связаны с теми частями тела, карты которых они создают, – тесная двухсторонняя связь, нарушаемая лишь «болезнью или смертью мозга».
Другая ключевая функция протоличности – генерация «первобытных чувств», которые «производят непосредственный опыт чьего-либо тела, бессловесного, неприукрашенного и не связанного ни с чем, кроме самого по себе существования». Первобытные чувства в концепции Дамасио «отражают текущее состояние тела».
Следующий слой поверх протоличности – «основное «я»». Основное «я» состоит из репрезентаций мозга, характеризующих отношения между протоличностью и ее взаимодействием с объектами. Эти репрезентации также характеризуют изменения в протоличности под влиянием первобытных чувств. Например, если протоличность столкнется со змеей, основное «я» представит репрезентацию этого внутреннего действия, а репрезентация будет включать в себя изменения состояния тела (состояние сильного страха).
Дамасио полагает, что с возникновением в нашей эволюционной истории основного «я», на сцене появилась личность, какой мы ее знаем. Основное «я» – это первый намек на субъективность (хотя, заметим, что Дамасио не дает удовлетворительного объяснения, как нейронная активность становится субъективностью – неудивительно, поскольку это относится к проблеме сознания). Основное «я» живет одним моментом – это последовательность ментальных образов взаимодействий протоличности с объектами и последующие модификации протоличности под влиянием первобытных чувств. Если бы у нас было только основное «я», а возможно, у многих животных так оно и есть, тогда мы бы осознавали только эти моменты субъективного опыта.
Когда же мозг эволюционировал и развил автобиографическую память, наступила следующая стадия – автобиографическая личность. Дамасио предполагает, что в мозгу есть схема, способная группировать автобиографические воспоминания в объект (этот объект можно представить в виде истории), давая этому объекту возможность модифицировать протоличность и взаимодействовать с ней, а она, в свою очередь, продуцирует момент субъективности. На этот раз субъективный опыт не является исключительно телесным, он принадлежит более сложной сущности – личности. Автобиографическая личность может быть представлена как быстрая последовательность моментов субъективности. Сформированная таким образом личность является основой индивидуальности.
Можно не соглашаться с концепцией Дамасио, однако в научном сообществе единодушно признана центральная роль тела в становлении личности. Эта роль проявляется в эмоциях и чувствах. По мнению Дамасио, личность начинается с первобытных чувств: состояние тела отражено в верхнем отделе мозгового ствола, островковой коре головного мозга и соматосенсорной коре – все это формирует строительные кирпичики для более сложных эмоций и чувств.
Дамасио также предлагает термин «петля-тело» – грубо говоря, это способность мозга симулировать состояния тела. Зачем мозгу это делать? Потому что иногда симуляция определенных состояний может подогреть способность мозга контролировать физиологические состояния и, следовательно, сохранять энергию. Так мозг становится эффективнее. Это совсем не похоже на то, как мозг создает эфферентную копию моторной команды, которую он использует, чтобы предсказать сенсорные последствия и приготовиться к ним.
Если тело и первобытные инстинкты составляют основу нашего чувства личности, то деперсонализация – включая развоплощение и притупление эмоциональных ощущений – может считаться фундаментальным расстройством самосознания. Маурисио Сиерра и Энтони Дэвид из Лаборатории по изучению деперсонализации при Королевском колледже Лондона пишут, что «состояние проявляется в глубоком нарушении самосознания на самом базовом предречевом уровне (например, чувства сущности и существования)».
Деперсонализация обычно включает некоторые или все эти симптомы: «(1) чувство развоплощения, связанное с ощущением отделенности от тела; (2) эмоциональное отупение, неспособность испытывать эмоции и эмпатию; (3) аномальность субъективного чувства, отсутствие чувства обладания при воспоминании или воображении; и (4) дереализация, чувство отстраненности и отчужденности от окружающей действительности».
Людям с деперсонализацией сложно выразить свой опыт словами, они часто обращаются к фигурам речи. «Это отделение очень сложно описать, – говорит Николас, – как будто твое физическое тело – это совсем не ты».
Похоже на выход из тела, но это не так. Есть важные различие между ощущением развоплощения в контексте деперсонализации и развоплощением в случае выхода из тела (об этом мы поговорим в другой главе). Деперсонализация обычно не подразумевает такого развития, при котором личность наблюдает себя вне тела. Такое, тем не менее, случается при выходе из тела, и предположительно здесь задействованы другие нейронные механизмы, которые прикрепляют личность к телу. В случае с деперсонализацией, человек (обычно) находится в своем теле, но это для него вовсе не очевидно.
Николасу было двенадцать, когда деперсонализация приобрела хронический характер – это длилось четыре года. «Самое ужасное было то, что мне неоткуда было получить поддержку», – рассказывал он. Ни родителей, ни учителей, ни друзей, с которыми можно было бы поговорить. А сестра была еще слишком мала.
Сыграло роль и то, что у них не было постоянного дома. Мать и отчим были арестованы за употребление и распространение наркотиков и пренебрежение родительскими обязанностями. Николас и его сестра вновь скитались по приютам и приемным семьям. Когда ему исполнилось тринадцать или четырнадцать лет (время смешалось в его голове, он сам считает это следствием деперсонализации), Николас заново познакомился со своим отцом. Мать ненавидела его и настраивала Николаса против него. Николасу было интересно, каким человеком он был на самом деле. К тому времени отец провел четыре года за решеткой, забился татуировками – не цветными, как у Николаса сейчас, а сине-черными, какие бывают у заключенных, – и здорово подкачался. «У него было под сто килограммов мышечной массы, – сказал Николас, – он выглядел как бодибилдер».
Решение переехать к отцу было крайне неудачным. Отец жил со своим отчимом и принимал наркотики. До Николаса им вообще не было дела. Николас говорил, что его приемный дед (за неимением более подходящего слова) покупал ему алкоголь. Совсем юный Николас, которому еще не было четырнадцати лет, погрузился в мир алкоголя и наркотиков. Вскоре он начал колоть морфин внутривенно. «Я опустился на самое дно, впал в зависимость», – говорит он. Тем временем его приемная семья – он убежал от них, чтобы жить с отцом, – известила органы опеки, что мальчик в серьезной опасности.
Жасмин, невеста Николаса, вспоминает тот день, когда его отправили на реабилитацию. Жасмин была с друзьями в Ливерпуле, Новая Шотландия, один ее приятель вбежал с криком: «Ника арестовали!» А Жасмин познакомилась с Николасом за неделю до этого. И вот его посадили. Впрочем, его отправили не в тюрьму: Департамент социальной защиты направил его на реабилитацию. Сначала его на месяц поместили в изолятор. Затем он провел девять месяцев в реабилитационном центре в Сассексе, Нью-Брунсвик. Иногда во время лечения наступала ремиссия, деперсонализация прекращалась.
Когда срок реабилитации закончился, молодая пара – Тэмми и Дейв – взяли его к себе. Я говорил с Тэмми о том, как у них сложились отношения с этим подростком, дружелюбным и симпатичным парнем.
«Когда мы познакомились с Ником, мы оба просто влюбились в него, – рассказала она мне. – К тому моменту, когда мы столкнулись с трудностями, мы уже любили его как родного». У Николаса были серьезные трудности. Он боролся с тревожностью, он мог оставаться один, только когда спал. Он боялся больших зданий. «Что-то в них пугало его настолько, что он не мог выйти из машины у Уолмарта». Тэмми также заметила, что у Николаса сложности в отношениях с людьми. «Особенно это касается новых знакомств. Николас говорил о том, что не чувствует того, что, по его мнению, должны чувствовать люди. И, как будто, это беспокоило его». Тэмми не припомнит, чтобы что-то вызывало в нем сильный эмоциональный отклик. «Конечно, он был счастлив с нами, но окрыленным не выглядел».
Тэмми и Дейв старались изо всех сил, и это многое значило для Николаса. «Они относились ко мне как к родному ребенку. Это было очень важно для меня. Я жил у них четыре года, и в течение этих четырех лет я научился ответственности, отзывчивости… всему, чему меня так и не научили в детстве», – говорит Николас. Он научился водить машину, получил права, окончил школу и получил аттестат. В это же время он начал набивать татуировки – не то чтобы приемные родители очень это одобряли, но, без сомнения, их тронуло, когда Николас набил их инициалы на запястье.
Ремиссия оказалась не вечной. Жизнь налаживалась. Ничего ужасного не происходило. «Деперсонализация стала не более чем воспоминанием», – говорил Николас. Он бросил курить (он поклялся не употреблять наркотики, правда, после реабилитации был единичный рецидив), много тренировался, жизнь была относительно хороша. «Когда я вспоминаю свою жизнь, то понимаю, что эти три года – лучшее, что в ней было», – сказал мне Николас.
Во время ремиссии Николас воспользовался помощью юриста, чтобы посмотреть на свое досье в Департаменте социальной защиты. В досье был целый список расстройств: «Деперсонализация, ОКР, тревожное расстройство и еще вызывающее оппозиционное расстройство».
Ремиссия была не вечной. Однажды во время работы в колл-центре Николас выпил банку энергетика на кофеине и таурине. Это спровоцировало паническую атаку. С тех пор панические атаки повторялись. «Они становились все тяжелее и тяжелее, случались все чаще, – вспоминает Николас, – [я] думал, что умираю, когда это случалось». Что еще хуже, вернулась и деперсонализация, о которой он почти забыл.
«Самые простые вещи кажутся странными при деперсонализации, – говорит он. – Вы начинаете все пропускать через сознание. Складывание ладоней, движение рук при ходьбе, сам процесс ходьбы – все это ощущается очень странно, как будто это все делает кто-то другой. Как вы командуете кому-то другому делать это». (Это напоминает, что говорили Лори и Софи о шизофрении. Многие люди с шизофренией имеют признаки деперсонализации в продромальной фазе, до того, как болезнь достигает пика).
Тем временем Николас начал встречаться с Жасмин. Поначалу отношения не складывались. Жасмин часто указывала Николасу на то, что он эмоционально не вкладывается в отношения, кажется отстраненным. Постепенно Николасу удалось объяснить, что его вины в том нет, проблема в деперсонализации. Он эмоционально не вкладывается вообще ни во что.
Эмоциональное отупение оставалось даже после помолвки. «Она как будто не моя невеста. Я знаю, что она моя, знаю, что люблю ее, но не чувствую, что знаю ее. Это почти как не узнавать кого-то, кого ты знаешь. Очень странно, – говорит Николас. – Я говорил об этом с людьми, у которых та же проблема. Они знают, что любят своего партнера, они осознают это, но как будто не знакомы с ним. Как будто нет полноценной связи».
Затем у него родилась дочь. Николас был в родильной палате и помогал. Он видел, как его дочь пришла в этот мир. «Я так долго ждал ее рождения, это было целое событие. Я расплакался, когда она родилась, и это я почувствовал. Я присутствовал при ее рождении, – рассказывал Николас, – я никогда таких чувств не испытывал с тех пор, я очень счастлив, что так случилось. С ней потом много чего происходило, были смерти друзей, но я так и не испытал таких сильных ощущений. По какой-то причине рождение дочери стало исключением».
Эмоциональное отупение при деперсонализации парадоксально. Люди, которые страдают, не могут испытывать интенсивные чувства, это очевидно из описаний Николаса. Но они подавлены, они ощущают тревогу, а это тоже эмоциональные состояния.
Ник Медфорд, нейропсихиатр из Медицинской школы Брайтона и Сассекса в Англии, вспоминает пациентку, чей случай иллюстрирует этот парадокс. В семье, жившей по соседству с пациенткой, случилась ужасная трагедия: их дети погибли из-за несчастного случая. «Она знала, что правильно было бы сказать: «Это ужасно. Мне так жаль», а она сказала, что ничего не чувствует. А потом ее беспокоило, что она ничего не чувствует», – рассказал мне Медфорд.
Другой пациент сказал ему: «У меня нет никаких эмоций – поэтому я так несчастен».
«В этом есть некоторое противоречие, – говорит Медфорд. – Если задуматься, то, что описывают люди, говорит о том, что они страдают от внутреннего горя, но не испытывают эмоционального отклика на внешние события».
Совершенно ясно, что люди с деперсонализацией испытывают подавленные эмоции, измененное чувство своей телесности и измененное чувство реальности. Что искажено в системе мозга, вырабатывающей ощущения состояния тела. Те, кто страдает от деперсонализации, склонны также к самокопанию – они уделяют избыточное внимание своему измененному состоянию в ущерб вниманию к внешнему миру (вспомним открытие Стивена Лори, внешнее и внутренне сознание и их корреляцию – одна работает за счет другой). Самокопание может также «способствовать ощущению того, что мир стал каким-то далеким и нереальным».
Джефф Эбагел, автор двух книг о деперсонализации и человек, познакомивший меня с Николасом, многое может рассказать об этом. Он испытывал кратковременные приступы деперсонализации в подростковом возрасте и позднее. Во время приступов «буквально все, что было смыслом моей жизни, взяло и исчезло. Единственное, что осталось, – это непрекращающиеся попытки понять, что со мной не так, – говорил он. – Все мое существование свелось к повторению вопросов: “Что со мной не так? Почему я так себя чувствую? Что происходит?”»
В то время как чувство подавленности и несчастья кажется следствием одержимости чувством странности всего происходящего вокруг, это самое чувство странности берет начало там же, где и другие эмоции, и так же лежит в основе чувства личности.
Медфорд и его коллеги исследовали эмоциональный отклик пациентов внутри сканера. Если пациент со здоровой эмоциональной системой реагирует на позитивные, нейтральные или негативные зрительные образы, сканер показывает активность мозга, соответствующую каждому типу стимулов. Одна из областей мозга, активная при просмотре картинок, вызывающих эмоциональный отклик, это островок. Активность островка коррелируется со «всевозможными чувствами, – пишет Дамасио, – начиная с тех, которые ассоциируются с эмоциями, и заканчивая оттенками удовольствия или боли, вызываемых разнообразным спектром стимулов: музыка, которую вы любите или ненавидите; иллюстрации, которые вам нравятся, включая эротические, или же иллюстрации, которые вызывают отвращение; вино, секс, наркотики и так далее» (вспоминается случай пациентки 65 лет, она страдала от деменции и синдрома Котара: у нее была билатеральная атрофия островковой коры, из-за которой она путалась в ощущениях физических состояний тела). При деперсонализации, как выяснила команда Медфорда, обнаруживается гораздо меньше активности в островке при просмотре отвратительных картинок по сравнению со здоровыми испытуемыми. «Эмоциональные реакции как будто выключены», – говорит Медфорд.
«Выключатель» следует искать где-то в мозге. Другая область мозга, которая затронута при деперсонализации, – вентролатеральная префронтальная кора (ВЛПФК) – область, отвечающая за управление эмоциями. Исследование Медфорда (крупнейшее проводимое когда-либо в этой области, задействовавшее четырнадцать пациентов с деперсонализацией) показали, что ВЛПФК у этих пациентов была чрезмерно активна по сравнению со здоровыми испытуемыми. Чрезмерно активная ВЛПФК может подавлять эмоциональный отклик при деперсонализации.
Медфорд и его коллеги пошли в своих исследованиях дальше. В настоящее время лекарств от деперсонализации не существует, но есть свидетельства улучшений при принятии «Ламотригина», спазмолитика, который выписывают при эпилепсии. Десять испытуемых из четырнадцати принимали «Ламотригин» на протяжении от четырех до восьми месяцев, после чего вновь подверглись сканированию. Некоторые пациенты сообщили об улучшении состояния, у прочих изменений не было. У пациентов с улучшением сканер показал повышенную активность островка и пониженную активность ВЛПФК по сравнению с предыдущим сканированием и по сравнению с результатами сканирования у пациентов, не почувствовавших улучшения после медикаментозной терапии. «Хотя у некоторых пациентов и не было улучшений, мы добились выравнивания нейронных процессов», – сказал Медфорд, имея в виду активность островка.
Островок участвует в выработке ощущений как изнутри тела (интероцептивных), так и снаружи (экстероцептивных), а также именно он играет ключевую роль в выработке субъективного чувства тела и, в конечном итоге, чувства личности. Нейроанатом Бад Крейг, автор фундаментального труда по нейроанатомии островка, утверждает, что он вырабатывает нервный субстрат «чувствующей личности». Антонио Дамасио считает по-другому (утверждая, что мозговой ствол также играет важную роль в репрезентации состояний тела).
Когда мы говорим, что ВЛПФК у людей с деперсонализацией «выключает» островок, мы понимаем, что это не подвластно осознанному контролю. «Это не то, что делают по своей воле, – говорит Медфорд, – это просто происходит. Берет и выключается».
Если это так, то «выключение» должно отражаться на том, как функционирует нервная система у людей с деперсонализацией (ведь это тоже не подвластно осознанному контролю). И в самом деле, исследования это подтвердили: если измерить проводимость кожи руки (мы говорим об анатомическом ответе нервной системы) при реакции на неприятный стимул, люди с деперсонализацией реагируют крайне вяло. «Когда пациенты с деперсонализацией подключены к измерителю проводимости кожи, все время хочется перепроверить, все ли я правильно подключил, – говорит Медфорд, – потому что на экране все время ровная линия, обычно так не бывает».
Итак, деперсонализация заставляет людей чувствовать себя чужими самими себе, а их способность испытывать эмоции притуплена, что же это все говорит нам о личности? «Это история о первостепенности физических ощущений и внутренних ощущений» в становлении личности, по словам Медфорда. «Похоже на то, что пишет Дамасио о чувствах, построенных на соматосенсорной информации».
Сам Дамасио основывался на идеях популярных в 1880-х, когда Уильям Джеймс бросил вызов существовавшим убеждениям о эмоциях и чувствах вопросом: «Когда вы видите медведя, вы бежите оттого, что вам страшно, или вам страшно оттого, что вы бежите?»
«Здравый смысл подсказывает, что когда мы теряем нажитое, то расстраиваемся и плачем; когда мы видим медведя, мы боимся и бежим; когда на нас нападает противник, мы чувствуем гнев и бьем», – писал Уильям Джеймс в 1884 году в классическом труде под названием «Что есть эмоция?». Джеймс предположил, что такая последовательность неверна, и выдвинул другую гипотезу: «Мы расстраиваемся оттого, что плачем, гневаемся оттого, что бьем, боимся оттого, что дрожим, а совсем не плачем, бьем и дрожим оттого, что расстраиваемся, гневаемся или боимся, как можно было бы подумать».
Каковы современные определения эмоций и чувств? Эмоция – это физиологическое состояние тела в ответ на стимулы. Состояние включает в себя не только частоту сердцебиения или артериальное давление, но также моторные реакции тела (дрожь или потливость как реакция на страх, например). Эмоции также включают в себя природу познания в таком состоянии (например, остро ли ваше мышление или притуплено?). Чувство – это субъективное восприятие эмоционального состояния комплекса тело-мозг.
Когда Джеймс писал свой труд, общепризнано было, что сначала мы чувствуем, затем действуем, а различное поведение характеризует ту или иную эмоцию. Так, если вы видите змею и если вы боитесь змей, согласно этому интуитивному подходу, вы сначала почувствуете страх, а страх, в свою очередь, заставит вас совершить действие, то есть убежать или застыть от ужаса.
Джеймс утверждает, что мы не поняли отношений между эмоциями и чувствами, на самом деле все наоборот. И хотя смысл, который он вкладывает в слово «эмоция», не вполне соответствует современному прочтению, в основном он прав. Мы сначала реагируем эмоционально, а затем испытываем эмоцию.
В то же время, независимо от него, датский физиолог Карл Ланге предложил почти идентичную концепцию, поэтому она называется теория Джеймса – Ланге. Однако Уолтер Кэннон, с чьей легкой руки в лексикон физиологии вошло множество терминов, например «гомеостаз» или «бей или беги» при описании реакции организма на угрозу, не принял теорию Джеймса – Ланге благосклонно. Он указал на то, что, например, при инъекции эпинефрина (по-другому адреналина) происходят определенные физиологические изменения, идентичные естественному эмоциональному возбуждению, но люди совсем не обязательно ощущали искусственно вызванное эмоциональное состояние после инъекции. Иными словами, изменения состояния тела не вызывали ожидаемых чувств. Это, на первый взгляд, противоречило замечанию Джеймса о том, что эмоция предшествует чувству.
Безупречная репутация Кэннона способствовала тому, что теория Джеймса – Ланге не получала развития вплоть до 1960-х годов. В это время успешные эксперименты Стэнли Шехтера и Джерома Сингера воскресили теорию Джеймса – Ланге, но с некоторыми корректировками. Ученые наняли испытуемых для исследования предполагаемых эффектов на зрение выдуманного лекарства под названием супроксин. На самом деле испытуемым кололи «Эпинефрин» или плацебо. Во время инъекции экспериментатор делал одно из трех: (1) описывал точно побочные эффекты от инъекции (сердцебиение, тремор рук, покраснение лица, повышение температуры); (2) давал испытуемым ложную информацию о возможных побочных эффектах (зуд, онемение ног, головные боли); (3) вообще ничего не говорил.
Конечно, все испытуемые думали, что им ввели супроксин. Дальше эксперимент развивался так. Когда испытуемый ждал эффекта от медикамента, в комнату входило подставное лицо, по легенде также получившее инъекцию «супроксина», и начинало в ярких красках демонстрировать состояние эйфории или ярости. Это должно было продемонстрировать, влияет ли контекст на ощущения испытуемого.
Эксперимент удался. Было доказано, что чувства (ярость или эйфория) зависят не только от физиологического состояния тела, но и от когнитивного контекста – испытуемые «переоценивали» эмоциональное состояние тела. Когнитивная интерпретация физиологического состояния тела, вызванного инъекцией, – под влиянием поведения подставного участника и того, что слышал испытуемый во время инъекции, – сыграло роль в том, что реально чувствовал испытуемый. «Когнитивные факторы оказались важнейшими элементами в формировании эмоций», – писали Шехтер и Сингер.
Серия последующих экспериментов была неубедительна, не у всех получилось повторить результаты Шехтера и Сингера. Но главное было сказано: чувства есть результат оценки эмоционального состояния, оценки, на которую влияет контекст.
Любопытно, что эксперименты с бета-блокаторами, которые перебивают бета-рецепторы по всему телу и нивелируют эффект эпинефрина или адреналина, были очень обнадеживающими. Бета-блокаторы замедляют поток информации о состоянии возбуждения в теле к центральной нервной системе, в результате снижается уровень тревожности. «Изъятие стимулов из висцерального возбуждения уменьшает интенсивность любого эмоционального переживания», – пишет психолог Джеймс Лэйрд в книге «Чувства. Восприятие личности».
Лэйрд приписывает неубедительные результаты экспериментов, последовавших за экспериментом Шехтера и Сингера, одному фактору: эксперименты не учитывали, что люди по-разному реагируют на стимулы. Они не учли различных возможных интероцепций, восприятий ощущений посредством тела.
Тем не менее двухфакторная теория (встраивание восходящей информации о состоянии тела и нисходящая оценка этого состояния) пользуется успехом среди исследователей эмоций.
Дамасио и его коллеги на протяжении последних двадцати лет утверждают, что взаимодействие между эмоциями и сознанием двухсторонне: когнитивный контекст влияет на оценку эмоционального состояния тела, а сознание может быть подвержено влиянию эмоционального состояния.
Анил Сет, один из директоров Центра когнитивистики Саклера в Университете Сассекса, полагает, что мозговую основу эмоций можно представить еще лучше: убрав барьер между сознанием и физиологией. Его взгляды основаны на набирающей популярность идее, что мозг – это машина для прогнозирования, особенно в том, что касается внешних сигналов. От мозга мы получаем лишь самые точные догадки, откуда эти сигналы могли поступить. Сет расширил эту идею, предположив, как мозг справляется со внутренними сигналами изнутри тела, и утверждает, что она поможет нам понять такие расстройства, как деперсонализация и телесные аспекты нашего чувства личности.
Николас, как никто другой, знает, как важно чувствовать связь со своим телом. «Я никогда не задумывался о том, что является стержнем меня как личности, до тех пор пока не началась деперсонализация и я не почувствовал себя отделенным от своего физического тела, – говорит он. – Честно говоря – и я так говорю не потому, что я сам такой, – думаю, это страшнее всего на свете – почувствовать, что твой разум отделился от твоего тела, все время осознавать это. Как будто тебя едят заживо».
Он обсуждал свою прогрессирующую деперсонализацию с терапевтом. Когда Николас заполнил форму разрешения, я поговорил с ней по телефону, и она подтвердила, что Николас лечился от тревожности и пошел на улучшение, однако деперсонализация не проходила. Она направила его к неврологу для диагностики эпилепсии височной доли (иногда она может быть причиной деперсонализации) – но сроки ожидания приема у специалиста в Новой Шотландии таковы, что Николасу приходится справляться со своей болезнью в одиночестве.
Я спросил Николаса о гитаре, которую видел у него в гостиной. Он учится играть на ней. Ему больше нравились барабаны, сказал он, но в их квартире на барабанах не поиграешь. Он с нетерпением ждет, когда они переедут в дом и он снова сможет играть на барабанах. Это приносит ему облегчение. «Все твое внимание поглощено только барабанами, – говорит Николас, – когда играешь всеми своими конечностями, на это уходит столько сил, что это приносит облегчение».
Это напомнило мне о пациенте, упомянутом Ником Медфордом. Этот пациент жил в Лондоне и неплохо играл в теннис, но перестал из-за деперсонализации. «Единственное, что я смог сделать для него, я убедил его снова заняться теннисом, – рассказывал мне Медфорд, – когда он бежал по теннисному корту, полностью захваченный потоком, [деперсонализация] отступала. Она, к сожалению, возвращалась, но это тем не менее было очень важно для него, это доказывало ему, что деперсонализация не вечна и непреложна, что ее можно заглушить».
Хотя Николас и говорил, что игра на барабанах облегчала его симптомы, улучшение было временным. В тот момент, когда он понимал, что ему лучше, деперсонализация возвращалась. «Это парадоксально: ты думаешь о том, что чувствуешь себя лучше, – и сразу ощущаешь деперсонализацию снова», – говорит он.
Может ли сложная феноменология деперсонализации быть следствием искажения в прогностической работе мозга?
Задумайтесь на минуту о том, каково это – быть мозгом. Ему нужно анализировать природу физической реальности, основанную на постоянно меняющихся потоках сенсорных сигналов, которые, в свою очередь, вырабатывает движущееся тело. Как мозг превращает стимулы в восприятие?
Немецкий физиолог XIX века Герман фон Гельмгольц предположил, что мозг решает проблему восприятия, делая выводы о природе ощущений. Он работает, выражаясь языком современной неврологии, как байесовский механизм вывода.
Слово «байесовский» происходит от названия теоремы Байеса, по имени Томаса Байеса, английского математика и священника XVIII века. Теорема связывает условную возможность совершения события P, учитывая, что случилось Q, и условную возможность совершения события Q, учитывая, что случилось P. Теорема Байеса широко используется в так называемом байесовском программировании, которое лежит в основе многих современных систем искусственного интеллекта. Например, ИИ-системы в медицине используют байесовское программирование для диагностики заболеваний: используя данные о симптомах и результаты анализов, система высчитывает различные вероятности и предлагает диагноз с наибольшим количеством совпадений. Другой пример: предположим, что у пациента положительный тест на вирус Эбола, но сам тест точен лишь в девяти случаях из десяти. Какова вероятность того, что у пациента Эбола? Наша наивная интуиция склонна довериться тесту, решив, что вероятность равна 0,9. И наша интуиция нас подведет. Вероятность зависит от того, где провели тест. Если пациент находится в стране, где Эбола распространена, условная вероятность того, что этот человек болен, выше, чем если человека протестируют в стране с нулевой заболеваемостью.
Байесовский мозг, в теории, работает по тому же принципу. Он считывает наиболее вероятные причины сенсорных сигналов, основанные на первичных представлениях о причинах подобных сигналов, которыми он располагает. Как сказано выше, мозг выдает лучшую из своих догадок о том, откуда взялось ощущение, за восприятие. Само собой, это непрерывный процесс. Мозг использует внутренние модели тела и мира, чтобы спрогнозировать ожидаемый сенсорный сигнал. Любое отличие между ожидаемым сигналом и реальным сигналом говорит об «ошибке в прогнозировании». Мозг использует ошибочные сигналы и реальные сигналы, обновляет свою базу первичных представлений, чтобы впредь прогнозировать более точно (и, соответственно, воспринимать), когда поступят похожие сигналы.
Такие прогностические модели, использующие байесовские выводы, в основном применялись для изучения экстероцепции: создания чувства из внешних ощущений. Интероцепции также подразумевают восприятие, но в этом случае речь идет о сигналах изнутри тела. Мозгу нужно знать состояние тела, чтобы определить, вышло ли тело из своей зоны биохимического комфорта и нужно ли инициировать действия, чтобы вернуть тело в физиологическое состояние, оптимальное для выживания. Анил Сет утверждает, что прогностическое кодирование должно быть верным, чтобы верно истолковывать внутренние телесные сигналы. «Это процесс восприятия, только по-другому», – говорит он.
Аргументы Сета основаны на теории чувств и эмоций. Двухфакторная модель эмоций всегда подразумевает интеграцию информации, поступающей в мозг через нервную систему, генерирование снимка физиологического состояния тела, которое потом становится субъектом когнитивной интерпретации и последовательно вырабатывает эмоцию. Существование прогностического кода снимает разделение между сознанием и физиологией. Потому что нет в мозге такого места, куда бы встраивалась поступающая информация для создания восприятия. Скорее, все это прогнозирование – как происходит восприятие, что вы чувствуете – все это догадки мозга о причинах сигналов. Эта изощренная концепция произошла от той же самой догадки, которая дала нам эфферентную копию и компаратор, модели, объясняющие, как мозг вызывает чувство личной инициативы, и предполагающие, что их неисправность может быть причиной симптомов шизофрении. Выходит, что прогностическое кодирование применимо ко всему, что творится в мозге.
Сет утверждает, что в мозге есть множество уровней прогнозирования. Нижний уровень прогнозирует причины входящих сенсорных сигналов из тела. Прогнозирование формирует входящий сигнал, который передает на следующий уровень, и так далее. Эта иерархическая модель хорошо объясняет структуру мозга. «Субъективная эмоция, которую мы чувствуем, это лучшая прогностическая догадка мозга, которая объясняет [входящую] интероцептивную информацию на ряде иерархических уровней, – говорит Сет. – Это не похоже на привычную концепцию, где сознание смотрит сверху вниз на физиологию и интерпретирует ее».
Прогностическое кодирование – это совершенно новая концепция того, как устроен и как функционирует мозг, способная объяснить интероцепцию и экстероцепцию, эмоции и чувства, объяснить, как возникают психопатологии в случае неисправности этого прогностического механизма. Как мы увидим в следующей главе, эта модель применяется для объяснения таких сложных и разнообразных по симптомам состояний, как аутизм. Впрочем, тут кроется «другая опасность», по словам Сета: «Познав все, вы не узнаете ничего».
Основным аргументом против прогностического подхода является отсутствие прямых доказательств. Но существуют косвенные доказательства прогностического кодирования. Например, действие механизма эфферентной копии/компаратора подразумевает действие прогностического механизма мозга. Очевидно так же, что островковая кора, зажатая между лобной и височной долями, является той областью мозга, которая задействована в сопоставлении нисходящих прогнозов ожидаемых интероцептивных сигналов и входящих сигналов, содержащих информацию о прогностических ошибках.
Принимая подобные косвенные доказательства, психопатологи задаются вопросом, что же происходит, если прогностический механизм дает сбой. Ошибки являются индикаторами того, что все, что моделирует мозг на любом уровне, не вполне верно. Возможны два варианта: мозг может обновить данные и привести их в соответствие с сенсорными сигналами; или же он может инициировать действие, подтолкнув тело к желаемому физиологическому состоянию. Последний вариант – это основа гомеостаза (например, вы погрузились в ледяные воды залива Сан-Франциско и купаетесь несколько дольше дозволенного – внутренняя температура тела начнет опускаться за пределы, которые ваш мозг считает приемлемыми для ваших внутренних органов, и вы почувствуете, что вам нужно согреться).
С этой точки зрения функция мозга – минимизировать прогностические ошибки. Это имеет последствия для нашего чувства личности. Например, сигналы, исходящие из тела. По мнению Сета, когда внутренние модели мозга верны и устанавливается соответствие между спрогнозированным и реальным сигналом, вы чувствуете, что у вас есть тело, что ваше тело и ваши эмоции принадлежат вам. Соответствие между спрогнозированным и реальным сигналами подразумевает, что тело и эмоции – это «я», тогда как несоответствие приведет к ощущению того, что это «не-я». Яркость эмоциональных состояний и ощущение того, что они мои, зависят от того, как мозг делает верные интероцептивные прогнозы и минимизирует прогностические ошибки.
Но что, если прогностические ошибки случаются и не исправляются из-за неисправных внутренних моделей тела в мозге или же из-за того, что неисправны нейронные схемы, вычисляющие ошибки (интересно, что именно островок, отвечающий за прогностические коды и интероцептивные выводы, является ключевой областью мозга, пораженной при деперсонализации)?
Сет полагает – и подчеркивает, что это лишь предположение, – что это приведет к диссоциации, ощущению нереальности тела и эмоций, чувству развоплощения, отстраненности от самого себя. Как будто лучшей прогностической догадкой мозга об источнике интероцептивных сигналов – при условии постоянных ошибок – является вывод, что сигналы не принадлежат личности, что это «не-я».
Как и все, о чем мы говорили ранее, деперсонализация не разрушает «я». Все еще остается субъективность – личность-субъект, которая осознает отчужденность от прочих аспектов личности, в случае деперсонализации от ярких эмоций и чувств, благодаря которым мы чувствуем, что у нас есть тело. И хотя никто не утверждает, что наши чувства и эмоции не встроены в наше чувство личности, тем не менее любопытно с философской точки зрения, что они не входят в личность-субъект; «я» стоит в стороне и наблюдает.
Я любуюсь на то, как Николас возится со своей дочкой, ей год и месяц. Он обнимает ее, целует, как будто хочет дать ей всю любовь, которой не было у него в детстве.
Я спрашиваю, общается ли он со своим отцом.
«Я больше с ним не разговариваю, – отвечает он, – около года назад перестал».
«Были какие-то предпосылки?» – спросил я.
Он колеблется.
«Можешь не рассказывать, если тебе неприятно», – говорю я.
Но Николас решается рассказать. Когда он жил с отцом около десяти лет назад, отец выглядел здоровым мужиком в татуировках, «на него было страшно взглянуть… как уголовник». А затем он переехал на запад в Альберту и перешел к более тяжелым наркотикам. К тому времени, как он вернулся в Новую Шотландию, он сбросил семьдесят фунтов, теперь это был мелкий костлявый человечек с усталым лицом и алкоголическим носом, покрытым красными прожилками, «очень-очень несчастный человек».
Вскоре дела у него пошли совсем плохо. В полицию Новой Шотландии поступил экстренный вызов от отца Николаса. Приехав на вызов, полиция обнаружила в его квартире труп одного из приятелей Николаса, молодого человека двадцати двух лет. Позже определили, что молодой человек скончался от передозировки «Метадона». Отца Николаса обвинили в распространении наркотиков, но дело закрыли за недостатком улик. Вскоре после трагедии отец Николаса вступил в отношения с девушкой покойного, ей было всего восемнадцать.
«Прямо отсылки к Джерри Спрингеру[21]», – шутит Николас.
У этой мыльной оперы конец был отвратительный. Несколькими месяцами позже девушку нашли без сознания, через два дня она тоже скончалась в больнице в Новой Шотландии, предположительно из-за передозировки лекарственных препаратов.
Отец Николаса попал за решетку за вождение в пьяном виде.
Мать Николаса страдает от слуховых галлюцинаций и параноидальных иллюзий (возможно, это результат многолетнего употребления наркотиков). В юности она была стройной миловидной блондинкой. Сейчас у нее непропорционально избыточный вес, вероятно из-за медикаментозного лечения, с отекшим лицом и огромным животом она, по словам Николаса, выглядит старше своих лет. Он иногда с ней видится. «Отношения у нас совсем не как у сына и матери, – говорит он, – у нас их и не было никогда».
Я спросил, грустно ли ему из-за того, что так сложилось с родителями.
«Конечно, грустно, – говорит Николас, – в то же время из-за деперсонализации я был как бы отделен от нее. Странно, мне грустно из-за этого, [но] это не ощущается, как мои эмоции. Как будто мне грустно из-за жизни другого человека».
«Ты через многое прошел», – говорю я.
«Да, – отвечает Николас, – это был сущий ад. Но я хотел бы чувствовать, что это моя жизнь, а не что я наблюдаю за ней со стороны».
«Даже несмотря на то, что она была трудной?»
«О да, – отвечает он, – я бы хотел научиться справляться с трудностями. Сложно справляться с трудностями, когда они как будто происходят не с тобой».
Мы говорили о том, о сем. О большой ящерице – австралийском бородатом драконе, которая живет у него в аквариуме. О Сан-Франциско и мосте Золотые Ворота, откуда я приехал. Николас и его невеста очарованы Калифорнией. Я сказал, что они тоже живут в потрясающе красивом месте. «Вам бы так не казалось, если бы вы всю жизнь здесь провели», – сказала Жасмин.
Может, она имела в виду деперсонализацию и отстранение личности. Те из нас, кто обитает в своем теле спокойно и без нарушений, испытывают яркие эмоции, возможно, не ценят то, что имеют. Вы не сможете ценить свою личность так сильно, если бы вы были тесно связаны с ней всю свою жизнь.
Глава 6
Первые шаги самосознания
Что аутизм может рассказать нам о развитии личности
Аутисты – это квадратные частицы пазла. Когда вы пытаетесь вставить квадратный кусочек в круглое отверстие, проблема не в том, что его трудно туда втиснуть. А в том, что кусочек от этого сломается.
Пол Коллинз «Не вполне неправильно:путешествие отца в затерянную историю аутизма»
Я по неизвестной мне причине неразличим. Они не видят меня. Вот оно что: мир аутичен, так же, как и я.
Энн Несбит «Земляной шкаф»
Джеймсу Фейи было тридцать четыре, когда ему диагностировали синдром Аспергера. Когда я употребил выражение «синдром Аспергера» в нашей первой переписке, Джеймс, ничуть не обидевшись, поправил меня: «Я – аспергер, и я не имею и не страдаю от каких бы то ни было искусственно созданных синдромов, расстройств или болезней».
Диагноз ему поставили после двух сеансов с психологом. Во время второго сеанса к нему присоединилась младшая сестра – психолог хотел узнать больше об их совместном детстве. Тогда Джеймс понял, что некоторые воспоминания в его восприятии отличаются от тех, что сохранились у его сестры. Для него это был шок.
Например, сестра вспоминала, что Джеймс не хотел с ней играть, даже если они сидели поодиночке. Ей нужна была компания, а он этого не понимал. «Я и не думал, что ей было одиноко, – говорил Джеймс. – Мне не бывает одиноко. С чего должно быть одиноко сестре? Мне это и в голову не приходило». Джеймс с большим удовольствием уединялся с книгой; даже выбор книг не способствовал объединению с сестрой (обычно он читал книги по военной истории, о наполеоновских войнах, например). Его интересовали факты и статистика. Она читала обычные детские книги. «Терпеть не могу художественные книги, – сказал Джеймс мне, – не вижу ни одной причины, по которой стал бы такое читать».
Джеймс вырос на западной окраине Мельбурна (Австралия). Родители не проявляли особого физического тепла к детям, и Джеймса это вполне устраивало. «Я не сказал бы, что они были холодны к нам или пренебрегали нами, сестре тоже было нормально», – говорил он. Джеймсу было неприятно, если его трогали или обнимали. Родственники с материнской стороны в этом проблемы не видели, большинство из них были фермерами, живущими за городом. «Они стояли поодаль, им не нужно было подходить вплотную, чтобы заговорить, – вспоминает Джеймс, – им не нужно было поминутно обниматься».
Отношения с родственниками отца, тем не менее, были испытанием. По воскресеньям вся семья отправлялась к бабушке по отцовской линии, иногда там были и двоюродные бабушки. И им непременно нужно было его обнять и поцеловать. «Мне в то время казалось, что нет ничего хуже ощущения липких слюнявых поцелуев, – говорил Джеймс, – и мне не нравилось, когда меня обнимали. Как будто меня поймали в капкан или посадили в клетку».
Ему было уже за двадцать, когда он начал осознавать, что его образ жизни отличается от того, который привычен большинству людей. Например, завести девушку. Под давлением социума он попытался, и это было для него непросто. «Сколько девушек примут такого парня, который может уйти и быть в одиночестве неделю? – говорил мне Джеймс. – Это же не отношения». Ситуацию усугубляло то, что он не любил прикосновений. Вся интимная жизнь должна быть регламентирована. «Ты хочешь всяких нежностей, отлично, если все это организовано и происходит в отведенное для этого время. Идем в кровать, делаем дело, все отлично. И больше меня не трогай».
Не то чтобы Джеймс был вообще против отношений, ему просто не нужна интимная близость. «Я совершенно не переживаю по этому поводу, учитывая, как сильно мне нужно одиночество. Платонические отношения мне вполне подходят. В них есть все позитивные стороны отношений, а негативных нет».
Даже в менее требовательных отношениях Джеймс осознает, что может все испортить. «Могу засмеяться не вовремя, прямо по Фрейду», – говорит он. Однажды они смотрели кино с друзьями, и Джеймс начал хихикать над чем-то на заднем плане. Это вообще не имело отношения к сюжету фильма. Но друзья это заметили. Они смотрели «Список Шиндлера». И его друзья подумали, что он смеется над евреями. Но Джеймс обратил внимание на что-то другое, незначительное. Именно так он и видит мир вокруг себя. Если снова обратиться к «Списку Шиндлера», это можно объяснить так: в этом фильме, почти полностью черно-белом, есть сцена, где главный герой, Оскар Шиндлер, видит девочку в красном плаще. Позже зрители видят красный плащ в куче тел. Наше внимание привлекает вспышка цвета. «Это довольно точная аналогия моего видения мира, – говорит Джеймс, – некоторые вещи как бы подсвечены. Я вижу их и наблюдаю за ними. Я сам не знаю, почему некоторые вещи вызывают такой особый интерес».
До того как ему поставили официальный диагноз (который Джеймс так не любит, «звучит так, будто у меня есть проблемы», – хотя он очень ценит работу психиатров), Джеймс долго пытался понять, почему он другой. Социализация вызывала тревогу, подавленность. Даже сейчас ему тревожно среди большого количества людей. Его интроспективная натура, тем не менее, помогла ему понять, кто он, и постепенно скинуть бремя чужих ожиданий. «Я обманывал себя, пытаясь соответствовать ожиданиям других людей, – говорит он, – это они меня не понимали».
Черты, которые Джеймс в себе открыл, – желание быть в одиночестве, трудности в выстраивании личных отношений, тревожность в ситуациях общения; и черты, присущие ему с детства, такие как неприятие объятий и поцелуев, – попали во внимание исследователей в начале 1940-х, когда слово «аутизм» впервые появилось в медицинской литературе.
«Аутизм» происходит от греческого слова autos, что значит «сам». В 1916 году швейцарский психиатр Поль Эжен Блейлер ввел этот термин для описания симптомов шизофрении – этот симптом описывался как «ограничение контактов с людьми и внешним миром, ограничение настолько радикальное, что при нем исключаются все, кроме самого себя».
Позже, в 1943-м, Лео Каннер, психиатр австрийского происхождения, директор Детской психиатрической службы при больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе, написал труд, в котором употребил слово «аутизм» для описания состояния, с которым оно ассоциируется до сих пор. Это был достойный труд, детально описывавший наблюдение за одиннадцатью пациентами-детьми: «Фундаментальное… расстройство заключается в неспособности этих детей соотносить себя нормально с людьми и ситуациями с самого начала жизни. Родители описывали их как “самодостаточных”, “как улитка в раковине”, “чувствует себя счастливым только в одиночестве”, “ведет себя так, будто рядом никого нет”, “производит впечатление молчаливого мудреца”, “не может развить социальную осознанность”, “ведет себя как загипнотизированный”».
Каннер на основе своих наблюдений отделил аутизм от симптомов шизофрении, при которой отклонения от нормальных социальных взаимодействий начинаются в позднем детстве или даже во взрослом возрасте. Об этом новом синдроме Каннер писал: «Здесь мы наблюдаем с самого начала крайнее аутичное уединение, которое всегда, когда это возможно, игнорирует, закрывает ребенка ото всего, приходящего извне».
Идея оказалась очень своевременной, и Ханс Аспергер, австрийский педиатр, живший в Вене, независимо опубликовал годом позже сходное исследование, содержащее описание подобных случаев, где также использовал термин «аутизм».
Однако только в 1980 году в «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (DSM), цитируемом и уважаемом издании Американской психиатрической ассоциации, аутизм был включен в категорию диагнозов с неудачной формулировкой «детский аутизм». В 1987 году его переименовали в аутическое расстройство. Трудность в определении аутизма стала очевидной в DSM-IV (1994 года): аутическое расстройство оказалось в одном ряду с несколькими подтипами, включая расстройство Аспергера и первазивное расстройство развития без дополнительных уточнений (ПРР-БДУ). В 2013 году в пятом издании, то есть в DSM-V, все эти состояния были свернуты в один «зонтик» под названием расстройство аутического спектра.
Несмотря на изменения в классификации, оригинальная идея Каннера остается неизменной: «Мы должны признать, что эти дети пришли в мир с врожденной неспособностью к формированию обычных биологически предусмотренных контактов с людьми так же, как иные дети появляются на свет с врожденными физическими или интеллектуальными недостатками», – писал он в 1943 году. Или, как писал он же, у детей «врожденное аутическое расстройство аффективных контактов» (под словом «аффективные» он имел в виду касающиеся эмоционального аспекта нашего бытия).
Функция личности по определению заключается в том, чтобы помогать организму выстраивать границы между собой и другими. Рождается ли младенец с этой способностью? Или же личность у ребенка развивается постепенно? Известно, что в возрасте от восемнадцати до двадцати одного месяца малыши начинают отличать себя от других в речи. К ужасу родителей они начинают вопить «мое!» на все, что им нравится, а это явный индикатор способности эксплицитно выражать в речи свою личность. Примерно в том же возрасте дети начинают узнавать себя в зеркале или на фотографиях. Специалисты по психологии развития задаются вопросом: развивается ли чувство личности у ребенка посредством социального взаимодействия и использования языка или же существует глубинная имплицитная личность?
Уильям Джеймс провел грань между имплицитным и эксплицитным в личности, назвав первое «Я», а второе «Меня». Психолог Филипп Роша объясняет, что «”Меня” относится к личности, которую распознают, вспоминают, обсуждают. Концептуальная личность возникает вместе с языком и влечет за собой эксплицитное узнавание и репрезентацию. Это вне понимания младенцев, которые по определению превербальны и не могут самовыражаться посредством общепринятой системы символов. С другой стороны, есть личность, по сути имплицитная, не зависящая от сознательной идентификации».
В 1991 году Ульрик Найссер, которого часто называют отцом когнитивной психологии, разделил «Я» Уильяма Джеймса на экологическую личность (имплицитное чувство тела, которое развивается у маленьких детей во взаимоотношениях с физической средой), и интерперсональную личность (имплицитное чувство социальной личности, которое возникает посредством взаимодействий с другими людьми).
Экологическая личность очевидна у младенцев. Например, у младенцев есть корневой рефлекс: если дотронуться до щеки малыша, он поворачивает голову в ту сторону, с которой его потрогали. Роша доказал, что даже новорожденные, имеющие двадцать четыре часа от роду, в три раза чаще демонстрируют корневой рефлекс, если кто-то дотрагивается до их щеки, чем если они сами случайно это делают. Это демонстрирует, что младенцы имеют представление о своем теле, может, даже о том, что они сами производят действие (вспомните главу о шизофрении, где говорилось о том, что мы не можем пощекотать сами себя из-за того, что механизм эфферентной копии подавляет ощущения; мы имплицитно знаем, что это мы инициировали щекотку).
Согласно Роша, младенцы развивают имплицитную социальную личность, потому что взрослые постоянно отражают выражение лица и эмоции детей (вы же часто видели, как мать жалеет плачущего ребенка, делает грустное лицо и говорит: «Мой бедняжка!»). Младенцы, в свою очередь, самые настоящие имитирующие аппараты. Благодаря постоянному отзеркаливанию у малышей развивается превербальная, прелингвистическая социальная личность – отточенная интерперсональными взаимодействиями.
С обретением языка приходит способность формировать и выражать эксплицитную личность. По мере взросления дети развивают интересную способность: способность заглядывать в разум других людей, если можно так выразиться. У детей с аутизмом эта способность отсутствует, что приводит к тому, что Каннер назвал врожденной неспособностью соотносить себя с другими. Для исследователей, также представляющих аутизм с точки зрения личности, встает вопрос: связана ли проблема социального взаимодействия с развивающейся личностью ребенка, и если да, то как?
Сьюзан и Рой вспоминают, как впервые поняли, что что-то не так в поведении их сына Алекса, когда вокруг были другие люди. Это был его второй день рождения. Родственники и друзья пришли в гости. Алекс был в центре внимания, хотя, казалось, он не слишком рад этому. «Он выбегал на улицу, на тротуар, – рассказывал мне Рой. – Помню, мне пришлось тащить его обратно, а гости видели это и выглядели очень смущенными».
Но еще до этого случая было ясно, что мальчик гиперчувствителен к звукам и прикосновениям. «Его нельзя было долго обнимать», – говорит Сьюзан. Он носил только мягкую хлопковую одежду со срезанными ярлычками (ярлычки вызывали раздражение). Громкие звуки были просто проклятием: он закрывал уши и выглядел очень обеспокоенным. Еду ему приходилось измельчать в пюре, без кусочков (ничего, что можно было бы жевать или грызть), иначе он давился. Из-за всего этого ему поставили диагноз «расстройство сенсорной обработки». Тем не менее были признаки того, что Алекс имел дело с чем-то большим, чем просто тактильная и слуховая гиперчувствительность.
До того самого дня рождения (который стал первым тревожным звонком для Роя и Сьюзан) был такой случай: медсестра приходила проверять состояние здоровья Алекса. У мальчика была огромная коллекция игрушечных машинок. «Когда она зашла и увидела, что Алекс выстроил их в одну длинную линию, она застыла как вкопанная», – рассказывает Рой. Если кто-то нарушал порядок в строю машинок, Алекс очень расстраивался.
Тем не менее Алекс не жадничал. У большинства детей начинает развиваться чувство собственности по отношению к игрушкам, но у Алекса такого не было. «Просто не было, и все, – говорит Сьюзан. – Кто угодно мог играть в его игрушки или даже взять себе». Алексу также диагностировали задержку экспрессивной речи. Его языковые навыки соответствовали возрасту, но он не говорил об эмоциях и чувствах (не говорил что-то вроде «мне весело» или «мне грустно»), как другие дети его возраста.
Тем временем воспитатели в дошкольной группе замечали тревожность у Алекса. Например, когда дети сидели в кругу, отвечая по очереди на вопросы или просто разговаривая о чем-то, Алекс начинал нервничать, когда подходила его очередь. Он кусал ногти и катался на спине. Вскоре Алексу поставили диагноз ПРР-БДУ, подтип расстройств, включенный в расстройства аутического спектра в DSM-V.
К тому времени как он поступил в начальную школу, его любовь к уединению дала знать о себе, в том числе и на детской площадке. На площадке все дети носились и играли друг с другом, а он был сам по себе, не играл ни с кем и не хотел ни с кем играть, – говорит Рой. – Это было основное, что замечали все учителя и обсуждали с нами».
Алекс прошел долгий путь: годы разнообразной терапии (речевой, физической, трудовой), которая знакома всем родителям детей с аутизмом. Он хорошо учится, занимается спортом. «Он популярный парень, он очень приветливый, добрый, никого никогда не обижает, – говорит Сьюзан. – Он умница, и многие дети обращаются к нему с просьбой помочь с математикой. Он ничуть не высокомерен. Его обычно очень-очень любят во всех классах».
Но, по словам Роя, «у него до сих пор нет близких друзей».
Алекс как будто ко всем относится одинаково. «Когда говоришь с детьми, они обязательно скажут что-то вроде: “Этот добрый”, или “Он хороший”, или “Этот мне нравится больше, чем тот”», – говорит Сьюзан. У Алекса она такого не видит. «Он не рефлексирует особо о том, что он сделал или что другие сделали. Он в этом смысле нетребователен. Вообще, с ним довольно просто».
Для Алекса и многих похожих на него детей в этом поведении содержится модель того, как они будут функционировать в обществе, когда вырастут. Алекс находится в группе, которая проходит языковую терапию. Одним из заданий было пойти в магазин и купить что-то. Сценарий много раз проговаривается: попросить о чем-то, представить себе, что может ответить человек за кассой, ответить ему, дать деньги, получить сдачу и так далее. «Такие мелочи, о которых мы делаем логические умозаключения, этим детям преподаются особо», – говорит Рой.
Мелочи, о которых мы делаем логические умозаключения… Что такое логические умозаключения? Мы логически делаем выводы о ментальном состоянии других, читаем в уме других людей. В середине 1980-х детские психологи начали предлагать простые тесты для определения способности детей, так сказать, заглядывать в мысли других. Эта способность называется теорией разума (ТР). Что аутизм может рассказать нам о теории разума? И нужна ли нам теория разума, чтобы понять наш собственный разум, наши ментальные состояния? Вообще, обязательна ли теория разума для чувства личности?
Психолог Элисон Гопник обладает уникальным даром убеждать людей в нужности теории разума. Представьте себе комнату, полную людей. Оглядитесь. Что вы видите? Разве не «кожаные мешки, завернутые в куски ткани с маленькими точкам наверху, что движутся вверх-вниз, а под ними дырка»? Разве мы видим людей как неодушевленные объекты? Конечно, нет. «Это было бы просто безумие, – говорит Гопник на нашей встрече в Университете Калифорния, Беркли, – вы не представляете людей такими. Вы видите в них психологические сущности».
Это значит, что люди – это сущности, имеющие разум. Мы постоянно подглядываем, что происходит в разуме другого человека, чтобы понять его поведение, намерения, желания, а также чтобы предугадать, что он сделает в следующую минуту. В общем, мы постоянно строим теории о ментальном состоянии других людей. У нас есть теория разума. Эта способность лежит в основе человеческих социальных взаимодействий. Но является ли эта способность врожденной? Или же она развивается с течением времени? Вернее, существует ли такая стадия развития, когда ребенок приобретает эту способность?
В 1983 году два австрийских психолога, Хайнц Виммер и Йозеф Пернер, опубликовали исследование о том, как выявить теорию разума у детей. Исследование начиналось с цитаты из книги об искусственном интеллекте:
«Один торговец и путешественник остался на ночь со своей женой дома, когда его очередная поездка неожиданно отменилась. Они уже крепко спали, когда посреди ночи внезапно раздался стук в дверь. Жена проснулась с криком: “О Боже! Это мой муж!” А муж выскочил из кровати и выпрыгнул в окно».
Мы задаемся вопросом, были ли муж и жена хронически неверны друг другу? Виммер и Пернер обсуждали идею ложной уверенности. Что подумала жена? Почему муж выпрыгнул в окно? Присваивая ложную уверенность другому человеку, мы делаем вывод, что то, что он думает, не соответствует реальности. Например, почему жена решила, что ее муж стучится в дверь, и сделал ли муж вывод, что его жена так думает, даже несмотря на то, что он лежит рядом с ней? И хотя это не объясняет, почему он выпрыгнул из окна, это демонстрирует нам идею ложной уверенности. И если вы можете вычислить чью-либо ложную уверенность, вы явно можете считывать их расположение духа и у вас явно есть теория разума.
Виммер и Пернер хотели проверить, могут ли дети присваивать ложную уверенность другим людям и предугадывать, что эти люди собираются делать. Они провели серию остроумных тестов и доказали, что у детей этот новый навык – считывать разум другого человека – развивается между четырьмя и шестью годами.
Тем временем в Лондонском университете Алан Лесли, совместно со специалистом по психологии развития Утой Фрит, искал доказательства теории разума в другом, на первый взгляд невинном, детском развлечении – в ролевой игре. Лесли утверждает, что новорожденные обладают врожденной способностью составлять модель окружающего мира – довольно точную внутреннюю «первичную» репродукцию. Но эта способность не объясняет игры, когда дети наливают воображаемый чай из игрушечного чайника в игрушечную чашку. Такая игра требует от ребенка двух способностей: иметь первичную репродукцию реальности и еще одну репродукцию воображаемого игрового мира. Лесли назвал эту способность «началом способности понимать познание само по себе»:
«Это ранний симптом способности человеческого разума характеризовать информацию и манипулировать своим отношением к ней. Ролевая игра, следовательно, есть частный случай проявления этой способности распознавать притворство в других (считывать отношение к информации другого человека). Короче говоря, ролевая игра – это раннее проявление теории разума».
Очевидно, что дети с аутизмом, особенно с тяжелой его формой, не играют в такие игры и не фантазируют (в отличие, скажем, от детей с другими умственными расстройствами, например синдромом Дауна, которые играют, хотя и развиваются медленнее, чем обычные дети).
Я спросил Роя и Сьюзан, правильно ли это утверждение в отношении Алекса. «Абсолютно, – сказала Сьюзан. – Он играет со своими грузовиками, но вот постоянно рассказывать: «Я пошел сюда, я буду тем-то» – это не про него».
Это доказательство от ролевых игр привело Лесли к утверждению, что дети с аутизмом не имеют теории разума, в отличие от детей с синдромом Дауна. В 1985 году Саймон Барон-Коэн совместно с Утой Фрит и Лесли придумали упрощенный вариант теста Виммера и Пернера для проверки теории разума у детей с аутизмом. Его назвали «тест Салли-Энн», в честь двух кукол, с которыми разыгрывали следующий сценарий.
У Салли есть корзина. У Энн есть коробка. У Салли есть мраморный шарик, который она кладет к себе в корзину и идет гулять, оставив корзину. Пока Салли гуляет, Энн забирает шарик и кладет его к себе в коробку. Салли возвращается и хочет поиграть со своим шариком. Где же ей теперь его искать?
Если вы ответили «в коробке у Энн», то тест на ложную уверенность вы провалили, потому что вы думаете, что Салли думает так же, как и вы. Если вы ответили «в корзине Салли», то вы прошли тест – вы способны заглянуть в разум Салли (она должна искать в своей корзине, потому что она не может знать о вероломстве Энн).
Как и предполагалось, дети с аутизмом (с ментальным уровнем до четырех лет) с трудом справлялись с заданием – они скорее отвечали «в коробке Энн»; тогда как дети, развивающиеся типично, и дети с синдромом Дауна отвечали правильно. Это подтверждает мысль о том, что при аутизме наблюдается дефицит теории разума.
К 1988 году Элисон Гопник и ее коллеги, работающие с типично развивающимися детьми, показали, что теория разума и тесты на ложную уверенность могут осветить глубинные и отдаленные основы самосознания: способность познавать наш собственный разум связана со способностью познавать разум другого.
Группе детей от трех до пяти лет показали закрытую коробку конфет. Однако когда дети открывали коробку, то, к удивлению своему, обнаруживали там карандаши. Затем коробку снова закрывали, а детям задавали вопросы, предназначенные для того, чтобы проверить, знают ли они, что их текущее знание (или ментальная репродукция) о содержимом коробки отличается от того, каким оно было до того, как коробку открыли. И если пятилетние дети помнили, что ранее имели ложную уверенность в том, что в коробке находились конфеты, а не карандаши, то трехлетние об этом забывали. Они свято были уверены, что в коробке всегда были карандаши. Эксперимент был направлен на проверку способности детей узнавать ложную уверенность, и в этом случае это была ложная уверенность самого ребенка ранее.
Интересно, что способность читать разум другого человека и способность понимать, что было в нашем собственном разуме в прошлом, развиваются как раз в возрасте от трех до пяти лет. «Наблюдается сильная корреляция между тем, что ребенок говорит о другом человеке, и тем, что он говорит о себе самом в прошлом», – говорит Гопник.
Барон-Коэн изучал детей с аутизмом, проводя похожие эксперименты, результаты которых были опубликованы в исследовании с провокационным названием «Дети с аутизмом «бихевиористы»?» Эксперименты были в основном направлены на проверку того, могут ли дети проводить различие между внешним видом объекта (похожего на яйцо) и его реальной природой (при прикосновении выяснялось, что это был камень, выглядевший как яйцо). В так называемом эксперименте «Внешность-Реальность» (В-Р) участвовали семнадцать детей с аутизмом, шестнадцать детей с умственными расстройствами и девятнадцать клинически нормальных детей (все уровня развития около четырех лет). Барон-Коэн утверждал, что эта способность различать видимость и реальность и есть тест на то, насколько дети осведомлены о своем ментальном состоянии.
Сначала детям показывали объект. Когда их спрашивали, что это, то все дети отвечали, что это яйцо. Затем детям давали прикоснуться к «яйцу», причем обнаруживалось, что оно сделано из камня. После того как дети тщательно осматривали и ощупывали объект, им задавали два вопроса: «На что это похоже?» и «Что это такое на самом деле?» Правильные ответы: «яйцо» (внешность) и «камень» (реальность).
Около 80 % типично развивающихся детей и детей с синдромом Дауна прошли такой тест успешно. Но только 35 % детей с аутизмом смогли отличить внешность от реальности: они совершали ошибку, говоря, что каменное яйцо выглядело как яйцо и на самом деле было яйцом. «Это доказывает, что только эти дети не имеют представления о различии между реальностью и видимостью, а также не осознают своего ментального состояния. В результате, когда воспринимаемая информация противоречит знанию человека о мире, ребенок с аутизмом оказывается не в состоянии отделить одно от другого, и воспринимаемая информация подавляет другие стороны объекта», – пишет Барон-Коэн. Мозг ребенка с аутизмом неспособен полностью утилизировать первичное знание, получив знания из новой информации – а это ключ к тому, как мозг «чинит» прогностический механизм.
Эти исследования говорят нам о многом. Те же механизмы мозга, которые помогают нам читать разум других людей, помогают нам познать наш собственный разум. Насколько важно иметь теорию разума для нашего чувства личности? Ута Фрит сказала мне: «Я считаю, что это ключевой момент».
Ключевой момент для определенного аспекта личности, по словам Фрит. Как мы уже знаем, личность может быть разделена на два аспекта: пререфлективное самосознание («Я» или «личность-субъект») и рефлективная часть («Меня» или «личность-объект»). Теория разума имеет отношение к личности-объекту. Никто не утверждает, что аутизм мешает ребенку быть субъектом жизненного опыта.
Если у детей с аутизмом повреждена теория разума – и, возможно, есть трудности с чтением своего собственного разума – как это сказывается на взрослых с аутизмом? Есть ли у них те же проблемы?
Для ответа на этот вопрос Фрит совместно с Расселом Херлбертом и Франческой Хаппе, ее бывшей докторанткой, а сейчас ведущим исследователем аутизма и теории разума, провели тест для взрослых с аутизмом.
Техника, разработанная Херлбертом, такова: испытуемому дают устройство со звуковым сигналом, которое срабатывает рандомно, и в этот момент испытуемый должен «заморозить содержимое своего сознания» и записать, о чем он думает. В исследовании принимали участие высокоорганизованные люди с диагнозом Аспергер, у всех хорошо развита речь, все они нормально коммуницируют. Испытуемым также дали бланки тестов на ложную уверенность. Вскрылась интересная корреляция между тем, как они прошли тест на ложную уверенность, и их способностью к интроспекции.
Двое испытуемых, Нельсон и Роберт, хорошо справившиеся с тестами на ложную уверенность, справились и с другой частью теста и смогли записать свои внутренние ощущения, хотя и описали скорее визуальные образы, а элементов в норме составляющих внутренние ощущения недоставало (под нормой, проявляющейся у людей, которых в сообществе аутистов называют «нейротипичными», подразумевается внутренняя речь и чувства).
Питер, третий испытуемый, не слишком хорошо справился с тестом на ложную уверенность, затруднения вызвала у него и интроспекция. «Ни в одном случае не было описано внутреннего опыта… Ни зрительных образов, ни внутренней речи, ни других черт внутреннего опыта, которые были у других испытуемых», – пишут исследователи.
Во время беседы с Фрит и Хаппе я вспомнил о Джеймсе Файи. Я спросил его, был ли он близок с сестрой. Он удивил меня, ответив: «Я не утверждаю, что так у всех людей с Аспергером, но что до меня, я не чувствую [эмоций] по отношению к людям. У меня нет внутренних чувств… У меня не бывает бабочек в животе. Сердце не колотится. Я люблю сестру, но, скорее, на сознательном уровне. Я осознаю любовь к ней, но не чувствую ее».
Как отреагировала его сестра, когда он сказал ей об этом? Я спросил. «Да нормально, – сказал Джеймс, – я сам удивился. Я думал, что для человека, который привык к эмоциональной связи с другими, это прозвучит неприятно и даже обидно. [Но] она постаралась понять. Возможно, живя со мной, она поняла, что моя эмоциональная связь с людьми отличается от ее».
Это необычное признание многое объясняет. Во-первых, Джеймс способен к интроспекции, но не так, как нейротипичные люди. Его личность-объект, например, не включает остро ощущаемых эмоций в отношении других, этот дефицит он восполняет развитой когнитивной способностью (вот почему некоторые люди с аутизмом, не справляясь в основном с тестом на ложную уверенность, все же иногда его успешно проходят). Но неспособность считывать без усилий эмоции людей обременительна, ему приходится компенсировать ее, уделяя пристальное внимание, скажем, языку тела и выражениям лица (то, что у нейротипичных людей выходит автоматически). Неудивительно, что социальное взаимодействие остается источником тревоги. «Компьютер у меня в голове перегружается, – говорит Джеймс, – сплошной стресс. Полчаса общения может выматывать так же, как три часа контрольной по математике».
В концепцию Фрит ситуация Джеймса вписывалась идеально. «Полностью автоматическая врожденная способность, которой нет при аутизме, но это не означает, что ее нельзя приобрести сознательно, усилием и обучением», – утверждает она.
Это подливает масла в огонь дискуссий по поводу того, как человек развивает теорию разума. Существует несколько направлений. Одна концепция заключается в том, что теория разума – это «теоретическая теория» – малопонятная фраза, которая означает, что мы имплицитно теоретизируем то, что происходит в разуме другого человека, используя несознательные когнитивные процессы. Другая концепция утверждает, что мы симулируем в своем разуме сценарий, чтобы понять разум другого человека; вы вроде как проходите игру оффлайн, как если бы это был разум другого человека, пытаясь прийти к какому-то умозаключению по поводу их ментального состояния. Еще есть точка зрения, что мы напрямую воспринимаем состояние других, выводы делаются быстро, процессы лежат за пределами сознания и входят в сознание как прямое восприятие.
Дефицит теории разума может быть также связан с другой характеристикой людей с аутизмом – дефицитом так называемых исполнительных функций, выражающийся в сложности при планировании последовательности действий, необходимых для достижения цели.
Сьюзан и Рой соотнесли проблемы Алекса с ежедневными задачами. «Двухлетний ребенок инстинктивно понимает, что, если вам нужно выйти на улицу, нужно проделать ряд вещей, например надеть носки и ботинки, куртку. Вы автоматические знаете, что вам все это нужно сделать до того, как переступить порог, – говорит Сьюзан. – Алексу об этом нужно напоминать. Каждый раз как первый. Для него это так и не вошло в привычку. Как, например, и то, что сначала надевают носки, а потом обувь, или сначала белье, а потом брюки».
Исследование продемонстрировали устойчивую корреляцию между сложностями с теорией разума и исполнительными функциями у детей с аутизмом. Аргументом в пользу этого является то, что люди с аутизмом испытывают трудности с доступом или представлением ментальных состояний, которые моделируют последовательность поведенческих навыков, еще не случившихся (таких как надевание носков, обуви и куртки), или же желаемой цели (полностью одеться перед выходом на улицу).
Это также подтверждает мнение о том, что теория разума – это не только о том, чтобы принимать ментальные состояния других людей, а еще и о том, как познать свой собственный разум и, следовательно, познать свою личность. И без озарений, пришедших благодаря изучению аутизма, мы бы и не начали интересоваться структурами мозга, отвечающими за теорию личности.
У взрослых целый набор областей мозга тесно связан с теорией разума: височно-теменное соединение (ВТС), прекунеус (ПК) и медиальная префронтальная кора (МФПК). Эти области мозга активируются, когда вы думаете о том, что думают другие. Ребекка Сакс изучала эти области мозга у детей от пяти до одиннадцати лет, когда как раз формируется и развивается теория разума. Выяснилось, что одни и те же области мозга у этих детей задействованы при выполнении заданий на теорию разума. Правое височно-теменное соединение (пВТС) сильнее связано с теорией разума у детей. Исследование Майкла Ломбардо из Кембриджского университета совместно с Саймоном Бароном-Коэном и другими показало, что пВТС функционально специализируется на отображении ментальных состояний, и эта специализация повреждена у людей с аутизмом, так что чем сильнее степень повреждения, тем сложнее социальные отношения.
Ломбардо и его коллеги выявили другую проблемную область мозга при аутизме: вентромедиальная префронтальная кора (вМПФК). Испытуемые были как нейротипичными, так и с аутизмом, им задавали вопросы, направленные на то, чтобы выяснить ментальные характеристики – их самих или британской королевы: «Насколько важно для вас вести дневник?» и «Насколько для британской королевы важно вести дневник?». Нейротипичные испытуемые использовали вМПФК чаще в заданиях, относящихся к ним самим, чем в заданиях, относящихся к королеве. В отличие от людей с аутизмом: «Вентромедиальная префронтальная кора при аутизме воспринимает личность и других людей равно».
То же исследование обнаружило другую интересную связь: при аутизме связь между в МПФК и областями мозга, задействованным в базовых представлениях о теле, включая вентральную премоторную и соматосенсорную кору, снижена. Сопоставив это с тем фактом, что правое ВТС (как мы видели, эта область связана с теорией разума) связано с картами тела, и возникает новый взгляд на аутизм. Многие ученые всерьез говорят о том, что аутизм может быть причиной неспособности нормально воспринимать свое тело и сенсорные стимулы, которые оно получает. Это разрушает чувство телесной личности, может напрямую воздействовать на обработку ощущений и влиять на такие сложные процессы, как теория разума.
Рой все не может забыть об одном случае в тот день, когда Алекс пошел в первый класс. Алекс сидел за партой с одной девочкой, которую знал еще до школы. Учитель раздал детям мелки и предложил порисовать. Девочка нарисовала красивую бабочку. «Очень крутую бабочку», – сказал Рой. А вот Алекс, по словам Роя, смог изобразить какую-то «непонятную ерунду». «Это далеко не то, чего ожидают от первоклассника».
Не следует думать, что Рой требовательный и строгий родитель. У Алекса всегда были трудности с рисованием, как в плане моторики, так и в плане осмысленного рисования. Когда он писал карандашом, то не нажимал достаточно сильно на бумагу. Трудотерапевт Алекса часами учила его рисовать человека. У Алекса выходили палочкообразные фигуры, хотя терапевт объяснила, что шея не палка, у нее есть ширина, а руки – это не просто линии, которые оканчиваются точками, у них есть ладони и пальцы. «Его рисунки были очень примитивны», – сказала Сьюзан. Даже сейчас, спустя много лет, если попросить Алекса нарисовать человека, руки будут оканчиваться кружками с кружками поменьше, обозначающими пальцы. «Этому он так и не научился», – говорит Рой.
Дэвид Коэн может рассказать многое о неспособности детей с аутизмом верно изображать тело человека. Когда я познакомился с Коэном, главой отделения детской и подростковой психиатрии в больнице Питье-Сальпетриер в Париже осенью 2011 года, он пожинал плоды статьи, появившейся в британском журнале Lancet в 2007 году и посвященной традиционной французской практике le packing, или обертыванию. Ребенка обертывают с ног до головы в холодные мокрые простыни, оставляя только голову. После ребенка заворачивают в сухое одеяло, чтобы согреть. Каждый сеанс длится около часа, а терапия может включать многочисленные сеансы. Le packing использовали во Франции для дополнительной терапии, успокаивающей детей с тяжелыми формами аутизма и склонностью к самоповреждению. В Lancet были иллюстрации с фотографиями Шапель де ла Сальпетриер, знаменитого места в Париже, рядом со входом в больницу, что связало обертывания с именем Коэна, хотя история вообще не касалась его госпиталя (на тот момент Коэн еще не опубликовал ни одной работы об обертывании). Те, кто нашел эту практику жестокой и варварской, направили свой гнев на Коэна. Еще больше дурной славы принесло письмо редактору Журнала Американской академии детской и подростковой психиатрии» (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), в котором ряд выдающихся исследователей аутизма признали данную терапию неэтичной.
Но Коэн выступает за обертывание. Он указал мне, как и ранее в статьях, опубликованных после скандальной публикации в Lancet, на то, что ребенок находится во время процедуры под наблюдением psychomotricien (то есть специалиста по психомоторным расстройствам), и его держат два человека.
Одному из пациентов Коэна, Джону, поставили диагноз «первазивное расстройство развития». Его госпитализировали в кататоническом состоянии. Принимая во внимание серьезность состояния, ему собирались назначить ЭСТ (электросудорожную терапию), но родители Джона не дали согласия. Они предпочли обертывание в сочетании с медикаментами (бензодиазепин и прозак). Состояние Джона улучшилось во время этой комбинированной терапии, он даже согласился порисовать после одного из сеансов обертывания. Рисунки показали нечто любопытное. После второго сеанса Джон писал буквы и слова. После двенадцатой в рисунках появились намеки на тело: Джон нарисовал руку. Он нарисовал палочко-образную фигуру после шестнадцатой сессии и чуть более реалистичную после двадцать третьей. Как будто сеансы обертывания сближают Джона с его телом.
Коэн считает, что кататония у Джона и некоторые сенсорно-моторные расстройства при аутизме являются последствиями неспособности мозга правильно интегрировать различные чувства. Идея заключается в том, что мозг совмещает различные чувства, внешние и внутренние, такие как тактильные, зрительные, вестибулярные, проприоцептивные, чтобы создать телесное восприятие (чувство тела как сущности, телесную личность), которое становится затем основой обучения и поведения. Любое расстройство этого мультисенсорного единства не просто разрушает восприятие стимулов и тела, но и имеет поведенческие и когнитивные последствия.
Обертывания помогают перенастроить чувства, соединяя «тело с чувством тела» и «перезапуская осознание ребенком границ тела». Говоря на языке личности, обертывание помогает личности-субъекту сформировать чистое восприятие телесной личности, базовой составляющей личности-объекта.
Я спросил Сьюзан, как она к такому относится, учитывая ее опыт с Алексом. Она думает, что да. «Я считаю, что сложности Алекса с пониманием своего тела по отношению к его физическому окружению вызвали задержки в языковом развитии, в способности к самоорганизации, трудности в том, что касается творчества, воображения и социализации, – говорит Сьюзан. – Он изображал на рисунках человеческое тело так примитивно, потому что, возможно, не полностью чувствовал свои конечности».
Последствия проблем сенсорной интеграции, таким образом, могут вызывать также недостаток теории разума у детей с аутизмом. «Да, эта проблема у них есть. Разве у вас не было бы такой проблемы, если бы вы не чувствовали своего тела?» – такой риторический вопрос задала мне Элизабет Торрес, когнитивный психолог и специалист в вычислительной нейробиологии из Ратгерского университета.
Торрес выказывает нетерпение по поводу статус-кво, когда говорит об аутизме. По ее мнению, практика диагностики аутизма путем наблюдения и каталогизации поведенческих аберраций, «основанная на клинических наблюдениях с возрастающими критериями», не работает. Согласно Торрес, поведенческие расстройства, наблюдаемые у пациентов с аутизмом, являются результатом нестабильного восприятия тела. Все просто.
«Люди рассуждают о поведении в очень бестелесной манере, – говорит Торрес, – как будто это что-то эзотерическое, но поведение – это комбинация движений, непрерывная, как поток. Движения [в свою очередь], есть комбинация того, что мы совершаем с определенной целью, и того, что мы делаем, даже не подозревая об этом».
Значит, возможно увидеть в движениях детей с аутизмом намеки на глубинные проблемы? Торрес считает, что да.
Ее уверенность основана на измерениях движений детей с расстройствами аутического спектра. Торрес искала то, что она называет микродвижениями: едва видимые колебания в наших движениях. Например, если вы хотите дотронуться рукой до некой точки на экране, в определенный момент t после начала движения она достигнет пика движения v, а затем замедлится и остановится на экране. T и v – примеры параметров, которые описывают движение руки. Интересно, что у этих параметров есть крошечные вариации, или, по Торрес, микродвижения. Если вы дотронетесь до экрана сто раз, значения v и t каждый раз будут несколько меняться. Эти вариации параметров, описывающих наши движения, и значения, в пределах которых они колеблются, индивидуальны для каждого человека. Торрес утверждает, что эта вариативность микродвижений является чем-то вроде сенсорного ввода с периферии тела к центральной нервной системе.
Эта концепция восходит к работе Эриха фон Хольста и Хорста Миттельштедта, опубликованной в 1950 году. В контексте шизофрении мы наблюдали, как мозг копирует моторные команды, прогнозирует сенсорные последствия этих команд и сравнивает их с реальными ощущениями, чтобы сгенерировать чувство личной инициативы. Значит, мозгу приходится полагаться на отчет об ошибках от тела. Откуда точно исходит эта обратная связь? «Отчет об ошибке может исходить от кинестетических рецепторов в суставах, сухожилиях, чувствительных мышечных веретен. Сигналы от этих рецепторов могут определять, соответствует ли позиция руки в конкретный момент позиции, заявленной в моторной команде (эфферентной копии)… Ее использование предполагает выученную ассоциацию между моторной командой и кинестетическим сигналом».
Мозг использует кинестетические сигналы, чтобы построить устойчивое восприятие тела или внутреннюю модель тела, так чтобы оно могло эффективно выполнять моторные команды и верно прогнозировать последствия их выполнения. Это означает, что микродвижения несут важную информацию, как отношение сигнал/шум.
Когда Торрес изучила вариации этих микродвижений у детей с разными способностями и разного возраста, она обнаружила нечто интересное.
Соотношение сигнал/шум усиливается с возрастом. В возрасте трех-четырех лет типично развивающиеся дети имеют очень «шумные» кинестетические отчеты об ошибках. В возрасте четырех-пяти лет уровень шума сигналов снижается. У взрослых эти кинестетические сигналы надежны и предсказуемы. Однако аутизм влияет на эти изменения. Обратная связь от микродвижений крайне шумная, как в детском, так и во взрослом возрасте. Если мозг, как мы предполагаем, работает с внутренними моделями тела, тогда такие сигналы не помогают обновлять эти модели. Они предоставляют крайне мало информации о первоначальном поведении, на котором основано поведение в будущем. Как если бы ребенок с аутизмом пытался ощутить каждый свой жизненный опыт. «Именно так они и ощущают мир. Он все время новый для них. Они не получают опыта ощущений. Они не могут прийти к стабильному восприятию и предугадывать его», – говорит Торрес.
Личность-субъект не может сфокусироваться на личности-объекте.
Тело прикрепляется к личности-объекту, такова наша отправная точка.
Все, что мы воспринимаем, с этим связано. Согласно Торрес, сбой в развитии может исказить отправную точку, и в зависимости от того, когда этот сбой произойдет, он может привести к ошеломляющим последствиям в период взросления ребенка – что помогает объяснить ряд поведенческих симптомов, сливающихся с расстройством аутического спектра, от проблем с ощущениями до расстройств теории разума и сложностей во взаимоотношениях в обществе. «Если у вас нет точки отсчета и все вокруг для вас в новинку, нет никакого якоря, удерживающего вас, – говорит Торрес, – именно это, должно быть, происходит с людьми с аутизмом, получаемая ими информация о теле «шумная» и случайная. Мы проводили тщательные исследования, и это действительно так, это не зависит от моего мнения. Это то, что происходит с людьми с аутизмом, с каждым из них, и это состояние усугубляется с возрастом».
К счастью, считает Торрес, если распознать «шумы» вовремя при помощи объективных измерений, а не субъективных клинических наблюдений – вместе с разработкой методов лечения для тренировки тела и уменьшения «шума», – можно добиться хороших результатов.
Работа Торрес согласуется с идеей байесовского мозга, идеи того, что мозг может делать вероятностные выводы о возможных причинах сенсорных сигналов. Мы видели, как эта концепция применима к эмоциям и как она объясняет деперсонализацию. Эта же концепция применима к аутизму.
Если мы примем как данность, что главная задача тела – это выживание, то работа мозга (в тесном сотрудничестве с телом) – поддерживать тело в состоянии, в котором можно выжить. Для любого биологического организма выживание означает существование в ряде конечных физиологических состояний. Например, если взять внутренние параметры, такие как давление, сердцебиение, и внешние, такие как температура, и на их основании определить состояние тела, то окажется, что есть лишь ограниченный набор состояний, при которых эти параметры находятся в приемлемых пределах. Другими словами, «высока вероятность того, что [биологическая] система окажется в одном из нескольких состояний, и весьма невелика вероятность того, что она окажется в любом другом», – считает Карл Фристон из Университетского колледжа Лондона. Процесс жизнедеятельности в пределах, приемлемых для жизнеспособности, называется, как мы уже знаем, гомеостазом.
Фристон утверждает, что мозг достигает гомеостаза, минимизируя то, что он сам называет свободной энергией, позволяющей биологическим системам (да и любым другим) «сопротивляться естественной тяге к беспорядку». В контексте выживания в дикой природе системы, которые минимизируют свободную энергию, выживают, те, которые не минимизируют ее – погибают.
Фристон показал, что минимизирование свободной энергии для биологических систем эквивалентно минимизированию количества неожиданностей, с которыми она сталкивается в среде обитания. «Биологические агенты должны избегать неожиданностей, чтобы их состояние оставалось в физиологических пределах», – говорит он.
Итак, байесовский мозг избегает неожиданностей, создавая внутреннюю модель тела, окружающей среды и себя самого. Эта вероятностная модель, которая может сгенерировать ряд прогнозов об источниках сенсорных сигналов, основываясь на первичных убеждениях. Затем, имея актуальную сенсорную базу, мозг сообщает новые возможности своим прогнозам, и прогноз с наивысшей вероятностью – это то, что мы воспринимаем как причину ощущений. Конечно, теперь у мозга меняются первичные убеждения, обновленные согласно новым пониманиям тела, мозга и окружающей среды. Где же здесь место неожиданности? Если вы когда-нибудь оказывались в крайне неожиданном положении, опасном для вашего существования (Фристон приводит в пример рыбу, вытащенную из воды – для рыбы это очень неожиданное состояние), ваш мозг инициирует действие, подавляющее элемент неожиданности – действие либо преобразует внутренние модели, либо заставит тело двигаться (рыба, вытащенная из воды, будет извиваться всем телом, пока не доберется обратно в воду, изменение внутренних моделей ей не поможет). И чем больше противоречие между прогнозом мозга о природе сенсорных сигналов и реальными сенсорными сигналами, тем сильнее элемент неожиданности. Минимизировать неожиданность – это то же самое, что минимизировать прогностические ошибки – модели, созданные мозгом, будут соответствовать внешней и внутренней реальности.
Согласно Элизабет Торрес, при аутизме способность мозга менять первичные убеждения, основанная на реальных сенсорных сигналах, нарушена из-за высокого уровня «шума» и низкого уровня сигналов отчетов об ошибках. Поэтому люди с аутизмом могут жить с неожиданностью постоянно.
Из-за вечного элемента неожиданности мир для людей с аутизмом полон магии – правда, в плохом смысле слова, как утверждают Паван Синха из МТИ и его коллеги. Иллюзионисты полагаются на свое умение удивлять аудиторию. Когда люди не в состоянии предугадать следующее действие иллюзиониста, совершается чудо, зрители в изумлении. Но в реальном мире, если вы не можете устанавливать причинно-следственные связи, это может сильно осложнять жизнь. «В мире магии вы не можете контролировать процесс и приготовиться к тому, что вы увидите». А если прогностический механизм мозга поврежден, то могут возникать различные, на первый взгляд непохожие, симптомы, характеризующие расстройства аутического спектра, что согласуется с теорией Торрес.
Например, навязчивое отношение к повторяемости, одинаковости у детей с аутизмом. Неуверенность в окружающем мире вызывает тревожность даже у нейротипичных людей, тем более у людей с аутизмом.
Сьюзан рассказала о том, как это было с ее сыном Алексом и другими детьми в школе, у которых был аутизм. «Детей с расстройствами аутического спектра пугают любые перемены. Им нужна рутина и привычность. Они перечитывают одну и ту же книгу, смотрят по многу раз одни и те же фильмы, у них ограниченное меню из привычных блюд, они ходят в одни и те же рестораны, заказывают в меню одно и то же каждый раз, и так далее. Они нуждаются в предсказуемых схемах и должны быть уверены в своих ожиданиях».
Человек с аутизмом постоянно сталкивается с непредсказуемой средой, и его желание не отклоняться от привычного сценария поведения легко объяснимо необходимостью снизить тревожность, усилив предсказуемость.
Даже гиперчувствительность к свету, звуку и другим стимулам объяснима: неисправные механизмы прогнозирования причин внешних стимулов или несовершенство обновления первичных убеждений заставляют эти стимулы выглядеть каждый раз по-новому.
Не только проблемы сенсорного восприятия можно объяснить при помощи этой концепции. Синха и его коллеги также предполагают, что неисправность прогностического механизма мозга может привести к проблемам теории разума. Считывание разума другого человека родственно прогнозированию причин их наблюдаемого поведения (то есть их намерений и желаний). «Теория разума – это, в основном, прогностическая работа», – пишет Синха. Выражаясь языком науки, неисправный прогностический механизм является очень кратким объяснением аутизма.
С точки зрения личности неврологи и философы считают, что прогностический механизм способен объяснить даже те аспекты личности, которые считаются базовыми, пререфлективными и пренарративными.
«Мозгу приходится моделировать все, с чем он сталкивается, включая сам мозг. Это логично, если считать мозг статистической машиной. С этой точки зрения личность – лишь репрезентация, содержащаяся в мозге, так же как модели всех прочих объектов этого мира», – говорит философ Джейкоб Хоуи из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия).
Например, как мы уже знаем из главы о шизофрении, чувство личной инициативы является продуктом прогноза мозга. Мы также наблюдали, как явная связь с эмоциями может быть утеряна, если прогноз неверен, как при деперсонализации, когда мы отстраняемся от самих себя. И, как мы увидим в следующей главе, другие определяющие черты личности, например чувство «моего», чувство, что я обитаю в теле, которое ощущаю своим, – могут потенциально объясняться концепцией мозга как машины для выводов. Это, конечно, аннулирует теории, возводящие личность в приоритет. «Мы наблюдаем гибель теории [личности], – говорит Хоуи, – личность – это не более чем очередной сенсорный сигнал».
Итак, все, что составляет личность-объект – аспекты личности, воспринимаемые личностью-субъектом, – может мыслиться как восприятие, исходящее от прогностической машины мозга. Нейротипичны ли вы или же у вас аутизм – вы и есть лучшая догадка вашего мозга о причинах всех ваших внешних и внутренних сенсорных сигналов.
Здесь я остановлюсь. Я мысленно возвращаюсь к маленькому Алексу. Я знаю его почти с младенчества. Я думаю о двухлетнем Алексе, который так настаивал на одинаковости (в еде или в одежде), о том, как он выстраивал машинки в ряд и как его раздражало, если порядок нарушался. Он прятался от людей, не хотел, чтобы его держали на руках или обнимали. Было ли это поведение попыткой избежать неожиданности, доступным ему способом создать безопасную предсказуемую среду? Алекс преодолел некоторые страхи, вступив в отроческий возраст. Например, он позволяет обнять себя. Понимание, почему дети с аутизмом настаивают на предсказуемости и одинаковости, может помочь им в выстраивании социальных взаимодействий. Возможно, у аутистов измененное восприятие личности и проблемы с чтением разума других людей. Но разве не верно так же то, что у нейротипичных людей сложности с чтением аутичного разума? Коммуникация – это, по определению, двухполосная магистраль, даже тогда, когда в нее вступают потенциально различные разумы.
Глава 7
Когда вы вне себя
Внетелесные опыты, доппельгангеры и минимальная личность
Предположение [что]… Я есть, я существую, вне всякого сомнения, верно каждый раз, когда я это произношу… Но я все же не знаю точно, что я есть такое[22].
Рене Декарт
«Владение» телом, его ощущениями, его разными частями основополагающе для того, чтобы быть кем-то.
Томас Метцингер
Мой двоюродный племянник Эшвин, молодой человек тридцати одного года, недавно умер от рака мозга. Первые признаки надвигающейся беды появились в августе 2009 года. У Эшвина был серьезный приступ. Нейрохирурги в Нью-Дели обнаружили и удалили доброкачественную опухоль в левой височно-теменной доле. Через несколько месяцев после операции у него вновь начались приступы. Сканирования не показали ничего нового, ему назначили противосудорожные препараты. Эшвин научился распознавать начало приступа, обычно это ощущалось как покалывание в правой руке и ноге. Если это случалось, когда он был за рулем, он останавливался и делал несколько глубоких вдохов (как советовала его мать) и ждал, когда приступ пройдет. Спустя несколько минут обычно все проходило. В начале 2013 года он также ехал на работу, когда случилось нечто очень странное. Он припарковался и позвонил матери.
«Мам, я только что видел кое-что странное, – сказал он. – Я видел другого Эшвина перед собой». У него не было ни малейшего сомнения в том, что он видел и чувствовал: он увидел самого себя. Он даже знал, что чувствует его двойник. Тот другой Эшвин был сердит, возмущен, расстроен (таким он был, когда ему было около двадцати, по словам моей кузины). К счастью, двойник исчез, и Эшвин поехал дальше. Невролог приписал это странное видение приступу и назначил лечение.
Тем не менее в течение года состояние Эшвина ухудшилось. Опухоль вернулась, и на этот раз все было куда хуже. Это была злокачественная опухоль в левой лобно-височной доле, а метастазы распространились в левую островковую кору. Хирургическое вмешательство и лучевая терапия дали ему немного времени. Однако одним вечером Эшвина не стало.
То, что испытал Эшвин в то утро в своей машине, называется «эффект доппельгангера». Это комплексная галлюцинация, включающая в себя чувство, что есть другое, иллюзорное тело этого человека в пределах видимости, как и было в том случае. Эшвин оставался в своем физическом теле, а бывает и так, что в момент галлюцинации центр осознанности – ощущение нахождения в теле – смещается с физического тела на иллюзорное. Человек видит мир либо из физического тела, либо из иллюзорного, а иногда и переключается между ними. Другой яркой характеристикой эффекта доппельгангера является наличие сильных эмоций. Один из самых известных отчетов о доппельгангере в медицинской литературе рассказывает о молодом человеке, который спрыгнул с четырехэтажного здания, чтобы воссоединить личность с телом.
Более двадцати лет назад Питер Бруггер, будучи студентом отделения нейропсихологии в Университетской клинике (больнице) в Цюрихе (Швейцария), имел репутацию человека, интересующегося научным обоснованием так называемых паранормальных явлений. Знакомый невролог, лечивший от приступов молодого человека двадцати одного года, отправил своего пациента к Бруггеру. Юноша работал официантом и жил в Цюрихе; однажды он чуть не совершил самоубийство, столкнувшись с доппельгангером.
Это случилось, когда он перестал принимать противосудорожные препараты. Однажды утром он не пошел на работу, а, выпив изрядное количество пива, лег в кровать. Однако отдохнуть ему не удалось. Он почувствовал головокружение, встал, обернулся и увидел себя самого, лежащего в кровати. Он точно знал, что человек в кровати был не кем иным, как им самим, и с кровати вставать он не собирался, рискуя опоздать на работу. Рассердившись на самого себя, молодой человек кричал на себя, тряс, даже прыгал на себя, но безрезультатно. Все усложнилось, когда сознание начало перескакивать с одного тела на другое. Когда он вселялся в тело, лежащее на кровати, он видел, как двойник наклонялся над ним и тряс его. И тогда ему стало страшно: кто из этих двоих был он сам? Человек, который стоит, или же тот, который лежит в кровати. Не в силах определиться, он выпрыгнул в окно.
Когда я посетил Бруггера осенью 2011-го, он показал мне фотографию здания, из которого выпрыгнул молодой человек: ему очень повезло. Он выпал из окна четвертого этажа и приземлился на куст орешника, прервавшего его падение. Но он не собирался совершать самоубийство, по словам Бруггера. Он выпрыгнул из окна, чтобы «найти соответствие между телом и личностью». После лечения травм, полученных при падении, молодому человеку удалили опухоль в левой височной доле, и приступы и видения прекратились.
Доппельгангеры активно используются в литературе: начиная с «Уильяма Уилсона» Эдгара Аллана По, где Уильям, мучимый видением двойника, закалывает его, но понимает, что сам истекает кровью; и заканчивая Ги де Мопассаном и его рассказом «Орля», в котором главный герой убивает двойника, но в конце оплакивает его: «Ну да… ну да… это ясно… он жив… И значит… значит… мне остается одно – убить себя!..»[23] – в художественной литературе таких примеров много.
Подобные галлюцинации классифицируются как аутоскопические феномены (от греческих слов autos, что значит «себя», и skopeo, что значит «смотреть»). Простейшая форма аутоскопического феномена выглядит как ощущение присутствия кого-то рядом, так называемое ощутимое присутствие. Олаф Бланке, невролог Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), рассказал, что ощутимое присутствие похоже на фантомное тело: если фантомная конечность является ощущением наличия конечности, которую ампутировали, то ощутимое присутствие – это полнотелесный аналог.
Т. С. Элиот увековечил подобное внетелесное присутствие в поэме «Бесплодная земля»: «Кто он, третий, идущий всегда с тобой? / Посчитаю, так нас двое: ты да я»[24].
Как выяснилось, Элиот вдохновлялся отчетами исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона, который писал в своих дневниках, как он и другие члены экспедиции, Фрэнк Уорсли и Том Крин, на последнем этапе невероятно опасного и трудного предприятия по поиску отставших членов трансантарктической экспедиции начали ощущать присутствие четвертого человека. Шеклтон писал: «Я знаю, что во время этого долгого и трудного броска длительностью в тридцать шесть часов по безымянным горам и ледникам Южной Джорджии мне казалось, что нас было четверо, не трое. Поначалу я ничего не сказал своим товарищам, но затем Уорсли сказал мне: «Босс, у меня возникло любопытное чувство во время перехода, что с нами есть еще кто-то». В том же признался и Крин. Человеческая речь несовершенна, и язык смертных груб, когда речь идет об описании вещей нематериальных, однако записки о нашем путешествии будут неполными без описания того, что почувствовали все мы». Сейчас нам известно, что среди путешественников в условиях нехватки кислорода подобные описания присутствия другого человека – не редкость.
Аутоскопические феномены – это не только ощутимое присутствие. Они включают и эффект доппельгангера, при котором человек видит галлюцинацию в виде себя самого – визуального двойника. Часто галлюцинация весьма эмоциональная, а ощущение расположения переключается между реальным и иллюзорным телом, как было и с молодым пациентом Бруггера.
Возможно, самый распространенный и известный вид аутоскопических феноменов – это внетелесный опыт (ВТО). Во время классического полного ВТО люди, по рассказам, покидают свои физические тела и видят со стороны, например, с потолка смотрят на свое тело, лежащее в кровати.
Во время бесед с Мишель, чей муж Алан страдал от болезни Альцгеймера, я упомянул, что также пишу о внетелесных опытах. Оказалось, что еще до знакомства с Аланом Мишель такой опыт имела. Ей было около тридцати, она была беременна четвертым ребенком. Когда пришло время родов, она предпочла рожать дома в присутствии акушерки и терапевта. Ночью отошли воды, а наутро врач отправился в местную клинику за таблетками «Питоцина», чтобы ускорить схватки. Мишель положила таблетку под язык, и вскоре схватки начались. Она решила обойтись без обезболивающих. В самый разгар процесса, когда она выталкивала ребенка, боль стала невыносимой. Мишель почувствовала, как покидает свое тело. «Я буквально поднялась вверх под потолок и смотрела оттуда на все, что происходит внизу, – рассказала она, – я просто покинула свое тело. Было настолько больно, что я поднялась наверх и оставалась там, пока все не кончилось. Тогда я вернулась снова в свое тело. Это было очень странно». Она думает, что все это продолжалось около нескольких секунд, но спустя тридцать лет воспоминание было очень ярким. «Я не рассказывала об этом, – сказала она, – лишь нескольким людям, которые, как мне казалось, поймут меня».
Многие люди, имевшие подобный опыт, неохотно говорят о нем. ВТО дает человеку сильное чувство дуализма тела и разума: ваш центр осознанности, обычно прикрепленный к вашему телу, как будто находится в свободном плавании. Мы уже видели, что телесная личность является основанием чувства личности, а нарушения телесной личности могут вызывать BIID, шизофрению, а возможно, и аутизм. Во всех этих случаях центр осознанности остается привязанным к телу, как бы ни было искажено восприятие. ВТО смещает центр осознанности, по концепции дуальности Декарта. Но если вы пристально изучите ВТО, выяснится, что дуальность есть иллюзия, результат того, что мозг не справился с корректной интеграцией всех сигналов тела. Несмотря на яркость ощущений, ВТО являются галлюцинациям, вызванными сбоями в механизмах мозга, и разбор этих механизмов поможет нам выяснить, как мозг конструирует личность.
В Университетской клинике (больнице) в Цюрихе Питер Бруггер попытался внушить мне в игровой форме внетелесную иллюзию. Мы шли по коридору госпиталя. На мне были очки виртуальной реальности. Бруггер шел, отставая от меня примерно на метр, снимая меня при помощи веб-камеры моего ноутбука и загружая видео в очки виртуальной реальности. Поэтому я не видел, куда я иду, а видел себя как бы сзади, с небольшого расстояния. Наверное, это было занятное зрелище для интернов и персонала больницы. Бруггер, похожий на безумного профессора в белом халате, с всклокоченными седыми волосами, державший на вытянутых руках ноутбук; и я бреду вслепую перед ним.
Эксперимент нельзя было назвать идеальным. Нам бы следовало использовать хорошую камеру, а у нас ее не было, а еще не помешали бы провода подлиннее, так чтобы Бруггер шел дальше от меня. Но я все равно чувствовал себя очень странно, наблюдая за самим собой сзади.
В 1998 году Бруггер впервые провел этот эксперимент, тогда он носил очки виртуальной реальности целый день, а его компаньон шел за ним на расстоянии трех с половиной метров, снимая на видеокамеру. И если Бруггер срывал цветок или клал письмо в почтовый ящик, он видел это действие со стороны. «Это было очень странно. Я вообще не понимал, где я нахожусь, – рассказывал он. – Я был в большей степени там, где видел действие, нежели там, где я на самом деле находился и это действие производил». Бруггер испытал внетелесную иллюзию: ощущение локации сместилось на несколько футов из физического тела в виртуальное.
Но Бруггер никогда не ставил подобного эксперимента в лабораторных условиях и не публиковал результаты, хотя эксперимент удостоился упоминания в статье в журнале Science.
Эксперимент был вдохновлен американским психологом Джорджем Малькольмом Страттоном (1865–1957). Страттон провел большую часть своей карьеры в Университете Калифорнии, Беркли. Он в основном известен благодаря «возможно самому известному эксперименту в истории экспериментальной психологии». Страттон собрал хитроумный прибор, который давал ему возможность видеть все перевернутым. Он расхаживал, прикрепив устройство на правый глаз. Он закрыл левый глаз, потому что перевернутое изображение на обоих глазах дезориентировало бы его полностью. На протяжении трех дней и 21,5 часа он только и делал, что ходил с этим приспособлением. Ночью, ложась спать, он заклеивал глаза, чтобы они были закрыты. Основным мотивом для эксперимента было понять визуальное восприятие, Страттон также испытал некоторые изменения в телесном восприятии. Например, если он протягивал руку, чтобы дотронуться до чего-либо, то из-за того, что он видел мир перевернутым, рука появлялась в поле зрения сверху, а не снизу. Вскоре «части моего тела… виделись совсем в другом положении».
Страттон понял, что это кое-что значит. В 1899 году он опубликовал исследование, в котором описал свой безумный эксперимент, на этот раз с зеркалами. Он собрал раму, прикрепив ее к поясу и плечам. Рама была расположена горизонтально над его головой. На эту раму крепилось еще одно зеркало перед глазами под углом 45 градусов, так что в нем отражалось изображение от зеркала, расположенного горизонтально над головой. Получалось, что Страттон видел себя так, как кто-то мог бы видеть его сверху. Он сделал так, чтобы никакого другого изображения его глаза не видели. И вновь, он проходил с таким прибором три дня, на время сна закрывая глаза шорами. Так он добился дисгармонии между видимым и осязаемым. Протягивая руку, чтобы дотронуться до чего-либо, он ощущал прикосновение, но глаза говорили, что прикосновение было где-то в другом месте. Задачей мозга было согласовать этот новый опыт, что имело интересные последствия.
Из-за того что Страттон видел свое тело сверху и больше не видел ничего, ему нужно было уделять пристальное внимание этому визуальному образу, чтобы направлять свои действия и движения. К середине второго дня он начал ощущать, что отражение иногда ощущается как его собственное тело. Ощущение усилилось на третий день, особенно когда он двигался легко и уверенно, не прилагая особых усилий, чтобы различать, где находится его телесное восприятие и где оно «должно» находиться по его мнению. «В самом расслабленном положении во время моей прогулки я ощущал, что разумом я был вне своего тела», – писал он. Страттон ввел себя во внетелесный опыт.
Внетелесный опыт, аутоскопические галлюцинации и доппельгангеры, возможно, дают нам лучшую возможность взглянуть на базовые аспекты нашего чувства телесной личности. Сегодня мы все яснее понимаем, что репрезентации тела и нашего сознательного опыта в мозге являются основой самосознания. Обладание телесной личностью или чувством воплощения означает следующее. На самом базовом уровне именно здесь находится наш центр осознанности. Вы находитесь в теле, которое ощущается вами как ваше – это и есть чувство самоидентификации и обладания телом. Вы также чувствуете, что это тело занимает определенный объем в физическом пространстве, и вы располагаетесь в этом объеме – это чувство саморасположения. Наконец, вы смотрите на внешний мир из точки, располагающейся у вас за глазами, и у вас есть чувство, что эта смотровая точка ваша и только ваша – вы смотрите на мир от первого лица.
Иллюзия с резиновой рукой – классический пример того, как могут быть искажены аспекты телесной личности. Как мы видели в главе 3, когда экспериментатор ударяет по видимой резиновой руке и по спрятанной реальной руке одновременно, резиновая рука временно встраивается в телесную личность испытуемого. Мы ощущаем прикосновение на месте расположения резиновой руки и испытываем чувство обладания по отношению к этому неживому объекту.
Хенрик Эрссон и его коллеги из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) подверг испытуемых иллюзии резиновой руки во время МРТ сканирования. Он обнаружил следующее. Длительность иллюзии связана с активностью премоторной коры, области мозга, которая формирует сеть с мозжечком и теменными областями, отвечающими за зрение и тактильные ощущения. Некоторые теменные области мозга объединяют зрение, осязание и проприоцепцию, и известно, что люди с поражениями теменных областей склонны к тому, чтобы отрицать обладание конечностями.
Нейробиологи думают, что так называемые мультисенсорные объединения различных ощущений отвечают за чувство обладания телом и частями тела. Обычно зрение, осязание и проприоцептивные ощущения объединены и находятся в соответствии друг с другом. Они конгруэнтны, и эта конгруэнтность и дает телу ощущение «моего». Во время иллюзии резиновой руки проприоцептивные искажения минимизируются благодаря тому, что реальная рука расслаблена и находится недалеко от резиновой руки. Мозг ошибочно интегрирует вводящие в заблуждение визуальные образы и реальные ощущения прикосновения и решает, что резиновая рука реальна. Поэтому мы можем утратить чувство обладания реальной рукой и приобрести чувство обладания резиновой рукой. Переключение обладания имеет определенные физиологические последствия: например, температура реальной руки падает на целый градус (1 по Цельсию, 2 по Фаренгейту) – таков ответ автономной нервной системы, которая неподвластна сознательному контролю.
В лаборатории Эрссона я впервые подвергся иллюзии резиновой руки (до этого у меня не получалось). Арвид Гутерстам, ассистент в лаборатории Эрссона, подготовил все для проведения иллюзии. Он сотни раз такое проделывал, так что считался своего рода экспертом. Я в полной мере ощутил обладание резиновой рукой. А потом он сделал нечто такое, что меня поразило. Когда я начал ощущать прикосновение кисти к резиновой руке, он приподнял кисть на пару дюймов, и Арвид продолжил двигать ею синхронно с движением кисти, прикасавшейся к моей настоящей руке.
«Это еще что? – спросил я. – Что происходит? Это и впрямь странно».
Он двигал кистью в воздухе над резиновой рукой, а я ощущал прикосновения.
Оказывается, что нейроны в премоторной коре имеют так называемое рецептивное поле – они активизируются, не только когда дотрагиваются до тела, но и когда дотрагиваются до приблизительного пространства вокруг части тела (это называется «периферийное пространство»). Мой мозг перемоделировал карту размещения моей руки в соответствии с резиновой рукой. Место вокруг резиновой руки стало мои периферийным пространством, и, следовательно, прикосновение кисточкой в пространстве над резиновой рукой регистрировалось как прикосновение к периферийному пространству.
Команда Эрссона также доказала, что, чтобы ощутить эту иллюзию, вам даже не понадобится резиновая рука: движение кисти по спрятанной реальной руке вместе с синхронными движениями кисти в пустоте достаточны, чтобы сгенерировать иллюзию того, что до вас дотрагиваются в том месте, где не находится ваша рука.
Оставив в стороне научные объяснения, я честно признался, что очень рад, что наконец-то испытал эту иллюзию на себе.
«А ваш мозг легко провести», – сказал Гутерстам.
Обман мозга, который принимает резиновую руку за свою собственную, – лишь одна частица пазла телесного самосознания. Рука – лишь одна из составляющих телесной личности. Можно ли ввести мозг в еще большее заблуждение относительно телесной личности? Оказывается, можно.
Будучи молодым человеком в конце 70-х – начале 80-х годов, Томас Метцингер не хотел рассказывать кому-либо о своем внетелесном опыте. Это произошло, когда он учился на философском факультете и интересовался измененными состояниями сознания. Он посещал закрытый медитационный лагерь в Вестервальде в 96 километрах к северо-западу от Франкфурта (Германия). Десять недель подряд сплошная йога, дыхательные практики и медитации – индивидуальные и групповые. Метцингер самозабвенно выполнял все, что от него требовалось. Однажды в четверг организаторы испекли пирог в честь дня рождения одного из учителей. Отличный пирог, правда, он был жирноват. Метцингер съел кусочек. Потом ему стало нехорошо, и он отправился в кровать и заснул.
Он проснулся, хотел почесать спину, но оказалось, что он не может пошевелиться. Его тело было парализовано. Тогда он почувствовал, как по спирали выходит из своего тела, поднимается наверх и останавливается перед кроватью. Было темно, так что своего тела в кровати он не видел толком. Он был напуган, но то, что произошло потом, было еще страшнее.
Внезапно он осознал, что в комнате был кто-то еще, он слышал тяжелое дыхание. «И тут я запаниковал, – рассказывал мне Метцингер, сидя за столом в своем сельском доме в Германии, в нескольких десятках километров восточнее Франкфурта. – Кто-то был рядом; я не мог пошевелиться, я был оторван от своего тела. Это все было очень неприятно». Конечно, на самом деле никого в комнате не было, и лишь спустя многие годы Метцингер обнаружил объяснение такому явлению в научной литературе. Оказывается, в некоторых диссоциативных состояниях вы неспособны распознать звуки, которые вы издаете, как свои собственные, самогенерируемые. В случае Метцингера он утратил чувство обладания звуком своего дыхания, испытывая галлюцинацию, что кто-то дышит рядом с ним.
Метцингер оповестил своих инструкторов по медитации, но, к его разочарованию, ему порекомендовали принять холодный душ и меньше медитировать (сегодня, будучи сторонником медитативных практик, Метцингер уверен, что многие центры медитации не обучают персонал справляться с состояниями измененного сознания или психиатрическими трудностями).
Вскоре Метцингер переехал в отдаленный регион к югу от Лимбурга, чтобы сконцентрироваться на докторской диссертации о проблемах тела и разума, а также чтобы намеренно, ради личного интереса, столкнуться с последствиями уединения и скуки. Будучи бедным студентом, он не мог позволить себе позвать друзей и жил один в 350-летнем доме, ухаживая за овцами и девятнадцатью рыбными садками. Он много медитировал. И у него были другие случаи спонтанного внетелесного опыта. Но теперь любопытство и аналитический склад ума взяли верх: он хотел понять природу этого опыта. Изучение научной и философской литературы не дало никаких свидетельств того, что сознание может быть отделено от мозга. Но его опыт говорил об обратном, о ярком, несомненном дуализме, при котором его сознание было отделено от тела. И он никому не мог рассказать об этом, кроме близких друзей.
Итак, начинающий когнитивист застрял в эмпирических данных, он пытался управлять своими экспериментами, находясь в измененном состоянии, чтобы выяснить, могут ли мозг и сознание реально быть разделены и можно ли прийти к доказательным достоверным наблюдениям. Он научился контролировать страх во время внетелесных опытов, хотя и не полностью. Несмотря на все усилия, он так и не получил доказательств того, что его сознание было отделено от мозга.
Тем временем он общался с другими исследователями. Один британский психолог, Сьюзан Блэкмор, после бурных обсуждений почти убедила его, что внетелесный опыт не что иное, как галлюцинация. Она допрашивала его, как именно он выходил из физического тела, лежавшего в кровати, как двигался? Шел? Летел? Метцингер понял, что эти движения не были похожи ни на какие другие, реальные. «Иногда это происходит так: стоит вам подумать о том, что вы хотите оказаться в каком-то месте, как тут же оказываетесь там», – говорил он. Блэкмор утверждала, что это была галлюцинация и он передвигался между ментальными репродукциями, скажем, кровати и окна, паря и перепрыгивая от точки к точке мысленно. Метцингер осознал, что двигался он не в своей спальне, а во внутренней модели спальни, созданной мозгом.
Другой странный случай еще больше утвердил его в мысли, что он галлюцинировал. У него был внетелесный опыт, а когда он вернулся в свое тело, то побежал разбудить сестру, чтобы рассказать ей. «Сейчас без четверти три, ты до завтрака подождать не мог?» – сказала сестра. А затем сработал будильник, и он проснулся – снова. Он был не в родительском доме с сестрой. Он лег вздремнуть днем в доме, который делил с четырьмя другими студентами. Исследователи сна называют это «ложное пробуждение»: вам снится, что вы проснулись. Но до ложного пробуждения ему снилось, что у него был внетелесный опыт. «Меня озарило: существуют множественные переходы между разного рода измененными состояниями сознания», – говорит он. Его внетелесный опыт был настолько ярким, что даже начал ему сниться.
Внетелесные опыты Метцингера прекратились после шестого или седьмого раза. Но они дали его мышлению информацию о том, как его мозг мог вызывать их и что это сообщает нам о личности. Так появилась его монография «Быть никем. Теория субъективности и «Я-модели»». Этот труд привлек внимание Олафа Бланке, невролога, с которым я познакомился в Федеральной политехнической школе Лозанны.
В 2002-м Бланке стимулировал внетелесный опыт у пациентки сорока трех лет. Он лечил ее от устойчивой к медикаментам височной эпилепсии. Сканирование мозга не выявило никаких поражений, и Бланке прибег к хирургическому вмешательству, чтобы обнаружить очаг эпилепсии. Хирурги установили электроды внутрь черепа, чтобы записать активность корковой поверхности напрямую, а не с внешней стороны черепа, как при обычной ЭЭГ. Женщина дала согласие, чтобы во время процедуры ее мозг стимулировали, используя имплантированные электроды. Подобная техника позволяет хирургам, во-первых, обнаружить причину приступов, а во-вторых, убедиться, что они не иссекают жизненно важную область мозга. И это не все. Процедура, впервые примененная Уайлдером Пенфилдом, часто является лучшим способом выяснить, как функционируют различные области мозга; многое из того, что нам известно о работе мозга, открылось благодаря отважным пациентам, позволившим стимулировать свой мозг. Во время такой процедуры Бланке обнаружил, что один из электродов, расположенный на прямоугольной извилине, во время стимуляции вызывал у пациентки странные ощущения.
Когда уровень стимуляции был низким, она говорила, что проваливается в кровать или падает с высоты; когда Бланке увеличивал силу тока, у нее начинался внетелесный опыт: «Я вижу себя сверху, я лежу в кровати», – говорила она. Прямоугольная извилина находится рядом с вестибулярной корой (которая получает сигналы от вестибулярного аппарата, отвечающего за положение тела и чувство равновесия). Бланке сделал вывод, что электростимуляция как-то нарушает объединение различных ощущений с вестибулярными сигналами, что приводит к внетелесному опыту.
Следующим этапом в изучении внетелесного опыта под контролем стала попытка стимулировать версию иллюзии резиновой руки на всем теле у здоровых испытуемых в лабораторных условиях. В 2005 году Метцингер предложил провести подобный эксперимент. Он объединился с Бланке и его студенткой Биньей Ленггенхагер. Оборудование для опыта было довольно простым. Камера снимала испытуемого сзади, а изображение транслировалось на 3D-дисплей, который был установлен на голове испытуемого. Испытуемый видел лишь то, что было на дисплее, то есть заднюю часть своего тела в 3D, и примерно два метра впереди себя (по аналогии с резиновой рукой, которую вы видите вместо настоящей руки). Экспериментатор дотрагивается палкой до спины испытуемого. Испытуемые чувствуют прикосновение, но также видят, что до них дотронулись, на дисплее. Прикосновение было синхронно или несинхронно с изображением (чтобы он было несинхронным, видео транслировалось с небольшой задержкой, так чтобы испытуемый сначала ощущал прикосновение, а затем видел, как дотрагиваются до его виртуального тела спустя мгновение). И поскольку за образец была взята иллюзия резиновой руки, то и результат был похожим. При синхронном прикосновении многие испытуемые (хотя и не все) говорили, что чувствуют прикосновение к виртуальному телу, находящемуся за два метра от них, и что виртуальное тело ощущалось как их собственное.
Спустя несколько лет команда Бланке подняла ставки. Они соорудили установку, позволявшую им управлять экспериментом внутри сканера. Испытуемый лежал, а роботизированная рука дотрагивалась до его спины. Тем временем испытуемый видел на экране, установленном на его голове, как человека гладят по спине. Движения руки робота были синхронными или несинхронными с видео на дисплее. И снова у некоторых испытуемых чувство расположения и чувство обладания телом сместились. Самый интересный отзыв был от одного из испытуемых, который сообщил, что «смотрел на свое тело сверху» несмотря на то, что испытуемый лежал под сканером лицом вверх.
«Для нас это было крайне интересно, поскольку ситуация была приближена к реальному внетелесному опыту, во время которого вы смотрите на свое тело сверху вниз», – говорит Ленггенхагер, которая теперь работает в команде Питера Бруггера в Университетской клинике в Цюрихе.
Испытуемые подверглись сканированию во время этого опыта, и сканирования обнаружили, что их ощущение бытия вне тела коррелировало с активностью височно-теменного соединения (ВТС), места, в котором соединяются осязание, зрение, проприоцепция и вестибулярные сигналы. Так и было получено объективное доказательство того, что локация личности – то место, в котором вы воспринимаете свою личность – имеет отношение к нейронной активности в ВТС.
Когда я был в Лозанне, студент Бланке Петр Макку предложил мне испытать эту иллюзию на себе, и я согласился с радостью, поскольку это отчасти была цель моего визита. Он использовал то же оборудование, кроме сканера. Но, вероятно, я был слишком уставшим (ведь я только приехал из Парижа) и, возможно, ожидал слишком многого, но иллюзия на меня не подействовала. Другое объяснение заключается в том, что иллюзия имеет слабый эффект на все тело и не действует одинаково на всех. Я, впрочем, почувствовал себя странно, но на этом все.
Другую полноценно-телесную иллюзию на мне продемонстрировал Хенрик Эрссон в лаборатории в Стокгольме (где мне удалось успешно почувствовать иллюзию резиновой руки). В этот раз я стоял напротив полноразмерного манекена, вытянув руки по швам так же, как и он. У манекена в глазах были камеры, и он смотрел вниз на свои живот и руки. Видео с камеры транслировалось на монитор, закрепленный на моей голове. Поэтому я тоже видел живот и руки манекена. Арвид Гутерстам, эксперт по резиновым рукам, снова проводил манипуляции: двумя кисточками он дотрагивался одновременно до моего живота и рук и до живота и рук манекена. Когда он дотрагивался до живота, ничего особенного не происходило (уже кое-что для моего мозга, который так легко провести), но спустя пару мгновений, когда он дотрагивался до моих пальцев, я ощущал прикосновение к пальцам манекена. Я идентифицировал пальцы манекена как свои собственные, хоть и не весь манекен как свое тело.
Хенрик Эрссон и его команда проводили похожий эксперимент под сканером, и испытуемые говорили, что принимали манекен за свое тело. Сканирование показало, что активность вентральной премоторной коры в обоих полушариях, а также активность левой внутритеменной коры и левой скорлупы была связана с ощущениями обладания телом, самая сильная корреляция наблюдалась в вентральной премоторной коре. Исследования макак показали, что нейроны в этих областях также объединяют зрение, осязание и проприоцепцию.
Из этих исследований понятно, что аспекты нашего чувства личности, которые мы принимаем как должное, чувство обладания телом, чувство расположения этого тела и даже точки обзора личности могут быть нарушены даже у здоровых людей.
Становится также ясно, что локация личности, самоидентификация, обзор от первого лица – результаты объединения разными мозговыми областями разных ощущений – осязательных, зрительных, проприоцептивных и вестибулярных, конструирующих данные аспекты личности. Например, в лабораторной версии иллюзии Эрссона можно было манипулировать чувством обладания телом и определить соответствующие мозговые области (в основном это была вентральная премоторная кора). Лабораторная версия Бланке была связана с обзором и расположением, что отчасти объясняет, почему активность была зафиксирована в другой области мозга – ВТС.
Неважно, впрочем, в каких точно областях мозга это происходит, главное то, что атрибуты расположения личности, самоидентификации, обзора от первого лица конструируются мозгом. Мозг создает точку отсчета с центром в теле, и все, что мы воспринимаем, привязано к этой точке отсчета.
Итак, речь идет об объединении различных внешних ощущений с ощущениями, говорящими мозгу об ориентации тела в пространстве и расположении частей тела. Но есть и другой важный источник ощущений – то, что мы обычно не осознаем, – сигналы изнутри тела, особенно от внутренних органов (например, сердцебиение, давление, состояние пищеварительной системы). Мы наблюдали в других главах, как эти внутренние ощущения связаны с эмоциями и чувствами и как неполадки в этой связи могут вызывать деперсонализацию и ощущение отчуждения от своего тела. Оказывается, чтобы прикрепить личность к телу, мозгу нужно объединить сигналы изнутри тела с внешними ощущениями, а также с ощущениями положения в пространстве и равновесия. Когда что-то не так с областями мозга, объединяющими эти сигналы, результатом может оказаться не только внетелесный опыт. Например, это может привести к эффекту доппельгангера, который испытал Эшвин, сидя в машине, и который заставил пациента Бруггера выпрыгнуть из окна четвертого этажа.
Самый удивительный аспект эффекта доппельгангера – сильные эмоции. Из всего, что я читал, самым эмоциональным был опыт Криса: его двойник общался с его братом, недавно погибшим от СПИДа.
Крис вырос в районе залива Сан-Франциско. Он был на семь лет старше своего брата Дэвида. Детьми Крис и Дэвид частенько дрались, «как и все братья». Пока Крис не переехал из родительского дома, братья и не подозревали, что будут так сильно скучать друг по другу. В последующие десять лет они очень сблизились. Между ними была химия как в кино; они были как «Мартин и Льюис в одной семье», Дэвид был Джерри Льюисом, а его старший брат – Дином Мартином[25]. Они вечно подкалывали друг друга. Вечно заключали бредовые пари. Один раз Дэвид поспорил, что съест килограммовую головку чеддера в один присест – вся семья собралась за кухонным столом поглядеть, как Дэвид запихивает в себя сыр, истерически смеясь и плюясь сырными крошками.
Они безжалостно разыгрывали друг друга. Крис вспоминает, как однажды довел-таки Дэвида. Дэвид, который в ту пору носил дреды, сидел и смотрел телевизор. Крис чинил водонагреватель во дворе и вдруг заметил елгарию, большую ящерицу, типичную обитательницу Калифорнии. Крис поймал ящерицу и посадил в карман. Придя домой, он незаметно прошмыгнул за спиной Дэвида и сунул ящерицу ему в дреды.
Дэвид знал, что Крис что-то замышляет, но такое ему и в голову не пришло бы. «Ящерица решила спуститься. Она пробежала по его голове, по лицу и прыгнула на грудь. Мой брат заорал и подскочил, – рассказывал Крис. – Клянусь, он прямо-таки взлетел на полметра вверх! Он бегал по комнате и орал». Когда Дэвид понял, в чем дело, он тоже стал смеяться, а потом все провели незабываемые сорок пять минут в поисках ящерицы. Они, кстати, ее так и не нашли.
Когда Дэвиду исполнилось шестнадцать, он попросился к Крису на выходные. Это было на него не похоже, и Крис понял, что что-то случилось, у него даже были кое-какие подозрения. Ближе к концу своего визита Дэвид, заметно нервничая, сказал: «Крис, мне надо тебе кое-что сказать». Крис высказал готовность слушать.
«Я гей», – сказал Дэвид.
«Да ладно, я знаю», – ответил Крис.
«Что? Ты знаешь?»
«Я это знаю с тех пор, как тебе исполнилось девять, братишка. Как я мог этого не знать?» – сказал Крис.
В конце концов Дэвид открылся родителям, они были в шоке, особенно мама. Крис яростно защищал его, спрашивал, есть ли для них разница между ним, «правильным сыном», и Дэвидом. «Это их сильно покоробило», – рассказал мне Крис. Но вскоре семья воссоединилась.
Несколько лет спустя Дэвид сказал Крису, что заразился ВИЧ. «Он связался с тусовкой в Сан-Франциско, – рассказывал Крис. – Сами знаете, что могло происходить в Сан-Франциско в конце 70-х – начале 80-х». Тогда началась эпидемия ВИЧ/СПИДа, лекарства против ВИЧ были неэффективны. Дэвид знал, что умирает, и попросил Криса написать речь для его похорон.
«Ты не можешь умереть. Я же останусь один, – говорил ему Крис. – У Мартина не будет Льюиса». Даже сейчас, спустя десятилетия, голос Криса дрожит, когда он рассказывает об этом; он не в силах сдержать свою скорбь.
Дэвид умер в окружении родных. Крис и его отец держали речь на похоронах: отец говорил очень серьезно, а Крис рассказывал истории в духе Мартина и Льюиса. По желанию Дэвида на похоронах волынщик в килте играл «Великую благодать» до самого конца погребальной службы.
Два месяца спустя как-то ранним утром Крис проснулся. Он встал с постели, дошел до шкафа. Он потянулся, обернулся и испытал самый страшный кошмар в своей жизни.
«Меня как током ударило, – вспоминает Крис, – потому что я все еще лежал в постели и спал. Я видел совершенно ясно, что это был я. Моей первой мыслью было, что я умер. Я умер, и вот она, загробная жизнь. Я задыхался. Голова у меня кружилась».
И тут раздался телефонный звонок.
«Я не знаю почему, но я снял трубку и сказал: «Алло!». Это был Дэвид. Я его сразу узнал. Я был ошеломлен, и в то же время я очень обрадовался». Но Дэвид не мог долго говорить. «Он сказал мне, что у него мало времени и он просто хотел сообщить, что у него все хорошо, передал привет семье и повесил трубку», – рассказывает Крис.
«А затем было такое мерзкое ощущение, – рассказывает Крис, всхлипывая, – как будто меня потащили и швырнули обратно в кровать, кинули в меня самого». Он проснулся с криком. Его жена Соня, спавшая рядом, тут же проснулась и обнаружила его в истерике.
«Я был в ужасе, весь трясся, весь был в холодном поту, мое сердце бешено колотилось», – рассказывает Крис.
Крис был воспитан в духе рационализма. Его отец известный ученый. Воспитание Криса шло вразрез с подобным опытом. «Мое сердце подсказывало мне, что это весточка от Дэвида, что он хочет сказать мне, что с ним все хорошо. Я верил, что он как-то общается со мной с того света, – говорил Крис. – Но мой интеллект подсказывал мне, что верить в это глупо. Но доводы рассудка здесь бессильны, все было настолько реально».
То, что испытал Крис, было крайним проявлением эффекта Доппельгангера, в неврологии это явление также называют аутоскопией (или хеаутускопией). Она отличается от внетелесного опыта.
При внетелесном опыте личность, или центр осознанности, оказывается оторванной от физического тела. Личность идентифицирует себя с другим расположением в пространстве и другим обзором. Физическое тело обычно воспринимается как безжизненное.
При аутоскопии вы видите иллюзорное тело, а ваш центр осознанности может переключаться из физического тела в иллюзорное и обратно – локация личности и самоидентификация приобретают некий объем в пространстве, и этот объем сконцентрирован либо в физическом, либо в иллюзорном теле. Так же переключается и точка обзора. В случае Криса он был в иллюзорном теле, а затем вернулся в свое физическое тело. Но в других случаях, как было с молодым пациентом Бруггера, переключение может происходить много раз в течение галлюцинации.
Другие важные составляющие аутоскопии – наличие сильных эмоций и активность сенсорно-моторной системы. «Обычно двойник двигается, происходит взаимодействие, обмен эмоциями, мыслями, это и создает ощущение доппельгангера», – говорит невролог Лукас Хайдрих, с которым я познакомился в Лозанне.
Чтобы понять различия нейронной активности в ситуации, когда вы просто видите двойника, оставаясь при этом в физическом теле, и ситуации, когда вы взаимодействуете с двойником и ваша точка обзора переключается на него, Хайдрих и Бланке решили исследовать пациентов с повреждениями мозга, также испытавшими феномен аутоскопии. В 2013 году они опубликовали результаты самого масштабного на тот момент исследования подобного рода.
Пациенты, испытывавшие аутоскопические галлюцинации, имели повреждения затылочной коры. Хайдрих и Бланке предположили, что простое визуальное воплощение двойника не свидетельствует о расстройстве телесной личности, поскольку самоидентификация, локация личности, обзор от первого лица остаются неизменными. Такая галлюцинация, скорее всего, результат потери связи между визуальными и соматосенсорными сигналами.
Пациенты, испытавшие аутоскопическую галлюцинацию, напротив, имели повреждения левого заднего островка и прилегающих областей коры головного мозга. Из того, что аутоскопия подразумевает сильные эмоции, можно сделать вывод, что здесь задействована островковая кора. Мы знаем, как при деперсонализации сниженная активность островка коррелирует с симптомами сниженной эмоциональности (вспомним Николаса с татуировками из Новой Шотландии). Островок объединяет визуальные, аудиальные, сенсорные, моторные, проприоцептивные и вестибулярные сигналы с сигналами от внутренних органов. Это область мозга, в которой находятся репрезентации состояний тела, и эти репрезентации представляются нам субъективными ощущениями.
Хайдрих и Бланке предположили, что неполадки в объединении сигналов в островке приводят к эффекту Доппельгангера. Если все работает как надо, островковая кора, особенно в передней части, предположительно создает субъективные ощущения тела – включая эмоции и действия. Когда в объединении сигналов обнаруживается сбой, возникает как бы две репрезентации тела вместо одной, и мозг вынужден выбрать, к какой из них прикрепить личность, или, иными словами, выбрать, в какую из репрезентаций поместить локацию личности, самоидентификацию и обзор от первого лица. Галлюцинация происходит, когда эти три параметра, определяющие базовую телесную личность, переключаются между репрезентациями тела, одна из которых находится не в физическом теле.
Метцингер и Бланке считают, что изучение этих расстройств телесной личности помогают им определить базовые атрибуты, нужные нам, чтобы ощущать себя воплощенной личностью – они называют это минимальной феноменальной личностью. Во-первых, утверждают они, чувство личной инициативы не является основополагающим для минимальной феноменальной личности, поскольку можно создать ощущение бытия тела в другой локации простым поглаживанием по спине и смещением визуального сигнала. Никакой личной инициативы здесь нет. «С философской точки зрения важно выяснить, что первично и что вторично для самосознания, – говорит Метцингер. – Мы доказали, что первично совсем не то, что считают первичным большинство людей, а именно личная инициатива».
Скорее, минимальная феноменальная личность – это более примитивная форма телесной личности. Метцингер утверждает, что чувство воплощения является пререфлективной, прелингвистической формой личности, возникающей задолго до того, как у нас появляется способность использовать личные местоимения и говорить «я думаю». Здесь нет нарратива, всего лишь у организма есть чувство бытия в теле. Следующая стадия наступает, когда примитивная личность, которая является просто воплощением, превращается в личность-субъект. «Если вы не только чувствуете, что у вас есть тело, но и можете контролировать свое внимание, обращая внимание на тело, это уже более сложная форма личности, – говорит Метцингер. – Тогда у вас уже есть точка обзора, нечто, направленное в мир, нечто, что можно направить и на себя. Это больше чем просто воплощение».
Мы сейчас подобрались к самому важному моменту в дискуссии о личности. Философов и нейробиологов волнует вопрос субъективности личности. Откуда она берется? Как можно предположить, мнения различны. Например, Бланке не согласен с Метцингером по поводу того, что внимание к телу необходимо для настоящей субъективной личности. Бланке считает, что личность, вырастающая из комбинации чувства обладания телом, локации личности, обзора от первого лица, не должна зависеть от внимания к телу. У нас нет эмпирических данных, чтобы разобраться в этих нюансах. И все же, несмотря на эти разногласия, есть надежда, что изучение аутоскопических феноменов приблизит нас к пониманию «Я» и личности-субъекта.
Почему минимальная феноменальная личность развивается в первую очередь? Вероятно, такова эволюционная адаптация, позволяющая организму лучше ориентироваться и функционировать в окружающем мире. Если мозг развивался, чтобы помочь телу избежать неожиданностей и оставаться в гомеостатическом равновесии, эффективно передвигаясь по окружающему миру, то репрезентация тела в мозге являлась необходимой ступенью для настройки этих способностей. В конце концов, эта репрезентация стала сознательной, позволяющей организму осознавать сильные и слабые стороны тела, чтобы иметь преимущество в выживании. Но в этом случае решающая роль в эволюционном процессе отводилась личности, а не физическим атрибутам.
Концепция моделирования мозгом тела не вполне дает представление о чувстве обладания телом, чувстве «моего». Мозг моделирует и объекты окружающего мира, но мы не ощущаем их своими. Вспомним резиновую руку. Когда иллюзия действует, вы ощущаете, что резиновая рука ваша, но до наступления иллюзии резиновая рука не вызывает у вас чувства «моего» по отношению к себе. В главе, посвященной BIID, мы узнали, что согласно модели феноменальной личности Метцингера (МФЛ) это объясняется концепцией репрезентации. Если резиновая рука входит в модель картины внешнего мира, построенной мозгом, то она не вызывает чувства «моего», но, будучи встроенной в МФЛ, она становится моей.
Для чувства «моего» есть и механистические объяснения. Мы узнали о подобном из главы о шизофрении. Чувство личной инициативы – того, что я инициатор моих действий, чувство «моего» по отношению к действиям – может быть следствием того, что мозг может верно прогнозировать последствия моторных действий. Если же что-то идет не так, как в прогностической фазе, когда прогноз начинает сравниваться с реальным положением вещей, или в любой другой точке процесса, тогда действие не воспринимается как инициированное мной. И тогда оно приписывается внешнему агенту – «не-я».
Может ли чувство обладания телом быть вызвано простым механизмом? Философ Джейкоб Хоуи утверждает, что феномен «моего» – в отношении действия или восприятия – может быть выводом прогностического мозга. Так, с этой точки зрения, мозг использует внутренние модели для прогнозирования последствий разнообразных сенсорных сигналов, а задача мозга заключается в том, чтобы минимизировать прогностические ошибки. Так же как чувство личной инициативы зависит от успешных прогнозов, чувство обладания телом будет зависеть от минимального количества прогностических ошибок.
Учитывая все сказанное о минимальной личности и расширенной нарративной личности, легко впасть в заблуждение, представляя личность как луковицу, с которой можно снимать слой за слоем, или как апельсин, который можно поделить на сегменты. Да, верно, что нарративная личность в эволюционно-биологическом смысле происходит от телесной или минимальной личности, но в отношении сложных личностей, какими являемся мы, нейробиология ясно утверждает, что телесная личность информирует нарративную, а нарративная личность может влиять на ощущения тела, а вместе телесная и нарративная личность находятся под влиянием культурного контекста. В этом смысле мозг, тело, разум, личность и общество нераздельно существуют в функциональном человеческом существе.
Есть ли способ проверить эти взаимосвязи? Влияет ли внетелесный опыт на восприятие и строение нарративной личности?
Команда Эрссона внушила испытуемым внетелесную иллюзию, во время которой они чувствовали обладание телом размером с куклу Барби (это около 30 см в высоту) или с четырехметрового великана. Затем их опросили об объектах, которые они наблюдали (кубы разной величины, помещенные на определенном расстоянии от камеры). Испытуемые воспринимали объекты как большие по размеру и расположенные дальше, если они идентифицировали себя с Барби, и как меньшие по размеру и расположенные ближе, если они ощущали себя великанами. «Размер чьего-либо тела служит примерной точкой отсчета для всего обозримого внешнего мира» – такой вывод сделали ученые. Это хорошее свидетельство в пользу того, что чувство воплощения первично для чувства личности.
В лаборатории Эрссона также протестировали эффект, оказываемый внетелесным опытом на эпизодическую память. Команда ученых внушила иллюзию испытуемым, используя все тот же дисплей, закрепленный на голове и синхронное поглаживание. Во время иллюзии испытуемые чувствовали, будто они наблюдают за происходящей в комнате сценой из локации, не совпадающей с расположением их физического тела. В этой сцене актер исполнял роль профессора и общался с испытуемыми (все они были студентами университета). Актер использовал сценарий адаптированной пьесы Гарольда Пинтера «Перед дорогой» (адаптированная версия была, по словам Эрссона, «не настолько мрачной») и разыгрывал устный экзамен, где студент отвечал на вопросы. Команда Эрссона пыталась выяснить, помнят ли люди случившееся во время иллюзии хуже? Иными словами, зависит ли способность мозга хранить эпизодические воспоминания (необходимые для нарративной личности, как мы знаем по историям об отце Клэр и об Алане из главы 2) от чувства воплощения в реальном физическом теле?
В общих чертах – да. Те испытуемые, которые во время эксперимента испытывали внетелесный опыт, хуже вспоминали увиденный эпизод по сравнению с теми, кто был в своем физическом теле. «Воспоминания, созданные во внетелесном состоянии, значительно менее структурированные с точки зрения последовательности событий и менее яркие», – пишет Эрссон в электронном письме.
Если это так, то почему люди, у которых был внетелесный опыт или аутоскопические галлюцинации, имели настолько яркие воспоминания? «Вероятно, эти воспоминания менее яркие и структурированные, чем если бы то же событие переживалось в физическом теле», – говорит Эрссон. На первых порах. Затем, пересказывая многократно свой опыт, люди собирают фрагментированное воспоминание, и их повествование приобретает красочность. Возможно также, что эмоциональная природа подобных опытов противостоит замутненности памяти, вызванной внетелесным опытом. Тем не менее базовая телесная личность предстает основной по отношению к находящейся на более высокой ступени эволюционного развития когнитивной нарративной личности по многим критериям.
Впрочем, ни в одном из изученных нами состояний – в лабораторных условиях или в субъективном опыте отдельного человека – нарративная личность не отсутствует полностью. Это, к сожалению, случается при болезни Альцгеймера, но и другие когнитивные способности также угнетаются, ослабляя таким образом личность. Но что, если возможно существовать лишь как телесная личность – просто организм, который живет настоящим моментом, ощущает, чувствует, но без нарратива? Это звучит почти мистически, в духе нью-эйдж. Но в следующей главе мы увидим, что это реальность.
Глава 8
Быть никем здесь и сейчас
Исступление эпилепсии и отрыв сознания
Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, – бесконечным[26].
Уильям Блейк
На несколько минут я испытывал такое счастье, какое невозможно ощутить в обычной жизни, такой восторг, который непонятен никому другому. Я чувствовал себя в полной гармонии с собой и со всем миром.
Федор Достоевский
Закари было восемнадцать, он второй семестр учился в колледже в Университете Западного Мичигана, в Каламазу, когда у него впервые случился эпилептический припадок. Была зима, в Каламазу в это время обычно холодно, темно и пасмурно. Зак и его девушка сидели в его комнате, когда внезапно он почувствовал тревогу. Его настроение резко ухудшилось, ему резко расхотелось жить. Он услышал музыку, которая играла лишь в его голове. В ужасе Зак попросил девушку отвезти его в дом ее родителей, находившийся неподалеку, она неохотно согласилась. Этот эпизод обессилил его. Уверенный в том, что это была лишь паническая атака, Зак решил не уделять этому случаю особого внимания, надеясь, что это не повторится. Но это повторялось, снова и снова, каждый день.
Приступы были настолько тяжелыми, что у Зака не было сил пойти к врачу. В конце концов во время затишья в череде припадков он нашел в себе силы пойти к терапевту, который отправил его к психиатру, а тот, в свою очередь, сразу же посоветовал обратиться к неврологу. ЭЭГ и МРТ не показали ничего, и невролог прописал ему «Тегретол», противосудорожный препарат. Но припадки продолжались, иногда по два-три раза в день. Невролог увеличил дозу до 1000 миллиграммов «Тегретола» в день. «Спустя несколько лет я проконсультировался с другим врачом, и он пришел в ужас от того, что я принимал такие дозы, – рассказывал мне Зак, – меня госпитализировали, чтобы вылечить лекарственную зависимость… постепенно».
Но в те годы, между первым диагнозом и консультацией другого врача, состояние Зака ухудшалось. Его кратковременная память стала его подводить (как выяснилось, таково побочное действие «Тегретола»). Он поступил в колледж, чтобы изучать математику, но теперь он с трудом мог вспомнить, когда и где у него занятия. Ему приходилось носить расписание с собой. Пока не начались припадки, он довольно легко справлялся с высшей математикой, неевклидовой геометрией и теорией группы. Но ему становилось все труднее. Удивительно, но с философией дело пошло лучше: обучение было построено не на тестах, как в математике, а на рефератах, которые он писал в своей комнате, сверяясь с записями. Ему не нужно было полагаться на свою память. «Я завалил все тесты по математике, зато по философии у меня был высший балл», – сказал он.
Припадки продолжались. Когда они начинались, он впадал в летаргию, ему было трудно говорить и ходить. Он научился распознавать приближение припадка. Он уходил в старую часть кампуса – в одну из немногих частей Каламазу, где были старые здания, чтобы переждать его. «Меня накрывала невыразимая печаль, вплоть до того, что я бы попытался совершить самоубийство, если бы у меня хватило сил, – рассказывал он. – Это было очень, очень тяжело и очень неожиданно. Я всегда старался уйти подальше, когда чувствовал, что это приближается».
Учитывая негативную эмоциональную окраску этих приступов, неудивительно, что Зак поначалу не понял, что у него случались припадки и другого типа. Они происходили реже, но также внезапно. И они были приятными. Очень приятными. Возможно, с ним уже случалось такое в детстве, но он помнит лишь те случаи, которые происходили уже в колледже. Мир вокруг него внезапно становился ярким и объемным, как будто до этого он видел все на плоском экране, и вдруг экран убрали, и он увидел мир в 3D. Он замечал то, чего раньше не видел. «Когда я видел дерево, я как будто видел его впервые, как будто раньше я видел лишь изображения деревьев, – рассказывал он. – Я мог разом увидеть все детали всего дерева, увидеть своеобразие всего на свете. Это было очень, очень красиво».
Время как будто замедлялось. Он шел по городским кварталам в обычном темпе, и то, что занимало несколько минут, ощущалось так, как если бы занимало час. «Время как будто растягивалось, – рассказывал он, – как будто в каждую минуту вы испытываете гораздо больше, чем обычно». Иными словами, Зак жил в моменте. «В такие моменты как будто ничего другого не существовало, – говорит он. – Я был сконцентрирован в конкретном месте в конкретное время. И это было очень приятно. Не возникает никаких мыслей о том, что случится через час, через год».
Я спросил, было ли это состояние – жить в моменте – необычным для него.
«Еще бы! – со смехом сказал он. – Я обычно вечно слоняюсь там и сям».
Еще больше, чем яркость впечатлений или замедление времени, Зака поразило искаженное чувство реальности происходящего. «Весь мир выглядел как на очень качественной фотографии или академической картине, где все объекты размещены в соответствии с правилами композиции, там, где им самое место, и благодаря этому все смотрится особенно красиво, – вспоминает он. – А Каламазу далеко не симпатичный городок. Он мрачный и довольно депрессивный, по-моему. И уж точно я раньше не замечал в нем особой красоты».
Было также чувство ясности, осознания. «Я чувствовал, что знаю все о том, что меня окружает, настолько ясно, что у меня в голове не происходило никаких мыслительных процессов. Это очень странное чувство уверенности в том, что мир устроен именно так, как нужно, – вспоминает Зак. – Самые простые вещи: столы, стулья, деревья – все ощущалось таким значимым, наполненным целью и смыслом. Меня переполняло чувство, что за всем этим стоит провидение».
Слушая Зака, на ум приходят мысли о мистике и потустороннем. Я сказал об этом. Он согласился. Зак, выросший атеистом, никогда не считал свой опыт доказательством чего-то сверхъестественного. «Но я понял, что это именно то, о чем говорят мистики», – сказал он.
Сам он остается атеистом. Он стал доцентом философского факультета университета Миссури-Колумбия – что только усилило его скептицизм. Но он старательно подчеркивал, что его нынешние взгляды никак не отменяют «истины», открывшейся ему в припадках. «Во время припадков невозможно сомневаться в том, что миром управляет высшая сила. Это, если можно так выразиться, не подлежит обсуждению, – говорит он. – Это было настолько непосредственное ощущение веры, что ему невозможно было сопротивляться».
Федор Достоевский согласился бы с ним. Этот известный русский писатель страдал от эпилепсии. Во время припадков он ощущал кромешный ужас (он говорил своей жене Анне, что ощущал себя, будто похоронил самое драгоценное существо в мире), историки считают, что моменты, когда Достоевский парил мыслью высоко, предшествовали эпилептическим припадкам. «На несколько минут я испытывал такое счастье, какое невозможно ощутить в обычной жизни, такой восторг, который непонятен никому другому. Я чувствовал себя в полной гармонии с собой и со всем миром, – рассказывал он своему биографу Николаю Страхову о таких моментах. – Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».
Многие из героев Достоевского страдали от эпилепсии. Князь Мышкин, главный герой «Идиота», испытывает экстатические ауры (начало припадка): «Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие…». Мышкин говорит Рогожину, главному злодею в романе: «В этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет». Однако Мышкин неглуп. Он осознает, что этими необычайными состояниями он обязан своей болезни, «низшего», а не «высшего бытия». И все же он не может стряхнуть с себя откровения этих моментов. «Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания, и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент пред припадком ему случалось ясно и сознательно сказать себе: «Да за этот момент можно отдать всю жизнь!», то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни».
Может ли быть так, что Достоевский выдумал эти экстатические «ауры», ведь он был гениальным романистом? Так думал французский невролог Анри Гасто, в 1977 году проанализировавший доступные ему материалы: «Я считаю, что тяжелые приступы эпилепсии в этом случае не имели экстатической ауры, но им предшествовали в редких случаях легкие изменения сознания, которые оригинальность авторской мысли и литературный гений Достоевского превратили в ощущение благословения свыше».
Впрочем, вскоре этот вывод опровергли. В 1980 году итальянские неврологи описали историю мужчины тридцати лет, страдавшего от эпилептических припадков с тринадцати лет. Он не считал нужным идти к врачу, но затем у него случились тонико-клонические судороги (или большой судорожный припадок), и его направили к неврологу. Их отчет о его экстатическом припадке вполне показателен: «Он утверждает, что наслаждение, испытываемое им, настолько велико, что он не может найти ему замену в реальности… Все неприятные чувства, эмоции, мысли уходят во время приступов. Его разум, все его существо наполняет всеобъемлющая благодать… Он настаивает на том, что лишь музыка может внушить отчасти сравнимое с этим наслаждение. Сексуальное удовлетворение совсем другое: однажды у него случился приступ во время соития, которое он производил механически, отдавшись ментальному наслаждению». Неврологам удалось сделать ЭЭГ во время приступа у этого молодого человека. Основываясь на полученных результатах, неврологи сделали вывод, что спазмы в височной доле вызывают у людей чувство эйфории.
Таково было положение дел до недавнего времени. Фабьен Пикар, невролог из Университетской клиники в Женеве, в Швейцарии, изучала творчество Достоевского и его героев-эпилептиков, работая над документальным фильмом «Искусство и эпилепсия». До этого момента ее работа в основном была посвящена ночной лобной эпилепсии, которая, как следует из названия, вызывает припадки во сне. Но, познакомившись с экстатической аурой по Достоевскому, она стала уделять больше внимания и другим пациентам. «То, что они рассказывали о своих ощущениях, невероятно, – говорит Пикар. – Это очень похоже на описания Достоевского».
Эпилептические припадки делятся на две группы: генерализованные и фокальные. При генерализованных припадках электрические разряды проходят по всей коре мозга и могут привести к потере сознания. Экстатические припадки относятся ко второму типу: фокальные или частичные, при которых разряды концентрируются на небольшом участке мозга, и пациент остается в сознании.
Подробных отчетов об экстатических припадках в медицинской литературе крайне мало. «Такие припадки нечасто случаются, но я думаю, что мы их недооцениваем, потому что люди часто не в состоянии объяснить их, – говорит Пикар. – Из-за того что эмоции очень сильные и странные, люди неохотно говорят о них; может быть, они боятся, что их сочтут сумасшедшими». Не исключено, что из-за ощущения благодати во время приступа некоторые пациенты не торопятся к врачу, до тех пор пока припадки не затронут другие области мозга, вызывая потерю сознания или утрату некоторых функций.
Пикар всячески уговаривает своих пациентов рассказать ей о своих ощущениях во время экстатических припадков; она считает, что их можно разделить на три категории. Первая – это усиленное самосознание. Например, учительница пятидесяти трех лет рассказывала Пикар: «Во время припадков мне казалось, что я очень, очень осознанна, больше, чем обычно, все чувства обостряются, наполняют меня». Второе – это чувство физического благополучия. Тридцатисемилетний мужчина описывал это так: «Как в бархатном коконе, как будто я был укрыт от всякого негатива». Третье – это насыщенные позитивные эмоции, о которых шестидесятичетырехлетняя пациентка сказала так: «Необъятная радость, наполнявшая меня, была превыше всех физических ощущений. Это было чувство вездесущности, абсолютного единения с собой, чувство невероятной гармонии всего тела, всего моего существа с миром, со “Всем”».
Насколько известно Пикар, все эти описания указывают на одну и ту же область мозга – островковую кору – и еще на труды Бада Крейга, нейроанатома из Неврологического института Барроу в Фениксе (Аризона). В 2002 году Крейг опубликовал замечательное исследование в журнале Nature Reviews Neuroscience под названием «Как вы себя чувствуете?», за ним последовала работа 2009 года в том же журнале под названием «Как вы себя чувствуете – сейчас? Передний островок и самосознание человека». В этих работах Крейг описал эксперименты – свои и не только, чтобы подтвердить свою гипотезу о том, что передний островок является ключом к осознанности, может быть даже вместилищем «чувствующей личности».
Мы знаем, что островок задействован при синдроме Котара, деперсонализации и эффекте доппельгангера – все эти состояния включают в себя повреждения в области восприятия телесных состояний и эмоций. Островок находится глубоко в мозге внутри латеральной борозды, отделяющей лобную и теменную доли от височной доли. Его главная функция – объединять информацию о внутренних состояниях тела с внешними ощущениями. Также известно, что процесс передачи этих сигналов значительно усложняется при передаче от задней к передней части островка.
В то время как задний островок имеет дело с объективными данными, такими как температура тела, передний островок вырабатывает субъективные ощущения телесных состояний и эмоции, как позитивные, так и негативные: передний островок отвечает за чувство «бытия».
Пикар заинтересовалась гипотезой Крейга. Рассказы ее пациентов об их ощущениях во время экстатического припадка предполагали, что симптомы могут быть связаны с дисфункцией островка, а именно переднего островка. Случай одного из ее пациентов подтвердил это мнение. Пациент, мужчина тридцати семи лет, тот самый, который описал экстатическую ауру как «бархатный кокон», перенес в 1996 году операцию по удалению опухоли в правой височной доле. До 2002 года он не испытывал припадков, а затем они начались снова, но с меньшей частотой. При обследовании во время такого припадка неврологам удалось сделать ОФЭКТ эго мозга. Это значит, что ему ввели радиофармпрепарат, являющийся индикатором, во время приступа (пациент заранее дает на это согласие). Примерно через тридцать секунд индикатор поглощается областями мозга с большим потоком крови, что свидетельствует о большей активности этой области мозга. Спустя тридцать секунд пациента помещают в сканер, и сканы мозга позволяют определить, какая область мозга была наиболее активна во время приступа. В данном случае это был передний островок.
Еще два пациента обогатили опыт Пикар. Один из них был Закари Эрнст, подробно описавший Пикар опыт экстатических припадков. Другой был семнадцатилетним фермером из Ромона (Швейцария), который приехал в Женеву, чтобы обследоваться. Пикар попросила его подробно описать его опыт, и он написал целый отчет, в котором упомянул состояния, которые он называл «отсутствиями». Отсутствия были длительными и сопровождались потерей сознания. Или же непродолжительными, при которых он оставался в сознании, а время как будто замедлялось: ему говорили, что припадок длился одну-две секунды, а он ощущал, что впадал в них на очень длительное время. Эти приступы часто могли быть спровоцированы приятным переживанием: «красивая машина, проехавшая мимо; картины, цветы, пейзаж, животные, пение птиц, ветер, качающий деревья; улыбка, красивая женщина, поцелуй, ласка, мысль о ком-то, надежда…»
Неврологическое обследование юного фермера, которое провела Пикар, в дальнейшем установило, что именно передний островок является источником этих волшебных ощущений.
Поезд из Женевы в Ромон проехал вдоль северного берега Женевского озера (по-французски Лак-Леман) до самой Лозанны и вскоре унесся прочь в горы. Когда я сошел в Ромоне, меня встретила Катрин. Она мать Альберика, юного фермера, написавшего отчет для Пикар. Катрин отвезла меня на ферму, чтобы познакомить с Альбериком. Во время пути она рассказала мне, что Альберик был третьим из шести детей, и, хотя его появление на свет было самым тяжелым, оно же было и самым гармоничным. Она рожала в воде, все шесть раз. Она назвала сына Альберик (по-кельтски это значит «король медведей»), потому что он был «очень сильным в утробе… очень могучим».
Альберик рос счастливым ребенком, без особых трудностей. Он любил природу (которую я обнаружил в потрясающем изобилии в окрестностях их трехсотлетнего дома недалеко от Ромона), бегал босиком в компании коров, а в три года залезал на дедушкин трактор. В три года он также начал говорить, значительно позже, чем его сестры.
Мы встретились с Альбериком, когда он работал на ферме. Образ маленького херувимчика, который нарисовала мне мать, сразу рассеялся; я увидел крепкого девятнадцатилетнего молодого человека, слегка растрепанного от работы, с приятной приветливой улыбкой. Он порезался во время работы, из пальца шла кровь. Однако он беззаботно сел в машину, и мы отправились обратно в Ромон поговорить об эпилепсии. Он говорил по-французски, а его мать переводила. Впервые припадок случился, когда ему было пятнадцать. За неделю до этого с Альбериком произошел случай, который странно перекликается с нашей первой встречей. Альберик с крестным поехал на ферму, расположенную в горах, на высоте пяти тысяч футов, и крестный сильно поранил три пальца на руке на деревообрабатывающем станке. Он попросил Альберика остаться на ферме и приглядеть за коровами, им нужен был специальный уход перед появлением на свет первых телят, а сам отправился в больницу. Альберик позвонил матери, а она сказала: «Не нужно было его отпускать одного». Когда она приехала на ферму, то обнаружила сына рыдающим. Это происшествие травмировало его, и он чувствовал вину за то, что отпустил крестного одного. «А неделю спустя начались припадки», – рассказала Катрин.
Все случилось в том же горном шале. На этот раз Альберик был с отцом. Они закончили чистить стойла для коров и сидели у камина. Внезапно Альберик ощутил странный, незнакомый вкус во рту. Затем он потерял сознание, и начался припадок, которого он не помнит. Это было первое из его длительных «отсутствий». Родители, не зная, что с ним происходит, отвезли его домой. Дома Катрин поняла, что Альберик еще не пришел в себя. Она отвела его в горячий душ, а он заметил, как это странно, что в шале есть горячая вода (в горах воду приходится греть). «Он не осознал, что находится дома», – вспоминает Катрин. В ту ночь отец спал подле него. «Мы думали, что он так и не станет прежним… Что-то в его личности сломалось», – сказала Катрин.
Большие припадки у Альберика продолжались, в основном ночью, их признаки были заметны на следующее утро: он выглядел крайне уставшим, а иногда у него был прокушен язык. У него также начались припадки слабее, во время которых он оставался в сознании. Это ощущалось совсем по-другому. Триггером обычно становилось нечто приятное, например – не слишком неожиданно для фермера – вид трактора в сезон сбора урожая. Природа также оказывала на него действие. Временами ему казалось, что коровы говорят с ним, как раз перед припадком. Сами припадки были также приятны. «Он однажды сказал, что эти припадки для него как наркотик, – рассказала Катрин, – когда их нет, он ждет их. Он думает, что никогда [не сможет] жить без них».
К сожалению, Альберик продолжал страдать и от «отсутствий». Однажды такое случилось, когда он работал помощником на ферме. Он встал в четыре утра и отправился в дом к хозяину – в одном нижнем белье. Хозяин спросил: «Ты что тут делаешь?» И Альберик ушел. Вскоре хозяин заметил свет в сарае и пошел посмотреть, что там творится. Он обнаружил босого Альберика, забирающегося на кабину комбайна. Машина была заведена. Альберик ничего не помнит.
Примерно в возрасте семнадцати лет он стал пациентом Пикар. МРТ сканирование показало доброкачественную опухоль в правой височной доле. Когда я встретился с Пикар в Женеве в марте 2013 года, она показала мне кабинет, где проходило обследование Альберика во время одного из припадков. Техник сидел в комнате с мониторами, на которые транслировались ЭЭГ сигналы пациентов в каждой из четырех комнат. Каждый экран был заполнен рядами закорючек – сигналы от ЭЭГ электродов. Они были похожи на отметки сейсмографа. Лишь опытный невролог или техник способен распознать почерк припадка. Например, фокальный припадок выглядит как пики в одном электроде или в группе электродов, расположенных рядом. Также на каждом мониторе транслировалось видео с камеры, направленной на пациента, лежащего на койке с ЭЭГ шлемом на голове. Альберик был в одной из таких комнат во время восьмидесятисекундного припадка. ЭЭГ показало, что припадок начался в передней височной доле. Перед началом припадка Альберику ввели индикатор. Последовавшее исследование ОФЭКТ показало, что припадок вызвал приток крови (активность) в правом островке, что также близко к опухоли. Нейрохирурги провели операцию и удалили эту опухоль.
До операции Альберику нужно было посетить психиатра из-за опасности развития депрессии после хирургического вмешательства. Альберика не испугала перспектива депрессии, он сказал тогда: «Да ничего; если будут проблемы – бабах!» Иными словами, всегда можно свести счеты с жизнью при помощи пушки, если что-то пойдет не так. Он так шутил, конечно. «Они были в шоке», – вспоминает Катрин. Но она знала, что ее сын имеет в виду, и объяснила, что парень пошутил. «Я сама смеялась. У нас на ферме это нормально: если корова негодная, ее пристрелят. На ферме абсолютно нормально говорить об этом. Когда живешь на природе, такое видишь каждый день».
После операции состояние Альберика улучшилось на какое-то время, но вернулись более тяжелые припадки по ночам. Припадки могут быть опасны, если он работает на ферме, управляет трактором или комбайном. Семья отреагировала на эту ситуацию по-житейски. Они хотят завести собаку, которая сможет предупреждать Альберика о надвигающемся припадке. И его можно было бы прооперировать повторно. «Ему придется с этим жить, – говорит Катрин. – Мы всегда будем рядом, по-другому и быть не может».
Увы, та сторона эпилепсии, которой он так дорожил – экстатические припадки, – исчезла после операции. В тот период, когда Альберик проходил обследования, догадка Пикар о роли островка в возникновении экстатических припадков получила обоснование. То, что рассказал Альберик, подтвердило описания Закари Эрнста. Что-то в экстатических припадках меняет самосознание человека и его отношение к миру. Пикар описала это в отчете о диагнозе Альберика: «Он ощущал глубинное осознание ситуаций или диалогов, внезапное просветление. Как будто он ясно осознал сущность всего, особенно если ему случалось беседовать с людьми. Он схватывал все на лету. Все вокруг внезапно обретало самодостаточность, предсказуемость (не в смысле знания будущего)».
И вновь мы наблюдаем черты мистического опыта: замедление времени, гиперосознанность окружающего мира, чувство уверенности в том, что все в мире устроено провидением. В Женеве я встретил другую пациентку Пикар, архитектора сорока одного года из Испании, и вот что она рассказала о своем опыте: «Вы просто чувствуете энергию, ощущаете все сразу. Вы во всем, что вас окружает, вы в потоке. Вы забываете свое “я”».
Пикар видит здесь парадокс: припадки одновременно приносят чрезмерное самосознание, при этом стирая границы между личностью и миром. Это то самое состояние, о котором писал Достоевский – единение со всем.
Во время нашей беседы в марте 2013 года Пикар сказала, что уверена, что именно островок играет решающую роль в эти необычных ощущениях. «Я все больше убеждаюсь, что всему виной островок, – говорит она, – но у меня нет доказательств». Единственное подтверждение, которое у нее было, – это изображения с ОФЭКТ исследований, но они недостаточно точные, чтобы определить точечно область мозга, задействованную при приступе. Припадок – это динамический, быстро развивающийся нервный процесс, а индикатору нужно до тридцати секунд, чтобы «закрепиться» в мозге – серьезная задержка, из-за которой изображение может быть неточным. Похоже на то, как если бы вы фотографировали быстро движущийся автомобиль, но скорость затвора вашей камеры слишком мала. Пикар нужно было однозначное доказательство.
На следующий день она получила сообщение о подобном исследовании. Я был у нее в офисе, когда она получила электронное письмо от Фабриче Бартоломеи, невролога из больницы Тимон в Марселе (Франция). Команда хирургов под руководством Бартоломеи вживила электроды в мозг молодой женщины, страдающей от экстатических припадков. Он писал: «Мы исследовали пациентку… Стимуляция переднего островка провоцирует приятные ощущения типа парения и расслабления».
Пикар ответила кратко: «Я просто счастлива!»
Связь между экстатической эпилепсией и гипотезой Бада Крейга о том, что островок является вместилищем чувствующей личности, только что получила подтверждение.
«Я не верю, что в мозге есть место мистике, – сказал Крейг в интервью в октябре 2009 в Швеции. – Когда Рене Декарт приехал в Швецию триста лет назад и сообщил миру, что человек знает, что он существует, потому что мыслит… он как бы оставил наш мозг где-то в метафизическом пространстве, но мозг все же является частью нашего тела, потому что мы так устроены. Мы являемся биологическими организмами, и наш мозг неустанно заботится о нашем теле».
Как мы уже знаем, мозг заботится о теле при помощи процесса гомеостаза, который заключается в том, чтобы поддерживать физиологию тела в оптимальном состоянии, вопреки условиям внешней среды. Детальное исследование одного из нейронных путей гомеостаза (связанного с терморегуляцией) привело Крейга к переднему островку.
В том же интервью в Швеции Крейг упомянул парадокс, который смущал его еще в 1970-х, когда он был студентом. Книги по нейробиологии, которые он читал, описывали, как боль и температура представлены в соматосенсорной коре – части мозга, отвечающей за тактильные ощущения. Как мы знаем из третьей главы, соматосенсорная кора была обнаружена в середине XX века Уайлдером Пенфилдом, который доказал связь между кортикальными областями и тактильными ощущениями в различных частях тела: стимуляция определенной части соматосенсорной коры вызывала у испытуемого ощущение прикосновения к определенной части тела. Но не боль и не температуру. «Стимуляция соматосенсорной коры почти никогда не вызывает боли или ощущения повышенной температуры, и повреждения соматосенсорной коры не влияют на них, – говорит Крейг в интервью. – Я не понимал, почему в учебниках есть подобные противоречия. Конечно, я сдал все экзамены по этим учебникам». Но вопрос остался открытым: где же в мозге находится область, отвечающая за боль и температуру?
Будучи нейроанатомом, Крейг заинтересовался этой проблемой. У него были ключи к разгадке. Во-первых, существует любопытная иллюзия, демонстрируемая во всех естественно-научных музеях мира, под названием «гриль» (ее открыл в 1896 году один шведский врач). Гриль, как следует из названия, это прибор из металлических решеток, либо нагретых, либо холодных. Ни нагрев, ни охлаждение решеток не выходят за пределы, которые могут быть болезненными. Тем не менее, если положить руку на гриль, вы почувствуете боль, как от ожога. «Этот эксперимент демонстрирует фундаментальную черты организации нервной системы – в этом случае взаимодействие между ощущениями температуры и боли», – пишет Крейг.
В середине 1990-х Крейг и его коллеги использовали ПЭТ сканирование для исследования мозга пациентов во время иллюзии гриля: испытуемые дотрагивались до горячих частей гриля и чувствовали обжигающую боль. Испытуемых также обследовали, когда они дотрагивались до холодных и горячих частей гриля по очереди, не чувствуя боли. Выводы были соответствующими: ощущение боли связано с активностью передней коры поясной извилины (ПКПИ), в то время как средний и передний островок активировались все время (независимо о того, были ли стимулы болезненными или нет).
В последовательных исследованиях с использованием ПЭТ сканирований Крейг показал, что задний островок отвечает за объективное восприятие температуры, а активность переднего островка связана с субъективным восприятием. И эта разница имеет ключевое значение. Например, вы выпьете стакан холодной воды. С точки зрения результатов, полученных Крейгом, задний островок предоставит вам объективные данные о реальной температуре воды, но в зависимости от того, выпьете ли вы воду в жаркий день или в промозглую погоду, ваши субъективные ощущения будут различны: от крайне приятных ощущений до, скажем, нежелательных. Эти субъективные ощущения передаются нам передним островком. Иллюзия с грилем показывает, что, когда ощущение колеблется от просто приятного или неприятного до резкого температурного шока (на который телу нужно реагировать), активируются как задний островок, так и ПКПИ.
Это привело Крейга к мысли, что чувство является не только восприятием телесного состояния; оно также включает мотивацию для реагирования на него. Как говорит Крейг, «активация ПКПИ связана с мотивацией, а активация островка связана с чувством, а вместе они формируют эмоцию». А эмоция движет гомеостазом: если пребывание на холоде становится болезненным, боль понуждает организм согреваться.
Изучение природы боли и температуры привело Крейга к идее, что островок отвечает за самосознание. Ход работы продемонстрировал, что передний островок и ПКПИ активируются целым букетом чувств: от злости до вожделения, от голода до жажды. Крейг развернул свою работу в полноценную гипотезу. Он утверждает, что передний островок является той частью мозга, которая отвечает за наши чувства – нейронным субстратом субъективной осознанности физиологических состояний тела. Он объединяет внешние ощущения, внутренние ощущения и состояния, мотивирующие тело реагировать. «Он как будто представляет собой анатомическую базу эмоционального сознания».
Крейг утверждает, что передний островок является базой «материального “я”» или личности-объекта, создавая сиюминутный ментальный образ «материальной личности как чувствующего (ощущающего) существа». А поскольку материальная личность во многом основана на неменяющемся теле (по крайней мере в краткий временной промежуток), она может быть «источником чувства постоянного бытия, удерживающим ментальную личность». Как рассказал мне Крейг в телефонном интервью, «моментальная личность, живущая в конкретном моменте, основана на переднем островке».
Именно эти исследования привели Пикар к гипотезе о том, что передний островок может быть областью, где возникают экстатические припадки. Могут ли эти припадки усиливать ощущения материальной личности, живущей в настоящем моменте, здесь и сейчас? Лучшим доказательством ее идеи стало письмо Бартоломеи, в котором он сообщил, что его команде удалось внушить чувства, схожие с экстатическим припадком путем прямой стимуляции переднего островка пациента.
Пациентка Фабриче Бартоломеи – женщина двадцати трех лет. Она впервые пришла к Бартоломеи в сопровождении молодого человека, который отнесся к Бартоломеи крайне подозрительно. «Во время консультации чувствовалось напряжение», – рассказал мне Бартоломеи по телефону. И все же ему удалось осмотреть пациентку. Припадки у нее начались в возрасте пятнадцати лет, из-за этого ей пришлось бросить школу. У нее тяжелый характер со склонностью к агрессии и социопатии. Во время консультации она была настроена крайне мрачно, а ее молодой человек, который посещал консультации вместе с ней по ее настоянию, своим негативом только усугублял ситуацию. Несмотря на это, в ее симптомах был проблеск надежды. Ее припадки всегда начинались с экстаза – как и у князя Мышкина – а потом она теряла сознание.
«[Учитывая, что] пациентка была не в лучшем расположении духа, я несколько удивился, узнав, что начало припадков могло [внушать ей] чувство парения, сопровождаясь сильной дрожью», – говорит Бартоломеи. Пациентка говорила, что чувствует себя счастливой во время экстатической ауры в начале припадков. «Было определенное противоречие между ощущениями пациентки в начале припадка и ее обычным поведением».
Девушка обратилась к Бартоломеи, потому что ее эпилепсия была устойчива к медикаментам, а ЭЭГ не помогла определить происхождение припадков. Бартоломеи решил вживить электрод в ее мозг, чтобы записать активность мозга во время припадка, чтобы как можно точнее определить эпилептогенную ткань, подлежащую хирургическому удалению. Измерения, проведенные Бартоломеи показали, что этот припадок начался в височной доле, но вскоре, менее чем за секунду, распространился на передний островок, что подтверждает мысль о том, что именно эта область отвечает за создание блаженного ощущения в начале припадка.
Когда Бартоломеи при помощи тех же самых электродов стимулировал мозг пациентки в отдельных местах по очереди, это вызвало у нее приступ агрессии. Она так реагировала на процедуру, которая, как признается Бартоломеи, может быть тяжелой для пациентов. Тем интереснее то, что произошло дальше. Из первых восьми электродов лишь тот, что стимулировал миндалевидное тело, вызвал ответную реакцию – в данном случае неприятные ощущения (что, пожалуй, усугубило негативный настрой девушки). Но когда активировался электрод в переднем островке, все изменилось. «Первое, на что я обратил внимание, была перемена выражения лица. Она выглядела менее напряженной и куда более довольной», – рассказывает Бартоломеи. Пациентка рассказала, что чувствует себя примерно как во время экстатической ауры. «Чувствую себя отлично, есть забавное ощущение, будто я плыву, и приятная дрожь в руках», – сказала она врачам. Чем интенсивнее была стимуляция, тем сильнее было «забавное ощущение». Бартоломеи считает, что несмотря на то, что это единичный случай, он подтверждает то, что островок задействован в экстатических припадках. «Единственная область, где нам удалось вызвать это приятное ощущение, был передний островок, – говорит он, – такого не было при стимуляции височной доли, миндалевидного тела или гиппокампа».
После процедуры Бартоломеи предложил своей пациентке удалить эпилептогенную ткань, но она отказалась. И все же ее опыт дал Пикар так нужные ей доказательства роли переднего островка в экстатических припадках. Пикар все более утверждается в мысли, что гиперактивность переднего островка вызывает ощущение блаженства, благополучия и обостренного самосознания.
Нейробиолог Анил Сет, исследователь из Университета Суссекса, предположивший, что прогностические механизмы мозга задействованы не только в восприятии внешних стимулов, но и стимулов внутренних состояний тела, очень впечатлен этой работой. «Тот факт, что прямая электрическая стимуляция островка вызывает подобные ощущения, удивителен и неопровержим», – говорит он. Свидетельством в пользу этого открытия также является тот факт, что островок неактивен у людей с деперсонализацией, которые «описывают мир, лишенный чувственной и познавательной реальности». Гиперактивный островок во время экстатических припадков вызывает обратный эффект.
«Однажды ясным майским утром я проглотил четыре десятых грамма мескалина, растворенных в половине стакана воды, и сел ожидать результатов». Так начинается необычайное приключение Олдоса Хаксли весной 1953 года, описанное им в книге «Двери восприятия». Хаксли принимал мескалин под присмотром психиатра Хамфри Осмонда (который «не исключал возможности, пусть и отдаленной, что войдет в историю литературы как человек, который свел с ума Олдоса Хаксли»). Впрочем, Хаксли с ума не сошел.
Букет цветов в вазе, которые Хаксли еще за пару часов до принятия препарата находил безвкусным, трансформировался в его восприятии. «В то утро за завтраком меня поразил живой диссонанс его красок. Но это больше не имело значения. Сейчас я смотрел не на причудливое сочетание цветов. Я видел то, что видел Адам в утро творения, – миг за мигом, чудо обнаженного существования». Когда же его спросили, нравится ли ему этот букет, он ответил: «Это просто есть».
Он понял, что его представление о времени и пространстве изменилось. «Пространство оставалось тем же, но оно лишилось господства. Ум был в первую очередь занят не мерами и местоположениями, а бытием и значением. И вместе с безразличием к пространству пришло еще более совершенное безразличие ко времени. «Мне кажется, его очень много» – вот все, что я мог ответить, когда исследователь спросил меня, как я ощущаю время. Много, но сколько именно – совершенно не важно… В действительности и до того, и в тот момент я воспринимал или неопределенную длительность, или нескончаемое настоящее, сделанные из одного непрерывно меняющегося апокалипсиса».
Осмонд ввел термин «психоделический» для описания эффекта от таких препаратов, как мескалин, псилоцибин и ЛСД («Увидеть рай, проникнуть в ад поможет этот препарат», – писал он Хаксли в ответ на его двустишие, сочиненное в попытке описать эффект от психоактивных препаратов).
Неудивительно, что эссе Хаксли так похоже на описания людей, испытавших экстатические припадки. Нейровизуализация у людей, принимающих психоделические препараты, такие как псилоцибин, также показала гиперактивность островковой коры и переднего островка. В двойном слепом обследовании пятнадцати пациентов обнаружилось, что прием аяуаски – психоактивного настоя, используемого в шаманских ритуалах на Амазонке, – вызывает приток крови к переднему островку, помимо других областей мозга.
Как при экстатических припадках, так и при приеме психоактивных веществ, одним из интересных эффектов является изменение восприятия времени. Вспомним, что князь Мышкин говорил о том, что «времени больше не будет», или как Закари Эрнст и Альберик ощущали, что время замедляется во время припадков. Бад Крейг может это объяснить.
В его модели передний островок объединяет интероцептивные и экстероцептивные сигналы с сигналами о состояниях тела для создания «глобального эмоционального момента» один раз в 125 миллисекунд. Именно глобальные эмоциональные моменты дают нам целостное чувство личности, даже несмотря на то, что эти моменты существуют разрозненно. Как в кино: хотя на экране мелькают двадцать четыре отдельных кадра в секунду, мы воспринимаем их как единый континуум. Гиперактивный передний островок потенциально способен вырабатывать глобальные эмоциональные моменты все быстрее и быстрее, что приводит к субъективному ощущению растяжения времени. Как если бы высокочувствительная камера снимала сотни тысяч кадров в секунду, а мы бы потом проигрывали все в замедленном режиме, как будто время замедлилось. Крейг также утверждает, что передний островок, возможно, имеет буфер, удерживающий некоторые глобальные эмоциональные моменты: те, которые только что произошли; те, которые происходят прямо сейчас, и те, которые произойдут вот-вот. Если представить человека как серию глобальных эмоциональных моментов, то этот буфер подобен маленькому окошку, открывающемуся на несколько мгновений. Это все, конечно, недоказанная гипотеза, но идея близка к вопросу, обсуждаемому философами: существует ли личность или нет? Например, предположение философа Дана Захави о существовании минимальной личности предполагает наличие ментальной структуры, которая может удержать несколько моментов субъективного опыта – прошедших, настоящих и будущих, составляющих субъект опыта. Может ли эта ментальная структура располагаться в переднем островке? На этот счет есть любопытные наблюдения.
Если передний островок прогнозирует будущие состояния, то это объясняет другую общую черту у экстатической ауры и психоактивных препаратов, дающих чувство уверенности в промыслительном значении всего. Вспомним гипотезу прогностического или байесовского мозга, о которой мы говорили в контексте аутизма и деперсонализации. Идея заключается в том, что наше восприятие – это лучшая догадка нашего мозга о том, каковы причины наших ощущений, и о том, что мозг должен предпринять, чтобы минимизировать неожиданность и поддерживать тело в гомеостатическом равновесии.
Согласно этой гипотезе, островок является ключевой областью мозга, задействованной в прогнозировании наиболее вероятных причин различных внешних и внутренних сенсорных сигналов. Если прогностическая ошибка невелика, мы чувствуем себя хорошо; если она значительна, мы ощущаем тревогу. Тревога для мозга – способ заставить тело реагировать: что-то не так, нужно действовать. Но, как и все другое в мире, даже этот прогностический механизм может сломаться.
С одной стороны, это может привести к хронической тревожности и невротизму. В 2006 году Мартин Паулюс и Мюррей Штайн доказали, что хроническая тревожность является результатом расстройств функции переднего островка, как результат того, что он выдает прогностические ошибки с повышенной частотой. Пикар утверждает, что при экстатических припадках происходит прямо противоположное. Электрический шторм, который происходит в переднем островке, расстраивает прогностический механизм так, что прогностических ошибок происходит очень мало или же не происходит вообще. В результате человек не ощущает никаких проблем в окружающем мире, ему кажется, что все имеет смысл, вырабатывается чувство абсолютной уверенности в провидении.
Анил Сет считает, что эта гипотеза весьма жизнеспособна. «В некоторых случаях феноменология экстатических припадков противоположна патологической тревожности, – говорит он. – С одной стороны, чувство полного умиротворения и уверенности, а с другой – патологическая внутренняя неуверенность относительно всего, которая отражается на телесном состоянии».
Есть что-то зловещее в том, что эти ощущения безмятежности, обостренного самосознания, замедления времени также встречаются в описаниях мистических опытов. Пациенты Пикар с уверенностью приписывают своим припадкам религиозный смысл. «Некоторые из моих пациентов говорили мне, что, хотя они и агностики, после подобных припадков они понимают, как можно уверовать, потому что в них присутствует духовное озарение, – говорит она. – Возможно, что у некоторых людей, испытавших мистический экстаз, на самом деле были экстатические припадки».
Мы подошли к любопытному парадоксу: субъект испытывает обостренное осознание себя и окружающего мира, но при этом одновременно чувствует, что границы между ним и миром стерты, ощущая единство всего сущего.
Что же происходит? В книге «Поток – психология оптимального переживания» Михай Чиксентмихайи дает нам ключ к разгадке. Чиксентмихайи определяет поток как «активное состояние радости, полного поглощения своим делом, когда удовольствие сливается с усилиями и смыслом». Состояние потока содержит сходный парадокс: утрату самосознания. Чиксентмихайи пишет: «Особо нужно упомянуть о вещи, ускользающей от сознания, потому что обычно мы о ней и так слишком много думаем: о нашей личности. Вот как один альпинист описывает поток: “Это ощущение дзена, как медитация или концентрация. Ваше эго смешивается со всеми видами восхождений, это не обязательно просветление. Но автоматически ваше эго становится безличным”».
И хотя происходит утрата самосознания, Чиксентмихайи добавляет, что «оптимальное переживание предполагает очень активную роль личности». Вот и парадокс. Альпинист, например, усиленно осознает каждую часть своего тела и склона горы и все же заявляет об обезличивании. С точки зрения Чиксентмихайи, «утрата самосознания не подразумевает утраты личности и, конечно, потери сознания, но, скорее, утраты сознания личности. За пределами осознанности находится концепция личности, информация, которую мы используем, чтобы представить себе, кто мы есть».
Итак, именно личность осведомлена о самой себе – рефлективная, нарративная, автобиографическая личность – и она отступает, в то время как минимальная телесная личность полностью присутствует и вовлечена в происходящее. «Это интересно с феноменологической точки зрения, что вы можете испытывать эти сосуществующие переживания обостренного самосознания и обостренного единения [с миром], – говорит Сет, – для меня это значит лишь, что, возможно, разделение между нашим телом и миром куда более подвижно, чем мы готовы признать».
Несколько тысячелетий назад один монах заметил, что разделение между личностью и другими не просто подвижно, вообще такой штуки, как личность, не существует; и если мы отправимся на поиски личности, стоящей за всеми этими «я», «меня», «мое», мы обнаружим ничто, и причина человеческих страданий заключается в привязанности к этой выдумке. И здесь мы вновь возвращаемся к тому месту, с которого началось мое путешествие, описанное в этой книге, – Сарнат, Индия, где Будда, как гласит легенда, проповедовал впервые после того, как понял природу личности. Все закончится тем же, чем и началось, простым вопросом: «Кто я есть?»
Эпилог
Город Варанаси получил свое название от рек Варуна и Аси. Эти реки впадают в Ганг – самую длинную и почитаемую реку Индии. Всемирно известные гаты Варанаси – ступени, которые спускаются вниз по берегу реки – протянулись вдоль всей излучины, от места, где Варуна встречается с Гангом на севере до места впадения Аси на юге. Город приветствует Ганг – ступени его гат ведут паломников и простых людей вниз к воде.
Возле места слияния Варуны и Ганга находится место под названием Раджхат. Археологические раскопки в Индии на протяжении десятилетий обнажали руины старого города Раджхата, некоторые из которых относятся к VI веку до н. э. Легенда гласит, что примерно в то время один монах, бывший прежде принцем, пересек Ганг, достиг Раджхата, а затем пешком прошел шесть миль до Сарнатха, где впервые проповедовал. Было ему около тридцати пяти лет, и люди стали называть его Буддой.
Прогулка от Раджхата до Сарнатха во времена Будды, должно быть, была приятной. Когда я там был, я застал сезон дождей. Деревенские жители отговаривали меня от прогулки по грязи. Я воспользовался авторикшей. Индия по обе стороны дороги от Раджхата до Сарнатха была как на ладони: лавочки, торгующие корзинами, сплетенными вручную, терракотовыми урнами и кувшинами, каменными плитами и непременным ликером с правительственной лицензией. Маленький мальчик – трех-четырех лет – пытается запустить змея, но длины струны хватает лишь на то, чтобы он поднялся с земли. Где-то в середине пути, когда мы пересекли мост пурана (на хинди это значит «старый»), асфальт на дороге сменился каменной брусчаткой, заставляя все кости в теле трястись, когда крошечные колеса авторикши попадали к промежутки между неплотно уложенными камнями. Зловонные канавы тянулись вдоль дороги, машины и автобусы теснились грязной мешаниной. Я не мог отделаться от чувства, что дорога могла бы быть и поприятнее.
Когда мы доехали до Сарнатха, все затихло. Наконец-то снова гладкий асфальт. Деревья, выстроившиеся вдоль дороги, были старыми и очень подходящими к истории этого места. Я был в предвкушении встречи со священным местом, а затем увидел ослепительный храм, увешанный яркими флажками, и большую статую Будды, сидящего со скрещенными ногами, лицом к статуям его учеников, такого же размера. Статуи окружали дощечки из черного гранита, на которых были выбиты слова из проповедей Будды на языках всех буддистских стран.
Позже в тот же день я отправился в окрестности тихого Оленьего парка неподалеку и сел у ступы Дхамек, буддийского памятника архитектуры шириной у основания 30 метров и высотой 45 метров, выложенного по низу каменными плитами с надписями. Верхняя часть ступы выложена кирпичом. Слово «Дхамек» взято из пали, языка времен Будды, и означает «созерцающий дхарму»; о сути дхармы, универсального закона бытия, Будда учил в своей первой проповеди.
Я укрылся от полуденного солнца в тени ступы, которая, казалось, успокаивала и мое сознание. Я представил себе, как 2500 лет назад тридцатипятилетний монах поведал миру свое радикальное учение о ничем и ником.
Вспомним аллегорическую историю, приведенную в прологе: все части тела у того человека заменили частями трупа. Когда человек спросил у проходящих мимо буддийских монахов, существует он или нет, они ответили ему вопросом: «Кто ты?» На что герой ответил, что он вообще не уверен в том, человек ли – личность ли – он.
Монахи указали ему на то, что он начал осознавать, что «я» – то есть личность – нереально. Конечно, он лишь недавно начал сомневаться в своем существовании, но, по правде говоря, личности у него никогда и не было. Они сказали, что нет никакой разницы между старым и новым телом. Чувство, что «это мое тело», создано элементами, из которых это тело состоит. Человек познал истину, и эта истина его освободила – в буддийском смысле слова – от привязанности к иллюзорным вещам.
Признаюсь, что, когда я посетил Сарнатх в 2011 году, эта буддийская идея «безличности» меня обескуражила. Много из того, что я понимаю под словом «личность», находится в области интуиции – как и у всех нас. Что же значит «безличность» по сравнению с интуитивной прочностью личности? Когда речь идет о теориях личности, целью изучения является личность, имеющая единство восприятия. Это единство с тем, чем кто-либо является и что кто-либо воспринимает в данный момент. Мое чувство бытия в теле, обладания телом, чувство, что я инициирую мои действия, чувство, что все, что я воспринимаю, воспринимается мной, – все это взаимосвязано. Есть некое единство, являющееся субъектом опыта, и весь этот опыт переживается мной. Философы называют это синхроническим единством.
Существует также чувство, что это единство имеет временну́ю продолжительность. Когда вы вспоминаете детство, вы чувствуете, что это ваши воспоминания, а эмоции, которые эти воспоминания вызывают, ощущаются как ваши. То же верно и в отношении будущего в вашем воображении. Пока мы осознаем, что мы были детьми, выросли и поменялись со временем, у нас есть чувство, что за всеми этими изменениями стоит все тот же кто-то или что-то, меняющийся, развивающийся. Философы называют это диахроническим единством.
Как синхроническое, так и диахроническое единство эффективно использовались для доказательства существования личности философами традиции Ньяя (что значит «логика»), первые тексты которых датируются 200 годом до н. э. Когда речь шла о синхроническом единстве, доказательством было то, что должна существовать личность, которая объединяет различные ощущения (прикосновение, зрение, слух, например), создавая объединенное восприятие.
Позиция с точки зрения диахронического единства была более убедительна. Сторонники утверждали, что для того, чтобы воспоминания были соотносимыми с кем-либо или с чем-либо – то есть, если я вспоминаю что-то, я чувствую, что это мои воспоминания, – должна быть личность. Утверждение было основано на доказательстве, что я не могу вспомнить ваши воспоминания, а вы не можете вспомнить мои. И если личности нет, то невозможно вспомнить прошлое как относящееся к кому-либо или к чему-либо. Чтобы память функционировала так, как она функционирует, должна быть личность – таков был аргумент. «Я не очень-то верю в личность, но я думаю, что это самый весомый аргумент в ее пользу», – говорит Джордж Дрейфус, философ, специалист по тибетскому буддизму в Уильямс Колледже в Уильямстауне (Массачусетс).
Итак, философы и нейробиологи делятся на два лагеря: те, кто говорит, что личность реальна, и те, кто говорит, что она нереальна. Основной вопрос для них: есть ли такая данность, которую можно назвать личностью, существующая в синхроническом и диахроническом единстве? Один тернистый путь познания заключается в том, чтобы искать ответа на вопрос, может ли личность существовать независимо от всего прочего, как фундаментальная единица реальности, заняв место среди базовых категорий реальности, или онтологии, среди предметов, из которых реальность сделана. Существует ли личность, которую нельзя объяснить как структуру из объектов, имеющих базовый онтологический статус? Зачастую отдельный онтологический статус личности отвергается теми, кто находится в «безличностном» лагере и опровергается им с легкостью. Их противники, в свою очередь, этим опровержениям не доверяют.
Описанный в этой книге опыт людей, страдающих от того, что называется расстройствами личности, наряду с мнениями нейробиологов, объясняющих их опыт, дает нам некоторые ответы. Аспекты личности, которые как будто дают нам синхроническое и диахроническое единство: нарративная личность, чувство личной инициативы, чувство обладания частями тела, чувство обладания эмоциями, чувство расположения в определенном объеме и пространстве, который занимает наше тело, чувство обзора из точки, расположенной за нашими глазами, – все это доказывает существование личности-объекта. Эти аспекты могут мыслиться как сложносоставные. Остается вопрос: что же их конструирует или хотя бы делает вид, что конструирует?
Совершенно ясно, что когда эти аспекты начинают отмирать, все еще остается личность-субъект – то, что философы называют феноменальным субъектом – испытывающая переживания. Остается «я», страдающее от шизофрении, деперсонализации, аутизма, отрицания частей своего тела, внетелесных опытов, потери нарратива и даже отрицания своего существования. Так кто или что же это «я»?
Похожим образом искал подход к сущности личности и Ади Шанкара, индийский поэт и философ и теолог традиции Адваита (недуалистической), живший в VIII веке. Его поэма под названием «Нирвана Шатакам» (песнь освобождения в шести стансах) начинается со строк:
- Я не ум, не интеллект, не сущность, не память,
- Я не глаза, не уши, не нос и не язык,
- Я не пространство, не земля, не огонь, не воздух и не вода.
Каждый новый куплет заканчивается ответом на вопрос: «Кто я?». Ответ становится рефреном, подготовительным к динамичному последнему куплету. Оставив пока адваитанский ответ на этот вопрос, поэма подходит к нему, используя утверждения о том, чем «я» не является: умом, интеллектом, телом, чувствами, эмоциями; я не добродетелен и не порочен, я не мое имущество, я не мои отношения; я даже никогда не был рожден.
Кто же я?
Это то самое «я», которое находится в центре полемики «личности vs безличности». Что это за личность-субъект, личность познающая, личность переживающая? Откуда она взялась? Есть она или нет?
Ответ буддиста, к какой бы традиции он ни принадлежал, будет «нет». Не существует такого понятия, как личность. Если вы пуститесь на ее поиски (путем медитации), утверждают буддисты, вы придете к откровению, что личность непостоянна, текуча и лишь кажется единой.
В западной философской традиции часто цитируют слова Дэвида Юма, шотландского философа XVIII века: «Что касается меня, то, когда я самым интимным образом вникаю в то, что называю своим Я, я всегда наталкиваюсь на ту или иную единичную перцепцию – тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия». Обычно считается, что Юм принадлежал к «безличному» лагерю (хотя философ Гален Строссон считает по-другому и доказывает это в своей книге «Очевидная связь. Юм о личной идентичности»).
Философ Дэниэл Деннет также принадлежит к «безличному» лагерю: «Каждый нормальный индивид этого вида занят творчеством самости. Из своего мозга он вытягивает паутину слов и дел, и, как и другим животным, ему не нужно знать, что он делает; он просто делает это…» Деннет говорит, что самость «как центр гравитации, абстракция, которая, несмотря на свою абстрактность, плотно привязана в физическому миру». Любая физическая система имеет центр гравитации – это не конкретный объект, это часть системы. Центр гравитации не состоит из атомов или молекул, тем не менее эта математическая абстракция весьма влиятельна. Самость, по Деннету, есть центр нарративной гравитации: «теоретический вымысел, призванный унифицировать и объяснить в ином случае поразительно сложный набор действий, высказываний, волнений, жалоб, обещаний и т. п., из которых состоит личность».
Одним словом, буддисты, Юм, Деннет и многие другие философы могут быть названы адептами теории множеств: личность в единстве восприятий в конкретный момент и с течением времени является «полностью сфабрикованным продуктом множества различных ментальных феноменов».
Томас Метцингер тоже сторонник «безличности». Его позиция нам уже известна. Он утверждает, что биологические процессы происходят из глубин тела, давая тем самым представление – модель – организма в мозге. Содержание этой динамической модели личности включает в себя все, что касается тела: от эмоциональных состояний до ощущений и мыслей. Ваша модель личности содержит все, что вы можете сознательно испытывать. Наша модель личности «прозрачна», это значит, что мы не воспринимаем личность в виде репрезентации, даже если умом понимаем, что это так (и может, когда-нибудь докажем это). «Это довольно грубая зарисовка», – признается Метцингер. Он считает, что переживание феноменальной личности – личности, имеющей субъективный опыт, – исходит из сознания взаимодействий между моделью личности и моделью мира. Идеи Метцингера упраздняют идею личности как сущности, отдельной от мозга. Однако точные нейронные процессы, дающие жизнь субъективности в духе Метцингера, пока непонятны.
Автор другого взгляда – Антонио Дамасио. Вспомним его концепцию протоличности, основной личности и автобиографической личности: эти компоненты включают в себя личность-объект. К этому он добавляет познающую личность (личность-субъект) – те нейронные процессы в мозге, которые дают нам переживание личности как сущности, познающей себя, и создают субъективность: «Как только мозг вводит в разум познание, рождается субъективность». Короче говоря, познающая личность делает нас сознательными. Философ Джон Сирл, критикуя Дамасио, говорит о замкнутом круге: «Самость появляется, чтобы объяснить сознание, но если она объясняет сознание, то мы не можем утверждать, что она сознательна».
Критика выводит на первый план те вызовы, с которыми сталкиваются нейробиологи и философы, объясняя субъективность самосознания. Неудивительно, что некоторые философы просто уравнивают субъективность и самосознание (отложив до поры до времени сложности в их разграничении). Они полагают, что за всеми переживаниями стоят сознательные состояния, к которым относится и самосознание. Заметим, что они не утверждают существования субъекта, кого-то, кто этот опыт испытывает. Скорее, что субъективность относится к области сознания. Сознание рефлексивно, выражаясь языком философов. «Рефлексивность есть нечто автоматическое, первазивное, пассивное, нечто, характеризующее сознание изначально», – говорит философ Дан Захави из Копенгагенского университета.
Согласно этой точке зрения мозг должен впитывать моменты самосознания или моменты рефлексивного сознания и конструировать личность, единую и монолитную с виду. Однако нейробиология пока далека от объяснения того, как появляется рефлексивность сознания. И все же, принимая эту черту сознания как данность, теоретики «безличности» говорят, что личности нет, есть лишь моменты рефлексивного сознания.
Джонардон Ганери, философ-когнитивист из Нью-Йоркского университета, полагает, что признание рефлексивного сознания равно признанию личности. «Не понимаю, зачем вообще нужно отрицание личности, – говорит он. – Почему бы просто не сказать, что личность состоит из рефлексивности сознания. Как по мне, это отличное определение личности». Впрочем, Ганери также признает, что даже если сознание рефлексивно, это никак не отрицает существования личности самой по себе, помимо рефлексивного сознания.
Захави приводит аргументы в поддержку такой теории личности: минимальная личность, которая, по его словам, представляет собой ментальную структуру, дающую опыту статус «моего», обзор от первого лица. Подобная минимальная личность должна удерживать более одного момента субъективности, так как множество таких моментов является переживанием одного субъекта.
В случае с людьми с шизофренией утрачивается чувство обладания собственными мыслями. «Нечто минимальное должно сохраниться, чтобы осознать это расстройство», – говорит Захави. Во всех описанных случаях людей с расстройствами личности нельзя отрицать сохранность чего-то минимального: каким бы ни был их опыт – деперсонализация, внетелесность, – оставалось ощущение «моего» по отношению к этому опыту. «Сложно даже представить себе сценарий, потенциально представляющий нам опыт вне любого минимального обладания, – говорит Захави. – Его даже невозможно описать от первого лица».
Поэтому Захави и предлагает концепцию минимальной личности. Но это порождает другие вопросы. Объяснить субъективный характер минимальной личности оказалось не легче, чем объяснить возникновение сознания (на самом деле Захави против мысли о том, что «личность отдельна и независима от сознания», по его словам, «мы не можем понять и воздать должное сознанию, не оперируя понятием минимальной личности»).
Как же тогда минимальная личность формирует синхроническое и диахроническое единство? Захави полагает, что есть, по его словам, нечто между двумя крайностям, минимальной личностью и развернутой нарративной личностью, – форма внутриперсональной личности, сформированная из минимальной личности в раннем детстве путем взаимодействия ребенка с матерью и другими, когда полноценная нарративная личность еще не существует, но ребенок уже развивает личность во взаимоотношениях с другими.
На другом краю спектра – теоретики Адваиты (недуалистического учения). Они утверждают, что существует основное неиндивидуальное сознание, и оно есть субъект любого опыта – не только моего или вашего, но вообще любого – свидетель всего. Безличный субъект. Таково заключение поэмы Ади Шанкара.
Утверждая, что не существует индивидуальной личности, философы Адваиты отклоняются от своих буддийских предшественников. Буддийская версия теории множеств гласит, что «ошибка заключается в том, что мы принимаем лишь один исход событий, тогда как их множество». Философы Адваиты утверждают, что «ошибка заключается в том, что мы видим множество исходов событий, тогда как он всего один», – и это сознание, переживающее все.
Сложно избавиться от ощущения, что нейробиологи и философы (прошлого и настоящего) в своей полемике по поводу существования личности кое-в-чем сходятся, я бы даже сказал, что различия между ними минимальны. Дуализм Декарта умер. Больше никто не утверждает, что у личности есть своя онтологическая реальность, существующая после гибели тела и мозга. Никто также не утверждает, что существует особое привилегированное место в мозге, являющееся хранителем личности. Да, некоторые области мозга важнее других в том, что касается нашего чувства личности: островковая кора, височно-нижнечелюстной сустав, медиальная префронтальная кора – но ни одна из них не является единственным вместилищем личности. Никто не спорит с тем, что нарративная личность – это фикция, история без рассказчика. На самом деле все, что составляет личность-объект, включая чувство обладания телом, может быть оспорено. Вместо картезианского дуализма, отводившего телу статус сосуда, мы теперь имеет картину чувства личности как результата нейронных процессов, тесно связанных с телом, – процессов, совмещающих мозг, тело, разум и даже культуру, чтобы сотворить тех, кем мы являемся. Остается лишь дать удовлетворительное объяснение личности-субъекту, познающей личности, и здесь начинаются различия. Как возможна субъективность опыта? Происходит ли эта субъективность из минимальной личности, как говорит Захави, или же по причине рефлексивности сознания, или из-за взаимодействия психофизических элементов (как считают Деннет или Метцингер) – вот где сейчас кроется загадка личности.
Помимо интеллектуальных и философских споров существуют страдания простых людей. И с точки зрения того, что пережили люди, описанные в этой книге, крайне важно понять природу личности. Если, как утверждают буддисты, страдания вызывает наша иллюзорная привязанность к кажущейся реальной личности, то понимание ее природы поможет облегчить страдания (как мы знаем, различные аспекты личности, составляющие личность-объект, из-за динамики мозга действительно могут быть отделены от нас). Ганери указывает на то, что буддисты приравнивают страдания людей к болезням личности из-за того, что мы слишком часто ставим личность на первое место. Так, расстройства видятся нам дефицитом, а все прочее – механизмы, позволяющие с ним справиться, лекарства, терапии – происходит из этого понимания. Но что, если смотреть на расстройства личности не как на результат дефицита, но как на результат одержимости идеей личности? Освобождение от нее может иметь терапевтический эффект.
Мне вспоминается беседа с Джеффом Эбагелом, переживавшим периоды деперсонализации с позднего подросткового возраста, с которым мы кратко познакомились в главе 5. Эбагел рассказал, что вся его жизнь превратилась в тяжкий труд в попытке установить, что с ним не так, почему он чувствует себя отстраненным от себя самого. Медикаментозное лечение помогало до определенного момента. «Лекарства помогали уменьшить разрозненность мышления, так как это было крайне некомфортно, просто потому что я не чувствовал себя целым, я чувствовал себя разделенным, разбитым, – говорил он, – лекарства помогли мне собраться, но то чувство личности, которое у меня было в восемнадцать лет, уже было не восстановить». Чтобы понять свое состояние, он обратился к трудам философов, предполагавших, что разрозненное эго и распад его единства приводят к новому состоянию бытия. «Я думаю, в древних культурах можно найти параллели с тем, как мы сейчас видим деперсонализацию. Они искали ответы на вопросы, пытались ее понять», – говорит Эбагел. Он, в некотором смысле, отпустил часть себя самого в прошлом или, по крайней мере, оставил попытки вернуть их. «С точки зрения пациента у вас есть два выбора: можно перепробовать все возможные медикаменты и терапии, пока вы не обретете свое чувство личности таким, каким оно было раньше; или вы можете сказать самому себе: “Ладно, у меня осталось пятьдесят процентов, давайте-ка разберемся, куда делись еще пятьдесят и что это вообще значит”».
Этот путь по-своему хорош. «Самый важный вопрос: считаете ли вы деперсонализацию расстройством или же просто другим состоянием ума? Считаете ли вы ее, за неимением лучшего слова, чем-то вроде начала пути к пробуждению? – говорит Эбагел. – Мне понадобилось время, чтобы принять деперсонализацию просто как изменение восприятия. Это изменило мой взгляд на жизнь, показав, насколько она скоротечна и мала по сравнению со вселенной».
Конечно, то, что удалось сделать Джеффу, требует определенных когнитивных усилий. Тот, кто страдает от шизофрении или аутизма в тяжелой форме или же от синдрома Котара, увы, не сможет сбежать от своей феноменальной личности: для них все эти разговоры о личности и безличности не имеют никакого смысла. Невозможно также ожидать от человека с Альцгеймером, что он справится с потерей нарративной личности, осознав, что рассказчика не существует.
Но некоторые из них – с легкой формой шизофрении, деперсонализации или, возможно, BIID – могли бы получить пользу от знания о природе личности. И, конечно, не только люди с нарушениями личности могут получить от этого пользу.
В нашем эволюционном прошлом должен был быть такой момент, когда появились проблески познающей личности. Это был грандиозный момент. Это дало нашим предкам преимущество в выживании. Осознавать свое тело, иметь возможность направить на него свое внимание – это большой шаг для эволюции. Но этот процесс – сложное взаимодействие активных областей мозга – был нужен, чтобы контролировать тело. Эволюционируя дальше, мы развили различные формы долговременной памяти, нарративную личность; научились на своих ошибках, начали планировать будущее. Мысли о прошлом и будущем добавились к нашей личности-объекту. Мы прошли путь от созданий, живущих здесь и сейчас, до созданий, населяющих абстрактный временной отрезок. Но как бы эфемерны ни были наши мысли, ответ, хороши они или плохи для нас, по-прежнему давало тело. Это могло быть чувство восторга, или неприятное чувство в животе, или еще тысячи вариантов ощущений, от ликования до подавленности. Чувства и эмоции предназначались для побуждения к действию, двигаться к удовольствию и радости, от боли и печали. Помимо того что раньше мы испытывали эти чувства, приближаясь к источнику еды в лесу или убегая от хищника, теперь мы могли ощущать их в ответ на наши мысли, хотя они могут и не быть направлены на выживание. Это и сделало нас тем видом, которым мы являемся, с обществом и культурой, искусством и технологиями, и это самое прекрасное в человеке. Это же сделало нас ненасытными. Большинство из нас, представляя, что имеет больше, чувствует удовлетворение и безопасность; представляя, что имеет меньше, испытывает обратные чувства. И мы действуем сообразно с этими чувствами. Теперь мы обязаны обеспечить выживание концептуальной личности, а не только телесной, – и эта воображаемая личность не имеет границ в своей грандиозности. Беспокойная природа личности дала нам аскетов и ученых, посвятивших изучению личности свои жизни, она же подарила нам склонность r нарциссизму и излишествам. Не будет преувеличением сказать, что многие пороки общества вызваны безудержной концептуальной личностью, вечно желающей большего, сражающейся за овеществленные идеи: идеологическое религиозное упрямство; пропасть между богатыми и бедными; гегемония сильных, милитаризованных государств над более мелкими; бесконечное высасывание природных ресурсов.
Примирившись с вымышленной природой личности (не беря в расчет нерешенный вопрос с субъективностью), мы ограничим самих себя. Неясно, впрочем, достаточно ли будет одного лишь интеллектуального понимания. Буддисты развили концепцию «безличности» не для интеллектуальных аргументов, но для философского объяснения опыта, получаемого при медитации. «Вне всяких сомнений, «безличность» – очень важная идея, – говорит Джордж Дрейфус, адепт «безличности». – Но она пытается дать имя опыту, открывающему людям в основном во время медитации. Этот опыт имеет глубокие трансформирующие последствия, сдвигающие фокус восприятия с «я», раскрывающие человека для других и так далее».
В буддизме и Адваите идея «безличности» происходит из стремления облегчить страдания человека. Корень страдания, по их мнению, в ошибочной идентификации себя с «я», «меня», «мое». Осознав это и утратив привязанность к личности, мы обретаем освобождение, положив конец страданиям. «Основная мысль буддизма заключается в том, что осознанная привязанность к личности является сама по себе патологией, чем-то вроде болезни», – говорит Джонардон Ганери.
И имя этой болезни – личность.
Послесловие
Когда была опубликована книга «Человек, которого здесь не было», я получил электронное письмо от одного человека – я буду звать его Тед – у которого отец умер от Альцгеймера много лет назад. Тед услышал, как я выступал по радио и рассказывал о синдроме Котара, и ему вспомнился случай с отцом. Однажды отец сказал Теду, что умрет этой ночью. «Перед отходом ко сну он дал мне кое-какие вещи, которые он хотел спрятать, чтобы они не напоминали матери о нем. На следующее утро он настаивал на том, что он умер ночью, как и собирался. Это была самая ясная его мысль за последние месяцы, хотя и совершенно абсурдная», – писал Тед.
Подобные иллюзии совершенно не чувствительны к доводам рассудка. Отец Теда начал готовиться к похоронам. «Чем больше мы пытались убедить его, что он жив, тем больше он уверял нас, что он умер. Он стал беспокоиться, что нас ждут в морге, – рассказывает Тед. – Мы сказали ему, что для начала нужно пойти к врачу, чтобы врач подтвердил его смерть, иначе никаких похорон. Он согласился, поехал в больницу и через несколько дней вернулся домой. Таких странностей больше не повторялось, он прожил еще восемь месяцев». То, что узнал Тед о синдроме Котара, помогло ему понять «самый странный случай» в его жизни.
Писали мне и другие люди. Один родитель, у которого ребенок страдал расстройством чувства телесной личности, хотел понять, как нарушенное восприятие может ощущаться настолько реально.
Эти письма отвечали мои собственным настроениям. Наше чувство личности создается нашим телом и мозгом, и, что бы мы ни чувствовали, мы в конкретный момент времени являемся так называемой феноменальной личностью, такова наша реальность. Большинству из нас повезло, наша феноменальная личность «нормальна»: воспринимаемая нами реальность совпадает с физической реальностью – нашего тела и окружающего мира. Но так повезло далеко не всем.
Написание этой книги было сложным эмоциональным опытом. Неосознанно изменились мои взгляды на то, что значит быть признанным психически нездоровым. Термин «психическое заболевание» в большинстве культур приравнивается к безумию. Психически нездоровые люди подвергаются стигматизации. Человек, страдающий от рака, скорее, вызовет сочувствие, а человек с психическим заболеванием, вероятнее всего, будет внушать окружающим страх. Трудно сочувствовать тому, кого боишься. Часть этого страха вызвана осознанием того, что каждый из нас может однажды потерять контроль над своим разумом.
Но этот страх также происходит оттого, что мы привыкли ставить разум выше тела. Этим мы обязаны Декарту с его «мыслю, следовательно существую», философией, подарившей нам дуализм, отделивший разум от тела. Да и не только Декарт. Все мы интуитивно отделяем разум от тела, считая, что разум контролирует тело. Так что нетрудно понять, почему мы боимся болезни разума больше, чем болезни тела.
Но, как следует из описаний нейропсихологических состояний в этой книге, эта дихотомия ложна и ведет нас в тупик. В каждом из этих состояний аспекты личности, приписываемые мозгу и, следовательно, автоматически разуму, на самом деле связаны с телом.
Например, аутизм. Детям, страдающим аутизмом, часто ставят диагноз на основе особенностей поведения. Например, у них есть сложности с социальным взаимодействием, отношениями с другими детьми. У них проблемы с теорией разума, способностью, которая есть у всех нас, делать выводы о том, что думает другой человек на основе его действий, языка тела, поведения и тому подобного. Нетрудно понять, почему нарушения теории разума могут привести к сложностям в общении.
Идея того, что мозг, тело и разум являются неразрывным континуумом, важна и для других состояний. Например, деперсонализацию – расстройство, при котором люди чувствуют себя оторванными от своего тела и эмоций, – можно несколько облегчить, выполняя задания, требующие напряженного внимания к телу, такие как теннис или игра на барабанах. Вот и доказательство того, что все психическое тесно связано с телом.
Избегая Декартова дуализма, я вовсе не предлагаю свести все ментальное к материальному. Это предмет другого разговора, и нейробиологам предстоит долгий путь, чтобы выяснить, как ментальное происходит из материального. Но совершенно ясно одно: если мы поймем, что ментальное и физическое вовсе не так далеко друг от друга, как мы привыкли думать, что разум не господствует над телом, что тело является основой чувства личности (и, следовательно, любых расстройств личности), тогда мы сможем не только научиться помогать телу справляться с ними, но и дестигматизировать ментальные расстройства. Это такие же болезни, как и все прочие.
Самым важным откровением во время написания книги для меня стало то, что вне зависимости от тяжести состояния там внутри всегда остается «я», личность, страдающая от этого состояния. Мы можем сколько угодно спорить о природе этого «я», но оно, без сомнения, является основой феноменальной личности. И обратив внимание на феноменологию – прожитый опыт – состояния, мы сможем на деле понять, что это значит – иметь шизофрению или аутизм. Значит, нужен комплексный подход, включающий мозг, тело, разум, личность и даже культуру. И вместо того, чтобы относиться к человеку как к шизофренику, важно принимать его как человека, испытывающего шизофрению. Различие на первый взгляд невелико, но какая разница в отношении к страдающему!
Благодарности
Эта книга начинается древней буддийской притчей, датируемой примерно 200 г. н. э. Я искренне благодарю Джонардона Ганери за то, что он рассказал мне эту притчу и позволил использовать ее английский перевод из его книги «Личность».
Написание моей книги было бы невозможно, если не невероятная доброта и открытость людей, поделившихся со мной своими историями. Некоторых из вас я благодарю, используя псевдонимы, но вы и сами себя узнаете.
Спасибо Мишель и Алану за то, что они пригласили меня к себе домой и потратили время на разговоры состоянии Алана – увы, Алан скончался вскоре после нашего знакомства. Спасибо Клэр за то, что поделилась историей отца и позволила навестить его в доме престарелых. К сожалению, отец Клэр был на поздней стадии Альцгеймера, и я могу лишь догадываться, понял ли он что-нибудь, когда Клэр представила ему меня. Спасибо ему.
Спасибо Патрику и Дэвиду, которые впустили меня в свои жизни и доверились мне, несмотря на все риски. Я очень благодарен им обоим за то, что они позволили мне присоединиться к ним в путешествии к доктору Ли, который позволил мне присутствовать на ампутации ноги у Дэвида. Эта история впервые появилась в журнале MATTER в октябре 2012, и я благодарю Джима Джайлса, Бобби Джонсона, Роджера Ходжа за то, что это произошло.
Я выражаю благодарность Лори и Софи за то, что они поделились очень личным опытом – рассказали о шизофрении. Их внимательный взгляд на свое состояние оказался для меня, пытавшегося понять чувство измененной реальности, бесценным. Спасибо Питеру, мужу Лори, за то, что рассказал об этом с точки зрения партнера.
Я благодарен Николасу и его невесте Жасмин, за то, что они помогли мне понять деперсонализацию, приемной матери Николаса Тэмми и его врачу, за то, что поделились своим видением. Спасибо Джеффу Эбагелу за то, что ознакомил меня со своим состоянием, и за то, что познакомил меня с Николасом. Спасибо Саре за то, что она нашла время поговорить о своем кратком, но пугающем опыте деперсонализации, спасибо Эллен Петри Линс за знакомство с Сарой.
Джеймс Фейи, красноречивый защитник всех, кто страдает синдромом Аспергера, помог мне понять, каково это быть взрослым человеком с расстройством аутического спектра и при этом жить, не будучи скованным психиатрическими определениями и навязанными обществом границами. Я искренне ему благодарен. Как и моим друзьям Сьюзан и Рою и их сыну Алексу за то, что впустили меня в свою жизнь и открыто рассказали об Алексе и об их сражении с аутизмом.
Моя сердечная признательность – моей кузине Шобхе и ее мужу Ашоку за разговор об Эшвине – это должно было быть непросто, ведь он умер не так давно, но они позволили мне описать его опыт доппельгангера. Спасибо Крису и Соне за эмоциональное путешествие во времени – разговор о брате Криса, который умер совсем молодым, – это было нелегко для них. Спасибо Томасу Метцингеру за честный рассказ о его внетелесном опыте и за то, что так терпеливо разжевывал мне свою философию личности раз за разом.
Я благодарен Закари Эрнсту за помощь в постижении сути экстатических припадков; его подкованность в философии помогла мне понять такие, на первый взгляд, мистические вещи. Спасибо Катрин и Альберику, матери и сыну, за приглашение в Ромон, где на фоне потрясающей красоты Швейцарских Альп Альберик рассказывал об эпилепсии по-французски, а Катрин переводила.
Спасибо всем им, что прочли и проверили, что я о них написал.
Выражаю благодарность многим ученым, докторам и философам, которых я цитировал в этой книге (и некоторым, которых не цитировал): они уделили мне время и силы, поделившись своим экспертным мнением – лично, по телефону или в переписке; многие из них читали части этой книги и вносили ценные предложения и коррективы. Я перечислю их в порядке упоминания: Адам Земна, Дэвид Коэн, Стивен Лорис, Уильям де Карвальо, Атена Демерци, Лионель Наккаш, Шон Галлахер, Пиа Контос, Робин Моррис, Уильям Джагаст, Сьюзан Коркин, Брюс Миллер, Джиованна Замбони, Пол МакГеок, Майкл Фирст, Джудит Форд, Ральф Хоффман, Готтфридд Фосгерау, Мартин Фосс, Ник Медфорд, Хьюго Критчли, Санжеев Жен, Р. Рагурам, Элисон Гопник, Ута Фрит, Элизабет Торрес, Франческа Хаппе, Питер Хобсон, Филип Роша, Джейкоб Хоуи, Питер Энтикотт, Олаф Бланке, Лукас Хайдрих, Бинья Ленггенхагер, Хенрик Эрссон, Арвид Гутерстам, Манос Цакирис, Томас Грюнвальд (разрешивший мне присутствовать на нейрохирургической операции), Фабриче Бартоломеи, Бад Крейг, Антуан Бешара, Джонардон Ганери, Дан Захави, Джордж Дрейфус и Геше Нгаванг Самтен.
Я выражаю особую благодарность Питеру Бруггеру, Луи Сассу, Анилу Сету, Томасу Метцингеру и Фабьен Пикар, всех, кто зашел дальше, чем было бы разумно ожидать, выдерживали бесконечные письма, телефонные звонки, принимали меня в кабинетах и лабораториях, проверяли части этой книги с безграничной щедростью.
Спасибо моим друзьям: Кэролайн Сиди за помощь со всем, связанным с французским языком; Шринат Перур за вычитку и комментирование всей книги; Раджеш Кастуриранган и Викрамаджит Рам за ценные замечания; Вину Нарайян за поддержку от начала и до конца; С. С. Аравинда за перевод «Нирвана Шатакам» с санскрита на английский.
Нет необходимости говорить, что все ошибки, которые все еще остались в книге, целиком на моей ответственности.
Спасибо моему агенту Питеру Таллакку в издательстве Science Factory. Спасибо, как всегда, Питер. Спасибо моему редактору Стивену Морроу за то, что внимательно слушал меня, видел в этих историях то, что видел я, за то, что деликатно руководил изданием этой книги.
Мои друзья и коллеги по New Scientist – спасибо вам за то, что вы делаете. Я всему научился здесь и продолжаю учиться.
Теплейшая признательность вам, мои друзья, приютившие меня в моих странствиях: Кэролайн Сиди, Алок Джха, Бану и Рамеш, Виджай и Хема, Маитили и Прасад, Рао и Кинкини, Анджали и Киран, Суручи и Бирай.
Мне удалось последние три месяца посвятить только моей книге благодаря тому, что мои родители взяли на себя заботу обо всем остальном: от регулярного кофе до питательных овощных супов. Спасибо моим родителям, сестрам, зятьям, племяннице и племянникам – спасибо за вашу поддержку и любовь.
