Мастер по случаю. Мемуары о работе в колледже бесплатное чтение
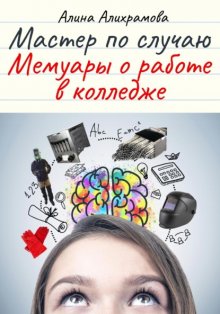
Кораблю, чтобы остаться у берега, нужен якорь.
Иначе приливная волна может унести его
и разбить о камни, каким бы большим он ни был.
Человеку во время бурных волн невзгод, как и кораблю,
тоже необходим какой-то якорь.
Тот, который удержит его на плаву в бушующем море жизни.
Таким якорем для меня однажды стала
работа мастером производственного обучения в колледже.
История 1. Страшное матерное слово
После того как я 1 сентября 2019 года устроилась работать мастером производственного обучения в колледж химических технологий, в моём словаре появилось страшное матерное слово из трёх букв – «КХТ».
До этого я не использовала такие слова в своей речи.
Как только я пришла на работу, мой непосредственный руководитель провела со мной инструктаж. За полчаса она успела наговорить так много всего, что мне стало страшно… Прошло несколько лет, и большую часть сказанного я уже забыла. Но одно я помню, будто это было вчера:
– Что бы ни происходило, – в какой-то момент сказала она, – у нас в КХТ ни в коем случае нельзя материться! Это запрещено.
– Я не матерюсь, – робко ответила я.
– Ну это ты ещё со сварщиками не работала, – заметила старший мастер. – Они тебя быстро научат.
И ведь действительно научили. От широты своей души, не иначе.
Как я вообще туда попала? Мне бы и в страшном сне не приснилось, что я буду мастером у группы юных сварщиков в училище. Ой, простите, в колледже. Да ещё продержусь там целых три года – до самого выпуска группы. Это я-то, интроверт-невротик?!! Хм, что за… странная фантазия?!
А началось всё с того, что мне несказанно повезло…
Предыстория
Супер! Наконец-то повезло! – подумала я, когда в конце декабря 2018 года моему сыну дали квоту на бесплатное прохождение МРТ в нашем городе. Врачи если и давали заветный талончик, то часто приходилось ехать в другой город.
Талон на МРТ я тщетно выпрашивала у врача уже 3 года, с тех пор как в 10 лет эндокринолог назначила моему сыну МРТ головного мозга. Конечно, магнитно-резонансную томографию можно было сделать и в коммерческой клинике. Но стоимость этого обследования на тот момент составляла почти половину моей зарплаты, поэтому платно мы его делать не планировали.
Моя зарплата после вычета всех налогов была чуть выше прожиточного минимума. У мужа зарплата была аж в 2 раза больше, поэтому совместного дохода нам хватало только на еду, коммунальные платежи, лекарства и оплату городского транспорта. Одежду муж себе покупал в магазинах секонд-хенд со скидкой от 70%. Себе я одежду не покупала: у меня с матерью был общий размер. Вещи для сына я обычно брала в благотворительной организации, и это было совсем непросто. Туда только отнести старые вещи легко, а вот попробуй взять… Однако это уже отдельная история.
И вот неожиданно такой приятный сюрприз к Новому году! Прямо подарок от Деда Мороза.
К назначенному времени мы прибыли в частную клинику. Чистое светлое помещение, запах свежести и никакой очереди. Сына проводили на обследование. Ждала я не слишком долго, минут через сорок он вернулся. Ещё минут десять мы ждали распечатку результатов. Наконец вынесли снимки и заключение. Шелестя довольно тонкими листами – на качестве бумаги здесь почему-то сэкономили – я быстро просматривала текст. Взгляд зацепился за слово «новообразование».
– Это что, у него опухоль? – заторможено спросила я медсестру.
– Со снимками обратитесь к своему специалисту. Врач объяснит вам всё и назначит лечение, – равнодушно сказала она.
Посмотрев на меня, она смягчилась и добавила:
– Да вы не волнуйтесь, опухоль-то крошечная, милипизерная такая, всего полтора сантиметра. Совершенно нет причин для беспокойства.
К детскому неврологу можно было попасть, получив талон у педиатра. Несколько талонов на приём выдавались в начале каждого месяца. Желающих было много, и талоны разбирали быстро – в течение двух-трёх дней. В конце месяца, как сейчас, талонов уже не было. На платный приём денег перед Новым годом было откровенно жаль. Поняв, что в ближайшее время к специалисту я не попаду, решила погуглить диагноз сына.
– Ок, Гугл. Что такое «глиома»?
Как обычно, появилось множество ссылок, а внизу – рубрика «похожие запросы». Чтобы получить более точный ответ, иногда стоит переформулировать запрос. Просматриваю варианты, обнаруживаю запрос – «Сколько живут с глиомой?». А вот это уже интересно.
Открываю ссылку, читаю: «В настоящее время пациенты с глиомой живут до 5 лет. Такой длительный срок жизни обусловлен развитием современной науки и техники… Бла-бла-бла… и так далее и тому подобное…»
– Чё?!! Ему же только 13 лет. Мой сын, получается, в лучшем случае доживёт только до 18? Ааааа!
Статью я прочла несколько раз, но так и не смогла понять, по какой причине люди с глиомой не живут дольше пяти лет. Такая неопределённость вселяла надежду. Но впоследствии ни один врач – ни невролог, ни нейрохирург, ни онколог не сказали мне, что с моим сыном всё будет в порядке. Скорее, наоборот. Наши медики обычно настроены решительно: врач сказал – в морг, значит, в морг. Перестраховщики.
Под Новый год мне позвонил отец из реанимации: с ним случился инфаркт. Счастье, что выжил. Обычно мы не общались, но ему в больнице срочно понадобился хотя бы минимальный набор пациента: посуда и тапочки. Его привезли из района на скорой помощи с одним полисом. Я быстро собрала всё необходимое. Пришлось занять тарелку на работе, чтобы успеть в больницу в часы посещения. От помощи коллеги потеплело на душе – до этого у нас не складывались отношения.
В палату реанимации меня пропустили беспрепятственно. Отец лежал на кровати: худющий, весь какой-то скрюченный, с кожей воскового цвета. Пуловер на нём с неожиданным разрезом сбоку покрывали пятна запекшейся крови. Видимо, врачи «неотложки» подключали аппарат для реанимации, не тратя время на раздевание. Мы с отцом никогда не были эмоционально близки, но в тот момент мне стало сильно «не по себе».
Увидев меня, он обрадовался и слабо улыбнулся.
– Здравствуй. Где твоя жена? – спросила я у него. Отец не ответил.
Около тридцати лет назад мой отец развёлся с моей матерью и женился на любовнице. Брак по любви продлился несколько лет и стоил ему жилья. В итоге отцу пришлось переехать жить из города в соседний посёлок. Тем не менее, устав жить один, в 60 лет он снова женился, и снова по любви.
С трудом разговорив отца, я узнала: его жена ещё осенью уехала в Москву проходить медицинское обследование. Возвращаться в посёлок городского типа, где жил мой отец, она не торопилась. Известие об инфаркте супруга тоже не сильно повлияло на её планы. Хотя она всё же пообещала моему отцу по телефону, что приедет после новогодних праздников.
Время посещения больного в реанимации ограничено. Я ушла, пообещав отцу прийти к нему завтра. Мои новогодние праздники разнообразились походами к отцу в больницу. Начинался 2019 год просто превосходно.
Однако всё было не так уж и плохо. Никто ведь пока не умер.
После новогодних праздников мне всё же удалось попасть к неврологу. Выяснилось: никаких лекарств моему сыну не назначат, потому что лечения в его случае не существует – заболевание генетическое (сейчас это очень модно). Пока нужно всего лишь проходить МРТ несколько раз в год. И показывать результаты нейрохирургу, конечно же.
Если опухоль продолжит расти, потребуется операция на головном мозге. Последствия такой операции непредсказуемы: человек может стать "овощем". Ведь никто не гарантирует нормальную работу мозга и нервной системы после хирургического вмешательства. Но если не сделать эту операцию вовремя, опухоль продолжит давить на мозг, и мой сын, скорее всего, станет инвалидом или умрет.
На приём к нейрохирургу нужно было ехать в Республиканский медицинский центр. Делать МРТ требовалось там же, чтобы снимки остались в базе клиники. Хорошая новость: по направлению от нейрохирурга МРТ делают бесплатно. Деньги будут нужны только на дорогу до города Казань и обратно. А это раза в три меньше стоимости МРТ с контрастом у нас в городе. Плохая новость: перед МРТ каждый раз нужно почти неделю сдавать анализы и мне, и сыну – по документам нас «кладут в больницу».
На моей работе не так давно произошла реорганизация. На кафедре я осталась единственным сотрудником на полную ставку: с 8 до 17 часов пять дней в неделю. Отпрашиваться куда-либо с работы каждый раз было той ещё нервотрёпкой. Поход в поликлинику с ребёнком, по мнению начальства, не являлся уважительной причиной. Немного лояльнее относились, если к врачу нужно было мне самой. Видимо, выглядела я доходягой.
Перед каждым обследованием в Казани я с ужасом думала: как же мы будем сдавать все эти анализы? Если какого-то анализа не будет хватать, МРТ делать не станут. Там и так каждый день длинная очередь – люди едут со всей Республики.
В общем, как новый год начался, так он и продолжился: с посещением различных больниц, нервотрёпками и подарками Деда Мороза в виде бесплатных МРТ.
Первое же обследование в Казани показало, что опухоль за 3 месяца выросла на пол сантиметра. Зная, что обхват головы человека снаружи в среднем около 59 см, понимаешь, что места под черепом не так уж и много.
Участковый невролог посмотрела снимки, и они ей не понравились. Не то что бы они мне самой нравились – что хорошего в выросшей опухоли? Но, конечно, я поинтересовалась, в чём же дело? Оказывается, в центре опухоли было уплотнение. И сейчас это уплотнение оформилось в своеобразный «скелет», окрепло и подросло. Логично предположить, что скоро опухоль ускорит свой рост, наращивая на этот «скелет» объём. Время до операции пошло.
В конце весны мой муж неожиданно остался без работы. Хозяин закусочной, в которой муж работал поваром, вдруг всё бросил и уехал в другой город. Закусочная закрылась. Зарплаты в ближайшем будущем не предвиделось. Поскольку жили мы в основном на зарплату мужа, стало понятно, что придётся залезать в сбережения.
У нас в жилищном кооперативе «Триумф – НК» лежал небольшой вклад под хороший процент (мы откладывали деньги на отпуск). Каждый год летом мы его забирали и уезжали на юг. Осенью снова вносили минимальную сумму, и до весны подкладывали деньги. На отпуск хватало. В прошлом году большая часть вклада осталась нетронутой. Расходы на отпуск были меньше – муж с нами на юг не поехал.
– В этом году придётся забрать деньги без процентов. Срок-то не вышел, – пожаловалась я мужу по дороге в офис «Триумфа».
– Ну, что поделаешь? Деньги-то нужны. Вам скоро снова в Казань ехать, – мрачно заметил муж.
– В Казань-то много не нужно, на дорогу уйдёт не больше трёх тысяч. А вот летом нам всем троим в Москву надо будет поехать – на консультацию к генетику и генетический анализ крови сделать сыну. Хорошо если анализ бесплатно сделают, как обещали. А если платить заставят? Он не меньше тридцати тысяч стоит, а то и пятьдесят. Генетические анализы вообще дорогие, а тем более в Москве…Ещё где-то ночевать надо будет. Туда-обратно за день вряд ли успеем, даже на самолёте. Значит, ещё нужны будут деньги на хостел и на дорогу до Москвы туда и обратно на троих.
– А мне зачем ехать? Вдвоём поедете, вот и сэкономим.
– Ты – носитель заболевания, врач захочет тебя осмотреть, расспросить. Ты там нужен будешь.
За размышлениями незаметно дошли до места. В офисе «Триумф –НК» было необычно многолюдно. К трём сотрудницам вели длинные очереди. Пожилые люди переоформляли вклады на второй срок: им обещали более выгодный процент. Семьи пайщиков ожидали консультаций по вариантам жилья. Но большинство людей пришли, чтобы закрыть вклад и забрать свои деньги.
Примерно через час ожидания в общий зал вышла директор «Триумф – НК» Анисимова – женщина лет пятидесяти пяти с тщательно уложенной залакированной причёской – и объявила:
– В настоящее время все средства кооператива «Триумф-НК» вложены в жилищный фонд, свободные деньги появятся только после продажи квартир пайщикам. Сейчас вы можете продлить договор или открыть новый вклад под более выгодный процент. Надеюсь на понимание.
– Хорошо, спасибо, – сказал мой муж. А очередь загудела, и люди толпой обступили Анисимову, ещё на что-то надеясь.
– Пошли отсюда! – предложила я. – Как говорится, встретимся в суде.
Высказывание в стиле: «денег нет, но вы держитесь» обычно не предполагает других вариантов. Стало ясно, что денег в ближайшие несколько месяцев не предвидится.
В то время я не умела скандалить. Не сказала бы, что и сейчас умею. Но раньше я вообще считала, что скандалить, а тем более прилюдно – недопустимо. А мой муж с окружающими всегда старался быть «хорошим». «Плохой» в нашей семье обычно была я. Кому-то ведь нужно было отстаивать интересы семьи.
Мне удалось записаться на бесплатную консультацию к юристу. От него я узнала, что вкладчики подают в суд на жилищный кооператив «Триумф – НК» еще с прошлого года. Надеяться, что в кооперативе нам добровольно отдадут деньги уже давно не стоит.
Однако и в суд мы сейчас подать не могли. Услуги юриста по подготовке документов для суда, услуги адвоката в суде и сами судебные издержки стоят денег, которых у нас нет. Мда. С судом я, похоже, погорячилась.
Теперь и консультации врачей в Казани и Москве становились для нас проблемой. Моей зарплаты хватало, чтобы оплатить все коммунальные услуги, городской транспорт и школьное питание сыну. На еду денег уже не оставалось. После потери работы муж время от времени находил подработку. На эти деньги мы и питались. Деньги были небольшие, и доход был непостоянный. Оставалось порадоваться, что хоть у меня была постоянная работа. Хотя бы выселение из квартиры нам не грозило.
Ворох мелких проблем на фоне неизменно плохих новостей постепенно «давил» на психику. До этого жизнь была стабильной, привычной, более-менее удобно устроенной за много лет. Теперь она, казалось, пошла трещинами, и рассыпалась песком, куда ни ткни.
В какой-то момент у меня пропало желание жить. Словно что-то резко выключилось внутри. Мне стало всё глубоко безразлично. Я переходила улицу на «красный» свет, не замечая светофора, и не обращая внимания на сигналы машин. К счастью, пешеходных переходов со светофорами на моём пути обычно не было. На автомате ходила на работу, и даже что-то там делала. Что я делала дома, не помню. Скорее всего лежала, и смотрела в потолок. Где-то умудрилась подхватить вирус, и не лечилась, естественно. Мне было всё равно.
Ковида тогда ещё не было, поэтому в пневмонию заболевание перешло только месяца через полтора. Да я бы и тогда к врачу не пошла, но у меня что-то стало болеть в груди. Особенно ночью. Несильно, но спать я не могла. А утром надо было как-то идти на работу, и весь день работать с документами (в то время я фактически была документоведом). В общем, промучившись пару ночей, я все же пошла в поликлинику. Боль я переношу довольно плохо, даже небольшую.
Дежурная врач сразу отправила на рентген, и через час готовый снимок показал пневмонию. Средняя такая пневмония, даже не двусторонняя. Где-то четверть лёгкого поражено. Очень странно. Обычно при пневмонии ничего не болит. По ощущениям я думала, что у меня там уже воспаление сердца началось.
Врач объяснила: боль у меня из-за того, что нервы в грудине воспалились от пневмонии. И это очень хорошо. Иначе я бы ещё долго ничего не чувствовала, а потом стало бы слишком поздно.
Умереть можно от любой пневмонии: не только от атипичной или ковидной.
В больницу я ложиться пока отказалась, и врач назначила анализы и антибиотики. На повторный снимок и приём меня записали через три дня, чтобы не пропустить ухудшение болезни.
Наконец-то я дома! Пока никого нет, можно спокойно подумать. Я ведь почти подошла к точке невозврата. Вопрос: я действительно хочу умереть прямо сейчас? Если да, то это уже легко устроить. Достаточно просто и дальше не лечиться.
Конечно, если я умру, болезнь сына станет уже не моей проблемой. А чьей проблемой она станет? Кто будет ездить с сыном на приём к врачам в Казань и делать МРТ каждые три месяца? Туда ещё записаться надо за два месяца до приёма и кучу анализов сдать. Мой муж, который обычно ничем подобным не занимался?
Если муж всё же ходил с сыном в поликлинику, то с трудом объяснялся с врачами. Часто он просто звонил мне и передавал врачам трубку. Сейчас он пока не работает. А когда будет работать как всегда по четырнадцать часов каждый день, кроме воскресенья? Он сможет всем этим заниматься? Вряд ли.
Ну тогда, наверное, это сможет делать моя мать – пожилая женщина, убитая горем? Совсем не смешно. А ведь если упустить момент, не удалить опухоль, когда она сильно вырастет, мой сын станет «овощем» или умрёт.
Нужно как-то «завязывать» с этими играми в самоубийство. Сын ведь пока жив. Знать бы ещё, как это сделать…
Для начала нужно вылечиться. Я сходила в аптеку. Антибиотики оказались недорогими, и таблетки я купила. А вот в успехе этого лечения уверена совсем не была. Я давно не принимала антибиотики: на многие из них мой организм просто не реагирует. При серьёзных заболеваниях положено сдавать анализ на чувствительность к препаратам. Однако их просто назначают методом «научного тыка». И меняют так же, не проверяя, если антибиотик не подошёл. При мне одному ребёнку в больнице раза четыре так меняли лекарство. Не знаю, чем закончилось дело, нас с сыном тогда выписали.
Дома я старалась всегда держать запас интерферона и бактериофага на один курс. Сын, как и я, с антибиотиками с детства «не дружит».
При первых признаках простуды я сразу капала интерферон, и болезнь быстро отступала. Но бывало, что капли не помогали. Болезнь продолжала развиваться. Тогда приходилось долечиваться бактериофагом. Препарат был дорогим, но очень эффективным.
Сейчас часть пустого места в холодильнике занимали лекарства. Удобно иметь запасы! Покупаешь, когда есть деньги. Применяешь, когда понадобится. Итак, всё необходимое для лечения у меня есть. Но поможет ли?
Все верующие знают простую истину: лечит врач, но исцеляет только бог. «На тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек…» – сказано в псалме Давида. Пришла пора просить о помощи Бога.
Обычно мне очень тяжело просить о чём-то других. Даже Бога. Особенно Бога.
Бог и так даёт всё, что тебе нужно. В конце-концов, он дал тебе разум, чтобы ты мог сам решать свои проблемы. И если ты просишь о чём-то особенном, то берёшь на себя дополнительные обязательства. Очень часто выполнять их настолько нелегко, что проще обойтись без излишеств.
Но сейчас мне позарез, как воздух, нужна была уверенность в моём выздоровлении. Я уже слишком долго посылаю сигналы, что не хочу жить. А Бог всё же часто даёт человеку желаемое.
Два дня я интенсивно лечилась, а в перерывах читала вслух всевозможные молитвы из молитвослова. Даже те, которые раньше казались мне унизительными. На третий день я пошла в поликлинику делать контрольный снимок лёгких.
Мрачные мысли одолевали меня, пока я ждала описания снимка после рентгена.
В больницу ложиться не хотелось. Если госпитализируют, придётся лишний раз напрягать своих близких – в больнице всё время что-то нужно. Да и вообще, я терпеть не могу больницы: слишком часто лежала в них с маленьким сыном.
Наконец, мне выдали описание снимка. Читала я его уже по дороге к кабинету врача. На пол пути остановилась посреди коридора, собираясь с мыслями. В глубине души, после стольких усилий и лекарств я ожидала улучшения. Пусть даже небольшого. Но, конечно, я надеялась, что затемнение сектора лёгкого сократится вдвое, или даже до сегмента. А тут…
На снимке лёгкие были чистыми, как будто пневмонии никогда и не было.
Я никогда не слышала о том, чтобы от пневмонии вылечивались за три дня. С детьми, которые лежали с моим маленьким сыном в больнице, такого точно ни разу не произошло. Это же настоящее чудо!
Однако врачи к чудесам относятся очень просто. Терапевт написала в карточке: «Пневмония не подтвердилась. Острый бронхит.» Ну, разумеется. До этого пневмония на снимке была, сейчас её там нет. Какой из этого нужно сделать вывод? Правильно, это была галлюцинация!
С трудом долечившись за несколько дней, на которые врач открыла мне больничный, я вышла на работу. Всё равно скоро отпуск.
И в Казань, и в Москву для обследования сына мы всё же съездили. В отпуске. В Москву, как и собирались, поехали всей семьёй. Деньги нам на дорогу дала моя мать.
Главной проблемой у нас было – где остановиться. Потому что даже на хостел денег уже не было. Какие могут быть варианты? Можно остановиться у друзей, родственников или знакомых. Друзей и знакомых у нас в Москве не было. Однако в Туле жила сестра моей матери, тётя Эмма. От Москвы до Тулы можно доехать на автобусе часов за пять. Ещё чуть дальше, в Тульской области, жили мои родственники со стороны отца. Я не общалась с ними уже больше двадцати лет.
Моя мать часто общалась со своей сестрой. У них были очень тёплые отношения. Мы поздравляли друг друга на праздники. Каждый год хотя бы раз мама старалась приезжать к ней в гости.
– Конечно, остановитесь у тёти Эммы, – уверяла меня мама. – Мы же родные люди.
Тем же вечером моя мама ей позвонила. Тётин ответ неприятно маму удивил. Тётя Эмма была категорически против нашего ночлега у неё. Заночевать после визита к врачу в Москве нам было по-прежнему негде.
Мои тёти со стороны отца были старше меня примерно лет на пятнадцать. За своё детство я им жутко надоела – так они мне говорили. Их заставляли со мной нянчиться каждое лето, примерно с моих пяти лет. Меня просто оставляли на месяц у бабушки, а потом забирали. Когда я подросла, чтобы понимать, они постоянно говорили мне гадости о моей матери. Часто грозили высказать моей маме всё, что они о ней думают. Однако почему-то никогда не высказывали. С подросткового возраста я просто перестала там появляться. Мне бы и в голову не пришло просить кого-нибудь из них о ночлеге.
В детстве я дружила с кузиной со стороны отца. Постоянно приходила к ней, когда приезжала в Северо-Задонск. А приезжала я туда каждое лето до начала 90-х.
Мы не помогли ей, когда она с девятилетним братом остались сиротами. Кузине было 18, но работы с нормальной зарплатой у неё не было. Как и надёжной профессии. Она недавно закончила музыкальное училище.
Вообще-то о помощи нас тогда никто и не просил. Потому что помочь нам в то время было нечем. Родители развелись, и отец в моей жизни не появлялся. Шли 90-е годы. Маме зарплату то не платили, то вообще увольняли с работы. Я училась на дневном отделении в институте, и не работала. Зарплату мало где платили. А там, где платили, я работать не собиралась: проституция всё же не выход из положения.
Хотя о помощи кузина нас и не просила, но всё же надеялась. Говорят, отец на поминках младшего брата разливался соловьем:
– Я не оставлю племянников в беде, – обещал он.
Болтун. Что ему племянники? Ему и до дочери не было дела.
На свою свадьбу через несколько лет кузина меня звать не стала. И я поняла, что обиду она всё-таки затаила. Вряд ли теперь, спустя 25 лет она захочет меня у себя видеть. Тем более не одну, а с мужем и сыном.
Неожиданно для себя, я ей позвонила. Удивительно, но кузина обрадовалась моему звонку. Сказала, что было бы хорошо увидеться. И согласилась принять нашу семью у себя дома на несколько дней.
Итак, в нужный день мы прибыли в Москву, и у нас всё получилось! Врач с нами побеседовала. И генетический анализ сыну сделали бесплатно, как и обещали. После обеда мы уже катились в гости к кузине.
Получается, можно было попасть к врачу и успеть вернуться обратно поздним вечерним поездом, без ночёвки в Москве. Опытные люди, видимо, так и делают. Но мы уже напросились в гости к кузине, и она нас ждёт. К тому же у меня появились грандиозные планы: я решила навестить всех своих родственников в Тульской области. Всех, кто захочет нас видеть, конечно. Это не так сложно, как может показаться. Родные отца и матери живут в двух соседних городках. Ну и тётя Эмма живёт в Туле. К ней мы тоже заедем на обратном пути.
Поездка вышла очень удачной. Кузина приняла нас душевно. С родственниками мы встретились, многие были рады меня снова увидеть. Были и те, кто не захотел встретиться. Однако большинство с удовольствием приглашали нас в гости. Те самые тёти, которым я надоела в детстве, предлагали нам у них переночевать. А тётя Эмма дала нам денег на обратную дорогу.
Всё детство, лет с пяти мой сын мечтал побывать на Красной площади в Москве. Его мечта исполнилась только сейчас. Зато теперь он мог сравнить между собой сразу два Кремля: Московский и Тульский. Мы побывали и тут, и там.
Моя коллега, мастер группы Сварщиков, как-то при мне рассказывала своей группе о преимуществах профессии «Сварщик».
– Профессия «Сварщик» позволяет путешествовать, – утверждала она. И это было одним из главных достоинств профессии в её изложении. Таким же привлекательным, как высокая зарплата профессионального сварщика.
Болезнь моего сына не только вынудила нас путешествовать, но и потребовала возобновить отношения с нашими родственниками.
После отпуска я с новыми силами вышла на работу. С утра пошла к начальству узнать, что нужно срочно сделать. Меня же долго не было.
– Директор собирается уволить весь вспомогательный персонал на кафедрах, – «обрадовала» меня заведующая нашей кафедрой. – Документоведов, инженеров, лаборантов… – всех. Для экономии бюджета директор решил оставить на кафедрах одних преподавателей. К концу августа никого из сотрудников тут уже не будет, – добавила она. – У Вас есть месяц, чтобы передать имущество кафедры и найти себе другую работу.
В то время я отвечала за оборудование кафедры на сумму около полумиллиона рублей. Интерактивная доска, компьютеры и прочая техника – общий список был на несколько страниц. Это имущество я только передавать весь месяц буду.
Почти так оно и вышло. Чёртова бюрократия!
И вот, представьте себе такую картину:
Денег у нас нет.
Мой муж до сих пор безработный.
Отведённый мне месяц заканчивается, меня скоро уволят.
А я работу не ищу, и не собираюсь. Мне по-прежнему всё глубоко безразлично.
Красота! И тут мне снова повезло…
Директор института хорошо понимал: сотрудников возмутят массовые увольнения. Многие будут жаловаться. Поэтому он договорился с директором колледжа химических технологий о трудоустройстве «лишних» для ВУЗа сотрудников.
В КХТ как раз была большая текучесть кадров. Не хватало мастеров производственного обучения различных специальностей. Директор КХТ только обрадовался возможности пополнить количество мастеров в колледже.
Мне даже не пришлось ничего делать. Я только распечатала и отдала обновлённое резюме заведующей кафедрой. Затем его уже без моего участия передали в колледж химических технологий.
Через несколько дней меня пригласили на собеседование. Оно прошло довольно формально, так как меня уже брали на работу мастером.
– У вас есть дети? – поинтересовалась заместитель директора, проводившая собеседование.
– У меня только один ребенок: сын, ему почти 14 лет, – ответила я.
– Прекрасно! – обрадовалась зам. директора. – Значит, педагогический опыт работы с подростками у Вас имеется.
Дальше мне просто долго объясняли, какие обязанности у мастера производственного обучения, как мне их выполнять, и озвучили график работы.
Официально меня приняли на работу с 1 сентября. До этого требовалось пройти обширный медосмотр и сдать экзамен по санитарным нормам для учебных заведений.
Несмотря на то, что я ещё не работала в КХТ, мне настоятельно рекомендовали посещать все планерки мастеров и присутствовать на педагогическом совете перед началом учебного года. Я сидела там, не понимая большую часть выступлений. Отдельные слова были мне, конечно, понятны, но общий смысл почему-то ускользал.
Первый рабочий день в моей памяти почти не сохранился. Я помню только классный час в своей группе, хотя его в основном проводила классный руководитель. Первые две недели прошли как в тумане. И тут я вдруг поняла одну очень простую вещь. Пока я лихорадочно размышляю:
Что сказать родителям на собрании?
Кого назначить старостой группы?
И о других таких же срочных и важных делах…
Всё это время я вовсе не думаю о том, что же буду делать, если мой сын умрёт.
Когда я это поняла, ко мне пришло озарение. За какие-то последние полгода (ну или чуть больше) произошло почти всё, чего я боялась многие даже не годы, а десятки лет.
Потери работы я боялась лет с восемнадцати, когда у меня ещё и работы-то не было. Страх остаться совсем без денег у меня с того же возраста. Тревога за близких, боязнь, что кто-то из них вдруг тяжело заболеет, скорее всего, вообще у меня в крови.
Я так сильно боялась каждого из этих событий! Думала, что, наверное, умру, если что-нибудь подобное со мной всё же произойдёт. Но вот со мной случилось почти всё, чего я так боялась, а я по-прежнему жива. И даже почти здорова. Как же так? Удивительно…
– Совсем не круто так реагировать на трудности, – скажет кто-нибудь из вас. И это правда. Я тоже это знаю.
Однако реальность часто отличается от идеала. В своей жизни я встречала многих людей. Некоторые впадали в депрессию только от одного из подобных событий. И это не были слабохарактерные люди. Среди них были и руководители.
Мою бывшую начальницу, заведующую лабораториями, собирались уволить сразу после её пенсионного дня рождения. Когда она об этом узнала, неделю сидела в кабинете, глядя в одну точку. А после начала чудить. И в результате её действий наша кафедра утратила почти половину своего имущества.
Заведующая нашей кафедрой после операции на сердце несколько месяцев не выходила из дома. Не потому, что это было необходимо. Она просто боялась, что ей станет хуже. По-моему, она так и не появилась на работе, пока её не уволили. Точно сказать не могу, меня там уже не было.
Некоторые мои знакомые, чьи деньги тоже лежали в жилищном кооперативе «Триумф – НК», несколько месяцев буквально оплакивали их потерю. Вернуть деньги назад смогли лишь очень немногие. И суд, и полиция тут оказались бессильны.
Наверное, где-то живут особенно стойкие люди. Они улыбаются, когда им на голову падает кирпич, и идут дальше. К сожалению, а может и к счастью, с такими людьми я не знакома.
История 2. Внутри КХТ
«Мы научились штопать паруса
И затыкать пробоины телами»
В.С. Высоцкий
Обычно я не сразу вникаю во что-то новое. В КХТ новым для меня было почти всё. До работы в КХТ у меня не было смартфона. Лишних денег на покупку смартфона, а главное, на ежемесячную оплату интернета у нас не было. Я не была зарегистрирована в соц. сетях. Всё это было мне не нужно. Не особенно умея пользоваться интернетом, я превосходно обходилась без него.
Однако в первые же дни работы в КХТ нам объявили:
– Если у вас мобильный телефон без интернета, вам придётся приобрести смартфон. И зарегистрироваться в WhatsApp и в Вконтакте. Вести работу с группой после занятий, общаться с родителями вы будете в основном в соц. сетях.
Как выяснилось позже, наше начальство тоже предпочитало работать в WhatsApp. Из нескольких групп WhatsApp потоком шли сообщения с ценными указаниями и различными объявлениями сотрудников – рабочими и не очень:
«Доброе утро, уважаемые коллеги. Выводим группы на уборку территории» – вот уж действительно, «доброе»
«Кураторы собирают студентов, которые поют» – куда их собирать, и где их взять?
«Уважаемые кураторы! Прошу освободить ребят из рок-группы на репетицию!! Благодарю.
СЕГОДНЯ ОНИ УПОРНО ГОТОВЯТСЯ К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ»
«Уважаемые кураторы! Отправьте, пожалуйста, в актовый зал старост и ещё 2 активиста» – кого бы отправить?
«Свежее мясо, нарубим, доставим до подъезда. 400 руб. за кг. Тел. 8***-***-**-**
Продают родители студента»
«Уважаемые кураторы, высылаю методику выявления обучающихся с отклонениями в поведении. Прошу ознакомиться и взять в работу»
«В столовой оставили дамскую сумочку. Представитель МЧС сумочку осмотрел и оставил на вахте».
«Среда – последний день для сотрудников» – почему последний? Ах, да! Выдают новые банковские карты.
И так далее, и тому подобное.
Пользователем социальных сетей я стала недавно, и находилась в лёгком ступоре. Не понимала, что необходимо сделать срочно, что можно отложить и выполнить позже. А что и вовсе можно проигнорировать.
Спросить совета мне было не у кого: все вокруг были очень заняты. Поначалу я всё же пыталась что-то уточнить у коллег – мастеров. Коллеги смотрели на меня странно, и на мои робкие вопросы не отвечали.
У каждого нового мастера приказом был назначен наставник. Моя официальная наставница при мне всё время что-то печатала за рабочим столом с отсутствующим видом. В остальное время она либо вела учебную практику у одной из своих групп, либо ездила на завод к другой своей группе – контролировать, как студенты ходят на производственную практику.
Обычно она охотно отвечала на мои вопросы. Однако лишний раз отвлекать наставницу от дел мне было совестно. Она была слишком загружена работой.
Всё сразу делать невозможно. Поэтому мне приходилось выбирать, и часто мой выбор был не самым лучшим. Это становилось ясно каждый раз после слов заведующей отделением: "Алина Алексеевна, почему вы до сих пор не сдали мне такой-то документ?"
В рабочем кабинете, как в классе, в три ряда стояли столы. За каждым из них сидела мастер. Всего в так называемой «комнате мастеров», размером с учительскую, во время рабочего дня находилось до пятнадцати человек . Они постоянно с кем-то разговаривали: болтали друг с другом; по телефону беседовали с родителями или отчитывали своих подопечных. К некоторым в кабинет приходили их дети – студенты или личные. Мастера в шутку называли своих детей личными, а студентов – общественными детьми.
– На что ты рассчитывал, сбегая с последнего урока? – неподалёку, например, орала в телефон одна из мастеров – низкорослая и полноватая крашеная блондинка. – Думал, что я до завтра умру, что-ли?!
Я с трудом могла сосредоточиться на работе с документами. Многие мастера решали эту проблему просто: надевали наушники и включали музыку на максимум. Но мне даже само ощущение толпы вокруг мешало погрузиться в работу. Моё подсознание, видимо, считало такую обстановку угрозой. Я постоянно не успевала что-то сделать до конца рабочего дня. Поэтому часто доделывала документы после работы. В этом я была не одинока. В нашей комнате мастеров, как в Японии, в то время считалось дурным тоном уходить с работы вовремя.
Девиз КХТ для мастеров был таким: «Мастер производственного обучения должен уметь делать ВСЁ!». На то он и Мастер. Если же мастер чего-то делать не умеет, то обязан этому научиться. И быстро!
Только за первый год работы в КХТ я научилась множеству вещей:
• сваривать металл ручной дуговой сваркой,
• проводить конференции в Zoom,
• писать статьи для публикаций в специальных сборниках,
• и даже шить одноразовые маски.
А уборка территории колледжа от снега – это вообще отдельная тема для рассказа.
Уже с сентября в КХТ традиционно начинались «недели ПЦК». Что такое «ПЦК», объяснять не буду (сама понимала с трудом). Суть в том, что разные мастера производственного обучения одного отдела (например, металлообработки) проводили открытые уроки или мастер-классы по учебной практике. Все остальные мастера были обязаны на них присутствовать. Считалось, что так проводится обучение мастеров и обмен опытом.
Для меня это было знакомством со всеми профессиями, которым обучали в нашем колледже. Мне вдруг по-новому открылся индустриальный мир. Он оказался неожиданно привлекательным, динамичным и очень мужским. Некоторые группы, как и моя группа Сварщиков, состояли только из юношей.
История 3. Самый голодный
Как куратор, я должна была каждый день сопровождать свою группу в столовую. Я наивно представляла себе это так: в нужное время после окончания пары я зайду в класс за группой. И мы все вместе пойдём в столовую.
Второго сентября с утра мне пришло сообщение от моего студента, Филимонова Эдуарда. «Когда мы будем кушать?» – интересовался он. Ни «здрасьте», ни «до свидания». Я опешила, но время обеда ему написала.
Перед обедом я зашла в класс, но моей группы там уже не было. Зато в общем чате с группой появились сообщения:
– Кря, где столовка?
– ХЗ
Я поспешила в столовую. В коридоре возле неё аппетитно пахло макаронами с сосисками. Столовую легко можно было найти по запаху. Часть моей группы уже была там, остальные подошли при мне.
Такое повторялось ещё пару раз. Все эти дни Эдик Филимонов с утра обращался ко мне с одним и тем же вопросом: «Когда мы будем кушать?» И до меня «дошло»: группа меня перед обедом в столовой ждать в классе не собирается, и не будет.
Я стала с утра отправлять в чат с группой время обеда. А перед их обедом спускалась в столовую и ждала группу там. Филимонов, естественно, мне писать сразу перестал.
Как-то я рассказала эту историю своей матери, и мы посмеялись. На втором курсе, по просьбе заведующей отделением, все мастера сфотографировались со своей группой. Одну фотографию я принесла домой.
– Смотри, какие у меня симпатичные студенты! – похвасталась я маме. Она посмотрела на меня недоумённо. Незнакомые подростки ей были неинтересны. И тут она что-то вспомнила.
– А где среди них тот, самый голодный? – спросила она у меня.
Подростки часто стремятся к независимости и самостоятельности. Они считают себя взрослыми людьми, раз уже окончили школу и поступили в колледж. И с их стремлением к независимости не всегда нужно бороться. А лучше даже использовать эту потребность. Мне стоило в первый учебный день с самого утра объявить группе: «Подождите меня в классе после такого-то урока. В первый раз мы все вместе пойдём в столовую. Потом будете ходить туда сами. Без мастера вас всё равно на обед не пропустят».
Питание в колледже для обучающихся рабочим профессиям – бесплатное. За завтрак и обед студентов платит наше государство. В бухгалтерии колледжа велся строгий учет порций. От кураторов требовалось сопровождать свою группу на обед и следить за ней в столовой. Без мастера или классного руководителя студентов на обед обычно не пускали.
У юношей, как правило, быстрый обмен веществ и всегда хороший аппетит. Многие не ходили на завтрак, предпочитая подольше поспать: завтрак начинался в 7 30. Кто-то постоянно опаздывал на занятия. Не у всех занятия начинались с восьми утра. Поэтому питание в колледже у многих получалось одноразовым.
Не все наедались одной порцией, а занятия обычно длились долго. И очень часто во всех группах находились желающие пообедать ещё раз. Даже в этой довольно строгой системе студенты находили лазейки. И обедали повторно.
Как-то в очереди в столовой среди мальчишек своей группы я обнаружила незнакомого паренька.
– Из какой Вы группы? – спросила я у него.
– Сварщики, первый курс, – нагло заявил он.
– Что?!! – возмутилась я. Своих к этому времени я уже успела запомнить.
– Ты дурак, что-ли? – засмеялся рядом Марат. Видимо, это был его приятель. – Это же мой мастер!
Однажды дежурный по столовой мастер поймала двух таких нарушителей из моей группы и устроила скандал. Одногруппники над ними посмеялись.
– Что же вы номер своей группы-то назвали? – поучал горе-нарушителей кто-то из моих. – Надо было сказать, что вы из другой группы! А мастер той группы сказала бы, что у неё таких нет.
Наверное, как куратор группы, я должна была провести классный час. И долго объяснять группе, что так поступать нехорошо. Но я этого делать не стала. Только осторожно поговорила с матерью одного из нарушителей. Посоветовала давать сыну деньги на покупку выпечки. С родителями другого я связаться так и не смогла: все телефоны были недоступны.
Эти юноши были из многодетных семей. Я не знала, могли ли они поесть сразу, когда возвращались домой из колледжа.
В моей группе многие были из малообеспеченных семей. А у некоторых были такие родители, что хотелось материться, узнавая о них подробности. И это при том, что я не матерюсь.
Конечно, нельзя съедать не свои порции. А выбрасывать в отходы несъеденное или уносить домой – можно? Что бы там не говорили, я уверена, повара всегда готовили с запасом.
История 4. Принц в изгнании
Я всё ещё не рассказала о своей группе, потому что собиралась с духом. Я была мастером и фактически куратором группы сварщиков первого курса. В ней были только юноши, ровно 25 человек. Это была самая слабая в учёбе группа из набора этого года. Многие преподаватели так о них отзывались. Даже слесари учились чуть лучше, хотя обычно бывает наоборот.
У сварщиков и слесарей в КХТ традиционно самый низкий проходной балл. На эти специальности часто поступают «троечники» со всех школ города и района. А также те, кто не смог поступить на какую-то другую, более престижную специальность в КХТ.
Целенаправленно идут обучаться сварке немногие. В моей группе таких было всего трое. Остальные двадцать два попали туда случайно, как и я. У них не было абсолютно никакой мотивации к обучению. Можно сказать, что большинство, как и я, были неудачниками. Они и вели себя соответственно: совершенно незаинтересованно.
Мои подопечные студенты были недисциплинированными, своенравными, немного (а иногда и много) безалаберными. Они активно возмущались по любому поводу и без. И всегда, всегда гнули свою линию.
Вот, например, опаздывает Чернов на занятия. Он за три года так и не начал приходить вовремя. Он даже на защиту диплома опоздал!
Или, к примеру, Шахамир Садриев на третьем курсе почти постоянно прогуливал производственную практику. Он жаловался, что просто не может заставить себя встать рано утром. За это его могли отчислить из колледжа. А с общим образованием устроиться на хорошо оплачиваемую работу очень сложно. Однако Шахамира это не беспокоило.
С точки зрения взрослого человека, это, конечно, выглядит глупо. Ведь они рискуют остаться без среднего образования. Я честно пыталась до группы это донести. Мне казалось, если бы они поняли, как это важно, то изменили бы свое отношение к учебе.
Я часто обращалась к родителям, просила заведующих отделениями и даже свою наставницу поговорить с моей группой. Но разговоров хватало ненадолго. Мои студенты продолжали вести себя как им удобно, хоть ты тресни! Это была просто ужасная, кошмарная группа!
В общем, это была обычная группа сварщиков.
Вот типичная докладная преподавателя на мою группу:
Директору ГАПОУ «КХТ»
Тухватуллину Р.Р.
преподавателя иностранного языка (совместителя)
Хабировой Г.М.
докладная.
Довожу до Вашего сведения, что студенты 1 курса группы сварщиков на занятиях по английскому языку ведут себя отвратительно, ругаются матом, на мои замечания не реагируют.
Студенты постоянно «сидят» в телефонах и не выполняют задания, а именно:
Чернов С.
Рамилевич Р.
Михердов Д.
Филимонов Э.
Куряев М.
Дзюбин А.
Баринов Г.
Прошу принять меры.
13.02.2020г.
Однако в глубине души я завидовала такой способности противостоять внешним обстоятельствам, что бы ни происходило. Мне самой такого качества очень не хватало.
А ещё мои «общественные дети» были энергичными, достаточно сообразительными, чтобы не влезать в неприятности вроде привода в полицию. Понимали с полуслова, когда дело касалось их интересов. И на первом курсе они пока ещё были весёлыми. Такими живыми… С ними никогда никому не было скучно. Ни мне, ни преподавателям.
Для меня это была самая замечательная группа! Ведь это была МОЯ группа.
Однако, даже в такой по-бунтарски настроенной группе, примерно треть студентов обычно выполняли требования колледжа. Ещё часть студентов не сразу, но смогли всё же к ним приспособиться. Одного из таких студентов я запомнила уже в первые дни.
Симпатичный, но нескладный светловолосый подросток с гордым видом оскорблённого достоинства восседал на подоконнике в коридоре. Ну – вылитый принц в изгнании. «Это – будущая проблема» – поняла я.
«Проблему» звали Богдан Пичугов. И он меня не разочаровал. Как потом я узнала из беседы с родителями, Богдана «попросили» из престижной гимназии за недостаточно хороший для этой гимназии уровень учёбы.
А скорее всего за «длинный язык» – как поняла я позже. В колледже он аргументированно возмущался по малейшему поводу. Со слов Богдана, задушевные беседы с директором гимназии были его любимым и довольно частым развлечением. Богдан обладал хорошо развитой речью и широким, хоть и поверхностным кругозором. Разговаривать, при желании, он мог очень долго. Не помогло даже то, что мать Богдана работала в этой же гимназии.
В первое время Богдан опаздывал на занятия в колледже – не мог рассчитать время на дорогу до нового места учёбы. Худощавый и спортивный на вид, двигался он как-то слишком расхлябанно. И это показалось мне очень знакомым. В раннем детстве у моего сына были неврологические проблемы. Длительным интенсивным лечением их удалось снять. А до этого мой сын ходил и стоял так же расслабленно и немного неуклюже. И даже садился очень похоже – плюхался на стул всем своим весом, как мешок с мукой.
Перед общим родительским собранием мне удалось поговорить с отцом Богдана.
– Вы знаете, что Богдану нужна консультация невролога? – огорошила его я. – Понимаете, одно дело, если Вы это знаете, но мне не хотите говорить. Но совсем другое, если Вы не в курсе. Ведь Богдану через два года в армию.
Мне удалось привлечь его внимание. Мы коротко переговорили. А в выходной я встретилась с обоими родителями Богдана для обстоятельного разговора. Я объяснила, почему Богдану стоит сходить к неврологу, расспросила о его учебе в школе. И, наконец, поговорила об опозданиях на занятия. С его мамой мы договорились: я сразу ей сообщаю о каждом опоздании Богдана или пропуске им занятий.
Богдану взяли талон к неврологу. На приёме невролог обнаружила небольшое смещение позвонков после спортивной травмы (Богдан с детства занимался различными видами спорта) и назначила ему массаж.
Если честно, меня это потрясло. Я была поражена, что родители Богдана прислушались к моему совету. Это такая редкость, когда от тебя не отмахиваются.
Расхлябанность движений у Богдана постепенно прошла. Мне показалось, что даже его неразборчивый почерк немного улучшился. Мы с матерью Богдана переписывались почти ежедневно. Однажды Богдан залез в мамин телефон и прочитал всю нашу переписку.
На мой взгляд, Богдан и его мама часто нарушали личные границы друг друга. Мама могла спокойно взять вещи или документы из его сумки или сложить туда что-то, на её взгляд, необходимое. Богдан же читал её личную переписку. Меня это удивляло, ведь мой сын всегда очень ревностно относился к своим границам. В последний раз я заглядывала к нему в портфель, когда он ещё учился в начальной школе. А в свою комнату он меня пускает далеко не всегда. Хотя там стоит шкаф с нашими с мужем вещами.
Размер истории нашего чата Богдана шокировал.
– Почему Вы меня так не любите? – эмоционально вопрошал он. – Это потому, что я отказываюсь становиться старостой?
– Да я Вас просто обожаю! – рассмеялась я.
К студентам, как к своим, так и к чужим, я обращалась на «Вы» в течение первых двух с половиной лет. Позже я узнала, что по этому поводу надо мной подшучивал почти весь колледж. Заведующая отделением как-то сказала на собрании родителям моих студентов:
– Алина Алексеевна обращается на «Вы» ко всем в группе. Она хочет показать, какая она вежливая, чтобы научить этому ваших детей.
Она ошибалась: я вовсе не собиралась ничего никому показывать. Причина была в другом. Мои "общественные дети" постоянно нарушали мои личные границы. И даже не просто нарушали: они их вообще не замечали. Я – интроверт, и к такому тесному контакту не привыкла. Обращение на "Вы" было моей слабой попыткой держать дистанцию.
Наше с Богданом противостояние, небольшое сначала, постепенно усиливалось. К середине второго курса оно почти перешло в рукопашную. Это не говорит обо мне хорошо, как о педагоге. Для ссоры всегда нужны двое. Но из песни слово не выкинешь. Однако к концу второго курса мы оба поостыли. А Богдан по факту стал почти идеальным студентом. Он довольно быстро учился на своих ошибках. Это очень редкое качество, на самом деле.
И в начале третьего курса наше противостояние сошло на нет. Мы практически перестали общаться, а я жалела об этом. Мне не хватало ежедневных подколок Богдана. Они были очень смешными.
История 5. Как Вам не стыдно, Алина Алексеевна!
Но не только Богдан смешил меня почти каждый день. Маятник моей нервной системы вдруг резко качнулся в другую сторону. Смешным для меня сейчас становился любой пустяк. Очень часто я просто не могла удержаться от смеха. Только представьте себе: заведующая отделением при мне грозно отчитывает моих студентов – прогульщиков. И тут я вдруг начинаю громко хохотать. Уж очень непривычные для меня выражения она иногда выбирала.
Например, мой студент Махмут к середине осени понял, что не хочет учиться в колледже. Он решил забрать документы. Заведующая отделением была против.
– Ты что думаешь? Тут тебе проходной двор? Захотел – пришёл, захотел – ушёл?!! – возмущалась она.
Я засмеялась. «Проходной двор». Забавно.
– Выйдите отсюда, Алина Алексеевна! Вернётесь, когда возьмёте себя в руки! – меня, как школьницу, выгнали из кабинета.
Как-то я, как обычно, проводила перемену с группой перед уроком литературы. Перемена давно окончилась, а преподавателя всё ещё не было. Литературу у моих вела пожилая, но бодрая женщина лет шестидесяти. Минут через пятнадцать урока я решила ей позвонить.
– Кому Вы звоните? – загалдела группа. – Не надо никого беспокоить!
Но я их, естественно, слушать не стала. На звонок ответили:
– Алло?
– Здравствуйте. Моя группа Вас ждёт в кабинете литературы. Вы подойдёте?
– Как это ждёт?!! – возмутилась преподаватель. – У них же сегодня нет литературы!
– А Вы расписание посмотрите, – посоветовала я.
Минутная пауза.
– Я минут через двадцать подъеду на такси, – пообещала она.
Разговор шёл по громкой связи, ребята всё слышали.
– Ну зачем Вы ей позвонили? – заныли они. – Мы бы и так тут посидели!
Честно говоря, понять их было можно. Уроки литературы (когда им не показывали фильмы) часто были для них скучными.
Наконец, подошла преподаватель. Оказалось, учебная часть изменила вечером расписание занятий. Они иногда так делают. А она смотрела расписание днём, как обычно. И про изменения в расписании не знала.
– Представляете? – возбуждённо рассказывала она.
Группа с интересом её слушала.
– Я ни сном, ни духом. Поставила в духовку запекать мясо… А тут звонит Алина Алексеевна, и говорит, что у вас – урок!
После этих слов почти двадцать пар глаз воззрились на меня осуждающе.
– Как Вам не стыдно, Алина Алексеевна! – укоризненно выразил общее мнение Станислав Чернов. – Так издеваться над пожилым человеком!
Тут я не выдержала: рассмеялась и вышла из класса. Сюрреализм! Полное искажение реальности! Человек на работу опаздывает, а мне ещё и стыдно должно быть!
Моё состояние «навеселе» в конце-концов заметили и дома.
– Мне кажется, ты никогда так много не смеялась. Рада, что тебе так весело! – с удивлённой укоризной, и даже с какой-то лёгкой обидой сказала однажды мне мама.
Но весело мне вовсе не было. В конце сентября на мою электронную почту пришёл уточнённый диагноз сына. По сути, ничего не изменилось. Однако определённость немного успокоила.
Успокаивало и то, что муж на днях устроился по контракту в ресторан. И наш семейный доход стал стабильным.
История 6. Трудно быть старостой
Навещать свою группу требовалось на каждой перемене. Мастера обычно находились в классе до начала урока. В начале урока они сообщали преподавателю, кого из группы нет и по какой причине. А также отмечали в своём табеле посещаемость. Считалось, что этим должен заниматься староста группы. Но со старостой в группе у меня вышла полная засада.
Я понятия не имела, кто из студентов моей группы сможет быть старостой. Достоверной информации об их характерах у меня не было – на школьные характеристики тут опираться не стоило. Видением любого человека «насквозь», в отличие от других педагогов, я не обладала. Действовать «методом тыка»? Как-то ненадёжно…
И тут я вспомнила: моя наставница жила с одним из моих студентов, Дзюбиным Андреем, в одном доме. Она знала его с детства, и была знакома с его родителями. Не так давно она мне об этом рассказывала. Дождавшись удобного момента, я спросила у неё:
– Как Вы думаете, Андрей сможет быть старостой группы?
Наставница на секунду задумалась, и ответила:
– Да, пожалуй, сможет.
И я назначила Дзюбина старостой группы. Как оказалось, Андрей действительно был лидером. Но – неформальным. На первом же после этого дежурстве он отказался убирать территорию. Не царское это дело! Но если так поступает староста, другие убирать территорию тоже не станут.
Перед этим у группы был урок физкультуры. Учитель физкультуры наставила двоек всем, кто пришёл без формы. И не одну, а по пять каждому! Любимое число, наверное. На перемене группа шумела.
– Физручка совсем оборзела! – громко заявил Андрей при всех.
Я поняла, что старосту придётся менять.
На перемене я отозвала Андрея в сторону.
– Андрей, староста группы не имеет права плохо отзываться об учителях! – сразу перешла я к делу (с мужчинами лучше говорить коротко и по-существу).
– Но она действительно оборзела! – возмутился Андрей.
– В любом случае, нельзя было при всех такое говорить, – заметила я. – Староста должен быть лояльным по отношению к учителям. Я не могу Вас с таким настроем оставить старостой группы. Группе я скажу, что Вы передумали быть старостой. Без обид? – спросила у него я.
– Ну ладно, я не больно-то и хотел быть старостой. – заявил Андрей.
– Вы действительно не обиделись? – уточнила я.
– Нет, нет, всё нормально! – убеждённо ответил он.
Андрей давно привык говорить взрослым только то, что они, по его мнению, хотят услышать. К сожалению, я пока об этом не знала.
Я объявила группе, что Андрей передумал быть старостой. Поэтому срочно нужен новый староста группы.
На следующей перемене ко мне подошёл Богдан.
– Там Андрей в общем чате возмущается, – заметил он. У группы было два общих чата, как и у их родителей. Один из них был без меня. – Я, пожалуй, соглашусь быть старостой.
– Хорошо! – обрадовалась я.
Стать старостой группы я предлагала Богдану уже давно, почти с самого начала учёбы. Обычно он привлекал всеобщее внимание: высокий, симпатичный, самоуверенный, с грамотной развёрнутой речью. При внешней безалаберности, он мог думать и о других. Он незаметно оказывал покровительство самым слабым, по его мнению, одногруппникам. Я считала, что должность старосты группы ему хорошо подойдёт.
Прошла уже почти половина перемены, а я ещё не заходила в группу. Я отправилась в класс.
– Итак, кто хочет быть старостой? – спросила я у группы.
Ко мне подошёл Богдан, обнимая за плечи Махмута.
– Вот Махмут очень хочет быть старостой, – ответил Богдан за группу.
– Да, хочу! – подтвердил Махмут.
– Ещё желающие есть? – снова спросила я группу.
– Я хочу! – поднял руку Игорь Григорьев.
Ни Махмута, ни Игоря я не могла представить в роли старосты группы. С самого начала они не проявляли никакого интереса к учёбе. И я до сих пор не понимаю, зачем им нужна была эта должность. Но лучше уж Махмут, чем Игорь, – с Махмутом легче договориться. Раз уж других вариантов теперь нет, а Богдан снова ускользнул.
Я объявила группе, что старостой будет Махмут, и подумала, что на этом всё. Рано обрадовалась. С моей группой расслабляться было никак нельзя.
Уже через неделю Махмут начал пропускать занятия. То он болел две недели. То не приходил в колледж, потому что некому было остаться с его младшими братишками (Махмут из многодетной семьи). Всё это время я не могла связаться с его родителями. Телефон, указанный в личном деле, был недоступен. А сам Махмут отказывался давать мне телефоны родителей.
Староста группы, по сути, – это правая рука куратора или мастера. С хорошим старостой в группе мастер, можно сказать, отдыхает. Потому что такой староста сам:
следит за порядком в группе;
сообщает преподавателю и мастеру об отсутствующих и опоздавших;
назначает дежурных по колледжу, по столовой, и по уборке территории.
Это кажется фантастикой. Но у моей наставницы в одной из групп был такой староста. Представляете? Я даже не могла себе такое представить – никогда не отличалась настолько богатым воображением.
А ещё старосте поручают считать средний балл оценок, заполнять зачётки и термометрию.
Но я и не думала требовать многого от старосты своей группы. Староста был нужен лишь для того, чтобы носить журнал группы из кабинета в кабинет и иногда посещать общие собрания в колледже. А сейчас даже такого старосты в моей группе не было!
