Повести бесплатное чтение
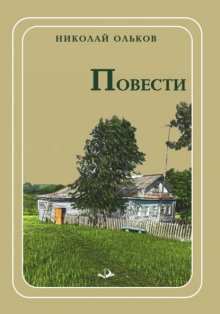
© Ольков Н. М., 2024
© Издательство «Родники», 2024
© Оформление. Издательство «Родники, 2024
Чистая вода
Повесть
Ещё с вечера захороводило, загуляли разные ветры – то южный полыхнёт с остатками летнего зноя, то вдруг повернётся и закрутит сиверок с невесть откуда взявшейся прохладой – поднимают пыль, выметают улицы, ломают косматые ветки разнежившихся тополей, валят дощатые заборы. Августовский туман тяжело опустился на озеро, только ветер не дал ему отдыха, стал приподнимать от воды, рвал на куски и разбрасывал по окрестностям, заодно потревожил расположившихся на привычный ночлег зажиревших гусей, они тревожно подняли гордые головы на длинных шеях, словно всматриваясь в знакомые берега и ища у них объяснения. Природа разволновалась. Коровы, подкормленные и подоенные хозяйками, уже завалились на свои крутые бока и вынули лакомую свою жвачку, но зашевелились, тяжело переваливаясь, вставали и издавали протяжные жалобные мычания. Воробьи забились под крыши сараев и нахохлились, скворцы загоняли свои выводки куда подальше от стихии, и только ласточка, взмыв высоко к небесам, щебетала что-то тревожное, то ли собирая семью, то ли просто предупреждая друзей.
Солнце уже село, и только верхний его фитилёк снисходительно освещал большое село, красиво разместившееся на взметнувшемся меж озёр языке нетронутого ранее чернозёма, выходящем из высокого взгорья и потерявшемся в буйных травах поймы широкой реки. Деревянные дома, крытые шифером, образовывали солидные усадьбы с постройками для скота, банями и гаражами. Оставшиеся с колхозных времён несколько избушонок только подчёркивали красоту и современность селения, в них доживали такие же ветхие старики и старухи, бывшие когда-то ударниками и стахановцами. Трёхполосный флаг на бывшем сельсовете, едва видимый в вечерних сумерках, такого напора ветра не выдержал и раскроился на несколько лоскутков.
Одинокая машина ворвалась в улицу с большака, резко сбросила скорость и остановилась у сельской администрации. С правой стороны открылась дверца, молодой мужчина лет тридцати, с усами и портфелем, одетый в добротный чёрный костюм с галстуком, по-хозяйски вышел, глянул на флагшток и крикнул водителю:
– Игорь, завтра с утра замени флаг. Хрен его знает, хоть железный вешай, на неделю не хватает.
– Понял, Роман Григорьевич, сделаем.
Роман Григорьевич открыл дверной замок своим ключом, включил свет в коридоре и ещё раз щёлкнул ключами в двери с табличкой «Глава сельской администрации Канаков Р. Г.». Он ещё не остыл после крупного разговора на совещании в районе. Обсуждали подготовку к выборам президента, глава района Треплев сам накануне вернулся из области и был настроен категорически:
– Такого позора, как в прошлый раз, мы допустить не можем, скажу больше: нам этого не простят. Тогда сняли двух глав, до меня очередь не дошла, на процент выше показатель. И мы освободились от некоторых товарищей, которые исподтишка смущали людей и допустили в урнах большой процент за коммунистов и прочих. Предупреждаю: такого быть не должно. Особо по тебе, Канаков. Папаша твой в коммунистических активистах, посади его дома, пусть кактусы растит, а с политикой и без него разберутся.
Роман усмехнулся воспоминаниям, даже улыбнулся: «Папашу дома посадить! Поди, попробуй, он так посадит, что до конца избирательной кампании чесаться будешь».
Выложив все бумаги на стол и спрятав портфель в шкаф, Роман пошёл домой. Он уже привык и не замечал, как толково и складно устроил всё отец Григорий Андреевич, расселив детей вокруг своего родового гнезда, и теперь крестовой дом его был на бугре над всеми тремя сыновними домами, точно так, как и он сам всё оставался старшим и главным в большом семействе.
Григорий Андреевич Канаков, бывший колхозный и совхозный механизатор, потом бригадир полеводческой бригады, был мужиком крепким и рослым, столь с виду суровым, что даже трактористы его опасались. Поговаривали, что в первые годы вся его воспитательная работа сводилась к хряскому удару по шее провинившегося, от чего тот падал, а, отдышавшись, всячески бригадира избегал. Потом Канаков вступил в партию. Агитировали его долго, всё не соглашался, но ходил в библиотеку и дома ночами читал толстые книги Маркса и Ленина, предупредив библиотекаршу, чтобы никому ни звука.
Да и внешне Канаков мужик завидный: густая шевелюра темно-русых волос, крупные и правильные черты лица, прямой, не очень удобный взгляд серых глаз, видевший самые глубины человеческой натуры, и голос – властный, громкий и жёсткий.
А вот дома для жены своей Матрёны Даниловны не было человека удобней и внимательней. Дрова, ровненько наколотые, всегда грудкой лежали в тёплых сенях, две фляги воды для хозяйства всегда полны. Если надо муки в сельницу принести – сходит и принесёт, двухведёрную кастрюлю заквашенной капусты до слова вынесет на мороз. Во двор Матрёна выходила только корову подоить да малышей накормить-напоить: телят, поросят, ягнят, да и птицу тоже.
Канаков гордился, что родился именно на этом месте, что после войны и гибели отца полтора десятка лет кантовалась семья в завалившемся дедовском ещё тереме, от которого уже не осталось украшений, и лестницу на второй этаж убрали ещё при коллективизации, чтобы не злить партактив. В шестидесятые, когда немного окрепли после войны, выписал передовой колхозник Канаков красного леса через колхоз и срубил крестовой дом, развалив родительские гнилушки.
Дом рубили артельно, помочами, когда собирались все родственники и товарищи, хозяин сразу распределял, кто чем будет заниматься, чтобы не толкались без дела и не мешали друг дружке, как случалось порой на колхозной работе, а каждый бы знал своего напарника или место в сторонке, если работа такая. Жену свою Матрёну с сестрами поставил бревна шкурить, какие ещё остались от каждодневной вечерней работы, эта работа несложная, под штыковой лопатой вся корка с сосны отскакивает. Четыре крепких мужика сочиняли обвязку, укладывали на чурки брёвна— окладники в полобхвата, вымеряли шнуром диагонали и дружно перемещали бревна, чтобы получился правильный угол. Ошибись они хоть на четверть – мука будет потом для строителей, и крышу не свести, как следует, тем более, что мужики уже видели под сараем несколько стопок шифера, а под него крыша должна быть как ельчик. И с полами-потолками потом замаешься, клинья вшивать – позорное дело для путнего плотника. Не зря говорили: как бы не клин да не мох, так и плотник бы сдох.
А как окладники врубили, стали примерять бревна, Филипп Киприянович, авторитетный строитель, бегал с «чертой», такое чудное названье у приспособы, а без неё не обойтись. Положили бревно на окладник, лес справный, ловко будет паз вырубать, вот и ведёт Филипп свою двупалую «черту», одним концом по верху окладник копирует, а второй черту проводит на верхнем бревне, да с обеих сторон. Ещё с утра Григорий Андреевич вместе с мастером пошире развели «черту», потому что паз надо вырубать широкий, чтобы стена была толще, не продувалась, не промерзала, в Сибири живём, не на югах. Вот по этой черте и рубят потом паз мужики, сперва поперёк насечки сделают, а потом садятся попарно на бревна, которые тоже на чурках, садятся в концах спиной друг к другу и пошли топорами хлестать. Топоры на круге точены, бруском правлены, волос положи – по обе стороны лезвия свалится. На такую работу самые толковые мужики садятся, потому паз получается, как корытце для холодца, как жёлоб – округлый, чистый, и не вдруг скажешь, что топором рублен. Сошлись спинами рубщики – слазят с бревна, расправляют спины, а другие уже подхватили и на место поставили. Хозяин смотрит: как тут и было, спичку не всунуть, комар нос не подточит. Доволен: потом мох толстым слоем положим – красота!
В новый дом перетащили дедовскую ещё кровать, широкую, хоть вдоль, хоть поперёк ложись, два старинных сундука с носильным барахлом, огромное, в полстены, зеркало, местами облупившееся, но красивое, старинное, с точёными завитушками по всей раме. Столько годков прожили с Матрёной, вроде старались, а детишек всё не было. Сестры Григория запоговаривали, что порчена Матрёна и потомства не даст, а если и случится, то непременно уродцы.
– Брось её, Гриша, не будет у тебя семьи.
– Знамо, не будет, порча на ней, да и не в девицах, поди, и взял-то.
– Цыть все, пока по мордам не получили! Про Матрёну худого слова чтоб больше не слышал. А ты, Евдинья, если сама до Проньки все бани спознала, по себе не меряй. Матрёна со мной бабой стала, к тому же после свадьбы. Хотя какая там свадьба, так, одно названье. В аккурат с похоронами товарища Сталина совпало. Меня тогда чуть из партии не погнали, дескать, нашёл время для гулянки и услады, когда весь советский народ в великом горе. А я как-то и не подумал, что моя женитьба с политикой спутается.
А в новом дому каждые два года приносила Матрёна по парню, да всё такие здоровые, что кое-как выпрастывались из материной утробы. А она, Христовая, хоть бы крикнула раз, хоть состонала – верила, что для Гриши великая радость, и тем спасалась. Медичка прямо изумлялась, все бабы орут, мужиков матом кроют, клянутся и близко к этому делу не подпускать, а эта только шепчет, если прислушаться:
– Для тебя, родной мой и единственный, для тебя терплю завещанное Еве, всё снесу, а деток у нас будет полный дом.
Три парня подряд: один в зыбке, другой на руках, а третий за подол держится. Сестры перестали дурить, на очередных крестинах Евдинья подняла стакан с бражкой, поклонилась Матрёне в пояс:
– Прости нас, Матрёна Даниловна, плохое мы про тебя думали, да и говорили мужу твоему, братцу нашему Григорию Андреевичу, не держи зла, а робят рожай, коль Бог даёт.
Григорий кашлянул, следовательно, надо помолчать:
– Бог, может, и даёт, только я тоже соучаствую, потому решаю так, что надо отдохнуть, мать, этих сорванцов подрастить. А там видно будет по жизни, ежели все правильно в партии продумано, то не сей день, так завтра коммунизм наступит, вот тогда большое облегчение получится трудовому человеку, тогда и детей можно родить каждый год по паре, и каждый будет ухожен и обогрет государством.
В семье никто с Григорием Андреевичем не спорил, как не спорили и в совхозе, где он хоть и был на хорошем счету по работе, но начальство не особо привечало, потому что Канаков мог в любое время и на любом собрании выступить и прямо всё назвать, как есть. Парторг с директором как-то об этой его странности говорили, и парторг, окончивший специальную школу КПСС, предположил, что не особо образованный товарищ начитался классиков марксизма-ленинизма, искренне поверил всем партийным документам и сегодня предъявляет ко всем такие требования, какие вычитал в уставе и программе построения коммунизма.
На общесовхозном профсоюзном собрании Канаков прямо говорил о том, о чём матом выражались мужики и бабы на производстве, но молчали при большом начальстве:
– До каких пор скотные дворы будут отдавать на ремонт кавказцам? Видимо, до тех пор, товарищи, пока прокурор не увезёт в «бобике» кого-нибудь из прорабов или мастеров. Это же никуда не годится, фермы промерзают, протекают, а у прораба дом растет каждый год на троестен в разные стороны.
– Ты тоже, Канаков, второй дом строишь! – крикнул мастер стройучастка Веня Чмокунок.
– Строю, и ещё буду, потому что у меня три сына подходят. Но у меня, Веня, на каждый гвоздь бумажка есть, потому что я при социализме воспитывался, в котором прежде всего учёт. Так, ты мне больше не мешай. – А сам продолжал: – По какому такому праву управляющий центральной фермой и два его бригадира, Попов и Горлов, двойной тракторной тягой подтащили через огороды к своим дворам доброго лесного сена, а телятишкам совхозным шумиху ложат в кормушки? Все эти товарищи коммунисты, но забыли, что коммунисты так не поступают.
Канаков не знал, что точно такое же сено притащили директору и парторгу, потому совершенно искренне обратился к руководству:
– Обращаюсь к руководству, чтобы прекратить это безобразие. Беспартийные товарищи на все это смотрят и видят, и говорят обидные слова: что ни коммунист, то начальник, что ни начальник, то вор. Требую: сено вернуть, а товарищей разобрать на партсобрании, чтобы до слез.
Парторг, волнуясь и запинаясь, под тихие смешки в зале пообещал товарищу Канакову, что необходимые меры будут приняты. Когда после собрания вышли на крыльцо, Филипп Куприянович шепнул другу:
– Гриша, ты пошто как дитё малое? Ты разве не видишь, что они все за счёт совхоза живут?
Григорий помолчал:
– Пока не вижу, что все. Узнаю – выведу на чистую воду.
– Ладно, пошли ко мне, у меня Варвара с ордой уехала к сестре в район, посидим. – Старый друг не стал напоминать, что Гришу давно уже по-за глаза «Чистой водой» зовут в селе. Хозяин достал трехлитровую банку браги, ядрёной, отстоявшейся, Варвара у Филиппа мастерица что по дому, что по огороду, что в банки закатать, что в бочоночке ещё бабкином бражку поставить на пшенице.
– Мастерица, слов нет. А помнишь, когда брагу слили последнюю из бочонка, ты пшеницу на ограду вывалил, а куры наклевались…
Было такое. Размокшая пшеница сразу привлекла петуха, он подбежал к корытцу, долбанул носом, потом ещё прострочил в нескольких местах, поднял голову кверху и издал мощный призывный клич. Куры – народ воспитанный, сразу кинулись исполнять команду, и скоро вросшее в землю кормящее корытце опустело. Но и с курами неведомо что стало происходить, они вдруг закудахтали, словно снесли по яичку, потом стали с разбегу подлётывать, а кончилось всё небывалой дракой, самый разгар которой захватила открывшая калитку Варвара.
– Я до смертыньки перепужалась: куры в кровь исхлестаны, с ног валятся и кудахчут, а петух лежит поперёк корытца и рот открыт, словно издох. А потом винный дух зачуяла, поняла, что мужики над птицей погалились, – рассказывала она потом соседкам.
Сели за стол, хозяин нарезал солёного сала, пару луковиц очистил и раздавил – так положено, глазунью на большой сковороде поджарил.
– Григорий, я прямо дивлюсь на тебя, дивлюсь и не узнаю. Ты же нормальный мужик, делай свою работу, и пропади оно всё пропадом! – воспитывал Филипп от электроплитки. Взглянул на гостя – сидит и ухом не ведёт. Выпили по стакану, зажевали.
Григорий Андреевич долго обдумывал, что другу ответить. Ведь не один же он видит безобразия, все видят, но молчат или судачат по зауголью. Почему он встаёт и вслух говорит о том, что все знают? Не посчитают ли его дураком после этого или просто чудаком? Нет, вроде слушают и поддакивают.
– Филя, ты почему понять не можешь, что неправильно мы живём? Вот ты плотник, твоей работе цены нет, потому что с бревном – не с бабой, оно не пособит. Для совхоза дома рубишь, базы ремонтируешь. А чего тебе за это платят? И я тебе скажу: ровно столько, сколько прыщавой бухгалтерше в конторе. Разве так справедливо? Я, Филипп, как в партию вступил, стал специальные книжки читать, и многое увидел совсем не так, как раньше. К примеру, читаю у товарища Брежнева, как и что должно быть с оплатой трудящегося человека: человек должен жить достойно, для этого и создавали советскую власть. Там, наверху, всё понятно, а пока до нас доходит, всё утрачено, вычеркнут и генеральную линию перевернут.
Филипп слушал молча, ему такие разговоры казались странными и ненужными, они ничего не меняли. А раз так – зачем говорить?
– Ишь ты! – возмутился Григорий. – Помалкивать, значит, а они будут жировать на нашем молчании. Филя, родной, пойми ты, что образовалась у нас в стране и у нас в совхозе такая (как бы тебе объяснить?), во! прослойка, которая вид состроит, что за народ и за партию, а думает только о своём животе.
– И что ты с ней собрался делать? – вполне серьёзно поинтересовался хозяин.
Григорий вздохнул:
– Ума не дам, как быть, не должно, чтобы кто другой, поразумней меня, этого не понял. Я вот думаю поехать в район к самому первому секретарю, он, когда мне партбилет вручал, сказал, что я рабочий класс, на мне партия держится, ну, не на одном конечно, чего ты лыбишься? Мол, надеюсь, что ты будешь настоящим коммунистом. Правда, он со мной на вы. А что такое настоящий коммунист? Я так понимаю: кто честно работает на благо, кто в семье достойно ведёт сам себя, кто не уворует у государства и другому не даст, в случае чего выведет на чистую воду. Вот так вкратце.
Далеко уводят русского человека свободные кухонные разговоры о политике, ещё пара стаканов, и он уже ощущает себя хозяином страны, и все, кто крутятся под ногами, ленятся лишний раз литовкой махнуть, лишнюю копну сена на стог подать, кто вместо пахоты заглушит трактор и проспит смену в кабине, а утром отвернёт какой-нибудь болт и объяснит без зазрения, что из-за поломки простой случился – лоботрясы и умом дети малые. Вместо того, чтобы всем миром… Особо достаётся в таких случаях местному начальству, которое себе отдельные дома стало строить, на совхозных легковушках баб и семейства свои развозят, сенов не косят, а бескормицы не знают, бычков в совхоз на откорм сдают, а мясо со склада, да не по себестоимости, а как на общественное питание. Помаленьку выходят и на самый высокий уровень, начинают разбираться с кремлёвским руководством. Чаще всего ругают, что порядка нет, местные князьки выпряглись, живыми в руки не даются. И управы на них нет. Конечно, сразу вспоминают товарища Сталина.
– Да, суровый был мужик, но – иначе нельзя с нашим братом. И что ему досталось? Разруха, соха да евреи. Это же надо всё разгребать. А тут Гитлер. После войны тоже добра мало, полстраны погорельцев.
– А Никита его взял и в грязи измазал за личность. Вот зачем, скажи, пожалуйста? Нет, Никита в вашей партии тоже много чего натворил.
– Филипп, что нагрезил, то правда, но вот уважаю Никиту Сергеича за сельское хозяйство, которое он первым увидал и об нём озаботился. В Америку не поленился съездил, нагляделся, теперь вот у себя кой – чего пробуем. Но, скажи на милость, зачем он дедушку из мавзолея выбросил? Ну, нашли культ, обсудили, разобрали, выговор ему не объявишь, и пусть бы лежал. Народишко ходил, глядел, жалел, потому как при Сталине… А он выкинул. Нехорошо.
Друг к этому относился спокойно:
– Себе алтарь готовил, думал, помрёт, его всякой мурой натрут и в музей.
– Мавзолей, сельпо!
– Пусть в мавзолей, и будет лежать, медальками придавленный.
Григорий покачал головой:
– Не любишь ты, Филипп, партию и её начальство, а это нехорошо.
В своей стране живём.
– Да, – сказал Филипп и выпил стакан браги.
Роман частенько возвращался из района поздновато, но знал, что жена его Маринка уже всё управила. Глава сельской власти, хоть и имел приличную зарплату, но от домашнего хозяйства не отказался, держал корову с приплодом, парочку поросят, десяток овец, кур и гусей, гуси были с детства увлечением супруги. Все у неё получалось, посадит трёх гусих ранней весной, под каждую подкатит по одиннадцать яиц, тогда уж в доме запрещено курить, одеколоном пользоваться, в ботинках наваксенных заходить. И выйдут в один день, как в сказке, тридцать три жёлтеньких комочка, забота и забава хозяйки с детишками. Конечно, во дворе управа на мужчине, навоз вывезти, снег из ограды убрать, сена из стога накидать в запасник, чтобы даже десятилетний сын Бориска мог скотине разнести.
С Борисом получилось неловко. Рождение его совпало с двумя событиями, одно государственного масштаба, Ельцина избрали президентом, другое местного, ему, Роману Григорьевичу, бывшему совхозному парторгу, глава района Треплев Ермолай Владимирович предложил возглавить сельскую власть. В полупьяной эйфории от рождения сына и повышения и с поддержкой приехавшего по такому поводу районного начальника Роман записал сына Борисом. Под холостяцкую закуску выпили бутылочку коньяка. Вечером его поджидал у калитки отец:
– И как же ты сына своего первенца, внука моего единственного назвал, сукин ты сын! Именем Бориса, продавшего партию и советскую власть! Как ты мог, мой сын, упасть в угодники!? – И отец хлёстко ударил сына по лицу, тот ойкнул, захватился руками, но кровь пошла и через пальцы. – Забыли отцовское слово, сукины дети! Забыли, как в морду получать, ежели творишь неладное!? Переименуй завтра же, придёшь и доложишь.
Отец широким шагом пошёл к своему дому, сын долго останавливал кровь и дрожь в руках. Утром с постели поднял звонок, Треплев поинтересовался, как спалось одному, спросил, не заметил ли хозяин в доме чужой расчёски:
– Неловко без расчёски, надо зайти, купить, да и в чужом доме такую вещь оставлять нельзя. Ничего, Роман, мне кажется, мы с тобой сработаемся. Ты с советами не лезешь, молодец. Есть новости?
Роман поделился:
– Ермолай Владимирович, вы же отца моего знаете, вчера мне выволочку сделал за имя для сына.
Треплев долго соображал:
– Что ему не понравилось? Как мы сына назвали?
Роман напомнил:
– Борисом, в честь президента.
Треплев опять задумался:
– И что тут такого? Борис есть Борис. Он что, не любит президента, он, поди, ещё и против президента голосовал?
Роман старался смягчить разговор:
– Ну, как он голосовал, я не знаю, а вчера крепко сказал: никаких Борисов в нашей породе не будет. Меняй имя.
– А ты что решил? – Треплев икнул.
– Не знаю, – несмело ответил молодой папаша.
– Зато я знаю, – оживился Треплев. – Сменишь имя – ищи работу, и с моей стороны не жди внимания. Всё. – И положил трубку.
Имя сыну менять не пошёл и к отцу на доклад не явился. Когда привёз Ларису из роддома, пригласил братьев, подошёл к дому отца. Мать вышла, видела, что сын побежал по родне, поняла:
– Не заходи, Рома, не пойдём мы, отец сердит, в мастерской что-то колотит.
– Ты бы уговорила его…
– Рома, я в эти дела не лезу, да и он не любит. Отгуляйте, может, отойдёт.
Но Григорий Андреевич с того дня не замечал старшего, мимо пройдёт – как рядом с пустым местом, ни скажет, ни спросит. Зная отца, Роман назло не лез. Замирило их горе, когда вдруг потеряла сознание Лариса, и в районную больницу прилетали на вертолёте врачи из области, сутки с ней возились, только этим и спасли. У постели больной дежурили посменно, отец молча пришёл и бросил сыну:
– Иди, поспи, я сутки пробуду.
С тех пор кое-как восстановились отношения, но что-то всё-таки между отцом и сыном было, Роман это чувствовал. Однажды за столом, когда всей большой семьёй отмечали Новый год, Роман подсел к отцу:
– Папка, объясни, ты почему такой стал?
– Какой? – уточнил Григорий Андреевич.
Сын стушевался:
– Чужой какой-то. В чем моя вина, скажи.
– Скажу, коли сам напросился. Мне эта власть не по душе, я секрета не делаю, а ты на моей родине и есть эта власть. Вот как мне людям в глаза глядеть и чего говорить, если вы всё изнахратили, обещали золотые горы, про крестьянское фермерство наплели, народ вроде кинулся, а там шиш с маслом. Пособия люди месяцами не получают, пенсии тоже. Что это за власть, если она человека не видит?
Роман молчал. Да и что он мог ответить человеку, всю жизнь отдавшему сначала колхозу, потом совхозу в родной деревне, а при ликвидации получившему пять гектаров неизвестно где находящейся земли да «долю» в рублях, а те рубли в технике и скотобазах, которые в несколько дней приватизировали толковые мужики. Правда, среди удачливых оказался сын Никита, работавший в совхозе главным агрономом, его мужики пригласили возглавить крестьянское хозяйство, в которое сволокли все свои паи и доли в конкретной земле и технике. Получилось, что центральное отделение стало самостоятельным кооперативом, а Никиту стали именовать председателем. И над названием не долго думали, раз совхоз был «Кировский», значит, и кооператив таким должен остаться. На этом настоял отец, он член-пайщик, присутствовал на собрании.
Когда стали разбираться со структурой нового хозяйства, Никита вдруг предложил отказаться от животноводства:
– Вы все знаете, что молоко и мясо почти всегда были убыточными, но то государство давало дотации и покрывало убытки, а сейчас ждать нечего, каждый живёт, как может.
Старший Канаков спросил с места:
– И какие у тебя предложения? Коров разобрать по дворам, как после войны? Или на колбасу и завтра же создать изобилие?
– Но другого выхода нет, Григорий Андреевич, – развёл руками сын.
Григорий встал:
– Тебя какой подлец этому научил? Ты же вечно деревенский, деревня всегда на корове выезжала, да корову впору русскому человеку священным животным сделать, как в Индии, а ты под нож! Ты сейчас рассуждаешь, как Гайдар с Чубайсом: это выгодно – наше, это убыточно – в расход. Если бы коммунисты так рассуждали, нам бы никогда из разрухи не вылезти. Ты теперь наш руководитель, должен свою голову на две половинки разделить, пусть одна экономит, а другая следит, чтобы от этой экономии людям польза была. Вопрос о скотине надо снять, он глупый и вредный. Новому председателю объявить внушение, чтобы обдумывал впредь свои предложения.
– Верно сказал, Григорий Андреевич, – встал с места Иван Лаврентьевич, когда-то лучшим механизатором был в совхозе. – Я по части скота поддерживаю. Ликвидируем, а людей чем занять, баб, то есть женщин? Никак нельзя без скотины. А ещё вношу: ввести в правление Григория Андреевича, для порядку.
Народ зашумел:
– Верно!
– Избрать!
– Тут мы дали маху!
Пришлось вставать, за добрые слова поблагодарил, но сказал:
– Для правления и одного Канакова хватит, а коли я есть отец и член партии, то контроль обеспечу, в чём и ручаюсь.
А когда уже второй урожай собрали, приехали перекупщики, молодые ребята на иностранных машинах, правда, изрядно поношенных. Зашли в кабинет, в котором в бытность парторгом сиживал брательник Роман, сели вокруг стола:
– Наше предложение такое: мы прямо у тебя в складах закупаем все товарное зерно, конечно, проверим качество, цена вот такая. – Старший написал на бумажке цифру и показал Никите. Тому цифра не понравилась.
– Нет, мужики, по такой цене отдать зерно – голыми останемся. Что я людям скажу?
Гости засмеялись:
– Ты о себе думай, начальник, а о людях партия и правительство позаботятся. Имей в виду, я пошёл по мизеру, могу накинуть, причём с каждой тонны тебе копейка отдельно. Думай. Ладно, если цены будут, а если спроса не окажется, мы же не одни работаем, всё связано, не будем брать зерно, и сиди с ним до весны. А людишки требуют, ребятишки голодные, женщины в пустые кастрюли колотят. Тогда как?
У Никиты ладошки вспотели, воткнулись в мозг слова о копейках, которые ему с каждой тонны. Гонит мысль, а она упрямо крутится. Сказал сломавшимся голосом:
– Назовите свою окончательную цену.
Старший опять пишет на листочке:
– Но это вместе с бонусом. Тебе сколько с тонны? Мы можем сейчас выдать, авансом, под расписку, правда, баксами, деревянных не держим. А остальное – как только зерно заберём, сразу фирму закроем, нас нет. Так что никакой проблемы.
Старший открыл дипломат, отсчитал нужную сумму, постучал по столу: расписку! Никита взял лист бумаги.
– Пиши: получено наличными от предъявителя… сколько там? Сумму прописью. Всё, хлеб наш, деньги привезём, когда машины пригоним под зерно.
Гости поочерёдно пожали Никите руку и вышли. Он открыл ящик стола и сгрёб туда деньги. Было стыдно и страшно. Выглянул за дверь – никого. Сложил деньги в папку с бумагами, которые всегда возил с собой и вышел.
Так опустился первый раз, была даже мысль сдать завтра в кассу как аванс от покупателей, но папку открыл, посмотрел на зелёненькие бумажки и сник. Жене ни слова, спрятал в ящике для ружья, она туда не лазит.
Самый младший, Прохор, после института остался было в городе, открыли фирму, у отца денег занял для учреждения, сказал, что с первой сделки вернёт. Григорий Андреевич усмехнулся: «На том свете угольками…» Но вышло ещё проще: на первой сделке ребят нагрели, Прошку поставили на счётчик, с чем он и явился в родной дом.
– Ты мне по-человечески можешь объяснить, какой такой счётчик? Что ты такое натворил? Выкладывай, я все равно дознаюсь, – грубо спросил отец.
Сын неумело выкручивался:
– Попали мы, папка, на бандитов, они и товар забрали, и денег не дали, да обложили данью, надо к двадцатому привезти аванс, а к первому числу всю сумму.
– И сколько?
Прохор сказал. Отец ударил в стол кулаком:
– Подлец! А ну подойди сюда поближе. – Прохор сделал шаг вперёд, отец щёлкнул его по щеке: – Это тебе аванец. – Щёлкнул по другой:
– А вот это – получка! Куда ты с русской мордой полез в коммерсанты, ты посмотри, какой там народ, по телевизору показывают – нет там ни одного русского, кроме тебя, дурака. Вот и проучили. Пошёл вон, будешь у Никиты скотником работать, это тебе самое то, станешь первым скотником с верхним образованием по федерации вашей.
Отец не знал, что Никита дал брату денег и тот съездил в город, погасил долг. Не с руки было Никите родного брата в скотники определять, пошёл к Роману за советом, и тот вспомнил о давнем товарище по партшколе Юрочке Пирожкове, умнице, остряке и гуляке, который вместо партийной работы пошёл в торговлю и вскоре стал заведующим огромной продовольственной базой, занимавшейся снабжением Северов. У Юрочки перед праздниками все друзья машинами закупали деликатесы для себя, знакомых и даже для детских подарков от профсоюза. Недавно говорил с ним по телефону, все передряги пережил, удержался, Москва базу приватизировать не даёт, частники могут так вздуть цены на продукты, что все нефтяники разбегутся.
– Вези своего брательника, познакомимся, договоримся.
Прохор Юрочке понравился, прошлись по складам, шеф советовал присматриваться, с каких товаров начать, чего в вашей деревне нет.
– У нас село, – поправил Прохор.
Юрочка раскатисто засмеялся.
Пришлось Роману поездить в район, поуговаривать то одного, то другого чиновника, в конце концов, оформили в аренду закрытый год назад сельповский магазин, большой, кирпичный, ещё с купеческих времён лавкой был. Все трое пошли к отцу. Матрёна Даниловна, увидев сыновей, поняла, что серьёзное дело пришли обсудить, кивнула: «В горнице он», сама принялась собирать на стол.
– Здравствуй, папка, – почти хором выговорили мужики, отец повернулся от стола, отложил газету. Роман заметил: «Советская Россия», советовал же не выписывать, в органах все подписчики на учёте. Оглядел сыновей, отложил газету, предложил:
– Ну, размещайтесь кто куда, раз пришли. У кого что стряслось?
– Почему обязательно стряслось? – недоуменно спросил Никита.
– Дак вы же по другому поводу не ходите гуртом, если вместе, стало быть, серьёзное дело, а в наше время серьёзное дело непременно неприятность, так что я готов, излагайте.
Говорить было поручено Роману:
– Мы знаем, папка, как ты переживал, когда Прохор попал в неприятность. Мы это дело закрыли, сейчас у тех ребят к нему претензий нет. Но надо же парню чем-то заниматься, да и не мальчик, жениться пора, а то один в доме, как этот…
– Ромка, я тебя ещё в парторгах учил: отвыкай в речах большой разбег делать, говори суть дела, а то, пока ты последние слова говоришь, я первые уже забыл.
– Хорошо, – кивнул Роман. – Есть возможность открыть продуктовый магазин, помещение арендовали, с торговой базой договорились. Мы предлагаем, чтобы этим делом занялся Прохор.
Григорий Андреевич скинул очки, солнечный зайчик испуганно прыгнул от них на стенку:
– Прошку – в торгаши!? Как вам это только в ум пришло, чтобы Канаковы за прилавком карамельками торговали и деревенских баб обсчитывали? Ловко придумали! А я-то думаю, что Прошка на ферму каждое утро уходит, общественно полезным трудом трудится, а он изучает, как за прилавком мошенничать, в торгаши готовится! Вот что я вам скажу, ребята: из вашего рая не выйдет ничего.
И тогда Роман вынул туза козырного, специально уговорил девчонок в архиве, чтобы такую справку выдали:
– Папка, а ты напрасно торгашей за людей не считаешь, я вот специально в архив ездил, несколько дней в бумагах рылся, а все-таки нашёл, что прапрадед наш в начале девятнадцатого века числился по купеческой части и имел три лавки в волости. Вот, почитай.
Григорий Андреевич взял бумагу, точно, районный архив, «Канаков Демид сын Иванов в ревизских сказках за … годы числится по купеческой части, налоги в казну вносит исправно, владеет тремя лавками…» Печать, подписи.
Григорий Андреевич повертел бумажку, посмотрел на сыновей:
– А скажи, Роман, отчего тогда отец мой был крестьянин, а не купец?
– Какой же он крестьянин, если земли имел три сотни десятин, ты же сам говорил, да скота своего сотню и неизвестно, сколько перекупал у киргизов петропавловских? Возможно, просто сменили бизнес.
– Чего сменили? – не понял отец.
– Род занятий, – неумело поправился Роман. – Так что Прохор просто вернётся к тому делу, которым когда-то наши родичи успешно занимались.
Григорий Андреевич ещё раз повертел в руках бумажку, положил её на стол и спросил:
– Какой магазин оформили?
– Каменный, бывший хозяйственный.
– Хорошее место, людное. Но сам за прилавок не лезь, найди девчонок поприличней. Обожди, я про главное-то упустил: а на какие вши ты собрался товар закупать? Теперь ведь фондов нет, по доверенности не получишь, кончился социализм.
Никита подсел поближе к отцу:
– Сейчас, папка, есть такая форма отношений как дача товара на реализацию. Мы же в своём хозяйстве даём хлеб, мясо с последующим расчётом. Так и Прохор будет работать, пока на ноги не встанет. Конечно, мы с Романом на первых порах поможем деньгами. Что ты нам скажешь, папка?
Григорий Андреевич долго молчал, посмотрел на Прохора: вчера был ребёнком, из института приезжал, как будто праздник привозил, и вот в торгаши собрался. Торгаши уже есть в селе, народ иначе как спекулянтами не называет, потому как цены такие, что дешевле в район съездить и купить. Опять же за куском мыла да кульком сахара не поедешь, вот и давят из бедного крестьянина…
– Не хочу я, чтобы и про нас такие разговоры были на селе, как про Инночку со Светкой. И бумажку, Роман, ты напрасно привёз, не было у нас в роду торгашей, не должно быть. Но, коли дело так повернулось, то я даю согласие, но на условиях. Первое: водкой не торговать. Не дам народ спаивать. Второе: если увижу, что продаёшь дороже, чем кто другой, – лавку прикрою. Позора не потерплю.
Никита вскочил:
– Да сегодня деньги только на водке и делают, папка, как ты не поймёшь!? На карамельках, как ты сказал, прибыли не будет.
Григорий Андреевич тоже резко встал:
– Дак вы о прибыли в первую очередь думаете? А я думал – брата пристроить к делу, чтоб не болтался, и чтобы отец на ферму, в самом деле, не проводил. Моё слово последнее, а кто против, тот свободен, я тоже в ваших спекулянтских делах не большой охотник разбираться. И бумажку вы эту зря выхлопотали, вранье это. Всё.
Братья вышли, не попрощавшись, потом Роман вернулся, кивнул маме, что все нормально, а то будет беспокоиться, отец ведь ничего не скажет. Зашли к Роману, сели за стол под развесистой яблоней.
– Итак, что будем делать? – Роман выжидающе посмотрел на Никиту.
– А что ты на меня смотришь. Отец же сказал…
Роман аж привстал, наклонившись к братьям:
– Старик из ума выживает, неужели не видишь? И сколько мы будем на поводке ходить? И когда это кончится: чуть что – в морду. Мне четвёртый десяток, сельский глава, а он в рыло.
Никита хохотнул:
– Да тебя он не тронет, это нам с Прошкой перепадает.
– Не тронет? Да на прошлой неделе у самого носа его кулак поймал! Сказал ему, чтобы он на партсобраниях поменьше выступал, ну остался коммунистом – это твоё дело, но меня же Треплев за его пропаганду предупредил, могу вылететь, вот в очередные выборы наберут большевики треть голосов – пойду с Прошкой торговать.
Прохор оживился:
– Вы все про политику, а как быть с торговлей? Без водки, в самом деле, навар не тот, ну по ценам легко всех обойдём, потому что я переписал на базе – крутить можно половину. Девчонок я присмотрю, чтоб посимпатичней, не старье же собирать. Никита, ты помоги мне договора составить на оплату и ответственность.
– Помогу. Только ты вот что имей в виду: тебе налоги платить, отчётность и прочее. Я подошлю своего человечка, он тебе объяснит, как и что. И в договорах указывай зарплату в пределах минималки, остальное будешь в конвертах, как говорят, выдавать. И не обещай золотых гор, больничные там, декретные, отпуска.
– А как?
– А так, Проша, ты слышал, папаша сказал: социализм кончился.
К Роману Григорьевичу для подготовки к выборам приехал чиновник областной администрации, Парыгин Георгий Иосифович, аккуратный брюнет очаровательной наружности с выраженным желанием всеми руководить. С первой встречи Роману он не понравился, но уполномоченных не выбирают. Беседу за рабочим столом он начал с того, что Роману не надо беспокоиться о выдвижении кандидатов и всю свою деятельность сосредоточить на активной работе по линии своей партии, не давая возможности для пропагандистов и агитаторов других партий и объединений, в то же время делая вид, что перед законом все равны, в том числе и перед избирательным. Роман кивнул, но вспомнил, что в прошлые выборы, то ли президентские, то ли думские, он получил выволочку от Треплева за то, что разрешил коммунистам провести встречу с избирателями в Доме культуры:
– Ты бы для них ещё посиделки организовал с пением революционных песен.
Роман недоуменно пожал плечами:
– Ермолай Владимирович, а как я мог им отказать?
– Просто! Проще пареной репы! Перекрыть отопление накануне – сами откажутся. Назначить на это время репетицию драмкружка. Отключить электричество. Видишь, сколько возможностей, и это я сразу, без подготовки.
Уполномоченный оживился:
– Прав Ермолай Владимирович, он хотя и партработник в прошлом, но суть нынешних перемен схватывает на лету. Видимость, дорогой Роман Григорьевич, чистейшей воды видимость равных прав и возможностей, а на самом деле жёстко перехватить глотку всем, кто рвётся к власти, кроме своих.
Роман хотел уточнить, что Треплев партработником никогда не был, просто на финишной прямой КПСС, когда уже все было ясно, и ядреные секретари райкомов уже подбирали места понадёжней, на открывшуюся вакансию второго секретаря друзья и двинули Ермолая Владимировича по его просьбе. Потому что колхоз, который ему доверили несколько лет назад, уже стоял на карачках, и перспективы там не было никакой. Через год партию прихлопнули, но Треплев уже обзавёлся связями в области и через несколько лет вернулся в райкомовский кабинет, но уже главой исполнительной власти. Хотел уточнить, но передумал, потому что боялся, откровенно боялся, что несколько лет работы парторгом ему могут припомнить и турнуть с должности. А куда пойдёшь? Не иначе, как к Никитке скотником.
– Вам надо собрать команду молодых людей, чтобы они за скромную плату чистили заборы. Что вы на меня смотрите? А, термин не понятен! Убрать все агитационные материалы наших противников! Ни одного портрета, ни одного призыва! Для встреч с избирателями мест приличных не давать под разными предлогами, а лучше избегать контактов с их представителями: уехал, занят, заболел.
Роман хотел возмутиться, но испугался своей дерзости и только пожал плечами:
– Задачу я понимаю, Георгий Иосифович, вот только встреч с населением боюсь, вопросов уйма, а ответ один: нет денег. Вы только посмотрите: детские не платим, бюджетники по три месяца ни копейки не видят. Трудно с людьми говорить.
Парыгин снисходительно поморщился, встал, закурил сигарету из красивой пачки («Кент», успел прочитать Роман), встал у стола, медленно привставая на носки дорогих ботинок. «Дыбки делает» – не к месту вспомнилось, как в деревне называют это движение ребёнка, который собирается сделать первый шаг в жизни.
– Дорогой Роман Григорьевич, я направлен в ваш район для обеспечения победы наших кандидатов. Вы меня провоцируете на откровенность – что ж, я скажу. Выборы мы выиграем, нам сейчас только этого недоставало, чтобы власть выбирало это быдло, не умеющее работать, умеющее только пить и бузотёрить. Ваши селяне или сельчане – как правильно? – свергли бы и вас, и Треплева, потому что им нужна советская власть, аморфная, проедающая национальное достояние, поощряющая бездельников и установившая всем одинаковую зарплату, на которую, извините, можно обновить только фуфайку. Мы же создаём общество, в котором каждый человек свободен, волен делать всё, что позволяет закон. К этому стремится всё человечество, а наш электорат надо убеждать. Да пропади она, эта агитация и пропаганда! Мы взяли власть, и мы теперь её никому не отдадим!
Роман слушал и боялся возразить, хотя слова ловил уже на вылете. Мелькнула мысль, что в партийные времена не было столь страстных ораторов, просто необходимости не было напрягать голос и рвать сердце, люди и так всё понимали. А тут… Георгий-то Иосифович, считай, почти на броневичке. Ему бы чуть прикартавливать – цены бы не было! – Роман Григорьевич, я только что вернулся из столицы, было довольно узкое совещание в администрации президента, достаточно сказать, что от области я был в единственном числе! – Парыгин многозначительно поднял указательный палец. – Ребята в администрации нацелены так далеко, как вам и не снилось, они видят Россию завтрашнего дня, с заводами – автоматами, с уникальными технологиями в сельском хозяйстве. Мощная банковская система, способная инвестировать в объекты любого масштаба. Мы сравняемся и сроднимся со Штатами, и тогда никто в мире пикнуть не посмеет против России.
Роман тоже встал, достал и прикурил свою «Приму», подошёл к книжному шкафу, нашёл статистический справочник за 1982 год:
– Я с вами спорить не стану, только страной, против которой никто и пикнуть не смел, мы уже были, и, как видите, счастья это нам не принесло. Вот тут, – он показал книгу, – статистика по стране. Я когда-то готовился в аспирантуру, подковывался, но потом всё пошло наперекосяк, а книги остались.
Парыгин сел на сильно продавленный диван, оставшийся ещё от парткома, положил ногу на ногу, довольно картинно. Посмотрел на собеседника и засмеялся:
– Дорогой Роман Григорьевич, да вы так и остались большевичком, президента не любите, у вас даже портрета его нет, нынешнее время называете перекосяком, голосовать собираетесь за коммунистов…
Роман бросил на стол книгу:
– Я бы просил не передёргивать, Георгий Иосифович, а, если на то пошло, то это моё личное дело, за кого буду голосовать. И портрета президента у меня нет, потому что Треплев не дал, так и сказал, что у Канакова его всё равно снимут.
Парыгин устало махнул рукой, опять сел на стул. Роман заметил, что у гостя дёргается веко на правом глазу, тот даже несколько раз прижимал его незаметно платком:
– Действительно, это ваше право и ваше дело, за кого будете голосовать. Только я вас на берегу хочу предупредить: мы вас в свою лодку не пустим! Решительно! – Голос его зазвенел и набряк угрозой. – Мы в результатах выборов, в тех протоколах, которые вы привозите и тщательно переписываете для районной комиссии, на цифры будем смотреть, перед тем, как выбросить этот бумажный хлам, только для того, чтобы определить, наш человечек сидит в самом низу вертикали или казачок засланный. Надеюсь, вы меня понимаете? И не вздумайте чудить. Я приеду к вам накануне голосования, уж больно вы меня заинтересовали. Говорят, у вас папаша в компартии состоит?
С трудом удержал себя Роман, кулаки сжал, но голосом не выдал:
– У нас, господин Парыгин, отцов папашами не зовут, за такое и на площади высечь могли в былые времена. И тоже, представьте, его право, мне он партбилета не отдаст.
Парыгин аж вскочил:
– А вы сами, дражайший Роман Григорьевич, к какой партии принадлежите? Нет-нет, про коммунистические убеждения я уже понял. А формально, как представитель власти? Вы в нашей партии состоите?
Роман кивнул.
– Я проверю. И вашу финансовую поддержку партии тоже посмотрю. Проводите меня до машины.
Уже из салона стального цвета «Форда» с нулями на номерных знаках он улыбнулся:
– Вы даже представить себе не можете, как я доволен нашей встречей, самим её фактом. Вы редкое явление для нашей системы управления. Сегодня вечером буду говорить с Анатолием Борисовичем, расскажу, чем Сибирь радует, то-то повеселится мой московский друг.
Прохор в торговлю ушёл с головой, взял у брата в хозяйстве грузовичок с тентом и сам ездил на базу к Юрику, который сразу предупредил:
– На людях зови по отечеству, Юрием Алексеевичем, а в кабинете или ещё где просто Юриком, так мне нравится.
В магазине полки сколотили из хорошо строганных досок, прилавок, холодильники и морозилку купил у того же Юрика по сходной цене. Две молоденькие девчонки, сестры-двойняшки, Галя и Валя, только что школу окончили, в институты ехать – нет таких денег, и работы в деревне никакой. А тут услышали, что Канаковы магазин открывают, отправили отца к старшему, Григорию Андреевичу, они хоть и не ровесники, но работали вместе и по сию пору здороваются.
– Будь здоров, Григорий Андреевич. – Гость открыл калитку и остановился, увидев хозяина.
– Ты ругаться пришёл, что ли, в воротах стоишь. Дак я не в том духе сегодня, чтобы чубы рвать. Заходи. Или сразу в дом? Дело какое или просто покурить? Говори, Артюха, не стесняйся.
Прошли под навес, сели на плетёные кресла, любил из прутиков красоту вить старший Канаков. Артём осмелел:
– А нам какого рожна сомущаться, мы не воры и не разбойники, честно жили и так бы продолжали, если бы не пятнистый.
– Артём, ты меня избавь от такого разговора, а то я опять ночь спать не буду.
– Понял, молчу. Прослышал я, Григорий, что вы с робятами магазин начинаете.
– Стоп! Это кто тебе такое сказанул, что я в этом магазине участвую?
Артём оробел:
– Не то сказал, не серчай, хотел попросить тебя девок моих пристроить. Надо, чтоб они за зиму какую копейку заработали, чтобы поступать ехать, а там будем как-нинабудь извёртываться. Школу прошли, обе как ударницы, а дальше никуда, средствов нет. Было на книжке, все копил, думал учить их в городе, а оно вишь как, скукарикали денежки… Ну, понял, не будем об этом. А про девок мне с кем дело иметь?
Григорий Андреевич помолчал, соображая, как ему себя повести. С одной стороны, к торговле никоим образом приклеиваться нельзя, с другой – Артёму помочь надо, куда он пойдёт? И Прошка тоже не сообразит, может и отказать:
– Давай так, Артём Сергеич, я вечером с сыном переговорю, а ты утречком забеги. Чай пойдёшь пить?
– В другой раз, спасибо, Григорий Андреевич, на добром слове.
Вечером отец пошёл к Прохору. Не славно, конечно, что мужик уж настоящий, а все один, хозяйки в доме нет, только мать на стол наставлять начинает, Прошка уж тут, без спросу, без приглашения. Раз не утерпел Григорий Андреевич, ложку положил:
– Обожди, Прохор, пусть суп остынет, больно горяч.
Хозяйка сунулась с объяснением:
– Дак с плиты сняла, оттого и горяч.
– Я, кажись, не с тобой. Прохор, я гляжу, тебе такая жизнь глянется, выспался неизвестно с кем и где, натетёшкался, вынежился, у отца в доме без приглашения за стол упал, наелся и вперёд. Ты только что в туалет ко мне не ходишь.
Мать аж всплакнула:
– Отец, да разве объел он тебя?
Григорий стукнул кулаком по столу:
– Ты способен на вопросы отвечать или мать за тебя будет отдуваться? А ты не встревай, не доводи до греха! Или тебе, сынок, подзатыльник вломить, чтобы в сознание вошёл? Я хочу знать, собираешься семью заводить или нет? Если нет – дом продам к чёртовой матери и деньги Зюганову отправлю.
– Отправляй. – Прохор встал со стула.
– Сядь! – рявкнул отец. – Ишь, моду взяли, чуть что – в сторону. Сядь! И слушай меня внимательно, сынок, потому что я дважды повторять не умею. Если к октябрьским праздникам не соберёшься, я так тебя оженю, тогда уж точно век будешь отца помнить.
Прохор улыбнулся:
– Нету, папка, теперь таких праздников.
Матрёна Даниловна и охнуть не успела, как Григорий хлёстко ударил сына по шее, встал, зашагал по дому из кухни в горницу, дважды прихватил макушкой верхний косяк, вовсе обозлился:
– Сопляк, в моем доме ест-пьёт, и мне же в оппозицию, праздников таких у него не стало! Утрись, не убил, я пока ещё не Тарас, – повернулся к жене. – Ишь, волю взяли, а кто тебе, дураку, образование дал? Кто матерь твою спасал, когда на эроплане хирурга привезли. Молчишь? Дак я за тебя ответствую: советцка власть. И при мне такие разговоры зажми, куда хошь язык засунь, но помолчи. Всё, обед испоганил, засранец. Но слово моё помни. А теперь иди, я отдыхать буду.
В тот же вечер, после разговора с Артёмом, пошёл к Прохору. И не с руки, вроде, в дела сына вмешиваться, но опять же просьбу человека надо уважить, известно ему, каково сегодня содержать двух девок, да у Артюхи, кажись, акромя есть. Прохор или в окно увидел, или сердце подсказало – на крыльцо выскочил:
– Проходи, папка, давно не бывал.
Григорий остановился посреди большого двора – тишина и чистота, корова не замычит, поросёнок не хрюкнет, курочка не скудахчет – ничего нет, по-городски живёт сынок.
– Дело у меня к тебе. Ты Артёма Сергеича знаешь, в МТМ работал раньше, хороший мужик. У него две девчонки, двойняшки, запамятовал, как зовут. Окончили школу, а дальше некуда, финансы не позволяют. Так вот, был у меня сегодня отец, просил, чтобы ты их продавцами взял. Я обещал походатайствовать.
– Ладно, папка, я подумаю и скажу тебе.
– А чего тут думать? Надо помочь человеку, девки они должны быть смышлёные, мать их толковая женщина, Артюша-то поскромней будет. Так берёшь или нет?
Прохор помялся:
– Пусть завтра к девяти в магазин приходят, порешаем.
– У-у-у, мерзкое слово, и откуда ты их нахватался: «Порешаем», стратеги хреновы. И не вздумай отказать! – Повернулся к калитке и краем глаза заметил – колыхнулась шторина. «Губу раскатил: сыновне сердце учуяло! Баба у него в постели, вот и вылетел на крыльцо! Женить надо подлеца, того и гляди истреплется».
Дом Прохору рубили всей семьёй, когда он ещё на практику приезжал в совхоз под руководство родного брата. Старший Канаков лично ходил на склад, отбирал нужные плахи, тесины, все аккуратно укладывал в сторонке, звал кладовщика и велел замерить с точностью. Тот в первый раз заотнекивался, мол, забирайте, Григорий Андреевич, а я на ремонт фермы отпишу потом. После первого же такого предложения Канаков ловко поймал его за грудки, подтянул к себе и в самое лицо выдохнул:
– Ты кому такую мерзость предложил, рыло твоё немытое! Ты думал, раз сын мой тут председатель, значит, я могу себе семь тесин на гроб и без счету взять? Ишь, ты, расшиковались! Всех надо выводить на чистую воду! Я тебя чего-то не могу признать, ты не наш деревенский будешь?
Мужик отряхнулся, на всякий случай на шаг отступил:
– С Казахстана я, жена тутошняя была, да не пожилось на новом месте, в прошлом годе убралась.
Канаков сообразил:
– Дак ты Любы Москвички мужик будешь? Помню её молоденькой ещё, все в Москву собиралась, вроде как приглашают её в артистки. Понятно, никуда она не уехала, так Москвичкой и осталась. А потом в Казахстан подалась. Да, слышал про твоё горе. Ну, ты не серчай, я тут погорячился малость, а кубатуру до грамма замерь, я проверю. И ещё ответь мне: отпускаешь без документов, бывает, что начальство велит? Говори, я всё едино прознаю, хуже будет.
Мужик огляделся по сторонам и шёпотом почти на ухо:
– Прораб больше велит, он потом и концы сводит.
Григорий Андреевич хохотнул:
– А директора ты не выдашь? Он у тебя ангел.
– Зачем буду на человека наговаривать? Новой раз черкнёт гумажку то на брусок, то на плаху человеку. Тогда отдаю, а так – нет.
– Ладно! После обеда подойду, накладную напишешь, я рассчитаюсь и вечером ребят отправлю на своей самоходке, заберут.
– Зачем? У меня вечером машины придут с паклей, загрузим и привезём.
Канаков хотел рявкнуть, но воздержался, только пальцем погрозил:
– Ну, ты меня ещё поучи!
В серванте он безжалостно выбросил из ящика годами хранящиеся вилки, ложки и ложечки, чайные ситечки, бронзовые подстаканники, которые ещё на свадьбу им с Матрёной подбросил кто-то из родственников. Навалил полную коробку и позвал жену. Та со слезами села на стульчик:
– Гриша, и чем оно тебе все помешало?
– Не помешало, а всякая лишняя вещь в доме атмосферу портит. Но это я кстати. Весь этот хлам, будь моя воля, вывез бы на помойку и не ахнул. Но ты же под колеса ляжешь. Потому прошу указать, в какое место поставить коробку, чтобы ты при случае могла выволочь на стол вот эти подстаканники и потосковать. Мотенька, их уж лет тридцать не пользуют, отдай в школу, говорят, там музей собирают.
Матрёна брала по одной вещи из коробки и чуть не плакала:
– Гриня, вот эти рюмки нам подарила матушка твоя, вечная ей память! Они старинные, ты посмотри, какое стекло, как хрусталь. А ложки, Гриня, мы с тобой покупали в первый год, в город ездили, я беременная была Никиткой, ты ещё шофёра ругал, что трясёт на кочках. А стаканчики, стаканчики, Гриша, ты же привёз, когда в Москву на выставку ездил. Тогда такие тонкие мало у кого были, мы любили из них морс пить и молоко парное. Неужто тебе не жалко такую память выбрасывать?
Григорий приобнял жену и вдруг подумалось: когда же я её вот так просто обнимал? И стало неловко, стыдно за себя:
– Мотенька, ты не серчай на меня, я же не со зла. Конечно, надо сохранить, потом будешь внукам и правнукам показывать. Это же только нам с тобой дорого, позови любого из внуков, засмеют нас с этими стекляшками. Ящик мне нужен для документов. Все квитанции на Прошкин дом в папке, уже вываливаются.
– И к чему ты их хранишь?
– Не хочу потом глазами перед народом моргать, когда спросят, на какие шиши дома понакатал, Григорий Андреевич? Вот тогда-то я бумажки эти и выложу, как козырных тузов.
Матрёна всё любовалась посудой, протирала фартуком залежалое стекло, помутневшие тяжёлые вилки и ложки. Подняла глаза на мужа:
– Кто с тебя спросит, кому это надо? Два дома поставили, и никто ни разичку ни одну бумажку не стребовал.
Григорий даже обрадовался:
– Потому и не вязнут с ревизий, что знают: у Канакова в учёте полный порядок, он сам, кого хочешь, на чистую воду выведет. Куда приданое твоё поставить? Может, в подпол спустить, там у меня на полках места много.
После Нового года привёз Никита отцу путёвку в пансионат для пожилых людей. Время послерождественское, морозы завернули настоящие, ночи звёздные, чистые, тихие, днём чуть дымкой подёрнется горизонт, и три солнца образуются на промёрзшем небе. Григорий Андреевич хоть и крещён был, но веры не знал, в церкви ни разу не бывал, а вот такие явления его смущали. Слышал где-то, что сие бывает к худу. Под худом всё понималось самое нежеланное, он часто вспоминал деда своего Корнилу, как тот рассказывал домашним:
– Сплю я на спине, это привычка детская ещё, потому и храплю столь сильно, что вынужден уйти в избушку. А по-иному не умею, лягу на бок – жмёт, на другой – упеть неловко, на брюхе спать нельзя, из всякого зверья только свинья на брюхе спит. Ну, вот ночесь сплю вроде и не сплю, потому как есть кто-то в избушке, акромя меня. Чуть полежал, вроде курнулся, а он меня за шею ручищами ухватил и душит.
– Кто? – выдохнула молодая сноха, а сама со страху едва на ногах держится.
Дед Корнила перекрестился и говорит тихонько, как бы одной снохе своей:
– Это, дочка, не след вслух произносить, но тебе скажу: дедушка – суседушко приходил.
– Чей, дедо? – спросил младший внук.
– Ну, знамо, наш, нашего дому хозяин. Я, когда дом этот поставил, а до того мы со старухой, ей тогда и осьмнадцати не было, вот в такой же избушке при тятином доме жили. Никто, конечно, не прогонял. Сами изъявили, потому как молодняк, один грех на уме. Вот и поставили мы с тятей дом, он большой хозяин был, и дом заказал рубить о двух етажах. Два года только на молитву останавливались плотники да на паужну, потому как с лесом робить, это не из чашки ложкой, а труд шибко трудной. Когда дом готов, освятил его священник, и надо в дом вперёд всех приглашать хозяина, суседушку. Тут и вышла у нас с тятей разногласия: если я поведу дедушку, в отцовском-то дому кто останется? Так не положено. И тогда старики сказали: «Корнила, бери икону, кланяйся в своей избушке во все углы и приглашай суседушку, уж коли вы тутака с женой прожили уж больше года, должон у вас завестись свой хозяин». Я и пал на колени: «Дорогой мой хозяин, выстроил я тебе хоромы великие, не чета этой избушке, приглашаю тебя в тот дом хозяином и буду всякий раз пишчу и питие всякое ставить тебе в подполе». Слышу, где-то скрыпнула плаха, пошёл тихонько к дому, дверь отворил и жду. И что вы скажете? Прошёл мимо меня, даже ветерком охватило, крышкой сбрякал и в подполье. Так с тех пор и живём. А как я в избушку ушёл, да и Лукерьюшку мою схоронили (царство ей небесное!), и стал он ко мне являться. Бывало, рядом сядет, надо, чтобы я чего-то рассказал. Я и сказываю всякие истории из жизни. Новой раз рукой проведу – тут сидит, и мохнатый весь, чисто тулуп вывернул и надел.
А душить он меня принимался не единожды. Подобно тому, гневается, что из дома ушёл. Я ему как-то и присоветовал, мол, коль изба маленькая, так ты направь ко мне внучка своего. В ту ночь он меня и прижал, да так тяжело, что я уж с белым светом прощаюсь. А надобно в это время спросить суседушку, к худу ли к добру?
– Как это – спросить? – опять интересуется сноха.
– Дедушка— суседушко за просто так давить не станет. Значит, хочет чего-то сказать. Вот ты и испроси: к худу он к тебе пришёл или к добру? В этот раз я едва выговорил, он сразу отпустил и сказал ятно: «К худу!» Так и вышло. На другой день война началась с Гитлером, отец ваш Андрей Корнильевич ушёл и не вернулся…
…Вечером позвал Никиту:
– Отдай бумагу доброму человеку, пусть едет, а я останусь дома.
Никита возмутился:
– Папка, я эту путёвку оплатил, она уже и заполнена на тебя. Чего ты заупрямился? Дома работы никакой, маме поможем, будем утро-вечер навещать. Да и срок там – две недели.
– Только две? Вот сволочи, и тут обманывают народ! Мотя, ты пять лет подряд после операции в Кисловодск ездила, на сколько дней?
А сам сыну кивает, дескать, слушай.
– На двадцать четыре дня. А у тебя?
– Да не у меня, а у них, у демократов, новых хозяев жизни: две недели! Попробуй, полечись!
Никита засмеялся:
– Ты же только что ехать не хотел, теперь тебе двух недель мало.
– Конечно, мало! День приезда пропал, день отъезда тоже пропал. Итого – двенадцать дней, ровно половина от советской путёвки.
Никита возмутился:
– Папка, да я тебя раненько утром на своей машине отправлю…
– Стоп! На какой это на своей? Мало того, что твоя жёнушка по выходным из неё не вылазит, так ты и отца родного хочешь в этот позор загнать? Машина не твоя, а совхозная, кооперативная, и шофёр совхозный. Зарплату получит и командировочные за то, что папашу начальника на курорт отвезёт? Да я пешком уйду, только избавь меня от этого!
Никита встал:
– Хорошо, я сам увезу тебя на своих «Жигулях» и оформлю этот день как отпуск за свой счёт.
Григорий Андреевич вскочил с места:
– Вот это правильно, молодец, сынок. И другие пусть видят и знают. Тогда я согласен.
В пансионат они приехали рано, автобус из областного центра, где собирались отдыхающие, ещё не пришёл. Никита договорился, что отца поместят в двухместный номер и соседа ему подберут спокойного и не очень старого, чтобы они могли поговорить. «Отец это любит», – добавил Никита и поставил с боку кресла регистраторши пакет с гостинцами. Та понимающе кивнула и велела помощнице проводить гостя.
Комната Григорию понравилась: стекла не застыли, видно двор, все ещё стоящую в центре высокую ёлку, тепло, есть горячая вода, душ, туалет.
– Ладно, Никитка, поезжай, маму успокой, что всё в порядке. За Прошкой смотри, а то у него каникулы опять до майских праздников затянутся.
Через час в комнату постучали, вошёл мужчина средних лет, с бородкой, поздравствовался, представился Николаем, познакомились. Разложил свои вещи, вынул из сумки икону, поставил на свою тумбочку.
– Григорий Андреевич, вы не против иконы?
Григорий пожал плечами:
– Да нет, не против.
– Вы, должно быть, крещёный человек, судя по возрасту?
– Говорила бабка, что крестили, но на том всё и остановилось.
– В церковь не ходите? Хотя бы просто так, из интереса.
Канаков кашлянул: вот послал бог соседа, пожалуй, из секты, их много теперь развелось, он читал в «Советской России». Сам для себя решил: начнёт дальше гнуть свою линию, вроде как вербовать – попрошусь в другой номер. Искоса поглядывал – нормальный мужик, бородка аккуратная, волосы длинные. «Э-э-э, – подумал Григорий, – дорогой, а не поп ли ты?» Решил выяснить сразу:
– Вы, конечно, извините, если что не так: вы, случаем, не поп?
Николай улыбнулся:
– Вы совершенно правы, любезный Григорий Андреевич, я отец Николай, православный священник, служу в небольшом храме в городе. Надеюсь, что мы подружимся.
Григорий опять кашлянул:
– Сомневаюсь, что мы с вами друзьями сделаемся, но, думаю, две недели друг дружку перетерпим.
Николай сел на свою кровать:
– Меня несколько удивляет ваша уверенность, что не подружимся. А что нам может помешать? Я не буду вас склонять к вере в Бога, ибо это или дано, или нет. Вот вы атеист, то есть не верите в Бога. Это ваше право. Я верю, и это моё право. В остальном, я думаю, мы найдём компромиссы?
– Чего найдём? – не понял Григорий.
Николай опять улыбнулся:
– Давайте так договоримся, Григорий Андреевич, мы здесь просто отдыхающие, будем принимать процедуры, гулять, насколько погода позволит. Вы не боитесь мороза?
У Григория чуть что-то резкое про мороз не сорвалось с языка, но вовремя поймал:
– Я крестьянин, мне морозы пережидать нельзя, каждый день управа со скотом, так что привычны.
– Тогда мы сойдёмся. Я перед Рождеством занемог, весь потерялся, едва Крещения дождался. Трижды окунулся во Иордани и, представьте себе, воспрянул.
Григорий вспомнил:
– Обождите, в Крещенье был сильный мороз, я даже скотину не гонял на прорубь, флягами воду возил и в бане грел.
– Стало быть, вы ни разу не купались в Крещение?
– Тонуть зимой доводилось, а чтобы сам – нет, не купался.
На второй день Канаков совершил обход пансионата, и уже через несколько минут у него появилось ощущение, что он когда-то тут бывал. Вот эта стайка берёз, одевшаяся в куржак, очень знакома, только почему-то берёзки стали выше и пушистей. И отвесный берег к застывшей под снегом реке тоже показался знакомым. А потом Григорий вышел на задний двор и улыбнулся: точно, бывал, дочка Никиты Лизанька отдыхала тут в пионерском лагере, а он за ней приезжал на новеньком «москвиче», только что полученном от ВДНХ за показатели по урожайности.
Пионерский лагерь новые власти прихлопнули, понятное дело: нет пионеров – зачем лагерь? Канаков вздохнул: сколько глупостей наворочали, прикрыли детскую организацию. Что в ней было плохого? Речевки про Ленина – уберите, если у вас аллергия на этого человека, но организацию оставьте! Как красиво ходили ребятишки строем да с песней на первомайском празднике, в День Победы. Любо посмотреть. Глядел каждый и радовался: такая смена растет, умные, красивые, нарядные. Он и тут, в лагере, налюбовался, как прощальную линейку проводили, сколько красивых слов сказали. Лиза всю дорогу дедушке рассказывала, как весело они жили, как вкусно кормили в столовой, какие костры они жгли на огромной поляне и песню пели: «Взвейтесь, кострами, синие ночи…»
В корпусе подошёл к дежурной, женщина немолодая, можно поговорить. Оказывается, она работала в том лагере воспитателем, он в восьмидесятые годы стал круглогодовым, тут ребята и отдыхали, и основные предметы изучали, чтобы не отстать от программы. А потом свернули, оставили только три смены летом, но через два года закрыли совсем, вроде бы купил его прокурор города, начали перестройку, собирались устроить базу отдыха для состоятельных людей. Один корпус даже перекроили на одноместные номера с двуспальными кроватями. Но кто-то вмешался, прокурора быстро перевели в другую область, а всю базу забрало управление социальной защиты. Вот, теперь пенсионеры в основном приезжают.
– Скажи, любезная, отчего путёвки такие дорогие? Ведь нельзя сказать, что тут такой комфорт.
Дежурная посмотрела на него внимательно, словно определяя, можно ли говорить, наклонилась через столик:
– Вам скажу, почему-то доверяю, что не продадите меня. База эта частная, а хозяин – заместитель губернатора, и вроде как государство у него арендует.
Канаков покачал головой:
– И вывести их на чистую воду некому. Ладно, извините за беспокойство, пойду, погуляю перед ужином.
Тяжёлые думы теснились в его изболевшейся голове. Как могло случиться, что сменились люди у власти, и всё пошло к смерти? И раньше менялись, умер один генсек, принимает второй, но в стране-то ничего не меняется! Заводы дымят, сев идёт и уборочная. Понятно, что кто-то соболезнует, жалеет, кто-то зубы скалит, такой огромный народ, всякие людишки попадают. А тут что? Откуда они взялись, эти чубайсы, березовские, поди, под тем же прикрытием, как и Бронштейн пробрался в Россию товарищу Ленину помогать революцию делать, только фамилию переправил на Троцкого. Если так, то и добра не следовало ждать. Опять же Ельцин. Был начальником в Свердловске, говорят, ещё тогда талоны на мясо вводил, а сам погуливал. А потом бац! – в ЦК, потом на Москву. Разве не видели, что он за птица? Почему я за день могу определить, будет из парня механизатор, или так, только рычаги дёргать, а они там такой мощной компанией, всем политбюро – не разглядели. А может, не хотели разглядеть, может, знали, что за кот в мешке? Специально поближе к центру перетащили, чтобы в нужный момент вытолкнуть на танковую броню. Нет, не хватает ума, чтобы объять все эти события. Тут бы в своих домашних не запутаться. За Никиткой нужен глаз да глаз, у такого корыта его посадили, всё в руках, а хватит ли духу это испытанье пройти? Ромка тоже нарасшарагу стоит, Треплев его сломит, и ляжет под него сынок, будет исполнять барскую волю, а народишко – как хошь, так и живи. Прошкина торговля поперёк горла Григорию Андреевичу, и вся жизнь его вольная. Женить его не удастся, он волю зачуял, теперь при деньгах, больше в городе трётся, да и тут потаскивает каких-то, народ видит. Лишь бы на тюрьму не наскочил с какой-нибудь лярвой, обвинит в насилии, трусики в целлофаном пакете в прокуратуру притащит, и останется Прошка голяком, а то и поедет тайгу допиливать.
Вечером заговорил с Николаем:
– После процедур санаторная книжечка раскрытая на тумбочке осталась, вы, получается, совсем молодой человек, в сыновья мне годитесь. Вот вы про веру говорили, это я понимаю, у меня тоже есть своя вера, я коммунист. Во что я верю, мне всё понятно: все люди равны, все люди братья, надо честно трудиться на благо общества, и общество тебя отблагодарит достойной пенсией, вот этой же путёвкой, только тогда, при социализме, она стоила копейки. Коммунисты хотят счастья для всех людей на земле. Вот моя вера. А твоя? Ты учился в советской школе, наверное, институт закончил. Расскажи свою жизнь, и я буду знать, кто ты есть на самом деле.
Николай долго молчал, Григорий подумал даже, что он вообще не хочет эту тему шевелить, но Николай заговорил:
– Да, я окончил среднюю школу, в институт не поступил, потому что сразу призвали в армию. Служил неплохо, был комсомольским активистом, даже предполагалось, что после срочной экстерном сдаю экзамены в Ульяновском среднем политучилище и служу по политчасти. Но случился Чернобыль. Нас подняли ночью и привезли на объект. Никто ничего не знал, даже офицеры. Солдат бросали туда, куда гражданские просто не шли. Мы работали месяц, потом госпиталь, комиссия и домой. Умирать. Я к тому времени уже хорошо понимал, что с моим организмом. Доза, которую мы получили, с жизнью не совместима. Дома мама, отец, они очень умные и грамотные люди, пытались мне помочь, но все понимали, что помочь уже ничем нельзя. И однажды ночью я ушёл из дома. На окраине города был монастырь. Я не знаю, что меня туда привело. До этого я ни разу не был в этом монастыре. Меня приняли, подготовили к исповеди, я все рассказал. Старый монах, который меня исповедовал, сказал, что надо молиться и просить Бога о спасении. Надо думать, он не имел в виду моё физическое состояние, он говорил о спасении души. Меня причастили и увели в келью. Это после монах Тихон сказал, что он попросил поместить меня отдельно от других послушников. Я стал читать молитвы, конечно, до того не знал ни одной. Отец Тихон дал мне Старый и Новый Заветы с параллельным переводом со старославянского на современный русский. Я не спал и почти не ел, скоро стал понимать старославянский, стал ходить на службы, потом и на работы. В это время во мне произошло странное разделение жизни физической, жизни тела, и понимание жизни души. Я не знаю, как это объяснить, но я перестал бояться смерти, потому что уже почувствовал жизнь души, и о ней заботился больше, чем о теле. Так прошёл год. Я обратился к отцу Тихону с просьбой постричь меня в монахи. Он отказался. Он сказал, что я не создан для монастыря, во мне сильно физическое, человеческое начало, он даже допустил такую фразу: «Насколько я тебя понимаю, ты человек общественный, если ты действительно хочешь служить Богу, тебе надо идти в храм, к людям». И я пошёл. По рекомендации отца Тихона меня взяли в церковь Николая Угодника псаломщиком, потом рукоположили в дьяконы.
– Прости, что перебиваю, дорогой мой, а болезнь твоя?
– Я о ней не думал. Да, плохо кушал, мало спал, но это освобождало дорогое для меня время молитвы. И я молился до службы, после службы, ночью. Это великое блаженство говорить с Господом на языке молитв, которые он знает. Святой Николай, а вы должны знать, что он был епископом в Мирликии и сильно страдал за веру свою, так вот, он стал моим покровителем, я часто обращался к нему. Ещё год прошёл, приехал к нам владыка, управляющий епархией, захотел со мной встретиться. Долго мы проговорили, и он предложил мне приход, вот эту небольшую церковь, раньше она была при духовном училище. Очень хорошо сохранилась, вот и служу.
– А в Бога-то, в Бога как поверил?
– К Богу много путей, самый верный – когда семья верующая и воспитала ребёнка в вере. Это, скорее, относится к старому, досоветскому времени. Теперь такое редко, разве что в семьях священников.
– Обожди, Николай, какие семьи, вам же нельзя жениться, запрещено.
Николай улыбнулся:
– Монахи, да, они отрекаются от всех благ земных, от богатства, от женщины, от семьи, это слуги Господа, воистину праведные люди. Есть путь через знания, когда великие люди, ученые высокого уровня вдруг все оставляли и уходили в монастыри, либо жизнь и взгляды свои круто меняли. Помните, был такой Дарвин, убеждал, что человечество произошло от обезьяны. С ним даже казус случился. Когда он опубликовал свою работу, мир пошатнулся, Дарвин стал знаменит: ещё бы, ниспровергатель Создателя. На балу к нему подошла красивейшая дама общества и громко спросила: «Мистер Дарвин, неужели вы, станете утверждать, что я тоже произошла от обезьяны?» Хитрый Чарльз ответил: «Да, мадам, только от очень красивой». Так вот, прошло время, теория уже охватила мир, а сам учёный вдруг понял, какую глупость сморозил, отрёкся от своего учения и остаток жизни молился.
– Тогда остаётся, что Бог слепил человека из глины?
– Я не вдаюсь в детали, я знаю одно: человека создал Господь, а потом понял, что создание несовершенно, наказал вероотступников и послал на землю сына своего Иисуса, дабы он показал людям пороки их, взял на себя все грехи человеков и взошёл на крест. Он принёс обновлённую веру, и предки наши славяне приняли её, как свою.
Григорий аж привстал:
– Но Иисус был еврей, и вера его еврейская, как это впарили её славянам? У них же были свои боги?
– Языческие. Но уже тогда были люди, понимающие, что народ должна объединять идея. Христианство – это мощнейшая философия, и грамотные люди, изучили её, приняли, как свою. Иисус предупредил, что в вере нет ни евреев, ни эллинов, никаких других наций, всё отменяет вера в Господа, и все люди равны, все имеют одинаковые права.
– Обожди, тут мы с тобой сходимся, что люди братья.
– Дорогой мой Григорий Андреевич, ваш моральный кодекс строителя коммунизма полностью списан с Христовых заповедей.
– Да не может такого быть! Да ты врёшь! Неужто в ЦК бы этого не заметили?
– Не думаю, что не заметили, более того – знали, но нет другой морали, кроме Христовой, ну, перелицевали и сделали коммунистической. Теперь о моем пути. Это путь через физические и нравственные страдания. У меня не было выбора, либо гнить, либо молиться. Это соломинка. И она меня спасла. Как же я после этого могу не верить?
Григорий Андреевич вздохнул:
– Да, дорогой мой человек, перенёс ты много чего. Быть у смерти на краю и увернуться – это не каждому дано. А товарищи твои, с которыми вместе был в Чернобыле, они-то как?
Николай трижды перекрестился:
– Ушли. Все. У меня есть фотография первого дня на объекте, когда мы ещё ничего не знали. Взвод солдат, человек тридцать, всех знаю по именам. Когда прощались, адресами обменялись. Я с друзьями и их родителями связи не терял, они мне время от времени писали, за упокой кого молиться. Я крестиком отмечал. Все, один остался.
– Семья у тебя большая?
Священник вздохнул:
– Нет семьи, перед рукоположением во священники обвенчались мы, но не прожили и месяца, ушла моя жена. Я не предполагал, что… Чернобыль столь безжалостно встанет между мною и женщиной. А поскольку священник не может быть неженатым, владыка дал согласие на монашеский постриг. Вот, отдышусь тут, и в монастырь.
– Это где?
– Тот самый, куда и в первый раз приходил, под городом. Буду служить там.
– Там что, и церковь есть?
– Прекрасный храм, возрождённый из развалин, а освящён был в 1780 году. Намоленное место. Как обустроюсь, обязательно вам напишу, вы мне адресок-то оставьте. Может, самому доведётся бывать в наших местах, все-таки областной центр.
– Ладно, обещать не буду, но адрес дам. Мало ли что…
На третью ночь Григорию приснилась жена, да не сегодняшняя, а молодая, какой была она, когда ходила первенцем, чуть располневшая, большегрудая, медлительная. Гриша в то время души в ней не чаял, ведра воды принести не давал, все по хозяйству делал, даже корову доил сам. Матрёна смеялась, а в сердце такая радость была, такое счастье.
Она долго скрывала от мужа, что понесла, только в постели просила горячего Гришу не мять её, сторонилась крепких объятий, уже и не знала, на боли в каком месте сослаться. Дали Григорию три дня для сенокоса, уехали ещё потемну на колхозной Карюхе на свой родовой покос, Гриша быстро шалаш сделал, ямку под продукты, чтоб не сох хлеб, не скислось молоко, да и мясу солёному тоже надёжней.
Косил Гриша большой литовкой, Матрёне сделал маленькую, ловкую. Гриша один проход сделает, ей надо дважды идти, чтобы такую ширину взять. Матрёна старалась не отставать, но и торопиться боялась, живот хоть и прятала под широкими кофтами, но уже выпирал, того и гляди, Гриша заметит.
Поужинали простеньким супчиком, молочко допили, Гриша сказал:
– Ты ложись-ка, а я пройду, погляжу дальний покос.
Легла она на спину, так легко, и даже забылась чуток, вздремнула, а ребёночек легонько её толкнул, да ещё раз. Слезы покатились от радости, и прошептала:
– Да миленькой ты мой, как же долго я ждала тебя!
– Ты это с кем говоришь? – тихонько спросил муж, так незаметно прошёл в шалаш, что она и не слышала.
– Гришенька, в тягостях я уж четвёртый месяц, вот ребёночек и шевельнулся во мне.
Григорий чуть не вскочил во весь рост, встал на коленки:
– Чего же ты молчала, глупенькая моя? Или я не рад был бы ребёночку? Умница, сладкая ты моя бабочка. Все, откосила, будешь рядышком со мной, а потом в шалаш, перегреваться тебе тоже нельзя.
Полежал Григорий Андреевич, понежился в сладких воспоминаниях. Да, трое парней на радость родителям бегали по большому дому, росли, в школу один за другим, в пионеры, в комсомольцы. Гордился отец сынами, в открытую гордился, а потом случилась революция, сломалось государство, партия, народы разметало по сторонам и странам, люди переменились, и сыновья его тоже, он это заметил. Почему? Разве не было в доме жестокого порядка: не ври, не воруй, не завидуй. Было… Тогда почему почти вдруг ребята его тоже сломались, какая ржа съела их благородный стержень внутри? А может, надо было плюнуть на всё, пропади она пропадом и советская власть, и партия вместе с Зюгановым, если за всякое честное слово, за попытку вывести кого-то на чистую воду он платит сыновьим отторжением? Молчал бы, занимался пчёлами, рыбачил, как добрые люди, не влезал в дела детей своих – самостоятельных мужиков – и жизнь была бы спокойней, и дети в порядке, и Матрёнушка пекла бы пироги да щи варила? Что, разве не так?
Да так, только это не для него. Откуда эта непримиримость? Может, оттого, что сам всегда жил честно и чужой копейки в руки не брал, может, потому и бесило его, что тащат не своё, тащат наше, общее, не спросясь, да ещё бахвалясь.
Оделся, вышел в коридор, постоял у окна. Интересно, могло ли в другой стране такое случиться, что кучка людей объявила себя властью, изобрела правительство, кто-то пытался вякнуть – расстреляла из танков. И все стали миллионерами, этими, холера, трудное слово: олигархами! А народ голый. И после размышлений приходил к выводу: нет, нигде такого быть не могло, только в России, потому что русский человек равнодушен, это Григорий и на партийных собраниях видел. Обсуждается серьёзный вопрос, а зал молчит. Выскочат три-четыре «звоночка», в парткоме написанные речи зачитают и голосуем: «Одобрить». А рядом сидит бригадир, третью лошадь казахам продаёт, и все падежом списывают с ветврачом. Пошёл к директору, тот чуть не выгнал: быть такого не может! А от безразличия до глупости один шаг, и мы его сделали. Да, страна наша такая, что судьба каждого человека невидимой пуповиной связана с судьбой всей страны. Когда-то это было хорошо, когда всей страной работали и на человека, и на страну. «Вот видишь, – подумал Канаков, – если хорошенько порассуждать, к интересным выводам прийти можно. Возможно, где-то тут причина падения моих сыновей».
Утром пошёл на почту, вызвал свой дом. Матрёна ответила, как всегда:
– Квартира Канаковых слушает.
– А из Канаковых все ли дома? – нарочито громко спросил Григорий.
– Гриша, родной мой, а я сегодня тебя во сне насмотрелась, истосковалась уже.
– Ну, ты наговоришь, четыре дня не прошли, а ты уж тоскуешь!
– Ладно, больше ничего говорить не стану.
– Обиделась, маленькая моя, а, я сам страшно стосковался, и тоже во сне тебя видел.
– Хорошо хоть там у тебя?
– Все в порядке, только вот сегодня заскучал шибко. У тебя все нормально?
– Хорошо, Гриша, ты отдыхай и возвращайся скорее. Я хоть обниму тебя, и мне легче будет.
– Все, время выходит, позвоню через два дня.
Кого обманывал Григорий Андреевич? Какие два дня, на следующее утро позвонил, потом ещё вечером сбегал. После разговора немножко погулял и вдруг понял: да мы же больше чем на день, с Мотюшей не расставались, а тут уж целая неделя прошла. Ну, те санаторные месяцы по тяжелой болезни не в счёт. И грустно было, и радостно, что вон какую жизнь прожили, больше полвека, а единого плохого слова друг дружке не сказали. Случалось, по молодости и выпивал Григорий с ребятами с получки, но всегда шёл домой, хотя такого мужика заманивали молодухи, тем более, пока детей в семье не было. Он приходил, тихонько раздевался, Мотенька помогала снять непослушные сапоги, помалкивала, дочиста мыла мужа, кормила горячим супом и укладывала спать. Утром он виновато прятал глаза, а жена, как ни в чём ни бывало, подавала чистую рубашку, брюки, вымытые и высушенные сапоги, и целовала крепким поцелуем у порога.
– Ты не спишь, Николай? Я специально ухожу перед отбоем, чтобы ты молился, при постороннем человеке это, наверно, неловко.
– Да, я заметил ваше понимание и благодарю.
– Вот ты мне скажи про исповедь. Приходит человек, встаёт перед священником и кается в дурных делах. Ну, про чужую бабу может сказать, про мелочи всякие. Но если он преступник, он же не скажет?
– На исповеди ничего нельзя утаить, и дело не в священнике, Бог-то всё равно знает про его грех. Утаил – трижды согрешил, уже не только перед людьми, но перед Богом. Потому надо признавать все прегрешения.
– И ты их отпустишь, освободишь от ответственности. Это по какому праву?
– Я говорю на исповеди от имени Господа, я же не скажу: «Прощаю грех твой», а скажу: «Бог простит», но и назначаю епитимию, наказание, это, прежде всего, молитва, поклоны, если грех велик – советую паломником пойти в монастырь или даже на Святую Землю, если, конечно, знаю, что этот прихожанин состоятельный человек.
– Обожди, я чего-то не понял. Вот новый русский, жулик, пришёл к тебе и кается, что обманул компаньона или ещё что-то, может даже – убил! Убил, да! – и что ты скажешь?
– Молиться и каяться, другого нет пути.
Григорий вскочил с кровати:
– Жулик, обманул, убил, надсмеялся – ему место на лесоповале или в урановых рудниках, а ты – молиться и каяться? И куда это приведёт? Да ты просто обязан сдать его органам!
Николай тоже присел на постели:
– Вопрос сложный, но ответ на него простой. Если человек пришёл в церковь, значит, он осознает и думает о спасении души. Я не могу советовать ему идти с повинной и информировать органы тоже не могу, тайна исповеди священна, знают кающийся, священник и Господь. Молитвой и смиренной жизнью оступившийся может заслужить прощение Господа, и на Страшном суде это зачтётся.
– Во! Я понял всю вашу фальшь! Вот где собака зарыта! По вашему получается: греши, грабь, насилуй, а когда пресытишься или, не при тебе будь сказано, ни на что уже желания нету, тогда добирайся до ближайшего попа, он тебе грехи отпустит и душа спасена. Так это или не так? Так, Николай, и тут ты мне ничего не возразишь!
– А я и не стану вам возражать. Я хотел только, чтобы вы поняли: иного спасения души нет, кроме раскаяния и молитвы. Даже если человек забыл о каком-то грехе, есть специальная треба, называется соборование, когда все кающиеся коллективно молятся о невольно забытых грехах, и всё отпускается им.
– Но это же предательство интересов народа, я не имею в виду старушек, которые и на самом деле забыли, когда в последний раз грешили, а вот эти жирные рожи, которые по телевизору показывают, сам патриарх с ними, каженный день грехи отпускает.
– Я не в праве обсуждать поступки Святейшего патриарха, но вы, должно быть, слышали притчу о разбойнике Кудеяре? Разбойник был, каких свет не видел, сколько душ невинных погубил, а потом осознал, обратился к Господу и раскаялся. И был прощён.
– Ваша политика прощения всякого подлеца нам не подходит. Мы за то, чтобы каждый ответил за сотворённое здесь, на земле, по нашим советским законам, и мы этого добьёмся. А вашей политики я никак не пойму: прощать преступника без наказания!? Куда это годится, и что это за вера такая? Вам её демократы не подменили, это как раз про них? – Что вы, Григорий Андреевич, христианство старше демократии, по крайней мере, в нынешнем её виде.
– Да, уж в нынешнем-то она без вашего всепрощения никуда. Ладно, сосед, поговорили, и довольно, надо отдыхать. Спокойной ночи.
Хоть и не первые выборы проводил Роман, но всякий раз появлялись новые проблемы. Чуть-чуть подправили закон о выборах, заставили перетрясти все участковые комиссии, чтобы свои люди были, никого лишнего. Когда принесли протоколы по выдвижению в состав комиссий жириновцы и коммунисты, Роман позвонил в районную администрацию управляющей делами: как быть?
– Найди причину отказать. И не вноси на территориальную до последнего дня, а потом откажите, найдите повод. В общем, все в твоих руках, Роман Григорьевич, ты же понимаешь: если в комиссиях будут эти люди, процент тебе не набрать.
Когда с комиссиями кое-как утрясли, никого посторонних не пустили, партийцы написали жалобу в облизбирком, но там им ничего не светило, Роман об этом знал. Перед обедом к нему забежал Прохор:
– Что опять у тебя за шум? Мои девчонки сейчас сказали, что только и разговоров в магазине про то, что вы большевиков и жириновцев отшили.
– Отшили, есть причина.
– Ну, темни. А не думал, что батя придёт разбираться?
Роман вскочил с кресла, нервно закурил.
– Ты же вроде бросал?
– Тут не только закуришь, а запить впору. Вот скажи, что это за положение такое, и рыбку съесть, и на рыбалку не ходить. Выборы ещё когда, а мне уже процент сказали, чтобы не меньше.
Прохор засмеялся:
– Рома, кому они нужны, эти выборы, если всё заранее известно? И ты процент дашь, и другой тоже, Треплев душу из вас вынет, а контрольную цифру выдаст. Кстати, отец знает про ваш ход и загадочно молчит. Как думаешь, почему?
Братья помолчали, переглянулись, Прохор опять засмеялся:
– Вот посмотришь, батя привезёт удостоверение наблюдателя от Зюганова.
– Ты думаешь?
– А что тут думать? Уверен. И затребует у тебя протоколы всех участковых. Вот и всё, потому он спокоен.
После обеда позвонил из района секретарь парторганизации коммунистов, сурово сказал, что в полном соответствии с законом о выборах администрация должна предоставить партии помещение для встречи с избирателями. Роман спросил, на сколько мест нужен зал, секретарь ответил, что не менее трёхсот.
– Тогда вам надо в райцентре встречу организовывать, у нас таких залов нет.
– А Дом культуры?
– Там двести мест.
– Мы согласны. Встреча завтра в восемь часов. Заявку сейчас сброшу факсом. И вас бы просил присутствовать.
Ближе к вечеру позвонил Треплев:
– Ну, хвались, Роман Григорьевич, что у тебя хорошего в подготовке к выборам? У тебя что за разговор был с Парыгиным, он постоянно интересуется, и с такой ехидной ухмылкой. Что ты ему наговорил?
– Да в целом ничего особенного, поговорили об особенностях политической обстановки.
– Ишь ты, какой стратег! Ты думай об особенностях своего сельсовета. Завтра к тебе большевики? О чём договорились?
– Просят Дом культуры.
– Не давай.
– Так я вроде пообещал…
– Знаешь, Канаков, если бы я все обещания выполнял, давно бы уже на бирже стоял как безработный. Сегодня пообещал, завтра отменил. Скажи клубникам, чтоб все двери закрыли и умерли. И Никите Григорьевичу скажи, чтобы нашёл способ не пустить в свой зал заседаний. Кстати, на завтра дождь обещают. Пусть они под зонтиками встречу проводят. Так, теперь о деле. Нашёл тебе денег на асфальтирование, у тебя в проекте школьная территория и детский сад, так вот отложи, я уже сказал дорожникам, пусть делают гостевую улицу, со въезда и до администрации, а то приедет добрый человек, и стыдно, хоть провались. Ты контрольную цифру помнишь? Так вот. Рекомендовано главам за каждый процент перевыполнения по сто долларов. Соображай.
Роман зажал голову руками: что делать, как себя вести? Он запутался во лжи, хоть специальный блокнотик заводи, куда записывать, кому что обещал. Некстати вспомнилось: «Не ври, и ничего не надо запоминать». Половина из обещанного сама собой забывалась, бывает, встретишь на улице человека, точно знаешь, что был он с какой-то просьбой, ты что-то пообещал, наврал, скорее всего, потому что Треплев строго-настрого наказал все заявления и жалобы перед выборами обязательно решать положительно, не можешь сделать – тогда обещай. А выборы пройдут, там видно будет.
Вчера вечером Марина завела трудный разговор о его работе, о куче неисполненных просьб населения, о нелестных отзывах односельчан. Роман любил и ценил Марину, она умная женщина, раньше вообще не встревала в его дела, а вчера:
– Роман, ты не сердись, я вижу, как тебе трудно. А трудно потому, что в тебе стержень вашей породы, ты вроде там уступку допустил, в другом месте глаза закрыл: а, ладно, не это главное. И верно, это все мелочи, но они изматывают тебя. Ты же честный и порядочный человек, на тебя дети чуть не молятся: папа справедлив, папа за народ. Вот сейчас с выборами – верхам нужна победа в первом туре, они все уши прожужжали по ящику, а какие брожения в народе, ты знаешь? И в любом случае спрашивать будут с тебя, и власть, и люди. Ты оказался между молотом и наковальней.
– Какие ко мне вопросы, Марина? Я соблюдаю закон о выборах, вот завтра приезжает делегация от компартии, даю им дом культуры, пусть встречаются. Приедут жириновцы – пожалуйста. Все права соблюдены.
Марина взяла полотенце и начала вытирать обтёкшую посуду.
– Хочешь правду, Роман? Не дашь ты завтра коммунистам Дом культуры, ведь не дашь, и, скорее всего, Треплев уже научил тебя, как сподличать. И ты сделаешь это, потому что границу дозволенного ты уже перешёл. Эта история со членами комиссии. Ты думаешь, я поверю, что это случилось без тебя? Роман, надо остановиться. Треплева можно понять, ему нужно кресло в областной администрации, пусть самое скрипучее, и он вас таких десяток может сложить в кучку, чтобы допрыгнуть. А тебе это зачем? Мы пока уважаемые люди, пока с родителями видимость приличных отношений, но я боюсь, Рома, что эти выборы разрушат всё, и доверие человеческое, и семью нашу тоже.
Он подошёл к столу, обнял жену за плечи, она резко повернулась и уткнулась в плечо.
– Успокойся, всё будет хорошо, я тебе обещаю.
Это обещание записывать не надо, оно всегда на виду и всегда в памяти. Роман понимал, что нынешние выборы важны не только для страны. Работая в самом низу пресловутой государственной вертикали власти, не имея сколько-нибудь приличного бюджета, на сто процентов зависимый от отношения к тебе главы района, он понимал, что создаваемая такими путями и столькими усилиями система никогда не будет нормально работать на народ, на его село. Он уже выбрал линию поведения: выполнять, насколько это возможно, указания Треплева и в то же время сохранить своё лицо и свою душу. Он не верил в победу Зюганова, даже если он и наберёт голосов больше, эти ребята ни за что не отдадут власть, потому что для них это равносильно смерти. Любая новая власть предъявит обвинения, и они не многим отличались бы друг от друга, а отвечать пришлось бы на уровне Всенародного суда.
Утром на щите у Дома культуры увидел объявление о встрече с доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Сергеем Ивановичем Романчуком. От неожиданности остановился, перечитал: приедет Романчук, бывший первый секретарь райкома, который направил его, Романа Канакова, секретарём парткома в Кировский совхоз, и три года до запрещения партии они работали бок о бок. В голове все смешалось: «Закрыть Дом культуры не получится, врать Романчуку я не смогу. А если позвонит Треплев? Не буду подходить к телефону, пусть звонит».
С Романчуком встретились, как старые знакомые, после запрета партии Романчук долго не мог найти работу, хотя толковый экономист, опытный организатор, потом пристроился в лесной конторе, так что почти не встречались. Роману показалось, что Романчук встрече искренне рад.
– Рассказывайте, как работа, как настроение, как семья, дети?
– Дома все нормально, работа – сами видите какая, а настроение ни к чёрту.
Романчук удивился:
– Что так? Вы же все Канаковы из породы оптимистов. Отец здоров?
– Ещё как! Ждите, на встречу придёт, вопросы будет задавать.
– Я помню его, поверьте, если бы все семнадцать миллионов членов партии были настоящими коммунистами, как Григорий Андреевич, никто бы не сумел нас подмять. Вы знаете, что он приезжал ко мне с предложением вооружённого мятежа и установления партийной власти в районе?
– Когда? – испугался Роман.
– Перед запретом партии. И он был не один. Я связался с обкомом, меня успокоили, что ситуация под контролем. А через несколько дней Ельцин подписал указ о запрете КПСС, причём унизительно, беспардонно, в прямом эфире. Я в конце девяностых заканчивал академию при ЦК, уже тогда очень солидные люди говорили о подобном повороте истории. Так, довольно о прошлом, наши прежние отношения позволяют мне задать вам вопрос прямо, Роман Григорьевич: как проголосует ваш избиратель? Вы же чувствуете обстановку, настроения? Даю слово, это строго между нами. Просто мне хочется знать ваши оценки. Можно?
– Сергей Иванович, честно сказать, и мне это все порядком надоело. Наверное, мы в своё время работали плохо, были и ошибки, и откровенные закидоны, типа неперспективных деревень или содержания всего третьего мира за свой счёт. Было. Но так мы не жили. Если людей не пугать, не угрожать невыплатами зарплаты или пенсий, а дать проголосовать свободно – проголосуют за коммунистов.
Романчук помолчал, заговорил тихо:
– Мне сегодня звонил Геннадий Андреевич, видимо, у него есть координаты всех доверенных лиц. Задал тот же вопрос, что и я вам, и я ответил почти слово в слово, как и вы. Зюганов обеспокоен вознёй неких группировок, видимо, это идеологическая поддержка из Штатов. Очень много провокаций. Сказал, что у Ельцина очередной инфаркт, по крайней мере, сильнейший приступ. И они его затаскали по разным шоу, даже, говорит, жалко старика. Ему стало известно, что на случай нашей победы готовятся крупные акции, не исключены и военные. Усиленно внедряется лозунг «Зюганов – это гражданская война!». Какие изощрённые сволочи! Они знают, на чём сыграть, наш народ уже один раз чуть не захлебнулся в собственной крови, генетически помнит, что такое гражданская война. Ну, вот, пожалуй, и всё. Мы будем просить заверенные копии протоколов участковых комиссий, в рамках закона, не думаю, что вы будете возражать.
Из кабинета бухгалтерии позвонил домой, Марина сразу доложила, что несколько раз звонил Треплев и просил связаться с ним, желательно до встречи.
– Уже поздно, встреча начинается. Я просил бы тебя быть там вместе со мной. Придёшь?
– Рома, я уже собираюсь.
Романчук начал встречу ровно в восемь, но народ всё подходил, и кто-то крикнул:
– Начальник, тормозни минут на пять, народишко соберётся.
Романчук улыбнулся:
– Хорошо, только я не начальник уже давно, а был первым руководителем района, если помните.
– Помним! – раздались голоса, и Канаков заметил, как заблестели слезой глаза бывшего первого. И вдруг в этом дружном «Помним!» Роман услышал голос отца, здесь, и будет держать речь. Странно, но это даже порадовало его.
– Чтобы не терять время, я приведу вам некоторую статистику. Сегодня район использует только семьдесят процентов посевных площадей. Да, частично заброшены малопродуктивные земли, мы в своё время ими не брезговали, но у нас задачи были другие. Количество скота сократилось на шестьдесят процентов, в том числе коров на половину. Свиней вырезали почти всех. Ликвидирована наша гордость – гусе-ферма, продававшая почти сто тысяч суточных гусят для населения. Молоко стало дешевле газировки, мясо закупают только наши азиатские братья, картофель перестали закупать совсем. В вашем селе жил Моспанов Яков Лаверович, если мне память не изменяет. Мы поставили ему в огород два «ЗИЛа», и он их полностью загрузил, сдал в заготконтору картошки на двенадцать тысяч…
– …и триста двадцать пять рублей семнадцать копеек! – Моспанов встал, и зал приветствовал его аплодисментами.
– Помню, что мы тут же выдали распоряжение продать товарищу Моспанову «Ниву». Купили вы машину, Яков Лаверович?
– Купил, и до сегодняшнего дня езжу и благодарю советскую власть.
Романчук довольно умно построил своё выступление, он находил в зале знакомого человека и спрашивал о семье, о детях, о доходах, и люди выворачивали на всеобщее обозрение свои проблемы и беды.
Через полтора часа задушевного разговора Романчук сказал:
– Вот, дорогие товарищи, и закончилась моя агитация. В день выборов вы все должны прийти на участок и проголосовать. Обязательно все, как было в добрые советские времена. Вы все взрослые и умные люди, вы сумеете сделать правильный выбор. Спасибо.
Зал устроил Романчуку такие аплодисменты, каких не слышали даже приезжие артисты. Гостя проводили до самой машины. Канаков подошёл последним:
– Спасибо, Роман Григорьевич, очень славная получилась встреча, правда?
– Могу вам только позавидовать в умении работать с людьми.
– Да, это наука, но она крепко связана с реальной жизнью. И вы это заметили. И последнее: какие у вас отношения с Треплевым?
– Очень натянутые, и думаю, после выборов будут ещё хуже.
– Остерегайтесь его, я возражал против его перевода в райком, но давление было сильное, пришлось сдаться. Мы проработали вместе чуть больше года, а встречались только на бюро и в коридоре. Очень тяжёлый, злой и крайне жестокий человек. Впрочем… Чуть не забыл. Помню, консультировал вас по кандидатской. Что-то получилось?
– Ничего. Когда началась эта заварушка, я тоже несколько месяцев был не у дел, не до кандидатской.
– Всё, прощаюсь.
Они пожали друг другу руки, и старенькая «Нива» бывшего первого секретаря покатила в сторону райцентра.
Торговля Прохора быстро пошла в гору, взял в банке кредит под гарантию кооператива брата, купил газончика с будкой, каждую неделю ездил в город за товаром. Юрик подписывал все, что просил Канаков, и за дорогу, накинув половину цены на каждый продукт, Прохор мог назвать сумму дохода. Получалось солидно. Конфеты, вафли, печенье, пряники в шоколаде и без, новоявленные изделия типа «сухих завтраков» и печенья «плазма», зефиры и мармелады – все было для села новым, неожиданным, люди покупали коробками, авторитет магазина рос, Прохора хвалили даже в районной газете.
Девчонки оказались симпатичными и разными, хоть и близнецы, Валентина смугленькая, круглолицая, ростом повыше сестры, на язык остра. Галина беляна, косу растит, телом поплотнее будет и тоже хороша. Прохор встретил с улыбкой:
– Вы в торговом деле хоть что-нибудь соображаете?
Сестры переглянулись:
– Мама всю жизнь в магазине, и мы ей помогали. Так что на весах нас не обойдёшь и по кассе не обсчитаешь, – с вызовом ответила Валентина.
– Ну, тогда весь барыш наш. А ведь я вас совсем не помню, учиться уезжал – вы ещё пионерками были, а теперь невесты на выданье. Отец ваш просил моего отца, а мой рассуждать не любит, пришёл и сказал: принять! Медицинские книжки и паспорта при вас? Положите вот сюда, я потом договора напишу, обсудим. По зарплате. Сами понимаете, пока на берегу, как дело пойдёт? Потому сделаем гарантированную и плюс процент от выручки, думаю, месяца через три работы всё встанет на свои места. Смены так: одна с восьми, другая с двух, возможно, и вместе придется, если товар ходовой.
– Прохор Григорьевич, а водка будет?
– Сложный вопрос. Пока не будет, отец не разрешает.
– Слава Богу! – В голос выдохнули сестры. – От пьяниц одни неприятности.
Когда девчонки ушли, Прохор почувствовал, как колотится сердце. Такие юные, чистые девушки, и он всё время будет с ними рядом. Если и волочится кто-то, надо сразу отшить, найти причину.
Отец не ошибся, в тот день действительно была у Прошки гостья, из соседней деревни приехала на автобусе. Так, ничего серьёзного, встретились в райцентре, понравилась, мимо дома проехал, проводил, пригласил в гости. Она и явилась на другой день. Наслаждались до обеда, а потом Инночка стала наводить порядок в комнатах, всю посуду перемыла, пропылесосила, протёрла мебель. Прохор уж забеспокоился, не навсегда ли остаться собралась подруга. Как бы между прочим спросил:
– У тебя автобус в шесть?
Она засмеялась:
– В шесть, Проша, не боись, я в жены не тороплюсь. Ты скажи, если хорошо со мной, то будем встречаться, надоест – тоже скажешь.
Прохор тоже улыбнулся:
– Даже так? Абсолютно свободные отношения? Только попрошу, пока мы встречаемся, третьего быть не должно. Договорились?
– Само собой, Проша. Ты завтра купи что-нибудь, у тебя в ванной весь фаянс зелёный. А я приеду, заодно и почищу.
