Легенда о Сан-Микеле бесплатное чтение
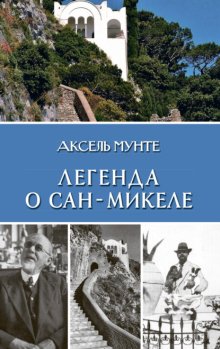
Axel Munthe
THE STORY OF SAN-MICHELE
1929
© Аксакова Т.А., наследники, перевод, 1929
© «Захаров», 2020
Предисловие автора
Критики не могут решить, к какому жанру следует отнести «Легенду о Сан-Микеле». Ничего удивительного. Одни называли ее «автобиографией», другие – «воспоминаниями врача». Насколько я могу судить, это ни то и ни другое. Ведь история моей жизни вряд ли заняла бы четыреста страниц, даже если бы я не опустил наиболее печальных и значительных ее глав. Могу только сказать, что я вовсе не хотел писать книгу о самом себе – наоборот, я постоянно старался избавиться от этой смутной фигуры. Если же книга все-таки оказалась автобиографией, то (судя по ее успеху) приходится признать, что, желая написать книгу о самом себе, следует думать о ком-нибудь другом. Писателю нужно только тихо сидеть в кресле и слепым глазом всматриваться в прошедшую жизнь. А еще лучше – лечь в траву и ни о чем не думать, только слушать. Вскоре далекий рев мира совсем заглохнет, лес и поле наполнятся птичьим пением, и к нему придут доверчивые звери поведать о своих радостях и горестях на понятном ему языке, а когда наступит полная тишина, можно будет расслышать шепот неодушевленных предметов вокруг.
Название же «Воспоминания врача», которое дают этой книге некоторые критики, кажется мне еще менее уместным. Такой помпезный подзаголовок никак не вяжется с ее бурной простотой, бесстыдной откровенностью и прежде всего – с ее прозрачностью. Конечно, врач, как и всякий другой человек, имеет право посмеяться над собой, когда у него тяжело на сердце, может он посмеиваться и над своими коллегами, если готов принять на себя все последствия. Но он не имеет права смеяться над своими пациентами. Еще хуже, когда он льет вместе с ними слезы: плаксивый врач – плохой врач. Старый доктор вообще должен хорошо поразмыслить, прежде чем садиться писать мемуары. Будет лучше, если он никому не откроет того, что видел и что узнал о Жизни и Смерти. Лучше не писать мемуаров, оставив мертвым их покой, а живым – их иллюзии.
Кто-то назвал эту книгу «повестью о Смерти». Может быть это и так, ибо Смерть постоянно присутствует в моих мыслях. «Нет ни одной мысли в моей душе, которая не имела бы лика Смерти», – писал Микеланджело в письмах к Вазари. Я так долго боролся с моей мрачной коллегой, я всегда терпел поражение и видел, как она одного за другим поражала всех, кого я пытался спасти. И некоторых из них я видел перед собой, когда писал эту книгу, – вновь видел, как они жили, как страдали, как умирали. Ничего другого я не мог для них сделать.
Это были простые люди – над их могилами не стоят мраморные кресты и многие из них были забыты еще задолго до смерти. Теперь им хорошо. Старая Мария Почтальонша, которая тридцать лет носила мне письма, пересчитывая босыми ногами семьсот семьдесят семь финикийских ступеней, разносит теперь почту на небе, где добрый Пакьяле мирно курит свою трубку и смотрит на бескрайнее море, как некогда глядел на него с перголы Сан-Микеле, а мой друг Арканджело Фуско, подметальщик в квартале Монпарнас, сметает звездную пыль с золотого пола. Под великолепными колоннадами из ляпис-лазури бодро прогуливается маленький мосье Альфонс, старейший обитатель приюта «сестриц бедняков», щеголяя в новом сюртуке питсбургского миллионера, он торжественно приподымает свой любимый цилиндр перед каждым встречным святым, как некогда делал это перед моими знакомыми, когда катался по Корсо в моей коляске.
Джон, маленький голубоглазый мальчик, который никогда не улыбался, теперь весело играет с другими счастливыми детьми в бывшей детской Бамбино. Он наконец научился улыбаться. Комната полна цветов, птицы с песнями влетают и вылетают через открытые окна. Иногда в комнату заглядывает Мадонна, чтобы убедиться, что дети ни в чем не нуждаются. Мать Джона, которая так нежно ухаживала за ним на авеню Вилье, еще здесь, с нами. Я недавно ее видел. А бедная Флопетт, проститутка, выглядит на десять лет моложе, чем тогда, в ночном кафе на бульваре. Очень опрятная в белом платье – она служит второй горничной у Марии Магдалины.
В тихом уголке Елисейских полей находится собачье кладбище. Все мои умершие друзья там. Их тела еще лежат под кипарисами у старой башни, там, где я их похоронил, но их верные сердца попали на небо. Добрый маленький святой Рох, покровитель собак, оберегает это кладбище, а добрая старая мисс Холл часто туда приходит. Даже шалопай Билли, пьяница-павиан, который поджег гроб каноника дона Джачинто, был допущен, хотя и на испытательный срок, в последний ряд обезьяньего кладбища по соседству – после тщательной проверки святого Петра, который заметил, что от Билли пахнет виски, и принял его сначала за человека. А дон Джачинто, самый богатый священник Капри, который ни разу не дал ни единого сольди бедному человеку, все еще жарится в гробу. Бывшему же мяснику, который ослеплял перепелов раскаленной иглой, Дьявол собственноручно выколол глаза в припадке профессиональной ревности.
Какой-то критик заметил, что «Книга о Сан-Микеле» может обеспечить авторов коротких чувствительных рассказов сюжетами на всю жизнь. Если это так, они могут пользоваться этим материалом сколько их душе угодно. Мне он больше ни к чему. Всю жизнь я усердно писал рецепты и после этих литературных усилий уже не стану на закате дней писать чувствительные рассказы. Жаль, что я не додумался до этого прежде – тогда не оказался бы в нынешнем положении. Наверняка, гораздо удобнее сидеть в кресле и писать чувствительные рассказы, чем трудиться всю жизнь, собирая для них материал, легче описывать болезни и смерть, чем бороться с ними, и приятнее придумывать страшные сюжеты, чем испытывать их на себе. Но почему бы этим профессиональным писателям самим не заняться сбором материала? Они редко это делают. Романисты, постоянно увлекающие своих читателей в трущобы, сами редко туда заглядывают. Специалистов по болезням и смерти редко можно заманить в больницу, где они только что прикончили свою героиню. Поэты и философы, которые в звучных стихах и в прозе воспевают Смерть Освободительницу, нередко бледнеют при одном упоминании об их любимой подруге.
Это старая история. Леопарди, величайший поэт современной Италии, который с мальчишеских лет в чудесных стихах призывал смерть, первым в жалком страхе бежал из пораженного холерой Неаполя. Даже великий Монтень, чьих спокойных размышлений о смерти достаточно, чтобы сделать его бессмертным, улепетнул как заяц, едва в Бордо началась чума. Угрюмый Шопенгауэр, величайший философ нового времени, сделавший краеугольным камнем своего учения отрицание жизни, обрывал разговор, если его собеседник касался темы Смерти. По-моему, наиболее кровавые книги о войне писались мирными жителями там, куда не долетали снаряды дальнобойных немецких орудий. Авторы, которые с удовольствием делают своих читателей участниками сексуальных оргий, сами обычно остаются в таких сценах безразличными актерами. Мне известно лишь одно исключение из этого правила – Ги де Мопассан, и я видел, как он от этого умер.
Я знаю, что некоторые эпизоды этой книги развертываются в нечетко определяемой пограничной области, между реальным и нереальным, на опасной «ничьей земле» между действительностью и фантазией, где терпели крушение многие мемуаристы и даже сам Гёте в своей «Поэзии и правде» нередко сбивался с пути. Я изо всех сил пытался с помощью давно известных приемов придать хотя бы некоторым из этих эпизодов вид чувствительных рассказов. В конце-то концов, это вопрос формы. Если мне это удалось, я буду очень рад – мне ничего не нужно кроме того, чтобы мне верили. Всё и так достаточно скверно и печально. Видит Бог, мне и без того придется отвечать за очень многое. Впрочем, я считаю это комплиментом, ибо величайший автор чувствительных рассказов – сама Жизнь. Но всегда ли Жизнь правдива?
Жизнь остается такой, какой была всегда: равнодушной к событиям, безразличной к людским радостям и печалям, безмолвной и загадочной, как сфинкс. Но сцена, на которой разыгрывается эта бесконечная трагедия, постоянно меняется во избежание однообразия. Мир, в котором мы жили вчера, не тот мир, в котором мы живем сегодня. Он неуклонно движется в бесконечности навстречу своей судьбе, как и мы сами. Человек не может дважды искупаться в одной и той же реке, сказал Гераклит. Некоторые из нас ползают на коленях, другие ездят верхом или в автомобиле, третьи обгоняют почтовых голубей на аэропланах. К чему спешить? Все мы неизбежно достигнем конца пути.
Нет, мир, в котором я жил, когда был молод, не похож на мир, в котором я живу теперь, – по крайней мере, так кажется мне. Наверное, со мной согласятся и те, кто прочтет эту книгу о странствиях в поисках прошлых приключений.
Бандиты с восемью убийствами на совести уже не уступят вам свой тюфяк в разрушенной землетрясением Мессине. Под развалинами виллы Нерона в Калабрии уже не прячется подобравшийся для прыжка сфинкс. Бешеные крысы в трущобах холерного Неаполя, которые так меня напугали, уже давно вернулись в безопасность римских клоак. Сегодня можно добраться до Анакапри на автомобиле, достигнуть вершины Юнгфрау на поезде и подняться на Маттерхорн по веревочным лестницам. В Лапландии за вашими санями уже не погонится по замерзшему озеру стая волков, чьи глаза горят во тьме, как раскаленные угли. Старый медведь, преградивший мне путь в глухом ущелье Сульмё, уже давно перебрался в Поля Счастливой Охоты. Через бурный поток, который я переплывал вместе с юной лапландкой Ристин, перекинут теперь железнодорожный мост. Туннель прорезал последний оплот ужасного тролля Стало.
Маленький народец, топот которого я слышал под чумами лапландцев, больше не приносит пищу медведям в берлогах – вот почему теперь в Швеции так мало медведей. Пожалуйста, смейтесь над маленьким народцем сколько хотите – если не боитесь! Но я убежден, что ни у одного человека, прочитавшего эту книгу, не хватит духу утверждать, будто гном, который сидел на столе в Форстугане и осторожно вытягивал цепочку моих часов, вовсе не был настоящим гномом. Нет, это был настоящий гном! Кто еще это мог быть?! Ведь я совершенно ясно разглядел его, когда приподнялся на постели, а сальный огарок замигал и погас. К моему большому удивлению, я слышал, что существуют люди, никогда не видевшие гномов. Их можно только пожалеть. Наверно, у них зрение не в порядке. Дядюшка Ларс Андерс из Форстугана, великан в овчине и деревянных башмаках, давно уже умер, как и милая матушка Керстин, его жена. Но маленький гном, который сидел скрестив ноги на столе в каморке над коровником, еще жив. Ведь умираем только мы, люди.
1930
Глава 1. Юность
Я спрыгнул с соррентийской парусной лодки на берег острова. Между перевернутыми лодками играли мальчишки, их обнаженные бронзовые тела мелькали в волнах прибоя, а у лодочных сараев сидели старые рыбаки в красных фригийских колпаках и чинили сети. Напротив пристани стояли шесть оседланных ослов, их уздечки были украшены букетами цветов, а рядом болтали и напевали шесть девушек с серебряными булавками в черных косах и красными платками на плечах.
Ослика, который должен был отвезти меня наверх, в деревушку Капри, звали Розиной, а девушку – Джойей. Ее блестящие черные глаза сверкали пламенной юностью, ее губы были красны, словно нитка кораллов на ее шее, а крепкие белые зубы между смеющихся губ блестели как жемчуг. Она сказала, что ей пятнадцать лет, а я сказал, что никогда еще не был таким молодым. Но Розина была стара. «E’antica, – объяснила Джойя. – Она древняя». Поэтому я спрыгнул с седла и стал неторопливо подниматься по извилистой тропинке в деревню.
Передо мной приплясывала босоногая Джойя, в венке, как молодая вакханка, позади брела, опустив голову, вислоухая старая Розина и о чем-то раздумывала, а ее изящные черные копытца постукивали по камням. Мне же некогда было думать. Моя голова была полна ошеломляющего восторга, мое сердце было полно радости жизни, мир был прекрасен, и мне было восемнадцать лет.
Дорога вилась между цветущими кустами дрока и мирта. И то тут то там маленькие цветы, которых я никогда не видел в Швеции, поднимали из душистой травы прелестные головки, чтобы поглядеть на нас.
– Как называется этот цветок? – спросил я Джойю.
Она взяла цветок у меня из рук, нежно на него посмотрела и сказала:
– Fiore. Цветок.
– А этот?
Она изучила его с такой же нежностью и сказала:
– Fiore.
– А этот?
– Fiore. Bello! Bello! Красивый.
Она сорвала пучок душистого мирта, но не захотела мне его дать. Она сказала, что это цветы для святого Констанцо, покровителя Капри, который весь из литого серебра и сотворил столько чудес! Сан-Констанцо, bello, bello!
Нам навстречу длинной вереницей шли, неся на головах плитки туфа, девушки, величественные, как кариатиды Эрехтейона. Одна из них с улыбкой протянула мне апельсин. Это была сестра Джойи, и она показалась мне еще красивее. Да, их восемь сестер и братьев здесь, и еще двое – in Paradiso, в раю. Отец в отъезде – добывает кораллы у Barbaria (на североафриканском побережье). Поглядите-ка на красивую нитку кораллов, которую он недавно ей прислал. Che bella collana! Bella, bella!
– И ты сама красива, Джойя. Bella, bella!
– Да, – сказала она.
Я споткнулся о разбитую мраморную колонну Тиберия, древнего императора, который последние одиннадцать лет жизни провел на Капри.
– Тиберий злой, Тиберий с дурным глазом, Тиберий разбойник, – пояснила Джойя и плюнула на мрамор.
– Да, – ответил я, так как Тацит и Светоний были свежи в моей памяти. – Тиберий злой!
Мы выбрались на большую дорогу и вскоре оказались на площади, где два-три матроса стояли у парапета над морем, два-три сонных каприйца сидели перед остерией дона Антонио, а шесть священников, бешено жестикулируя, что-то оживленно обсуждали на ступенях церкви.
– Moneta! Moneta! Molta moneta, niente moneta! – слышались их голоса. – Деньги! Деньги! Много денег, нет денег!
Джойя побежала поцеловать руку дона Джачинто, который был ее духовным отцом и un vero santo, настоящим святым, хотя по его виду догадаться об этом было трудно. Она ходит к исповеди два раза в месяц. А часто ли хожу я?
– Совсем не хожу.
Какой ужас!
А она расскажет дону Джачинто, что я поцеловал ее в щеку под лимонными деревьями?
– Конечно, нет!
Мы миновали деревню и остановились у Пунта Трагара.
– Я обязательно взберусь на вершину вон той скалы, – сказал я, указывая на самый отвесный из трех утесов, которые сверкали, как аметисты, у наших ног.
Но Джойя заявила, что я не сумею этого сделать. Один рыбак полез было туда за яйцами чаек, но был сброшен в море злым духом, который в образе голубой ящерицы стережет там золотой клад, спрятанный самим Тиберием.
С запада над уютной деревушкой вздымался мрачный силуэт горы Соларо, суровой и неприступной.
– Я хочу сейчас же подняться на эту гору, – сказал я.
Но Джойе эта мысль совсем не понравилась. На вершину ведет лестница в семьсот семьдесят семь ступеней, высеченная в скале самим Тиберием, а на полпути, в темной пещере, живет свирепый оборотень, который сожрал уже нескольких добрых христиан. По лестнице можно подняться в Анакапри, но там живут одни только горцы, gente di montagna – очень плохие люди. Обычно туда не ходят, и она сама там никогда не бывала.
Лучше бы мне подняться к вилле Тиберия…
Нет! У меня на это нет времени. Я должен сейчас же подняться именно на эту гору.
Когда мы вернулись на площадь, позеленевшие колокола старой кампанилы прозвонили полдень, возвещая, что макароны готовы. Может быть, я все-таки сперва пообедаю под большой пальмой пансиона Пагано? Три блюда, вина – сколько хочешь, и всё за одну лиру.
Нет, у меня нет времени, я должен немедленно взобраться на эту гору.
– До свидания, Джойя, красавица! До свидания, Розина!
– Addio, e presto ritorno! До свидания и скорого возвращения!
Увы! Это несбывшееся presto ritorno!
«Глупый иностранец» – было последним, что я услышал из алых уст Джойи, когда, следуя призыву судьбы, поспешно взбирался по финикийским ступеням в Анакапри.
На полпути я догнал старуху, несшую на голове большую корзину с апельсинами.
– Добрый день.
– Buon giorno, signorino.
Она поставила корзину на камень и протянула мне апельсин. На плодах лежала пачка писем и газет, завернутая в красный платок. Это была старая Мария Почтальонша, дважды в неделю доставлявшая почту в Анакапри. Впоследствии мы с ней очень подружились, и она умерла на моих глазах, когда ей было уже девяносто пять лет.
Мария порылась в письмах, выбрала самый большой конверт и спросила меня, не адресовано ли оно Наннине ла Капрара, которая ждет не дождется la lettera от своего мужа из Америки. Нет, оно адресовано не ей. Может быть, вот это? Нет, это для синьоры Дездемоны Вакки.
– Синьора Дездемона Вакка? – повторила старуха недоверчиво. – Это, наверное, жена горбуна, – сказала она задумчиво.
Следующее письмо было адресовано синьору Улиссу Дезидерио.
– Конечно, это Capolimone, Лимонная Башка, – сказала старая Мария. – В прошлом месяце он получил точно такое же письмо. Следующее письмо должна была получить благороднейшая синьорина Розина Мацарелли. Но неужели нет письма ни для Пепинеллы, ни для Маручеллы, ни для Джованны, которые все ждут письма из Америки?
Нет, к сожалению, нет.
Две газеты предназначались преподобному отцу Антонио ди Джузеппе и канонику дону Натале ди Томмасо. Это она знала, так как в деревне только они и выписывали газеты.
Дон Антонио очень ученый человек, и именно он всегда разбирается, кому адресованы письма. Но сегодня он в Сорренто, в гостях у архиепископа – потому-то она и попросила меня прочитать адреса на конвертах.
Старая Мария не знала, сколько ей лет, зато знала, что начала носить почту, когда ей исполнилось пятнадцать и ее матери это стало уже не по силам. Читать она, конечно, не умела.
Когда я ей рассказал, что приехал утром из Сорренто на почтовой лодке и с тех пор ничего не ел, она угостила меня еще одним апельсином, который я поглотил вместе с кожурой.
Есть ли в Анакапри гостиница? Нет, но Аннарелла, жена пономаря, может предложить мне хорошего козьего сыра и стакан хорошего вина из виноградников патера дона Дионизио, ее дяди. Кроме того, есть еще la Bella Margherita, о которой я, конечно, слышал, так же как и о том, что ее тетка вышла замуж за английского лорда, un lord inglese.
Нет, об этом я не слышал, но очень хочу познакомиться с Красавицей Маргеритой.
Наконец мы достигли последней, семьсот семьдесят седьмой ступени и прошли под сводчатыми воротами, где из скалы еще торчали огромные железные петли, оставшиеся от подъемного моста. Мы были в Анакапри. У наших ног лежал Неаполитанский залив, обрамленный Искьей, Прочидой, заросшим пиниями Позилиппо, белой полоской сверкал Неаполь, над Везувием клубился розоватый дым, долина Сорренто укрывалась под защитой горы Сант-Анджело, а вдали виднелись покрытые еще снегом Апеннины.
Как раз над нашими головами к отвесной скале, точно орлиное гнездо, прилепилась маленькая разрушенная часовня. Сводчатая крыша провалилась, но покрытые странным сетчатым узором стены, сложенные из больших каменных плит, еще стояли.
– Как называется эта часовня? – спросил я с жадным интересом.
– Сан-Микеле.
«Сан-Микеле, Сан-Микеле», – отозвалось в моем сердце.
Ниже часовни в винограднике старик копал глубокие канавки для молодых лоз.
– Buon giorno, Mastro Vincenzo!
Виноградник принадлежал ему, как и домик рядом, который он сам построил из валявшихся в саду кирпичей и камней, оставшихся от Тиберия.
Мария Почтальонша рассказала ему все, что знала обо мне, и мастро Винченцо пригласил меня посидеть у него в саду и выпить стакан вина. Я посмотрел на домик и на часовню, и мое сердце забилось так сильно, что я едва мог говорить.
– Я должен сейчас же подняться туда, – заявил я Марии.
Однако, по ее мнению, сначала я должен был пойти с ней и поесть, иначе я ничего не найду. Голод и жажда вынудили меня последовать ее совету. Я помахал на прощание рукой мастро Винченцо и сказал, что скоро вернусь.
Мы прошли по безлюдным улочкам и очутились на небольшой площади.
– Вот она! Ессо la Bella Margherita!
Красавица Маргерита поставила на стол бутылку с розовым вином и букет цветов и объявила, что macaroni будут готовы через пять минут. Ее волосы были белокурыми, как у Флоры Тициана, черты лица – безупречными, а профиль – греческим.
Она поставила передо мной огромную тарелку макарон, села рядом и, улыбаясь, стала с любопытством разглядывать меня.
– Vino del parroco, вино приходского священника, – говорила она с гордостью, каждый раз наполняя мой стакан. Я выпил за здоровье parroco, за ее здоровье и за здоровье ее темноглазой сестры, красавицы Джулии, которая присоединилась к нам с апельсинами – я видел, как она только что рвала их в саду. Родители их умерли, брат Андреа – моряк, и одному Богу известно, где он сейчас. Но ее тетка живет на Капри на собственной вилле – я, конечно, знаю, что она была замужем за un lord inglese? Да, конечно.
Я еще сообразил, что мне следует выпить и за здоровье тетки, но после я уже ничего не сознавал, кроме того, что небо над головой было синее как сапфир, вино священника красное как рубин, а рядом сидела золотоволосая Красавица Маргерита и улыбалась.
«Сан-Микеле», – вдруг прозвучало в моих ушах. «Сан-Микеле», – отозвалось в моем сердце.
– Addio, Bella Margherita!
– Addio e presto ritorno!
Увы, это не сбывшееся presto ritorno!
Я пошел обратно по безлюдным улочкам, стараясь по мере сил идти прямо к цели. Наступил священный час сиесты, и вся деревушка погрузилась в сон. Залитая солнцем площадь была пуста. Церковь была заперта, и только за приоткрытой дверью муниципальной школы сонно гудел монотонный голос каноника дона Натале.
– Io mi ammazzo, tu ti ammazzi, egli si ammazza, noi ci ammazziamo, voi vi ammazzate, loro si ammazzano[1], – ритмично повторял хор голоногих мальчишек, сидевших кружком на полу у ног учителя.
В начале следующей улочки стояла величественная римская матрона. Это была сама Аннарелла, и она дружески помахала мне рукой, приглашая в свой дом. Почему я пошел к Красавице Маргерите, а не к ней? Разве я не знаю, что в деревне нет сыра лучше, чем у нее? А что касается вина, то каждому известно, что никакое вино не может идти в сравнение с вином преподобного дона Дионизио, добавила она, многозначительно пожимая могучими плечами.
Я сидел у нее в перголе за бутылкой белого вина дона Дионизио, и мне стало казаться, что она права, однако я хотел быть беспристрастным и счел необходимым допить всю бутылку до конца, прежде чем вынести окончательное суждение. Но когда Джоконда, улыбчивая дочь хозяйки, налила мне второй стакан из новой бутылки, я уже ни в чем не сомневался. Да, белое вино дона Дионизио было лучше. Оно походило на сгустившийся солнечный свет, вкусом напоминало нектар богов, а наполнявшая мой пустой стакан Джоконда была подобна юной Гебе.
– Разве я тебе этого не говорила? – засмеялась Аннарелла. – Е il vino miracoloso! Чудесное вино!
Да, вино действительно было чудотворным, ибо я с головокружительной легкостью и беглостью вдруг заговорил по-итальянски под взрывы смеха матери и дочери.
Я воспылал дружескими чувствами к дону Дионизио. Мне нравилось его имя, мне нравилось его вино. Я охотно бы с ним познакомился.
Ничего не может быть проще! Он вечером будет читать проповедь в церкви.
– Он очень ученый человек! – сказала Аннарелла.
Он знает наизусть имена всех мучеников и святых.
Он даже побывал в Риме и целовал руку папы. А она бывала в Риме? Нет. А в Неаполе? Нет. Только один раз в Капри, в день своей свадьбы. А Джоконда там никогда не бывала. В Капри полно злых людей.
Я сказал Аннарелле, что знаю о святом патроне Капри всё: и сколько он совершил чудес, и как он прекрасен – целиком из литого серебра. Наступило неловкое молчание.
– Да, они говорят, будто их Сан-Констанцо весь из литого серебра, – произнесла Аннарелла и презрительно пожала широкими плечами. – Но кто знает, так ли это?
А его чудеса можно пересчитать по пальцам, тогда как Сан-Антонио, святой покровитель Анакапри, совершил их уже более сотни. Это вам не Сан-Констанцо!
Я сразу перешел на сторону Сан-Антонио, горячо надеясь на его следующее чудо, которое снова привело бы меня сюда, и как можно скорее, в эту очаровательную деревушку.
Добрейшая Аннарелла так твердо верила в его чудотворную силу, что наотрез отказалась взять с меня деньги.
– Заплатите в следующий раз.
Старый мастро Винченцо все еще прилежно трудился в своем винограднике, выкапывая в сладко пахнущей земле глубокие канавки для молодых лоз. Время от времени он поднимал пеструю мраморную пластину или кусок красной штукатурки и выбрасывал их за ограду.
– Это все от Тиберия, – говорил он.
Я сел возле моего нового приятеля на разбитую колонну из красного гранита.
– Она была очень твердая. Ее очень трудно было разбить, – заметил мастро Винченцо.
У моих ног в поисках червяка рылся в земле цыпленок, и вдруг передо мной оказалась монета. Я поднял ее и сразу узнал благородную голову императора Августа. Мастро Винченцо сказал, что она не стоит ни гроша. Она до сих пор у меня.
Мастро Винченцо своими руками разбил сад и посадил виноградные лозы и фиговые деревья. Тяжелая работа, сказал он, показывая мне грубые мозолистые руки. Ведь земля тут полна остатками дворца Тиберия – обломками всяких колонн, капителей, статуй. И ему пришлось выкопать и унести весь этот хлам перед тем, как сажать виноград. Колонны он раскалывал, чтобы сделать садовые ступени, а куски мрамора пригодились для постройки дома, остальное же он сбросил в пропасть.
Ему очень повезло: прямо у себя под домом он совершенно неожиданно нашел подземную комнату с красными стенами – вон как тот кусок под персиковым деревом. Стены были разрисованы множеством совершенно голых людей, танцевавших как бешеные, с цветами и гроздьями винограда в руках. Он несколько дней потратил на то, чтобы соскоблить эти картины и покрыть стены цементом, но, в конце-то концов, это куда легче, чем выдолбить в скале новую цистерну, добавил мастро Винченцо с хитрой улыбкой. Теперь он становится стар и уже почти не может ухаживать за виноградником. Его сын, который живет на материке с двенадцатью детьми и тремя коровами, уговаривает отца продать дом и переехать к нему.
Мое сердце снова забилось. А часовня тоже принадлежит ему? Нет, она никому не принадлежит, и поговаривают, что в ней водятся привидения. Он сам, когда был мальчишкой, видел, как там через парапет наклонялся высокий монах, а какие-то матросы, когда поднимались по лестнице поздно вечером, слышали, что в часовне звонили колокола.
Все дело тут в том, пояснил мастро Винченцо, что Тиберий, когда тут стоял его дворец, казнил Иисуса Христа, и с тех пор его проклятая душа порой возвращается сюда, чтобы испросить прощения у монахов, погребенных под часовней. Говорят, что он прежде появлялся в образе большой черной змеи. Монахи же были убиты разбойником по имени Барбаросса, который напал на остров и на своих кораблях увез в рабство всех женщин, укрывавшихся вон в том замке наверху, и замок с тех пор зовется Кастелло Барбаросса.
Все это ему рассказал падре Ансельмо, отшельник, ученый человек, а кроме того, его родственник, еще он рассказывал ему про англичан, которые сделали из часовни крепость и, в свою очередь, были убиты французами.
– Вот поглядите, – сказал мастро Винченцо, указывая на кучку пуль у ограды. – И вот еще, – добавил он, поднимая медную пуговицу от английского солдатского мундира.
Французы, продолжал он, поставили большую пушку у часовни и стреляли по деревне Капри, занятой англичанами.
– И правильно делали, – усмехнулся он, – каприйцы все очень плохие люди.
Потом французы устроили в часовне пороховой склад. Конечно, теперь она совсем развалилась, но Винченцо и это пошло на пользу, потому что почти все камни для садовой ограды он взял оттуда.
Я перелез через ограду и по узкой тропинке поднялся к часовне. Пол был в человеческий рост засыпан обломками обрушившегося свода, стены покрыты плющом и дикой жимолостью. В зарослях мирта и розмарина играли сотни ящериц – время от времени они вдруг останавливались и, тяжело дыша, смотрели на меня блестящими глазами. Из темного угла бесшумно поднялась сова, и черная змея, спавшая на залитом солнцем мозаичном полу террасы, медленно развернула черный клубок своего тела, угрожающе зашипела на пришельца и скользнула в часовню. Может быть, дух угрюмого старого императора и правда обитал в развалинах на том месте, где когда-то стояла его вилла?
Я посмотрел на прекрасный остров, лежавший у моих ног. «Как мог он жить здесь и быть таким жестоким? – подумал я. – Как могла его душа быть столь мрачной в этом блеске неба и земли? Как мог он покинуть эти места и удалиться на другую, еще более неприступную виллу среди восточных скал, которая до сих пор носит его имя и на которой он провел три последних года жизни?»
В таком месте жить и умереть – если только смерть может победить вечную радость такой жизни! Какая дерзкая мечта заставила забиться мое сердце, когда мастро Винченцо сказал, что становится стар и что его сын хочет, чтобы он продал дом? Какие дикие, фантастические мысли возникли в моем мозгу, когда он ответил, что часовня никому не принадлежит? А почему не мне? Почему я не могу купить дом мастро Винченцо, соединить дом и часовню виноградными лозами и кипарисовыми аллеями с белыми колоннадами лоджий, украшенных мраморными скульптурами богов и бронзой императоров…
Я закрыл глаза, чтобы задержать прекрасное видение, и вот действительность растаяла, окутанная легкими сумерками мечты.
Рядом со мной стояла высокая фигура, закутанная в роскошную мантию.
– Все это будет твоим, – сказал мелодичный голос, и рука описала круг над сверкающей землей. – Часовня, дом, сад и гора с ее замком – все это будет твоим, если ты готов заплатить!
– Кто ты, призрак из страны неведомого?
– Я бессмертный дух этих мест. Время для меня ничего не значит. Две тысячи лет назад я стоял здесь рядом с другим человеком, которого привела сюда его судьба так же, как тебя – твоя. Он не просил, как ты, счастья, а искал лишь покоя и забвения и надеялся обрести их на этом острове. Я назвал ему цену: печать бесславия на незапятнанном имени во веки веков. Он согласился, он заплатил эту цену. Одиннадцать лет жил он здесь с несколькими верными друзьями, людьми высокой чести и благородства. Дважды он пытался возвратиться в свой дворец на Палатине. Дважды у него не хватило на это духа, и Рим никогда больше его не увидел. Он умер на пути туда, на вилле своего друга Лукулла, вон на том мысе. Его последними словами был приказ перенести его на носилках на галеру для возвращения на родной остров.
– Какой платы ты требуешь от меня?
– Отрекись от мечты стать знаменитым в своей профессии, принеси в жертву свое будущее.
– Но чем же я тогда стану?
– Человеком, обманувшим и свои, и чужие ожидания. Неудачником.
– Ты отнимаешь у меня все, ради чего стоит жить!
– Ты ошибаешься. Я даю тебе все, ради чего стоит жить.
– Оставишь ли ты мне по крайней мере сострадание? Я не смогу обойтись без сострадания, если стану врачом.
– Да, я оставлю тебе сострадание. Но без него тебе жилось бы намного лучше.
– Ты требуешь чего-нибудь еще?
– Перед смертью ты должен будешь заплатить еще одну цену – высокую цену. Но до тех пор ты много лет будешь отсюда видеть восход солнца над безоблачными днями счастья и восход луны над звездными ночами грез.
– Умру ли я здесь?
– Берегись искать ответа на этот вопрос: человек не вынес бы жизни, если бы ему был известен час его смерти.
Он положил руку мне на плечо, и по моему телу пробежала легкая дрожь.
– Еще раз я явлюсь тебе на этом месте завтра на закате солнца; у тебя есть время все обдумать!
– К чему? Каникулы подходят к концу, и сегодня вечером я должен вернуться к моему ежедневному труду вдали от этих прекрасных мест. Кроме того, я не умею раздумывать. Я согласен и заплачу твою цену, как бы высока она ни была. Но как я куплю этот дом, если мои руки пусты?
– Твои руки пусты, но сильны, твой ум буен, но ясен, твоя воля здорова – тебе это удастся.
– Как же я построю дом? Я ничего не смыслю в архитектуре.
– Я помогу тебе. Какой стиль хотел бы ты избрать? Почему бы не готический? Мне нравится готика с ее приглушенным светом и мистической таинственностью.
– Я найду собственный стиль, такой, что даже ты не сможешь подобрать ему названия. Средневековый полумрак мне не нужен! Мой дом должен быть открыт для ветра и солнца и для голоса моря, как греческий храм. И свет, свет, свет повсюду!
– Берегись света! Берегись света! Излишек света вреден для смертных глаз!
– Я хочу, чтобы колонны из бесценного мрамора поддерживали лоджии и арки, чтобы сад был полон прекрасных обломков ушедших веков, чтобы часовня стала библиотекой, полной монастырской тишины, где колокола гармонично звонили бы «Аве Мария» в конце каждого счастливого дня.
– Я не люблю колоколов.
– А здесь, где мы стоим, где у наших ног прекрасный остров встает из моря, точно сфинкс, здесь должен лежать гранитный сфинкс из страны фараонов. Но где я все это найду?
– Ты стоишь там, где была одна из вилл Тиберия. Бесценные сокровища далеких времен погребены под виноградником, под часовней, под домом. Ноги старого императора ступали по разноцветным мраморным плитам, которые старый крестьянин на твоих глазах выбрасывал за стены сада. Погубленные фрески с танцующими фавнами и вакханками в венках украшали стены его дворца. Посмотри, – тут он указал на прозрачные морские глубины в тысяче футов под нами. – Разве тебе не рассказывал в школе твой Тацит, что при вести о смерти императора его дворцы были сброшены в море?
Я хотел сразу прыгнуть в пропасть и нырнуть в море в поисках колонн.
– В такой поспешности нет смысла, – сказал он, смеясь. – Вот уже две тысячи лет, как кораллы одевают их своей паутиной, а волны зарывают их в песок все глубже и глубже – они подождут, пока не придет твое время.
– А сфинкс? Где я найду сфинкса?
– На пустынной равнине, вдали от современной жизни, некогда стояла гордая вилла другого императора. Он привез сфинкса с берегов Нила, чтобы украсить свой сад. От дворца осталась только груда развалин. Но глубоко во тьме земли еще лежит сфинкс. Ищи – и ты его найдешь! Ты едва не поплатишься за это жизнью, но доставишь его сюда.
– По-видимому, ты знаешь будущее так же хорошо, как и прошлое.
– Прошлое и будущее для меня одно и то же. Я знаю всё.
– Я не завидую твоему знанию.
– Твои слова старше твоих лет. Где ты их узнал?
– На этом острове, сегодня. Ибо я узнал, что здешние приветливые люди, которые не умеют ни читать, ни писать, гораздо счастливее меня, хотя я с детства напрягаю глаза, чтобы получить знания. Как и ты, судя по тому, что ты говорил. Ты великий эрудит, ты знаешь Тацита наизусть.
– Я – философ.
– Ты хорошо знаешь латынь?
– Я доктор богословия Иенского университета.
– Ах, вот почему мне казалось, что я слышу легкий немецкий акцент в твоей речи. Ты знаешь Германию?
– Еще бы! – усмехнулся он.
Я внимательно поглядел на него. Он держался и говорил как джентльмен, а теперь я заметил шпагу под красным плащом, и что-то знакомое почудилось мне в резком голосе.
– Простите, сударь, мне кажется, что мы с вами уже встречались в Ауэрбаховском погребке в Лейпциге. Ведь вас зовут…
Когда я произносил эти слова, церковные колокола Капри зазвонили «Аве Мария». Я повернулся к нему – он исчез.
Глава 2. Латинский квартал
Латинский квартал. Студенческая комната в «Отель де л’Авенир», повсюду книги – на столах, на стульях, на полу, а на стене выцветшая фотография Капри.
По утрам в палатах Сальпетриер, Отель-Дьё и Ла-Питье перехожу от койки к койке, читаю главу за главой книгу человеческих страданий, написанную кровью и слезами. Днем – в анатомическом театре, в аудиториях Медицинской школы или в лабораториях Института Пастера изумленными глазами наблюдаю под микроскопом тайны невидимого мира, те бесконечно малые существа, от которых зависит жизнь и смерть человека. А потом бессонные ночи в «Отель де л’Авенир», бесценные ночи, отданные тому, чтобы постигнуть факты, узнать классические признаки расстройств и заболеваний, всё то, что было обнаружено и отобрано наблюдателями всех стран мира, – как это необходимо и как мало, чтобы стать врачом!
Работа! Работа! Работа! Летние каникулы, когда пустеют кафе на бульваре Сен-Мишель, Медицинская школа закрывается, аудитории и лаборатории пусты, а клиники заполнены наполовину. Но для людских страданий в больничных палатах каникул нет – и для Смерти тоже. И нет каникул в «Отель де л’Авенир», никаких развлечений, кроме редких прогулок под липами Люксембургского сада или часа отдыха в Луврском музее, полного жадной радости. Ни друзей. Ни собаки. Ни даже любовницы. Богема Анри Мюрже исчезла, но его Мими была жива как никогда – в предобеденный час она, улыбаясь, прогуливалась по бульвару Сен-Мишель под руку почти с каждым студентом и штопала его одежду или стирала белье в его мансарде, пока он готовился к экзамену.
Никакой Мими для меня! Да, мои счастливые товарищи могли себе это позволить – проводить вечера в пустой болтовне за столиками кафе, смеяться, жить, любить. Их живой латинский мозг работал гораздо быстрей моего, и на стене их мансарды не висела выцветшая фотография Капри, чтобы их пришпоривать, их не ждали колонны бесценного мрамора под песком Палаццо ди Маре.
Часто в долгие бессонные ночи, когда я сидел в «Отель де л’Авенир», склонившись над «Заболеваниями нервной системы» Шарко или «Клиникой Отель-Дьё» Труссо, страшная мысль внезапно пронизывала мозг: мастро Винченцо стар, вдруг он умрет, пока я сижу здесь, или продаст кому-нибудь другому домик на скале, хранящий ключ к моему будущему дому. Холодный пот выступал на лбу, и сердце почти останавливалось от ужаса. Я устремлял взгляд на выцветшую фотографию Капри на стене, и мне казалось, что она все более и более тускнеет, расплывается в загадочной и таинственной дымке, пока не оставалось ничего, кроме очертаний саркофага над похороненной мечтой…
Тогда я тер ноющие глаза и снова принимался читать с яростным отчаянием – так скаковую лошадь гонит к цели удар шпор по кровоточащим бокам. Да, это была скачка – скачка ради приза и трофеев. Мои товарищи начали ставить на меня как на фаворита, и даже сам мэтр с головой Цезаря и взором орла принял меня за восходящую звезду – это был единственный известный мне неправильный диагноз, который поставил профессор Шарко, а ведь я много лет внимательно наблюдал за ним, когда он выносил безошибочные суждения в палатах Сальпетриер или в своей приемной на бульваре Сен-Жермен, куда стекались пациенты со всего света. Его ошибка мне дорого обошлась. Она стоила мне сна и – почти – зрения. Но почти ли? Так велика была моя вера в непогрешимость Шарко, который знал о человеческом мозге больше, чем кто-либо другой, что в течение некоторого времени я думал, что он был прав. Подстрекаемый честолюбивым желанием оправдать его предсказание, забывая про усталость, сон и даже голод, я перенапрягал все фибры духа и тела, чтобы любой ценой добиться победы.
Были забыты прогулки под липами Люксембургского сада, был забыт Лувр. С утра до вечера я вдыхал зараженный воздух больничных палат, с вечера до утра – дым бесчисленных сигарет в душной комнатушке. Экзамен за экзаменом в быстрой последовательности (к сожалению, слишком быстрой, чтобы от них был какой-либо толк), успех за успехом.
Работа, работа, работа! Весной я должен был получить диплом. Удача во всем, к чему ни прикасались мои руки, неизменная, удивительная, почти жуткая удача. Я уже изучил устройство удивительного механизма, который называется человеческим телом, гармоничную работу его колесиков в здоровом состоянии, его расстройства в болезни и ту последнюю поломку, которая зовется Смертью. Я уже узнал почти все виды недугов, которые приковывают людей к больничным койкам. Я уже научился владеть острыми хирургическими инструментами, чтобы равным оружием сражаться с безжалостной противницей, которая с косой в руках обходила палаты, готовая разить в любой час дня и ночи.
Казалось, Она сделала своей резиденцией эту мрачную старую больницу, из века в век служившую приютом мук и горестей. Иногда Она врывалась в палату в слепой ярости безумицы, разя направо и налево молодых и старых, медленно душила одну жертву, срывала повязку с зияющей раны другой, и кровь вытекала до последней капли. Иногда Она подходила на цыпочках тихо и тайно, и Ее рука закрывала глаза страдальца нежным прикосновением, так что улыбка озаряла его лицо. Часто я, чьей обязанностью было мешать Ее приближению, даже не подозревал, что Она уже близко. Только маленькие дети у груди матери чувствовали Ее присутствие, вздрагивали и кричали во сне, когда Она проходила. Да еще старые монахини, всю жизнь проведшие в больничных палатах, успевали заметить Ее приближение и спешили к койке с распятием.
Вначале, когда Она победоносно стояла по одну сторону постели, а я, беспомощно – по другую, я почти не обращал на Нее внимания. В то время я думал только о жизни, знал, что моя миссия кончается, когда Она берется за работу, и лишь отворачивал лицо от своей зловещей коллеги, оскорбленный очередным поражением. Но когда я познакомился с Ней ближе, я начал наблюдать за Ней с большим вниманием, и чем чаще я Ее видел, тем больше желал узнать и понять. Мне стало ясно, что Она участвует в работе так же, как и я, что мы товарищи и, когда борьба за человеческую жизнь кончается и Она побеждает, лучше бесстрашно посмотреть друг другу в глаза и быть друзьями.
Позднее даже наступило время, когда я стал верить, что Она – мой единственный Друг, когда я ждал Ее и почти любил, хотя Она меня не замечала. О, если бы я научился читать по Ее темному лицу! Сколько пробелов в моих скудных познаниях о людских страданиях восполнила бы Она! Ведь только Она одна читала последнюю главу, которой не хватало во всех медицинских справочниках, – главу, где все объясняется, где разрешаются все загадки и дается ответ на все вопросы.
Но почему Она была такой жестокой – Она, которая могла быть такой нежной? Почему Она одной рукой отбирала юность и жизнь, а другой рукой дарила мир и счастье? Почему Ее хватка на горле одной жертвы была такой медлительной, а удар, нанесенный другой, – столь быстрым? Почему Она так долго боролась с жизнью ребенка и милостиво позволяла жизни старика отлететь во время сна? Или Она должна была карать, а не просто убивать? Была ли Она судьей, а не только палачом? Что Она делала с теми, кого убивала? Прекращали ли они существовать или только спали? Куда Она уносила их? Была ли Она повелительницей или только вассалом, простым орудием в руках гораздо более могущественного владыки, Повелителя Жизни? Сегодня Она одерживала победу, но была ли Ее победа окончательной? Кто победит в конце – Она или Жизнь?
Но действительно ли моя миссия кончалась тогда, когда начиналась Ее миссия? Был ли я только пассивным наблюдателем последнего, неравного боя, беспомощно и бесчувственно следящим за Ее губительной работой? Надо ли было отворачиваться от глаз, которые молили меня о помощи, когда язык давно уже онемел? Надо ли было высвобождать руку из трясущихся пальцев, хватавшихся за меня, как утопающий хватается за соломинку?
Я был побежден, но не обезоружен, в моих руках еще оставалась могучая разящая сила. У Нее была чаша вечного сна, но у меня была своя чаша, доверенная мне великодушной Матерью Природой. В тех случаях, когда Она слишком медленно отпускала свое лекарство, разве не должен был я дать свое, которое могло превратить страдания в покой, пытку – в сон? Не было ли моим долгом облегчить смерть тем, кому я не мог сохранить жизнь?
Старая монахиня сказала мне, что я совершаю страшный грех, что Всемогущий Бог в своей непостижимой мудрости постановил, чтобы было так: чем больше страданий Он посылает в смертный час, тем милостивее Он будет в день Страшного суда. Даже кроткая сестра Филомена укоризненно смотрела на меня, когда я, единственный среди моих коллег, подходил к постели со шприцем морфия, как только от нее удалялся священник после предсмертного причастия.
Тогда во всех парижских больницах еще мелькали их большие белые чепцы – чепцы добрых самоотверженных сестер монастыря Сен-Винсен де Поль. Распятие еще висело на стене каждой палаты, а священник совершал по утрам богослужение у маленького алтаря в палате святой Клары. Настоятельница, Матушка, как все ее называли, еще обходила по вечерам больных, после того как колокола отзванивали «Аве Мария».
Тогда еще не было жарких споров об изъятии больниц из ведения религиозных учреждений и не прозвучало требование: «Вон священников, долой распятия, гнать монахинь!» Увы! Вскоре они были изгнаны, о чем я только пожалел. Без сомнения, у монахинь были свои недостатки. Четки были для них привычнее щеточек для ногтей, и пальцы они погружали в святую воду, а не в карболку – всемогущую панацею хирургических палат тех времен. Но их мысли были возвышенны, а сердца чисты, и они отдавали жизнь работе, не прося взамен ничего, кроме права молиться за своих подопечных.
Даже их злейшие враги не отрицали их самоотверженности и неиссякаемого терпения. Тогда говорили, что лица монахинь, ухаживающих за больными, всегда угрюмы, что думают они больше о спасении души, а не тела, и на их губах слова смирения более часты, чем слова надежды. Тот, кто верил в это, ошибался. Наоборот, монахини, и старые и молодые, все без исключения, были неизменно бодры и радостны, по-детски веселы и шутливы, и было радостно видеть, как они умели передавать свое радостное состояние другим. В них не было никакой нетерпимости. Верующие и неверующие – для них все были одинаковы. Последним они даже старались помогать больше, потому что жалели их, и никогда не обижались на их ругательства и кощунства.
Со мной они все держались приветливо и ласково. Они знали, что я не принадлежу к их вероисповеданию, не хожу к исповеди и не осеняю себя крестным знамением, проходя мимо маленького алтаря. Сначала мать-настоятельница попыталась было обратить меня в веру, которая научила ее жертвовать жизнью для других, но вскоре отказалась от этой мысли, сострадательно покачивая головой. Даже старый священник потерял всякую надежду на мое спасение после того, как я сказал, что готов обсудить с ним возможность существования чистилища, но абсолютно исключаю наличие ада, и что я буду давать морфий умирающим, если агония окажется жестокой и длительной. Старый священник был святым человеком, но не умел аргументировать, так что очень скоро мы просто оставили эти спорные темы.
Он знал жизни всех святых, и он первый рассказал мне трогательную легенду о святой Кларе, имя которой носила наша больничная палата. И это от него я впервые узнал о святом Франциске Ассизском, покровителе всех угнетенных и несчастных существ на небе и на земле, ставшем и моим другом на всю жизнь. Но самому важному научила меня сестра Филомена, такая юная и светлая, в белом платье новичков сестер святого Августина – она научила меня любви к Мадонне, на которую была так похожа. Милая сестра Филомена! Она умерла от холеры у меня на глазах два года спустя в Неаполе. Даже Смерть не посмела изменить черты ее лица, и Филомена отправилась на небо такой же прекрасной, какой была при жизни.
С братом Антонием, который приходил по воскресеньям в больницу играть на органе в маленькой часовне, я был особенно дружен. В те дни это была для меня единственная возможность слушать музыку, и я никогда ее не упускал. Ведь я так люблю музыку! Хотя я не видел сестер, поющих за алтарем, я узнавал кристально чистый голос сестры Филомены. Накануне Рождества брат Антоний сильно простудился, и в палате святой Клары от койки к койке шепотом передавали, что настоятельница, после долгого совещания со старым священником, разрешила сесть за орган мне и этим спасла положение.
В те дни я не слышал другой музыки, если не считать тех двух дней в неделю, когда бедный старый дон Гаэтано играл для меня на старенькой шарманке под моим балконом в «Отель де л’Авенир». «Мизерере» из «Трубадура» было его коронным номером, и этот грустный старинный мотив подходил и ему, и его полузамерзшей обезьянке, которая сидела на шарманке в красной гарибальдийской курточке.
Он подходил и бедному мосье Альфредо, бродившему по занесенным снегом улицам в изношенном до нитки сюртуке с манускриптом своей последней трагедии под мышкой. И моим друзьям из бедного итальянского квартала, съежившимся вокруг почти погасшего камина, не имевшим денег даже на уголь, чтобы согреться. Бывали дни, когда этот мотив становился подходящим аккомпанементом и моим мыслям, когда я сидел за книгами, не чувствуя в себе мужества прожить еще один день, когда все казалось мрачным и безнадежным, а Капри на выцветшей фотографии – бесконечно далеким. Тогда я бросался на кровать, закрывал болящие глаза, и вскоре Сан-Антонио начинал творить новое чудо.
Я уносился от всех своих забот к чарующему острову моей мечты. Джоконда, улыбаясь, подавала мне стакан вина дона Дионизио, и кровь мощной струей вновь приливала к усталому мозгу. Мир был прекрасен, а я был молод, готов к бою, уверен в победе. Мастро Винченцо, трудясь в винограднике, приветливо махал мне рукой, когда я поднимался по тропинке к часовне за его садом. Некоторое время я сидел на площадке, завороженно смотрел на лежащий у моих ног прекрасный остров и размышлял о том, каким образом мне удастся поднять сфинкса из красного гранита на вершину скалы. Нелегкое дело! Но я справлюсь с ним – и сделаю это сам!
«Addio, bella Gioconda! Addio, e presto ritorno!» Да, конечно, я вернусь очень скоро – в будущем сне!
Наступал следующий день и пристально смотрел в окно на мечтателя. Я открывал глаза, вскакивал на ноги, с улыбкой приветствовал его, хватал книгу и садился за стол.
Потом пришла весна и бросила на мой балкон первый цветок с каштанов, зеленеющих на бульваре. Это был знак. Я сдал экзамены и покинул «Отель де л’Авенир» с тяжело завоеванным дипломом в кармане – никогда еще во Франции не было такого молодого дипломированного врача.
Глава 3. Авеню Вилье
Авеню Вилье. «Д-р Мунте. Часы приема от двух до трех». День и ночь звонил колокольчик у двери – настойчивые письма, срочные вызовы. Телефон, это смертоносное оружие в руках ничем не занятых женщин, еще не начал невыносимое наступление на каждый час, вырванный для отдыха.
Приемная быстро наполнялась всевозможными пациентами, чаще всего с нервными расстройствами, причем прекрасный пол преобладал. Многие были больны, тяжело больны. Я внимательно выслушивал всё, что они говорили, и тщательно их обследовал, так как верил, что могу помочь. О таких больных я не хочу писать здесь. Быть может, наступит день, когда я расскажу и о них. Многие были совсем здоровы и не заболели бы, если б не обратились ко мне. Многие только думали, что больны. Их истории были длинными – они повествовали о своих бабушках, тетках и свекровях или же вынимали из кармана бумажку и начинали читать перечень симптомов и жалоб. «Больной с записочкой», – как говорил Шарко.
Мне это было внове, так как у меня не было никакого опыта, кроме больничного, где для таких глупостей не находилось времени, и я наделал много ошибок. Лучше узнав людей, я научился обращаться с такими пациентами, но все-таки мы не очень ладили. Они чрезвычайно расстраивались, услышав от меня, что хорошо выглядят и цвет лица у них прекрасный, но облегченно вздыхали, когда я добавлял, что их язык мне не особенно нравится – как обычно и бывало. В таких случаях мой диагноз был – обжорство: слишком много сладкого теста днем и тяжелые ужины вечером. Вероятно, это был самый правильный диагноз, который я в те дни ставил, но он не имел успеха и никому не нравился. Никто не хотел слышать ничего подобного. Всех прельщал аппендицит.
В те дни среди богатых людей, искавших для себя приятную болезнь, был большой спрос именно на аппендицит. Всех нервных дам томил аппендицит – если не в брюшной полости, то в мыслях, и он приносил им большую пользу, как и лечащим их врачам. Поэтому я постепенно стал знатоком аппендицитов и часто лечил от него с переменным успехом. Когда же прошел слух, что американские хирурги начали кампанию за удаление всех вообще аппендиксов в Соединенных Штатах, число больных аппендицитом среди моих пациентов начало угрожающе сокращаться. Замешательство. «Вырезать аппендикс?! Мой аппендикс?! – восклицали светские дамы, точно матери, которым грозят разлукой с ребенком. – Что я буду без него делать?!» «Вырезать аппендиксы, – говорил врач, уныло проглядывая список пациентов. – Какой вздор! Да эти аппендиксы совершенно здоровы! Мне ли этого не знать, когда я осматриваю их каждую неделю. Нет, я решительно против!»
Вскоре стало ясно, что аппендицит доживает последние дни. Надо было найти другой недуг, который удовлетворил бы общий спрос. Специалисты не ударили в грязь лицом, и на рынок была выброшена новая болезнь; отчеканили новое слово, подлинную золотую монету – колит! Это был милейший недуг – ему не грозил нож хирурга, возникал он по требованию и отвечал любому вкусу. Никто не знал, когда начинается эта болезнь, никто не знал, когда она кончается. Мне было известно, что кое-кто из дальновидных коллег уже с большим успехом применял колит к своим пациентам, но мне все не представлялся удобный случай.
Среди больных, которых я лечил от аппендицита, была, если не ошибаюсь, графиня, обратившаяся ко мне по совету Шарко, как она объяснила. Он действительно иногда присылал мне пациентов, и я, разумеется, готов был сделать для нее все возможное, не будь даже она такой красавицей. Посмотрев на юного оракула с плохо скрытым разочарованием в больших томных глазах, она сказала, что хотела бы поговорить с самим доктором, а не с ассистентом. Я уже привык выслушивать подобные заявления от впервые явившихся пациентов.
Сначала она не знала, есть ли у нее аппендицит, как не знал этого и я, но вскоре она уже была убеждена, что он у нее есть, а я – что его у нее нет. Когда я опрометчиво так прямо и сказал ей это, она пришла в большое волнение. Профессор Шарко обещал, что я обязательно узнаю, чем она больна, и помогу ей, а вместо этого… Она зарыдала, и мне стало ее очень жаль.
– Так чем же я больна? – спрашивала она сквозь слезы, в отчаянии простирая ко мне руки.
– Я вам скажу, если вы обещаете успокоиться.
Она тотчас перестала плакать. Вытирая огромные глаза, она мужественно сказала:
– Я могу вынести все, мне столько пришлось вытерпеть! Не бойтесь, я не буду плакать. Что со мной?
– Колит.
Ее глаза, как ни невероятно, стали еще больше.
– Колит! Именно это я и предполагала. Вы, конечно, правы. Колит! Скажите, а что такое колит?
От ответа на этот вопрос я благоразумно уклонился, потому что и сам этого не знал, – как в те дни не знал никто. Но я сказал, что колит – длительная болезнь и трудно поддается излечению. Тут я сказал правду. Графиня мне дружелюбно улыбнулась. А ее муж утверждает, будто всё это нервы!
Она сказала, что времени терять нельзя, и хотела тут же начать лечиться – в результате мы условились, что она будет являться на авеню Вилье дважды в неделю.
Она пришла на следующий день. И даже я, привыкший к быстрым переменам в пациентах, настолько удивился ее свежему виду, сияющему лицу, что спросил, сколько ей лет.
Ей недавно исполнилось двадцать пять, а пришла она, чтобы спросить, заразен ли колит.
Да, очень.
Едва я это сказал, как понял, что это юное создание гораздо умнее меня.
Может быть, ей сказать графу, что им не следует спать в одной комнате?
Я заверил, что это совсем не обязательно, что я, хотя и не имею чести знать графа, все же уверен: он не заразится. Это заразно только для таких впечатлительных и нервных натур, как она.
Но не считаю же я ее нервной натурой, возразила она, а ее большие глаза беспокойно оглядывали комнату.
Разумеется.
А могу ли я вылечить ее от этого?
Нет.
«Дорогая Анна!
Подумать только – у меня колит. Я так рада… так рада, что вы рекомендовали мне этого шведа… или его рекомендовал Шарко? Во всяком случае, ему я сказала, что это был Шарко, чтобы он уделил мне больше времени и внимания. Вы правы, он очень искусный врач, хотя по его виду этого не скажешь. Я уже рекомендую его всем знакомым. Я думаю, что он может помочь моей невестке, которая все еще лежит после неудачного падения во время котильона на вашем балу. Несомненно, у нее колит. Жаль, дорогая, что мы не увидимся завтра на обеде у Жозефины, но я уже написала ей, что у меня колит и я не могу прийти. Если бы она могла отложить обед до послезавтра!
Ваша любящая Жюльетта.
P.S. Мне пришло в голову, что шведу следует посмотреть вашу свекровь, которая так тревожится из-за глухоты. Конечно, я знаю, что маркиза не желает больше видеть врачей – и это вполне понятно! Но нельзя ли показать ее ему как бы случайно? Не удивлюсь, если окажется, что причина ее страданий – колит.
Р.Р.S. Я готова пригласить доктора к обеду, если вы сумеете убедить маркизу пообедать у нас, в семейном кругу, разумеется. Вы знаете, он распознал мой колит, только посмотрев на меня сквозь очки! А кроме того, я хочу, чтобы мой муж тоже с ним познакомился, хотя он так же любит врачей, как и ваша свекровь! Но этот ему понравится!»
Неделю спустя я был неожиданно удостоен приглашения в особняк графини в Сен-Жерменском предместье и имел честь сидеть за обедом рядом со вдовствующей маркизой и созерцать орлиным взором, как она с рассеянной надменностью поглощает полную тарелку паштета из гусиной печенки. Она не сказала мне ни слова, и я прекратил робкие попытки завязать разговор, сообразив, что она совершенно глуха.
После обеда граф повел меня в курительную комнату. Это был чрезвычайно учтивый толстячок с невозмутимым, почти застенчивым выражением лица, вдвое старше жены и джентльмен в полном смысле слова. Предложив мне сигарету, он сказал с искренним жаром:
– Не могу выразить, как я вам благодарен за то, что вы вылечили мою жену от аппендицита, – я ненавижу даже само это слово. Признаюсь откровенно, я проникся большой неприязнью к врачам. Я столько их перевидал, и до сих пор ни один не сумел помочь моей жене, хотя следует признать, что и она, не успев начать лечиться у одного, уже подыскивала другого. Пожалуй, следует предупредить вас, что и с вами будет то же.
– Я в этом не уверен.
– Тем лучше. Она, по-видимому, прониклась к вам доверием, это – самое главное, так что очко в вашу пользу… Должен признаться, что сначала я был о вас не очень лестного мнения. Но теперь, когда мы познакомились, я рад его изменить, и мне кажется, – добавил он любезно, – что мы на правильном пути. Кстати, что такое колит?
Я пришел в некоторое замешательство, но он добродушно продолжал:
– Во всяком случае, хуже аппендицита он быть не может, и будьте уверены, что скоро я буду знать о колите не меньше вашего!
Что было совсем нетрудно.
Его непринужденная любезность так меня очаровала, что я позволил себе задать один вопрос.
– Нет, – ответил он с легким смущением. – А я очень этого хочу! Мы женаты пять лет, и до сих пор никаких признаков. Ах, если бы! Видите ли, я родился в этом старом доме и мой отец тоже, а нашим поместьем в Турене мы владеем уже триста лет, но я последний в роду, и это тяжело… Неужели ничего нельзя поделать с этими проклятыми нервами? Не можете ли вы что-нибудь посоветовать?
– Я убежден, что расслабляющая парижская атмосфера вредна для графини. Почему бы вам не уехать в ваш замок в Турене?
Его лицо просияло.
– Вы человек в моем вкусе, – сказал он, протянув ко мне руки. – Я только этого и хочу. Я охочусь там, да и имение нуждается в присмотре. Там я счастлив, но графиня смертельно скучает, что вполне естественно – ведь она привыкла днем делать визиты, а вечера проводить на балах или в театре. Правда, я не понимаю, откуда у нее берутся силы вести такую жизнь – ведь она постоянно жалуется на усталость. Я бы сразу умер. Теперь она говорит, что должна лечить в Париже колит – раньше это был аппендицит. Только не считайте ее эгоисткой, она постоянно просит меня уехать в Шато-Рамо, хотя бы без нее – она знает, как я там счастлив. Но я не могу оставить ее одну в Париже, такую молодую и неопытную.
– А сколько лет графине?
– Только двадцать девять, а выглядит она даже моложе.
– Да, у нее вид молодой девушки.
После некоторого молчания граф спросил:
– А кстати, когда вы намерены отдыхать?
– Я не отдыхал уже три года.
– Тем больше оснований отдохнуть в этом году. Вы охотитесь?
– Я не убиваю животных по доброй воле. А почему вы об этом спрашиваете?
– Потому что в Шато-Рамо чудесная охота, а неделя полного отдыха, конечно, была бы вам очень полезна. Во всяком случае, так говорит моя жена; она находит, что вы много работаете, да и вид у вас переутомленный.
– Вы очень любезны, граф, но я чувствую себя прекрасно и вполне здоров, если не считать того, что у меня бессонница.
– Бессонница? Как жаль, что я не могу уступить вам часть моего сна! У меня его больше, чем нужно. Не успею я положить голову на подушку, как уже сплю беспробудным сном. Моя жена встает рано, но я этого не слышу. Слуге, который приносит мне кофе в девять часов, приходится трясти меня за плечо, иначе я не просыпаюсь. Да, мне вас искренне жаль! А кстати, вы не знаете какого-нибудь средства от храпа?
Это был очевидный случай.
Мы вернулись в гостиную к дамам. Меня посадили рядом с почтенной маркизой для официальной консультации, столь ловко устроенной графиней. Попробовав вторично завести беседу со старой дамой, я прокричал в ее слуховую трубку, что у нее еще нет колита, но он, несомненно, будет, если она не откажется от паштета из гусиной печени.
– Вот видите! – прошептала графиня. – Ну разве он не умница?
Маркиза тотчас же пожелала узнать симптомы колита и весело мне улыбалась, пока я качал тонкий яд в слуховую трубку. Когда я встал, собираясь прощаться, я был уже совсем без голоса, но зато приобрел новую пациентку.
Неделю спустя на авеню Вилье остановился элегантный кабриолет, и лакей бегом взбежал по лестнице, чтобы вручить мне наскоро нацарапанную записку графини, которая умоляла немедленно приехать к маркизе, заболевшей ночью, судя по всему, колитом.
Так я вступил в высший парижский свет.
Колит распространялся по Парижу, как степной пожар. Моя приемная была настолько переполнена, что пришлось устроить из столовой еще одну приемную. Я никак не мог понять, откуда у всех этих людей берутся время и терпение ждать так долго, иногда часами.
Графиня приезжала регулярно дважды в неделю, но иногда она чувствовала себя так скверно, что являлась и не в положенные дни. Несомненно, колит был ей гораздо полезнее аппендицита: ее лицо утратило томную бледность, а большие глаза сияли светом юности.
Однажды, выходя из особняка маркизы, отбывавшей в деревню – я был у нее, чтобы проститься, – я увидел, что около моего экипажа стоит графиня и дружески болтает с моим пуделем Томом, который сидел на большом пакете, полуприкрытом ковриком.
Графиня собиралась ехать в магазин «Лувр», чтобы купить подарок маркизе, которая на следующий день праздновала день рождения. Но она понятия не имела, что купить. Я посоветовал ей купить собаку.
– Собаку! Какая блестящая мысль!
Когда ее еще девочкой возили к маркизе, у той на коленях всегда лежал мопс – такой толстый, что он едва двигался, а храпел так, что его было слышно во всем доме. Когда он скончался, ее тетушка несколько недель лила слезы. Да, это была блестящая мысль.
Мы дошли до угла улицы Камбон, где находилась лавка известного торговца собаками. Там, среди десятка непородистых дворняжек, сидел тот, кого я искал: аристократический маленький мопс, который отчаянно засопел, чтобы привлечь наше внимание к своей печальной судьбе, а его налитые кровью глаза умоляли вызволить его из плебейского общества, в котором он оказался по несчастному стечению обстоятельств и совершенно незаслуженно. Мопс почти задохнулся от радости, когда осознал свое счастье и был отправлен с кучером в особняк в Сен-Жерменское предместье.
Графиня все же решила отправиться в магазин «Лувр», чтобы примерить новую шляпу. Сначала она хотела пойти туда пешком, потом заявила, что возьмет фиакр, и тогда я предложил подвезти ее в своем экипаже. Она поколебалась – что скажут люди, если увидят ее в моем экипаже? – а потом поблагодарила и согласилась. Но ведь «Лувр» мне не по дороге? Однако я уверил ее, что никуда не тороплюсь.
– А что у вас в пакете? – осведомилась графиня с чисто женским любопытством. Я уже собирался снова солгать ей, но тут Том, полагая, что больше можно не охранять драгоценный пакет, прыгнул на свое обычное место рядом со мной. Пакет порвался, и наружу высунулась голова куклы.
– Почему вы возите с собой кукол? Для кого они?
– Для детей.
Она не знала, что у меня есть дети, и как будто обиделась, что я не посвятил ее в тайны моей частной жизни.
Так сколько же у меня детей? Человек двенадцать. Я понял, что выхода нет и мне придется посвятить ее в мой секрет.
– Поедемте со мной, – сказал я смело. – А на обратном пути я познакомлю вас с моим приятелем Жаком, гориллой в Зоологическом саду. Это нам по дороге.
Графиня, казалось, была в прекрасном настроении и готова на любые эскапады; она сказала, что будет в восторге. Проехав вокзал Монпарнас, мы очутились в районе, ей совершенно неизвестном, она не узнавала ни одной улицы. Мы ехали теперь среди темных зловонных трущоб. В сточных канавах, забитых нечистотами, играли оборванные ребятишки. Почти на каждом пороге сидела женщина и кормила грудью младенца, возле стояла жаровня с углями, у которой, сбившись в кучку, грелись дети чуть постарше.
– Неужели это Париж? – спросила графиня с испугом.
Да, это был Париж, la Ville Lumiere. Город Света.
Город-Светоч.
– А это – тупик Руссель, – добавил я, когда мы остановились перед закоулком, сырым и темным, как дно колодца.
Жена Сальваторе сидела на их единственном стуле, держа на коленях Петруччо – своего сына, свое горе. Она помешивала варившуюся поленту, и две старшие девочки следили за ней жадными глазами, а самый маленький ползал по полу, стараясь поймать котенка. Я сказал жене Сальваторе, что со мной приехала добрая дама, которая хотела бы кое-что подарить детям.
По растерянности графини я понял, что она первый раз в жизни переступает порог истинной нищеты. Она густо покраснела, протягивая матери Петруччо первую куклу – иссохшие ручки Петруччо не могли бы удержать ничего, ибо он родился параличным. Петруччо не выразил никакой радости – его мозг был таким же онемелым, как и его члены, но мать заверила, что кукла ему очень нравится. Обе его сестры, получив по кукле, радостно убежали, чтобы за кроватью начать игру в «дочки-матери».
Как, по-моему, скоро ли Сальваторе выйдет из больницы? Ведь прошло уже почти полтора месяца с тех пор, как он упал с лесов и сломал ногу.
Да, да, я заходил к нему в больницу Ларибуазьер, он поправляется, и его, наверное, скоро выпишут. А как у нее дела с новым хозяином дома? Слава Богу, очень хорошо. Он очень добрый, он даже обещал поставить к зиме печку. И он позаботился проделать окошечко под потолком – я, конечно, помню, какой темной была их комната.
– Поглядите-ка, как у нас теперь стало светло и уютно, точно в раю, – сказала жена Сальваторе.
А правда ли то, что рассказал Арканджело Фуско, что я сказал ее бывшему хозяину в тот день, когда он выгнал их из дома и забрал все ее вещи: что наступит час, когда Бог накажет его за жестокость к беднякам. И что я проклял его таким страшным образом, что он пошел и повесился через пару часов после этого.
Да, это правда, и я ничуть не жалею о своем поступке.
Когда мы собирались уходить, с работы, неся на плече большую метлу, вернулся мой друг Арканджело Фуско, снимавший угол в комнате Сальваторе. В те дни почти все парижские подметальщики улиц были итальянцами. Я был рад представить его графине, это было меньшее, что я мог сделать в благодарность за бесценную услугу, которую он оказал мне, пойдя со мной в полицейский участок, чтобы подтвердить мои показания о смерти бывшего хозяина дома. Бог знает, в какую неприятную историю я мог бы попасть, если бы не Арканджело Фуско. Я едва избежал ареста за убийство.
Арканджело, у которого, по итальянскому обычаю, была заткнута за ухо роза, тут же преподнес цветок графине с чисто южной галантностью. Графиня же выглядела так, как будто никогда еще не получала лучшего подарка в дань ее молодости и красоте.
Ехать в Зоологический сад было уже поздно, и я повез графиню домой. Она все время молчала, и я попытался развеселить ее, рассказав забавную историю о том, как одна добросердечная дама случайно прочитала мою небольшую статью о куклах, напечатанную в «Блеквуд мэгезин», и принялась делать куклы для бедных десятками. Может быть, графиня заметила, как нарядно одеты некоторые из них? Да, она это заметила. Эта дама красива? Очень. А она сейчас в Париже? Нет. Я должен был воспрепятствовать дальнейшему изготовлению кукол, так как у меня их становилось больше, чем пациентов, и я послал ее в Сен-Мориц сменить обстановку.
Прощаясь с графиней перед ее домом, я выразил сожаление, что у нас не хватило времени навестить гориллу в Зоологическом саду. Но может быть, она все-таки не раскаивается, что поехала со мной?
– Раскаиваюсь? О нет! Я вам очень благодарна, только… только мне так стыдно, – со слезами в голосе ответила она, исчезая за воротами своего особняка.
Глава 4. Модный врач
Я получил приглашение ужинать в особняке в Сен-Жерменском предместье каждое воскресенье.
Граф давно забыл о неприязни к врачам и был со мною очень мил. Кроме членов семьи, за столом обыкновенно присутствовали только аббат и иногда кузен графини, виконт Морис, который вел себя со мной пренебрежительно, почти нагло. Мне он стал противен с первой встречи, и, как я вскоре заметил, противен он был не мне одному. Им с графом явно не о чем было разговаривать.
Аббат принадлежал к духовенству старой школы, был светским человеком и знал о жизни и о человеческой натуре гораздо больше меня. Вначале он держался со мной суховато, и часто, когда я чувствовал на себе его проницательный взгляд, мне казалось, будто он знает о колите больше моего. В присутствии старика мне становилось как-то стыдно и хотелось поговорить с ним откровенно, выложить карты на стол. Но удобный случай все не представлялся. Мы никогда не оставались наедине.
Как-то раз, вернувшись домой, чтобы наспех пообедать перед приемом, я увидел в столовой аббата. Он сказал, что пришел по собственному почину, чтобы поговорить со мной на правах старого друга семьи, и просит сохранить его визит в тайне.
– Вы необыкновенно много сделали для графини, – начал он, – и мы все вам очень благодарны. И для маркизы тоже. Я как раз от нее: я ее духовник и, право, могу только удивляться, насколько лучше во всех отношениях она себя чувствует. Но сегодня я пришел поговорить с вами о графе. Он меня очень тревожит. Его дела очень плохи. Он никуда не выходит, без конца курит, и я постоянно застаю его спящим в кресле с сигарой во рту. В деревне это совсем другой человек: каждое утро ездит верхом, всегда бодр и энергичен, деятельно занимается огромным поместьем. У него есть только одно желание – уехать к себе в Турен, и если, как я опасаюсь, графиня откажется покинуть Париж, то ему следует уехать одному, хотя мне и тяжело было прийти к этому заключению. Он питает к вам необыкновенное доверие, и если вы ему скажете, что ради здоровья надо уехать из Парижа, он это сделает. Вот об этом-то я и пришел просить.
– К сожалению, господин аббат, я этого сделать не могу.
Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением и даже с подозрением.
– Вы не объясните мне причину отказа?
– Графиня еще не может покинуть Париж, а она, разумеется, должна поехать с графом.
– Но почему ее колит нельзя лечить в деревне? Там есть хороший, надежный врач, который ее лечил, когда у нее был аппендицит.
– И с каким результатом?
Он не ответил.
– Позвольте мне, в свою очередь, задать один вопрос. Допустим, графиня внезапно исцелилась бы от колита – могли бы вы тогда ее убедить уехать из Парижа?
– Честно говоря – нет. Но ведь это праздные предположения, поскольку, если я не ошибаюсь, колит – длительная болезнь и с трудом поддается лечению.
– Я мог бы в один день вылечить графиню от колита.
Он озадаченно поглядел на меня.
– Так почему же, во имя всего святого, вы этого не делаете? Вы берете на себя большую ответственность!
– Если бы я боялся ответственности, я не был бы врачом. Будем откровенны. Да, я могу мгновенно вылечить графиню, потому что она больна колитом не более нас с вами. Не было у нее и аппендицита. Всё это только нервы и воображение. Но если сразу отнять у нее ее колит, она может либо потерять душевное равновесие, либо подыскать еще худшую замену болезни – морфий или любовника. Со временем выяснится, смогу ли я помочь графине, но посоветовать ей сейчас уехать из Парижа было бы большой психологической ошибкой. Она, вероятно, воспротивилась бы, а если она хоть раз ослушается меня, то сразу же утратит ко мне всякое доверие. Дайте мне две недели, и она уедет из Парижа по собственному желанию – по крайней мере, так ей будет казаться. Все дело в тактике. Отправить графа одного было бы ошибкой в другом плане, и вы, господин аббат, знаете это не хуже меня.
Он внимательно на меня посмотрел, но ничего не сказал.
– Теперь о маркизе: вы любезно признали, что я кое-что для нее сделал, и я принимаю вашу похвалу. С медицинской точки зрения я не сделал ничего, да это и невозможно. Однако глухие очень страдают из-за вынужденной изоляции от себе подобных – и особенно те, чья внутренняя духовная жизнь скудна, а таких большинство. И сделать для них можно только одно: отвлечь их мысли от несчастья. Маркиза теперь думает о своем колите, а не о своей глухоте, и вы сами видите, как благодетельно это на нее повлияло. Однако мне начинают сильно надоедать колиты, и, так как маркиза едет в деревню, я заменил этот недуг на комнатную собачку, более подходящую для сельской жизни.
