Поручик Ржевский и дамы-поэтессы бесплатное чтение
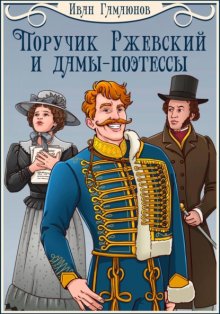
Глава первая,
Поздняя осень – самое грустное время для гусара, который ищет амурных приключений. Иное дело весна, когда зов природы настойчиво повелевает дамам, в том числе неприступным, искать себе пару. Дамы слышат этот зов и почти не могут ему противиться.
Лето тоже имеет преимущества. Жаркая погода побуждает женщин снимать с себя как можно больше одежды, наполняет женские тела истомой, так что дело само идёт на лад. Вдобавок именно летом кусты и всякого рода заросли становятся особенно густыми, что тоже помогает в амурных делах.
Даже зимой дамы часто благосклонны, ведь лютый холод вызывает у них безотчётное желание согреться в чьих-нибудь жарких объятиях. А осень – будто передышка после весенних волнений и летних томлений. Дамы в это время пресыщены чувствами, а жажда тепла, вызываемая зимней стужей, в них ещё не пробудилась. Дамы отдыхают и ни к чему не стремятся.
Вот так серым ноябрьским днём рассуждал поручик Александр Аполлонович Ржевский, сидя в лучшем номере лучшей гостиницы города Твери.
Зелёные шёлковые обои, красные цветы на персидском ковре, а также бронзовые статуэтки полуобнажённых нимф невольно напоминали о весне и лете. Из-за этого роскошный интерьер номера не доставлял поручику удовольствия, а нагонял тоску. Даже блеск позолоты и гранёного хрусталя не мог отвлечь от грустных мыслей, пусть и принято считать, что роскошь поднимает настроение. Особенно если ты за неё не платишь.
В прошлый раз, посещая Тверь, Ржевский останавливался в куда более скромной гостинице. И с тех пор денежные дела поручика нисколько не улучшились, однако на этот раз всё оплатил милейший и добрейший Алексей Михайлович Бобрич.
– Даже не спорьте! – сказал он поручику. – Вы – шафер на свадьбе, поэтому поселим вас со всем возможным удобством.
В нынешнем ноябре сын Алексея Михайловича – Пётр Бобрич – должен был жениться. А невестой стала девица, с которой Ржевский находился в дружеских отношениях и даже, случалось, называл Тасенькой – не Таисией Ивановной, как велит вежливость.
Увы, со стороны эти отношения выглядели иначе. Вся Тверь прекрасно помнила, как в декабре прошлого года поручик, приехав в город на рождественский бал, встретил там Тасеньку и вскоре оказался почти помолвлен с ней, но неожиданно уехал. Можно сказать, сбежал.
Та история вызвала кривотолки в тверском обществе. Поэтому теперь, когда Тасенька готовилась выйти за младшего Бобрича, родители невесты и родители жениха единодушно решили, что свадьба должна состояться именно в Твери. Те же самые сплетники, которые с притворным сочувствием говорили о Тасеньке «бедняжка», должны были увидеть её триумф. Пускай разом прикусят язык! А чтобы их совсем добить, шафером со стороны жениха уговорили стать Ржевского.
Поручик поначалу воодушевился, но быстро понял, что ему на своей должности не развернуться. Даже мальчишник устроить нельзя. Это стало понятно, когда Ржевский вслед за семействами жениха и невесты перебрался в Тверь, чтобы участвовать в предсвадебных торжествах.
Почти сразу по приезде – во время званого ужина в тверском особняке Бобричей – поручик отвёл старшего Бобрича в тихий угол у окна и напомнил о «традиции, которую надо соблюсти», но одобрения не получил.
– У моего сына нет приятелей в Твери, – сказал Алексей Михайлович, – поэтому обойдёмся без мальчишника.
– А я разве не приятель? – спросил Ржевский.
– И что вы вдвоём будете делать?
– Поедем к цыганам. Гульнём там от души!
– Нет-нет-нет, – сразу запротестовал Алексей Михайлович. – Не забывайте, что цель этой свадьбы – пресечь сплетни, а не дать пищу для новых. Всё должно быть в рамках приличий.
Поручик почесал в затылке.
– Ну… Смотря что за рамки. Если они, как у нательной иконки, то в таких рамках только святой и удержится. А если это большая картина, которую называют «панна»…
– Панно.
– Ну пусть панно. Короче, в этих рамках мы с вашим сыном вполне могли бы удержаться. Так что же?
– Боюсь, что в данном случае рамки приличий чуть побольше, чем у нательной иконки, – сказал Алексей Михайлович, а Ржевский вздохнул:
– Вот чёрт! Меня сделали шафером, но не дают проявить мои способности!
Старший Бобрич примирительно произнёс:
– Проявите в другой раз. А пока постарайтесь быть тихим. При всяком значительном шаге спрашивайте себя, что об этом подумает общество. Лучше всего, чтобы никто ничего не подумал.
Ржевский снова вздохнул.
– Алексей Михайлович, но ведь свадьба должна чем-то запомниться! Если совсем не дать повода почесать языки, то общество через месяц забудет, кто на ком женился.
Однако Бобрич, человек неглупый, сразу угадал, почему поручик возражает:
– Александр Аполлонович, понимаю, что вы скучаете. Но принесите эту жертву если не ради моего сына, то ради его невесты.
– Ладно, – согласился поручик. – Ради Таисии Ивановны потерплю. Кстати, напомните мне, почему я не могу остановиться в вашем доме. Вот вы сказали, что заботитесь о моём удобстве. Но в гостинице мне неудобно.
– Почему? Это же лучшая гостиница.
– Именно поэтому, – сказал Ржевский. – Я как вспомню, насколько она дорогая, мне сразу неудобно. Неудобно перед вами. Лучше б я у вас в доме жил.
Бобрич принялся объяснять:
– Александр Аполлонович, у меня две дочери на выданье. Ваше проживание под одной крышей с ними – скандал.
– Но ведь в деревне я ночевал у вас в имении – и ничего.
– То – деревня, а это – город.
Ржевский продолжал спорить:
– Но ваш городской дом больше деревенского. Если я заночую в дальнем флигеле, это почти так же далеко от ваших дочерей, как в гостинице, где вы меня поселили. Подумайте, сколько денег сбережёте!
– В сравнении с прочими расходами на свадьбу это пустяки.
Поручик в который раз вздохнул.
– Мне, право, совестно. Вогнал вас в расходы, а пользы от меня нет. – Он задумался. – Тогда вот что. Научу вашего сына кое-чему: как, видя даму только со спины, безошибочно определять – красавица или нет. Такое мало кто умеет. Мне этот секрет от батюшки достался. Я до сих пор только сам пользовался и ни с кем не делился, но раз такое дело… Умение полезное! В жизни пригодится!
Старший Бобрич покачал головой.
– Ваше великодушие в отношении моего сына вряд ли понравится Таисии Ивановне.
– Ай! Что ж это я?! – спохватился Ржевский. – Алексей Михайлович, а хотите, вас научу?
– Я счастливо женат. Мне незачем.
– Да что ж такое! – воскликнул поручик. – Чем же мне вам услужить?
– Примерным поведением, – терпеливо втолковывал старший Бобрич. – Александр Аполлонович, мы все приехали в Тверь, чтобы пресечь старые сплетни и не дать пищу новым. Именно поэтому вы живёте в гостинице. И не просто в хорошей гостинице, а в самой лучшей. Пусть никто не посмеет сказать, что мы плохо устроили нашего шафера.
Ржевский не унимался:
– А вы знаете, что в этой гостинице есть танцевальный зал?
– Знаю.
– А вы знаете, что скрывается под словами «танцевальный зал»? – Не дожидаясь ответа, поручик продолжал: – Дамы там сидят во всякое время. Дескать, приглашения на танец ожидают. За один танец – пять рублей. Но если танцевать предполагается более часа, то…
– Значит, не ходите в зал, Александр Аполлонович, – спокойно и твёрдо произнёс Бобрич.
– Чтобы никто ничего не подумал?
– Именно так.
* * *
Поручик сидел в своём роскошном номере и не знал, чем себя занять. Всё время заботиться о том, чтобы никто ничего не подумал, это ужасно тяжело. И скучно.
К тому же пресловутый зал не давал Ржевскому покоя. Мелькнула мысль: «А что если не заходить, а просто постоять возле дверей? Никто ничего не подумает».
Рассудив так, поручик не стал медлить. По светлому просторному коридору, где всё блестело не хуже, чем в номере, он направился к цели, повторяя себе: «Взгляну краем глаза, чтобы никто ничего не подумал».
Танцевальный зал находился по соседству с обеденным, поэтому мимо широких, призывно раскрытых дверей, обрамлённых портьерами из вызывающе-алого бархата, сновали слуги с подносами.
Ржевский остановился и втянул ноздрями воздух. Кухонные запахи не могли перебить аромата французских духов, которые кружили голову и исподволь внушали мысль, что пять рублей за «танец» это сущие пустяки.
Суета мешала разглядывать красавиц, которые сидели у дальней стены танцевального зала и обмахивались веерами. Зато красавицы в этой суете заметили неподвижную фигуру поручика очень быстро. В отличие от приличных дам, они не думали притворяться, будто не замечают, и начали стрелять глазами.
Поручик вынужденно сделал несколько шагов в сторону, уходя из-под обстрела, и напомнил себе: «Надо, чтобы никто ничего не подумал». Но теперь, когда искусительницы не могли видеть Ржевского, он и сам их не видел. Оставаться в коридоре не было смысла. Краткий миг счастья миновал.
Поручик уже собрался вернуться в номер, как вдруг замер в удивлении. Из-за алой бархатной портьеры (той, что справа от дверей в зал) выглянула миловидная молодая женщина.
Портьеры, как водится, были схвачены шнурами, а за таким укрытием трудно спрятаться, но незнакомка обладала тонкой талией и своими формами как раз повторяла силуэт портьеры, сужающейся посредине.
Ржевский подумал, что ему привиделось, поэтому без церемоний подошёл к портьере и отодвинул её.
Послышался женский вскрик, после чего незнакомка, опомнившись, перешла на шёпот:
– Что вам нужно?
Судя по речи и манере одеваться, это была женщина благородного происхождения. Однако одежда дамы выглядела странно.
Такое милое личико и такая тонкая талия – достаточная причина, чтобы дама стремилась подчеркнуть природные достоинства достойным нарядом. Однако незнакомка была одета так, словно хотела, чтобы никто не обращал на неё внимания: серая шляпка, почти скрывавшая тёмно-русые волосы, серый жакет, серая юбка.
«Это всё осень, – решил Ржевский. – Дамы в осеннее время не хотят знакомиться».
Догадку подтверждал сердитый шёпот:
– Что вы делаете? Оставьте меня.
– А вы что здесь делаете? – спросил поручик, почти не надеясь, что разговор к чему-то приведёт.
Дама дёрнула портьеру на себя:
– Немедленно отойдите и притворитесь, что вы меня не видели.
– А! – догадался Ржевский. – Чтобы никто ничего не подумал?
Незнакомка на мгновение перестала сердиться и как будто хотела ответить: «Хорошо, что вы понимаете», но в итоге промолчала. Только фыркнула.
– А всё-таки, мадам, – не отставал Ржевский, – что вы здесь делаете? Мужа выслеживаете? Он, как видно, любит танцевать?
– Что? – дама искренне изумилась. – Муж? Танцевать? О чём вы?
Поручик вынужден был пояснить:
– Знаете, мадам, если б я увидел незнакомку в неприметном платье, которая прячется возле входа в обитель порока…
Дама насторожилась:
– Обитель чего?
Кажется, она оказалась в этой гостинице впервые и потому не успела выяснить назначение всех помещений.
Ржевский уточнил:
– Знаете, куда ведут двери, возле которых вы прячетесь?
– В танцевальный зал, – нерешительно ответила дама. – На дверях табличка. Там написано.
– Мадам, – поручик многозначительно крякнул, – это вход в… бордель. А табличка висит затем, чтобы у особ, которые ожидают приглашения на танец, не было неприятностей с полицией.
Дама заметно покраснела, тут же вышла из-за портьеры и опасливо покосилась на двери в танцевальный зал.
– Вы подумали, что я выслеживаю здесь мужа?
– Будем считать, что никто ничего не подумал, – примирительно сказал Ржевский. – Будем считать, что вы просто так тут стояли, а я мимо проходил.
На лице незнакомки промелькнуло что-то вроде благодарности и поручик, ободренный этим, произнёс:
– Позвольте представиться…
Однако дама тут же перебила:
– Нет, это лишнее. Благодарю, что просветили меня по поводу танцевального зала, но я не ищу здесь знакомств.
«Это всё осень, – опять подумал Ржевский. – Неудачное время для амурных дел». Но раз беседа с дамой завязалась, следовало продолжать.
– И всё же я представлюсь: Александр Аполлонович Ржевский.
– Зачем мне знать ваше имя? – спросила незнакомка и нахмурилась, явно не собираясь называть своё.
Ржевский не сдавался:
– Зачем? Чтобы я мог угостить вас горячим кофеем. День сегодня холодный, а я так понял, что у вас нет никого, кто мог бы согреть вас в жарких объятиях.
Поручик пристально посмотрел на даму. Конечно, зима ещё не наступила, но жажда тепла в этой прелестнице уже могла пробудиться.
– Так что же? – спросил он. – Хотите кофею?
Запоздало вспомнив просьбу Алексея Михайловича на счёт приличного поведения, Ржевский добавил:
– Кофей – это ведь самый невинный напиток. Никто ничего не подумает.
Дама наставительно заметила:
– Надо говорить «кофе». «Кофей» – это просторечие.
– А я – человек простой, – ответил Ржевский. – Вот, к примеру, если вижу красивую даму, то так ей и говорю: «Мадам, вы моя боль».
– Боль? – не поняла дама.
– «Боль» – это по-французски «красавица». Разве нет?
– «Красавица» это «бэль», а не «боль».
Ржевский задумался:
– Разве? Но согласитесь, созвучие неслучайно. Ведь когда красавица отказывает, это так больно! – Он состроил жалобную мину. – Может, всё-таки выпьем кофею?
– Кофе, – повторила незнакомка. – Неужели вы не чувствуете, что для русской речи «кофе» гораздо естественнее, чем «кофей»?
Ржевский не знал, что ответить, но дама, не замечая этого, воодушевлённо продолжала:
– Конечно, многие литераторы в своих сочинениях пишут «кофей», зато Пушкин пишет «кофе». Пушкин, – она мечтательно вздохнула, – это образец правильной русской речи, и на него надо равняться.
А вот теперь Ржевский знал, что ответить:
– Вспомнил!
– Что? – опять не поняла дама. Мечтательное выражение на её лице исчезло.
– Я вот сейчас вспомнил, что Пушкин всегда говорит «кофе». Всякий раз, когда мы с ним ходили в ресторацию и он заказ делал, то говорил «кофе». А слово «кофей» я от него ни разу не слышал.
Собеседница недоверчиво улыбнулась.
– То есть вы лично знакомы с Пушкиным?
– Да. – Ржевский пожал плечами. – А что такого?
– С самим Александром Сергеевичем Пушкиным?
– Да.
– Со знаменитым поэтом?
– Да.
– Не смешите! – Дама хмыкнула. – Если вы думали этим глупым обманом впечатлить меня, чтобы зазвать на кофей… – слово «кофей» было произнесено насмешливо, – то вам не удалось!
Она гордо вскинула голову и пошла прочь, а Ржевский разочарованно смотрел, как незнакомка направилась по коридору в противоположную сторону от обеденной залы и скрылась за поворотом.
Но ведь поручик не соврал! Он действительно был знаком с Пушкиным. Правда, они уже года три не виделись.
* * *
Помнится, знакомство с Пушкиным состоялось случайно. Произошло это в мае 1820 года. Ржевский тогда служил в Мариупольском гусарском полку и был отправлен по делу в Могилёв, в штаб армии.
Город встретил поручика приветливо. Улица не пылила. С Днепра, струившегося где-то рядом – за двухэтажными зданиями присутственных мест, налетал прохладный ветерок. Дамы на площади приветливо улыбались из-под белых кружевных зонтиков, не опасаясь ревности своих кавалеров в штатском. Оно и понятно! Ведь в городе, где расположен штаб армии, было так много офицеров, то есть искушений для дам, что штатским оставалось только смириться.
Увы, приветливость города закончилась на пороге штабной канцелярии. Решить дело Ржевскому не удалось. От него отмахнулись и посоветовали ехать в другой штаб – в Тульчин, а это путь неблизкий.
Перспективы, конечно, не радовали, и поручик, чтобы немного взбодриться, зашёл в местный офицерский клуб. Атмосфера в клубе, как и в городе, оказалась самая приятная – играли в карты, и Ржевский ради поддержания компании тоже сел.
Правду говорит пословица: кому везёт в любви, тому в карты не везёт. А Ржевский в любви (точнее, в амурных приключениях) был известный баловень судьбы, поэтому за столом даже не рассчитывал на удачу.
Поручик заранее приготовился из вежливости проиграть рублей десять, но разговор меж офицерами за карточным столом вёлся такой приятный, что за какие-то полчаса оказалась проиграна наибольшая часть денег, выданных Ржевскому на оплату почтовых лошадей.
Урон вышел существенный, ведь полковое начальство распорядилось, чтобы Ржевскому выдали денег с запасом – как раз на тот случай, если дело не решится в Могилёве и придётся ехать куда-то ещё.
Короче говоря, ехать в Тульчин поручику оказалось не на что. Хватило бы только, чтобы вернуться в расположение своего полка – в Херсонскую губернию. Но возвращаться, не решив дела, это же позор!
Меж тем день близился к вечеру. Следовало что-то придумать.
«Ну, Фортунушка, – мысленно обратился Ржевский к богине удачи, – в карты не помогла, так помоги мне найти доброго попутчика, чтобы до Тульчина подвёз».
Поручик отправился на почтовую станцию, на которой был несколько часов назад, когда только приехал в город. Уверенным шагом миновав широкий двор, Ржевский отворил дверь дома, где в ожидании лошадей коротали время проезжающие.
Как и следовало ожидать, в сенях за столом над бумагами склонился полноватый мужчина средних лет в зелёном мундире – уже знакомый поручику станционный смотритель. То ли Иван Иванович, то ли Иван Васильевич.
Несколько часов назад Ржевский, когда ещё не проигрался, весьма щедро расплатился на станции за лёгкую трапезу, а также за то, чтобы его слуга мог временно разместиться в ямщицкой вместе с дорожным чемоданом. Смотритель, конечно, это помнил, так что теперь поручик мог рассчитывать на помощь в своём деле.
Как только чиновник поднял глаза, Ржевский панибратски произнёс:
– Здравствуй, Иван.
– Здравствуйте, ваше благородие.
– А скажи-ка, любезный, есть ли здесь кто-нибудь, кто должен ехать на юг.
– Как не быть. – Смотритель пожал плечами. – Юг – такое место, что туда всегда кто-нибудь едет.
– И кто на этот раз?
Чиновник опустил взгляд в бумаги:
– Вот, к примеру, коллежский секретарь Пушкин.
– А едет он в своём экипаже или в почтовом?
– В своём. В карете.
Ржевский оживился:
– А сколько у этого Пушкина слуг?
– Всего один.
Ржевский тоже путешествовал с одним слугой, и это значило, что в карете окажется достаточно места.
– А как выглядит этот Пушкин?
– Ну… Для чего вам, ваше благородие? – вдруг спохватился смотритель.
– Познакомиться с ним хочу.
Смотритель, кажется, засомневался, но вспомнил о недавней щедрости Ржевского и решил услужить.
– Пушкин этот молод, юноша совсем. Росту невысокого. Кудряв до неприличия.
– До неприличия? Так бывает?
– Бывает. Есть такое слово – «буйный». А кудри господина Пушкина именно что буйные. И ладно бы он нигде не служил. Но ведь служит! С эдакими буйными кудрями! Я бы постеснялся так на службу ходить.
– А где он служит?
– В пашпорте указано – в коллегии иностранных дел. И скажу откровенно: я не удивлён, что господин Пушкин с эдаким буйством на голове не смог прижиться в Петербурге. Неспроста на юг отправлен – к новому месту службы.
– Что-то я не понимаю…
– Что тут понимать, ваше благородие! – всплеснул руками смотритель. – У кого на голове буйство, у того и в голове буйство. По всему видать – бунтовщик. Вот потому его и на юг.
– Да брось, – отмахнулся Ржевский, но смотритель не унимался:
– С таким буйным характером в бунтовщики прямая дорога, а характер у господина Пушкина буйный. Чуть что не по нраву – сразу глаза как уголья, пыхтит как самовар, словами плюётся, будто кипятком. Я это на себе изведал, когда сказал, что свежих лошадей тотчас дать не могу. Не связывайтесь лучше с этим Пушкиным, ваше благородие.
– Посмотрим, – неопределённо ответил Ржевский. – А где он сейчас?
– В комнате ужинает.
Ржевский прошёл из сеней в комнату, где в дальнем углу за одним из столов сидел юноша, одетый в красную крестьянскую рубаху. Но удивительнее одежды была причёска – тёмные кучерявые волосы, несмотря на длину, не хотели спускаться на плечи, а стремились в стороны и вверх.
«Да, кудряв», – подумал поручик. Меж тем, вопреки утверждению смотрителя, юноша не ужинал, а грыз гусиное перо, будто не замечая, что на столе множество куда более вкусных вещей.
Подойдя поближе, поручик увидел, что тарелка отставлена, а перед юношей лежат несколько листов бумаги, исчерканных и измятых. Очевидно, коллежский секретарь Пушкин баловался стихосложением.
Грызя перо, юный поэт мурлыкал что-то ритмичное, а затем, заметив Ржевского, рассеянно произнёс, будто против воли продолжая сочинять стихи:
– Гляжу, ко мне гусар подходит. Он крутит ус, глаза отводит.
Поручик, в самом деле, покрутил ус и глянул себе под ноги. Затем поднял голову.
– Вот снова посмотрел в упор, – рассеянно бормотал Пушкин. – Он что-то мне сказать желает. Надеждой полон его взор. Гусар всё медлит, выжидает… Дождусь ли слова от него? Иль не дождусь я ничего?
Поручик понял, что молчание затянулось. Он вежливо поклонился и представился. Юноша кивнул и представился в ответ:
– Александр Сергеевич Пушкин.
– Я слышал, вы на юг направляетесь, – сказал Ржевский.
– Скорее, злая судьба меня туда влечёт, – ответил Пушкин.
– А! – понимающе протянул Ржевский. – Значит, не по своей воле едете, а по служебной надобности.
Пушкин сощурился с подозрением.
– А зачем вы меня допрашиваете?
– Расспрашиваю, а не допрашиваю.
– Всё равно. Зачем?
– Честно? – Ржевский решил сразу раскрыть все карты: – В попутчики набиваюсь. Мне в ту же сторону надо, что и вам, но я прогонные деньги проиграл. Вот и ищу, кто бы меня подвёз в своём экипаже. А я взамен отблагодарю – от дорожной скуки избавлю. Мне все говорят, что попутчик я отличный.
Пушкин улыбнулся саркастически:
– А вот я – попутчик не лучший.
– Что так? – спросил Ржевский.
– Официально я направляюсь на юг по служебной надобности, а на самом деле – в ссылку. Я неблагонадёжен.
– Что же вы натворили?
– Слишком остро отточил поэтическое перо, – ответил Пушкин и указал на свободный табурет возле стола. – Да вы сядьте. – Он снова улыбнулся саркастически. – Конечно, если не боитесь… рядом с неблагонадёжным.
Ржевский сел. Может, другой и не решился бы, но поручик рассуждал по-своему. Он боялся не знакомства с неблагонадёжным, а того, что буйный нрав, о котором предупреждал смотритель, проявится в неподходящую минуту. Например, Пушкин согласится подвезти, но в дороге обидится из-за мелочи, разгорячится и что тогда? Стреляться с ним? А ведь Ржевскому следовало добраться до Тульчина, избегая подобных приключений.
В общем, история с неблагонадёжностью казалась только кстати. Тот, кого многие сторонятся, будет дорожить своим попутчиком и по пустякам ссориться не станет.
Однако приглашение сесть за стол ещё не означало, что Пушкин посадит Ржевского в свой экипаж, поэтому следовало продолжать беседу и закрепить знакомство.
О чём говорить, поручик не знал. Спросил первое, что пришло в голову:
– А в Петербурге нынче мода на буйные головы? То есть буйные кудри.
Пушкин досадливо тряхнул шевелюрой, которая вопреки всем законам стремилась вверх и в стороны, а не вниз, на плечи.
– Не обращайте внимания. Всё оттого, что в глуши не найти хорошего парикмахера. Вот в Петербурге я был похож на поэта, а не на барана. Вы же не думаете, что я эдаким бараном на службу ходил?
Вообще-то, Ржевский именно так и думал:
– А как же вы ходили?
– Были у меня струящиеся кудри до плеч. – Пушкин вдруг задумался и пробормотал: – Всегда восторженная речь и кудри тёмные до плеч. – Он торопливо макнул перо в чернильницу, а затем на полях мятого листа появилась пара строк.
«Поэт от рождения, – подумал Ржевский. – Небось, в малолетстве даже на горшок просился в рифму, а когда вырос и на службу поступил, то служебные бумаги пытался рифмовать».
Поэт тем временем поднял голову и продолжал:
– Увы, Петербург сейчас далеко, а за пределами Петербурга всякий парикмахер уверяет, что мои волосы невозможно уложить так, чтобы они не торчали. Предлагают остричь. Остричь! – гневно повторил Пушкин.
Ржевский озадаченно на него уставился; поэт пояснил:
– Остригают сумасшедших! Точнее, буйных. Я похож на буйного?
– Да… нет, не похожи, – ответил Ржевский.
– Как будто мало мне ссылки, так ещё и это…
– Да, – сочувственно протянул Ржевский. – Понимаю. Судьба шутит над вами жестоко.
– В кругу семей, в пирах счастливых… я гость унылый и чужой, – вдруг пробормотал Пушкин. – Певец любви, печальный странник… где ж отдохну, младой изгнанник? – Он опять принялся строчить что-то на своих мятых листках.
– А действительно. Где отдохнёте? – спросил Ржевский.
– Что? – не понял Пушкин.
– Отдыхают обычно в конце пути. Вы куда едете?
– В Екатеринослав.
– Прекрасно! Значит, можем ехать вместе до самого Киева. А оттуда я уж как-нибудь до Тульчина доберусь.
– Но я неблагонадёжен, – напомнил Пушкин. – Не боитесь со мной ехать?
– Что ж делать, если мне с вами по дороге! – Ржевский заговорщически улыбнулся и сдвинул свою куртку-ментик, всё это время прикрывавшую ему левое плечо. Теперь стало видно, что под мышкой левой руки зажата бутылка дорогого красного вина, даже не распечатанная.
Эту бутылку поручик прихватил в офицерском клубе, а теперь поставил Пушкину на стол и предложил:
– Выпьем за знакомство?
– Выпьем с горя! – согласился юноша. – Я забуду злую судьбу, а вы – свой карточный проигрыш.
Ржевский откупорил бутылку и обшарил взглядом стол:
– Есть тут бокал? Или хотя бы кружка?
Пушкин не ответил. Торопливо обмакнув перо в чернила, он пробормотал:
– Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. – На листе появилась ещё пара строк.
Вот так и состоялось знакомство, которое не оборвалось по окончании путешествия. Ржевский и Пушкин снова повстречались зимой в Киеве, хотя тот и другой оказались там случайно. Новая встреча послужила началом не просто приятельства, а дружбы.
Прошло ещё некоторое время, поручик вышел в отставку, а когда возвращался в своё имение под Тверью, сделал большой крюк – через Одессу. Решил снова повидаться с Пушкиным, который, хоть и менял места жительства, но продолжал пребывать «в ссылке».
С той последней встречи прошло три года.
* * *
Ржевский, потерпев неудачу при знакомстве с дамой, расхотел возвращаться в номер, поэтому проследовал в обеденную залу и огляделся в поисках свободного стола. Из-за неудачи, а также из-за необходимости постоянно заботиться о том, чтобы никто ничего не подумал, сделалось так тоскливо! «Надеюсь, никто ничего не подумает, если я выпью водки», – сказал себе поручик, но, как нарочно, свободного стола не нашлось.
И всё же Фортуна сжалилась над Ржевским. Ничем кроме вмешательства богини нельзя было объяснить то, что именно в минуту печали он вдруг заметил неподалёку знакомое буйство шевелюры. В дальнем углу за столом сидел человек весьма кудрявый, но волосы были не такими длинными, как прежде, поэтому их свойство торчать во все стороны стало менее очевидным. Зато в дополнение к укрощённому (точнее, укороченному) буйству появились бакенбарды, которые, если их не подстригать, могли буйствовать ничуть не хуже.
Подойдя ближе, Ржевский увидел, что на столе исходит горячим паром тарелка макарон с сыром. Рядом – яичница. Видимо, чтобы обед вышел сытнее. Но кудрявый человек вместо того, чтобы поглощать эти блюда, грыз гусиное перо. Посмотрев куда-то сквозь поручика, он задумчиво пробормотал:
– Знакомый образ мне явился. Ужели тот гусар лихой, который дружбу свёл со мной, когда я в ссылке находился? Отважно он презрел молву, изгоя другом называя. Мы предавались мотовству. Судьба нас разлучила злая.
Ржевский взмахнул руками в приветственном жесте, означавшем: «Ба! Кого я вижу!», а поэт продолжал бормотать:
– Да, это он – мой давний друг. Идёт ко мне и взмахом рук… Меня приветствует сердечно. Ах, как же время быстротечно!
– Пушкин! – крикнул Ржевский. – Ты? Чёрт кудрявый.
Поэт, наконец освободившись от власти муз, воскликнул:
– Ржевский! Друг мой милый!
Кинув перо возле измятого листка, поэт поспешно поднялся из-за стола. Друзья с чувством обнялись.
– Ржевский! – продолжал восклицать Пушкин, чуть отстраняясь от поручика и разглядывая его. – Вот не ожидал! Ты как здесь? Проездом?
– Нет, я здесь надолго застрял.
– Судебная тяжба?
– Свадьба.
Пушкин сощурился удивлённо:
– Жениться решил?
– Бог миловал. Я шафер на свадьбе.
– Что-то ты невесел для шафера.
– Так и есть. – Ржевский вздохнул. – Свадьба чинная, приличная. Скучаю. – Он помолчал мгновение и спросил уже веселее: – А ты-то здесь как?
– Вчера был в Москве. Завтра поеду к себе в деревню.
– Значит, проездом? А то, может, кутнём, как в старые времена?
– Можно, – задумчиво протянул Пушкин. – Хоть и надо мне теперь вести себя осмотрительно, не впутываться в истории.
– Что так? Ты по-прежнему в списке неблагонадёжных?
– Напротив, – шёпотом ответил Пушкин. – Но от этого только хуже.
– Не понял, – признался Ржевский.
Пушкин всё так же тихо произнёс:
– Разговор не для чужих ушей. – Он оглянулся. – Здесь ведь нет кабинетов, как в иных ресторанах? Тогда я, с твоего позволения, закончу обедать, а после побеседуем у меня в номере.
Друзья сели за стол. Пушкин стал торопливо поглощать макароны, закусывая яичницей, а Ржевский от нечего делать глянул на листок, где поэт совсем недавно что-то черкал.
– Это у тебя что? Стихи?
– Да, – с набитым ртом произнёс Пушкин. – Читай, если хочешь.
Поручик прочёл, хотя неразборчивый почерк всячески этому препятствовал.
– Ну как? – спросил Пушкин, продолжая жевать.
– Опять ты забыл мой давний совет. – Ржевский покачал головой. – Я же тебе говорил: сначала утоли страсть к женскому полу, а уж после садись стихи сочинять. Иначе выходит слишком эротично.
– Да? – удивился Пушкин, не переставая жевать.
– Вот у тебя стихи про что? – тоном строгого критика продолжал поручик.
– Про осень.
– Нет, это не про осень. – Ржевский снова покачал головой и процитировал: – «Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась…» Обнажалась, – повторил он многозначительно. – А дальше у тебя что? «Ложился на поля туман…» Ложился, – повторил поручик. – А в конце что? «Стоял ноябрь уж у двора». Стоял! – воскликнул Ржевский и опасливо оглянулся по сторонам, поняв, что произнёс слово «стоял» слишком громко.
Кажется, никто не обратил внимания на возглас, поэтому поручик снова обернулся к Пушкину:
– Я уж молчу про «гусей крикливых караван», который «тянулся к югу». Твой караван явно не к югу тянулся, а к сени лесов, которая обнажалась. И вообще гуси чаще летают клином. А клин – это уж совсем эротичный предмет. Куда такое годится?
– Я думал в четвёртую главу «Онегина» добавить.
– А все прочтут и поймут, что у Пушкина давно не было…
Лицо поэта сделалось непроницаемым. Кажется, его слегка обидели последние слова. Положив вилку, он произнёс:
– Знаешь, Ржевский, я тоже давно хотел тебе сказать: сначала утоли страсть к женскому полу, а уж после садись чужие стихи читать. Тогда не будет мерещиться эротизм в каждой строчке.
Поручик мог бы вспылить, но вместо этого глубоко задумался.
– Да, – наконец сказал он. – Верно говорят, что поэт – это пророк и провидец, который читает в душах людей, как в газете.
– Это сейчас серьёзно или шутка? – спросил Пушкин.
– Серьёзно, – ответил Ржевский. – Я как есть говорю: провидец ты. Ведь мы с тобой только начали беседу, а ты уж догадался, что я три недели без женщин… скучаю.
Пушкин добродушно рассмеялся.
– Значит, ты не просто так предлагал кутнуть? Насущная потребность?
Ржевский молча кивнул.
– Цыганский табор тут есть поблизости? – спросил Пушкин.
– Конечно, есть! – воскликнул поручик. – И, как назло, никто со мной туда ехать не хочет.
– А что ж ты в одиночку не съездишь?
– Нет. – Ржевский помотал головой. – Одному в табор ездить это всё равно, что одному пить. Дурная привычка. – Он вдруг задумался. – Но ты так и не сказал, отчего тебе теперь приходится кутить с опаской.
Поэт сразу перешёл на шёпот:
– Я же предупреждал: разговор не для чужих ушей. Сейчас расплачусь по счёту, поговорим у меня в номере.
– Лучше в моём номере, – предложил поручик. – А то у меня самый дорогой номер в здешней гостинице и, как назло, нет никого, перед кем похвастаться.
* * *
При появлении Пушкина блеск самого дорогого номера лучшей тверской гостиницы сделался как будто ярче. Ржевскому даже подумалось, что роскошь облагает разумом. Она стремилась завлечь нового гостя, соблазнить его и искусить, неслышно нашёптывая: «В следующий раз остановишься здесь. На цену не смотри».
Посреди гостиной на столе светилась чистейшим янтарём бутылка рейнского вина. Ржевский нарочно заказал бутылку в номер, дабы беседа текла веселее. К тому же половой, принимавший заказ, божился, что это рейнское вино с берегов Рейна, а не из города Кашина Тверской губернии, где некий купец Терликов недавно наладил производство «рейнского».
Бутылка особенно старалась по части соблазнения гостя. Так и сверкала крутыми боками, а обёрнутая вокруг неё белая накрахмаленная салфетка казалась полуснятым платьем, прикрывавшим только ноги. Рядом яблоки на блюде залились румянцем притворного смущения. Пирожные кокетливо выглядывали из серебряной корзинки. Однако Пушкин не обращал на это кокетство никакого внимания. Оглядев обстановку, только и сказал:
– Значит, так здесь выглядит лучший номер. Двухкомнатный. Спальня отдельно от гостиной. Неплохо ты устроился! Кабы мне средства позволяли, я бы здесь остановился хоть разок… А впрочем, смотри-ка!
Пушкин указал на небольшую медную табличку на стене возле входа, которую поручик прежде не замечал. На табличке тонкими красивыми буквами была сделана надпись: «В сем нумере имел удовольствие останавливаться известный поэт Александр Пушкин».
– Выходит, я здесь жил, – подытожил поэт, а Ржевский с досадой подумал, что на этом месте должна быть надпись: «В сем нумере останавливался знаменитый поручик Александр Ржевский». Разве истина не лучше лжи?
«При случае предложу хозяину гостиницы табличку сменить», – решил поручик.
– Вот отсюда и молва, что я мот, – улыбнулся Пушкин.
– А на самом деле ты кто? – спросил Ржевский.
– Да, порой сорю деньгами, – согласился Пушкин. – Но если слушать держателей гостиниц и рестораций, то я только в самых дорогих номерах живу и самые дорогие яства вкушаю.
«А почему моё имя не используют для обогащения? – подумал Ржевский. – Чем я хуже?» Беседа становилась неприятной, поэтому он решил перевести её на другое:
– Ты что-то хотел рассказать.
Пушкин состроил таинственную мину. Подойдя к столу, где стояла бутылка, он отодвинул стул и вальяжно уселся.
Поручик тоже сел. На правах хлебосольного хозяина без лишних предисловий откупорил бутылку и разлил вино по бокалам, а Пушкин провозгласил тост:
– Помянем вольного поэта! Теперь нет его.
– Кого помянем? – нахмурился Ржевский, поставив бутылку на стол и даже не притронувшись к своему наполненному бокалу.
Пушкин вздохнул:
– Вольного поэта. Теперь я раб – должен все мои сочинения представлять на высочайшее одобрение. Самому государю.
– И давно ты раб?
– С сентября.
– Как же так вышло?
– Да как-то вдруг. Сижу я в своей деревне, как мне предписано. Веду себя примерно: вольнодумных стихов не пишу, к бунту не подстрекаю.
– И? – нетерпеливо спросил Ржевский.
Пушкин сделал несколько глотков рейнского, остался доволен вкусом и, поставив бокал, начал рассказывать:
– Числа, кажется, третьего поехал я к соседям в гости. Есть у меня соседка – Прасковья Осипова. Имя у неё простоватое, но сама она весьма утончённая особа. Довольно молода и мила. И дочери её тоже весьма милы. И племянницы. И падчерица.
– А! – Ржевский понимающе кивнул. – Они способствовали твоему порабощению? С женщинами всегда так.
Пушкин помотал головой:
– Нет-нет, дело не в них. Это я так, к слову. В общем, я чудесно провёл время, возвращаюсь под вечер, а у меня в имении ждёт жандармский офицер с предписанием, чтобы я скорейшим образом собирался в Москву.
– А он сказал, для чего тебе в Москву? – спросил поручик.
– Нет, – ответил Пушкин. – Сплошная тайна, как в романе. Поэтому я решил сжечь некоторые бумаги, если вдруг в моё отсутствие проведут в доме обыск. А на заре мы с офицером садимся в мой экипаж и мчимся в Псков в полном молчании. Там офицер передаёт меня с рук на руки фельдъегерю, который тоже ничего не объяснил. Лишь уверил, что беспокоиться не о чем, и даже позволил пообедать в псковском трактире, где мне подали щи с тараканами… ну да ладно. Мчимся дальше – в Москву. И опять в молчании. Одно успокаивало – если я мчусь в своём экипаже, значит, не арестант. Доехали до Москвы вдвое быстрее, чем обычные путешественники. А там оказалось, что меня требует к себе император Николай Павлович.
– Погоди, – задумался Ржевский. – Я слышал, как раз третьего числа в Москве случилась коронация. А тебя вечером третьего числа спешно затребовали в Москву. Зачем торопиться, если на коронацию всё равно не успеть?
– Не знаю, – сказал Пушкин. – Очевидно, такова природа власти. Бывает, власть забывает о нас на годы, а то вдруг: «Подать сюда сию же минуту!» Вот меня и подали императору, сразу по прибытии в Москву доставили во дворец. Даже переодеться не дали, а как есть – в дорожном сюртуке – препроводили в императорский кабинет. Государь беседовал со мной более часа.
– О чём?
– Поначалу о политике. А затем о поэзии, о музах. Но, как видно, когда речь зашла о музах, государь меня не слушал. Или слушал, но не поверил моим словам. Я пытался объяснить, что музы – своевольные создания. Я не могу знать, куда они меня повлекут. – Поэт задумался о чём-то, но в следующее мгновение снова посмотрел на Ржевского. – Государь взял с меня слово, что я больше не позволю музам вдохновлять меня на непристойные стихи. И что я больше не сочиню ничего против правительства.
– А! – Ржевский снова кивнул. – Поэтому ты зовёшь себя рабом?
Пушкин потупился.
– Я сам надел на себя оковы. Ведь государь два раза повторил: «Что же мне с вами делать, господин Пушкин? Не хочется губить в сибирских рудниках такой талант». В общем, я пообещал быть благонамеренным сочинителем, и тогда государь взял меня за руку, вывел из кабинета в общую залу и там как будто заново представил толпе придворных: «Господа, вот вам новый Пушкин. О прежнем забудем».
Ржевский вдруг вгляделся в собеседника пристально:
– А скажи-ка мне, братец, не сочиняешь ли ты сейчас.
– Разумеется, сочиняю. Вот на днях сочинил новое стихотворение…
– Я не об этом. – Поручик продолжал пристально смотреть на собеседника. – Ты историю про приём у императора не сочиняешь?
– С чего ты взял? – Пушкин снова взял в руки бокал и допил оставшееся там вино.
– Ты же сочинитель, Богом в макушку целованный, – пояснил поручик. – Любую фантазию расскажешь так, что поверить хочется! Помнишь, ты мне в Одессе рассказывал о своём приключении с дамой? Якобы гуляли вы по берегу моря, ты ей свои стихи читал, и она от этих стихов так взволновалась, что в ближайших кустах тебе отдалась.
– Не помню, – признался Пушкин. – Что за дама?
– Жена тамошнего губернатора. Лицом – ангел, а повадки, как у молодой кобылки. Мадам Вороная.
– Воронцова, – поправил Пушкин и мечтательно вздохнул. – Да, припоминаю. Елизавета Ксаверьевна… Лизетт…
– Я ж тогда твоей истории поверил! – признался Ржевский. – Даже сам взялся стихи сочинять.
– Зачем?
– Ну, раз они на женщин так действуют…
– Не всякие стихи, – возразил Пушкин.
– Хочешь сказать, что твои действуют? – спросил Ржевский и победно воскликнул: – А вот и нет! Мне сама эта кобылка Вороная…
– Воронцова.
– Короче, она мне рассказала, что на самом деле было.
– И как же тебе удалось завязать столь интимный разговор? – насторожился Пушкин и даже подался вперёд, глядя на собеседника.
– Там не только разговор был интимный, – ответил Ржевский. – Открыла она мне всё. Точнее – открылась вся. Буквально вся.
– Сочиняешь, – уверенно произнёс поэт. – Я бы знал.
– А ты тогда из Одессы отлучился по служебным делам, – язвительно ответил Ржевский, но затем добавил добродушно: – Вот и гадай теперь, сочинил я или нет.
– Сочинил, – со вздохом облегчения произнёс поэт, откинувшись на спинку стула.
– Может, и сочинил, – согласился Ржевский, – но только она мне всё рассказала. Шли вы с ней по берегу моря, она ноги промочила, поэтому пришлось ей разуться и чулки снять. Ты её за голую ножку хвать, но разгуляться не вышло! Ты этой ножкой по носу получил. Лягнула тебя кобылка. Вот и всё приключение.
Пушкин снова вздохнул и потёр нос, будто ещё хранивший память о прикосновении женской ножки.
– Ты сейчас на счёт государя не сочиняешь? – продолжал допытываться Ржевский.
– Можешь в Москве справиться, – сказал поэт. – История о том, как меня принимал император, теперь у всех на слуху. Так что в этот раз я нисколько не сочиняю. Прозябание моё в ссылках вдали от столиц окончено. После приёма у императора мне позволили ещё два с половиной месяца прожить в Москве. Я был обласкан обществом. Но расплата за эти удовольствия – потеря свободы. Государь объявил мне, что будет читать все мои новые сочинения и накладывать резолюцию, годятся ли они для печати. Теперь я раб. – Пушкин чуть подвинул к Ржевскому свой пустой бокал. – Ну что? Помянем мою свободу?
Поручик на правах хлебосольного хозяина вновь наполнил гостю бокал, но тут же провозгласил свой тост:
– Лучше выпьем за встречу. Поминки по свободе отложим до другого раза.
Бокалы зазвенели, ударяясь краями. Друзья выпили, но как только Ржевский потянулся за пирожным, чтобы закусить, то кое о чём вспомнил.
– Поминки по свободе… по свободе, – пробормотал он и хлопнул себя по лбу: – Чёрт! Я же совсем позабыл. Предсвадебные торжества! Вот где настоящие поминки по свободе. – Поручик глянул на каминную полку, на которой стояли часы в золотых завитушках. Стрелки показывали без двадцати три. – Мне надо ехать на званый обед.
– Что за обед? – нахмурился Пушкин. – В кои-то веки встретились два друга, а теперь из-за какого-то обеда…
– Можешь считать, что я тоже раб, – сказал Ржевский. – Я шафер со стороны жениха и должен следовать за ним всюду. Жених каждый день ездит в дом к невесте, а я с ним – для приличия. Вот и сегодня.
– Значит, мы с тобой не кутнём? – спросил Пушкин.
Ржевский испуганно замотал головой:
– Как это? Кутнём! Я на полчаса съезжу, произнесу два тоста, а затем скажу, что живот прихватило, и вернусь сюда. А чтобы ты не скучал, оставляю тебя наедине с этой красавицей. – Поручик указал на открытую бутылку, всё так же обёрнутую салфеткой, похожей на полуснятое платье.
Меж тем дверь в номер открылась. На пороге появился белобрысый слуга Ржевского – молодой Ванька.
– Где тебя носит? – строго спросил поручик. – Рысака запрягай. Мне же в гости ехать. Забыл?
– Всё готово, барин. – Ванька развёл руками.
– А что ж ты молчком ушёл запрягать?
– Так вот пришёл доложить.
– Докладывай.
– Всё готово, барин.
– Едем тогда. Перчатки мои где?
Пока Ржевский искал перчатки, Пушкин прихватил со стола «красавицу» и со словами «я не прощаюсь» отправился к себе в номер.
Стрелки на часах показывали уже без четверти три. Поручик боялся опоздать, поэтому не стал дожидаться, пока Ванька подаст коляску к главным дверям гостиницы. Быстрее было вместе со слугой выйти на задний двор и там, прямо возле конюшни, сесть в экипаж.
Во дворе царила обычная суета. В дальнем углу кто-то колол дрова. К дверям кухни некий мужик подогнал телегу с провизией, а двое поваров проверяли, всё ли привезено. Вот половой, издалека заметный по белому фартуку, вынес из дверей кухни поднос с небольшим дымящимся самоваром, фарфоровым чайником, чашками и какой-то снедью – очевидно, заказ в номер.
– В четырнадцатый? – спросил половой, на мгновение задержавшись возле коридорного лакея, который неизвестно зачем стоял во дворе.
– В пятнадцатый, – последовал небрежный ответ. – Смотри, не забудь по дороге! – А поручик, уже устраиваясь в экипаже, вдруг заметил возле лакея знакомую фигуру дамы в сером.
«Снова она! Это судьба», – подумал Ржевский, наблюдая, как та протянула лакею красненькую бумажку, ассигнацию, а взамен получила три мятых листка. Дама осмотрела каждый лист, вздохнула, страстно прижала листки к груди, а затем принялась аккуратно сворачивать трубкой. Наверное, собиралась убрать в сумочку-мешочек, висевшую на руке.
Ржевский хотел окликнуть даму и спросить, не надо ли подвезти, но Ванька уже цокнул языком и тронул поводья. Поручик вспомнил, что, вообще-то, опаздывает. «Ладно, в другой раз», – подумал он.
Глава вторая,
Воспеть ноябрь так, как это сделал Пушкин, у Ржевского, конечно, не получилось бы. И всё же поручик, сидя в коляске, которая бодро катила по улицам Твери, мыслил поэтическими образами. Ему казалось, что здания, стоя по разные стороны улицы, призывно смотрят друг на друга. Деревья казались до неприличия голыми. Колесо телеги, проехавшей мимо, скрипело так, будто повизгивало от страсти. «Тьфу ты! Опять мерещится всякое», – подумал поручик.
Наконец коляска подкатила к кованым воротам большого особняка, выкрашенного полинявшей голубой краской. Тасенькины родители наняли этот дом на нынешний осенне-зимний сезон. Обычно они проводили холодные месяцы в Москве или Петербурге, но раз уж было решено, что свадьба Тасеньки должна состояться именно в Твери, пришлось обосноваться здесь.
На крыльце, закутанный в осенний плащ, стоял Тасенькин жених – Петя Бобрич – и как раз готовился позвонить в дверной колокольчик.
– Подождите меня, Пётр Алексеевич! – крикнул Ржевский, на ходу выскакивая из коляски. – Вместе пойдём.
Петя прикусил нижнюю губу, отчего фамильное сходство Бобричей с бобрами стало особенно заметным.
– Где же вы были, Александр Аполлонович? Вам бы надо явиться раньше меня, а не позже.
Ржевский задумался:
– Вам, в самом деле, интересно, где я был? Могу рассказать, но на это уйдёт четыре минуты.
– Четыре минуты! – в ужасе воскликнул Петя Бобрич. – Мы и так на две минуты опаздываем.
– Тогда нечего спрашивать, где я был, – поручик пожал плечами и вслед за Петей поднялся по широким ступеням.
Гипсовые гиганты, прилепившиеся к стене справа и слева от двери, как всегда, смотрели пристально. Они лишь делали вид, что поддерживают балкон над парадными дверями, а на самом деле, склонив головы, разглядывали каждого посетителя и будто спрашивали: «Ну что? Опаздываете?»
Петя позвонил в дверной колокольчик.
– Вы всё шутите, Александр Аполлонович, а между тем вам известно, что хозяйка этого дома ценит пунктуальность.
– Знаю, знаю, – отмахнулся Ржевский. – Тут строго, как в казарме.
Хозяйкой дома была княгиня София Сергеевна Мещерская – Тасенькина матушка. Княгиня отличалась высоким, почти гвардейским, ростом и всегда носила белый чепец, будто это униформа, которую нельзя менять. В быту София Сергеевна придерживалась строгой дисциплины, а в разговоре, даже светском, всегда рубила с плеча.
Эта привычка рубить словом вызывала в окружающих ужас и восторг – Софию Сергеевну боялись и любили. Боялись те, кто становился предметом её резких суждений, а любили те, кто предметом таких суждений пока не стал.
Лишь об англичанах и всём, что касалось Англии, княгиня София Сергеевна говорила тепло и без колкостей. За это её называли «англоманка». Правда, Ржевский, впервые услышав это слово на обеде у Мещерских, поначалу ничего не понял.
– Мама у меня англоманка, – сказала Тасенька, рассказывая Пете и Ржевскому о своих родителях.
– Англоманка? – встревожился поручик. – Это вроде лихоманки? Болезнь серьёзная?
– Болезнь? – удивилась Тасенька. – Нет, вы не так поняли.
– Значит, вы не больны?
– Я? – снова удивилась Тасенька.
– Но вы сказали: «Мама, у меня англоманка».
– Я сказала, что у меня мама англоманка.
– Значит, болеет ваша матушка? – сочувственно спросил Ржевский.
Тасенька помотала головой.
– Нет. Если я говорю, что матушка – англоманка, это значит, что она без ума от английской культуры и традиций.
– Без ума?
– В хорошем смысле, – терпеливо пояснила Тасенька. – Англомания – здоровое увлечение, оно не опасно. Если, конечно, знать меру. И почти не заразно.
– Почти? – снова встревожился Ржевский.
По счастью, княгиня София Сергеевна, присутствовавшая за столом, не обиделась, а лишь рассмеялась английским смехом:
– Хо-хо-хо! Болезнь! Надо же!
Князь Иван Сергеевич Мещерский, Тасенькин отец, тоже был по-своему без ума. Без ума от швейцарских сыров. Даже голова князя напоминала головку сыра на белой салфетке – круглое лицо бледно-жёлтого цвета, которое опиралось щеками на белый воротничок.
Иван Сергеевич в своём безумстве зашёл так далеко, что устроил в родовом имении сырный завод, выписал из заграницы швейцарца-сыровара и швейцарских бурёнок. А когда у Мещерских бывали гости, князь старался накормить всех сырами до отвала и светские разговоры вёл только о сырах.
– Вы уже пробовали наш сыр? – спрашивал он нового знакомого. – Вы положили себе мало сыра! – замечал князь гостю во время застолья. – Возьмите с собой в дорогу кусочек, – предлагал Иван Сергеевич при прощании.
Даже Ржевскому, который жил всего в нескольких минутах езды от дома Мещерских, князь однажды пытался дать в дорогу кусок сыра, но княгиня София Сергеевна спасла поручика, а затем, верная привычке рубить словом, пожаловалась на мужа:
– Двенадцать лет назад увлёкся сыроварением, и с тех пор я будто вдова. Ничем не занимается кроме сыра. Двенадцать лет назад я всё-таки успела забеременеть Марией, нашей младшей дочерью. В положенный срок она родилась, но с тех пор у нас с мужем больше не было детей. Думаете, это совпадение? Нет, это не совпадение, это сыроварение. – Княгиня пристально посмотрела на поручика: – А вы говорите «англомания»! Сыроварение, как оказалось, куда опаснее для семейной жизни.
С того времени, как Ржевский познакомился с Тасенькиными родителями, прошло чуть менее трёх недель. И вот поручик снова явился к Мещерским, сопровождая Тасенькиного жениха на очередной обед.
На то, чтобы отдать швейцару лишние предметы гардероба и подняться по широкой парадной лестнице, ушло три минуты, поэтому Ржевский и Петя в итоге опоздали на пять минут. Когда оба вошли в залу, остальные собравшиеся уже готовились сесть за большой овальный стол, блиставший фарфором и хрустальной посудой, в которой отражались огоньки многочисленных свечей. В ноябре даже днём в комнатах было сумрачно.
Как и следовало ожидать, хозяйка дома строго кашлянула, а затем отчеканила на английском что-то вроде «джентльмен юлит», но поручик уже знал, что это значит «господа, вы опоздали».
– Ю а лейт, – уже более членораздельно повторила княгиня Мещерская.
– Да, юлим немножко, – согласился Ржевский. – Мы уж это… мусори… то есть сори… то есть сожалеем.
Петя грустно вздохнул, однако сразу повеселел, когда Тасенька ободряюще ему улыбнулась.
Меж тем Тасенькина бабушка – старушка Белобровкина, без которой не обходилось ни одно предсвадебное мероприятие – подала голос:
– Помню, когда я молода была, за мной сам Казанова ухаживал. И вот однажды условились мы о свидании ночью в саду. Я пришла, а Казанова опоздал. – Слово «опоздал» старушка произнесла с нажимом и продолжала: – Я ему говорю: «Коли в другой раз опоздаешь, можешь вовсе не приходить».
– А он? – спросил Петя.
– Перестал приходить? – спросил Ржевский.
– Нет, не перестал, – ответила Белобровкина. – И опаздывать не перестал. Но каждый раз извинялся так… приятно. – Старушка томно вздохнула. – Я тогда решила: «Пускай опаздывает». Но для виду, конечно, сердилась.
Тасенька лукаво посмотрела на бабушку, а затем – снова на Петю. Тот повеселел ещё больше, но этот обмен взглядами был прерван генералом Ветвистороговым, которого Тасенькины родители уговорили стать посажённым отцом на свадьбе:
– Что-то вы, молодёжь, совсем позабыли о нас, старших. Не кланяетесь даже.
Петя церемонно поклонился всем присутствующим, а Ржевский, делая то же самое, с грустью отметил для себя, что генеральши Ветвистороговой среди гостей нет. В конце сентября она родила генералу очередного мальчика и с тех пор ещё не вполне оправилась, поэтому редко ездила в гости.
Нынешней осенью поручик, оказавшись в Твери, сразу вспомнил, что в декабре прошлого года имел с генеральшей скоротечный роман. Конечно, Ржевскому поначалу явилась мысль: «А вдруг снова повезёт!» Но стоило нанести один визит в дом генерала, и сделалось ясно, что никакого «вдруг» не случится.
– Вы уже сделали для меня всё, что могли, – таинственно сообщила поручику генеральша во время чаепития, когда муж отлучился в другую комнату.
– Ну что вы! – возразил Ржевский. – Ещё далеко не всё! Я могу ещё.
– Нет, не можете, – твёрдо ответила Ветвисторогова.
– Почему вы так думаете? – продолжал возражать поручик. – Если вам кто-то сказал, что Ржевский больше не может, то это бесстыдная ложь и наговоры.
– Я охотно верю, что вы способны осчастливить многих дам, – произнесла генеральша. – Но для меня вы уже достаточно сделали. Я и так счастлива. Кстати, мой сын – рыжий. Прямо как вы. Не скрою, что поначалу это давало пищу для сплетен. Однако прапрадед моего мужа тоже был рыжий.
– Не понимаю, – Ржевский состроил жалобную мину, ведь он и вправду не понимал, почему генеральша не хочет продолжать роман.
– Что ж. Тогда пусть это останется для вас загадкой. – Ветвисторогова пожала плечами.
«Да, осень – неудачное время для амурных дел, – подумал тогда поручик. – Дамы осенью ничего не желают».
* * *
Пусть, к прискорбию поручика, на обеде не было генеральши, но зато присутствовала другая дама. Брюнетка с довольно пышными формами – женщина той степени зрелости, когда вот-вот начнёт вянуть. К тому же бездетная вдова.
Казалось бы, в её положении следовало вкушать радости любви, пока ещё возможно, но дама эта, как и многие подобные ей, поступала ровно наоборот. Несмотря на то, что сроки траура и полутраура давно прошли, она носила только тёмные платья, и вообще ограничила себя строгими правилами, от которых сама же страдала, так что на её лице, как и у большинства подобных особ, сохранялось выражение смутного недовольства. Губы чуть поджаты, брови чуть сдвинуты, взгляд колючий.
Её звали Анна Львовна Рыкова. На Тасенькиной свадьбе она исполняла роль посажённой матери, и получилось это вовсе не случайно. Тасенькины родители долго уговаривали Анну Львовну оказать им честь, ведь эта дама занимала в тверском обществе особое положение. Она уже много лет возглавляла местный поэтический клуб – организацию очень влиятельную.
Поначалу двери клуба были открыты для всех, кто принадлежал к дворянскому сословию, но под началом Анны Львовны это сообщество стало чисто женским. Мужчины покинули его, и казалось, что клуб захиреет, но случилось иначе – он вступил в пору своего наивысшего расцвета!
Сделавшись чем-то вроде женской масонской ложи, куда мужчины не допускались, клуб обрёл в городе огромное значение – начал влиять на сферы, никак не связанные с поэзией. Если в недрах клуба рождалось мнение, то уже на следующий день (в крайнем случае, через два дня) это мнение начинали разделять многие тверские дамы. Даже те, которые в клубе не состояли. А через них мнение быстро овладевало умами мужской части города.
Тасенькину репутацию, подпорченную прошлогодней историей с Ржевским, нельзя было восстановить одной лишь вестью о свадьбе с младшим Бобричем. Требовалась помощь Анны Львовны, дабы известие хорошо приняли.
Конечно, Тасенькина матушка, княгиня Мещерская, тоже заметно влияла на умы благодаря своей привычке говорить прямо, но это не шло ни в какое сравнение с могуществом председательницы поэтического клуба. Перед Анной Львовной княгиня Мещерская преклонялась и всегда говорила о ней с теплотой – так же, как об англичанах и Англии.
Семейство Бобричей, понимая значение этой дамы-поэтессы, тоже трепетало перед ней. Глава семейства, Алексей Михайлович Бобрич, даже сказал Ржевскому:
– Не дай вам Бог не понравиться этой даме.
– Понял, – ответил поручик. И с того дня делал всё, чтобы понравиться Анне Львовне, то есть принялся ухаживать за ней.
Правда, вскоре выяснилось, что Ржевский понял не так. Алексей Михайлович не это имел в виду и лишь хотел, чтобы поручик вёл себя любезно. Однако отступать было поздно.
– Нет, Алексей Михайлович, – возразил Ржевский в ответ на предложение аккуратно свернуть неуместные ухаживания. – Если я теперь отступлю, госпожа Рыкова решит, что недостаточно мне понравилась.
– Ей всё равно. Она ведь не приняла ваших ухаживаний.
– Ничего вы не понимаете, – продолжал возражать поручик. – Она из той породы дам, которые никаких ухаживаний не принимают, но если видят, что поклонник отступился, то обижаются смертельно. А если госпожа Рыкова обидится, то не только на меня, но и на вас всех.
– На всех нас? – удивился старший Бобрич. – За что?
– За то, что вы её со мной познакомили, – пояснил Ржевский. – Она тогда всем нам жизнь испортит.
Алексей Михайлович вздохнул.
– Ох, во что же вы нас втянули…
– А нечего так двусмысленно выражаться! – парировал Ржевский. – Вы же сами сказали, что я должен понравиться госпоже Рыковой. Теперь я обязан продолжать ей нравиться.
И вот поручик, снова явившись в дом Мещерских, встретил там Анну Львовну, поэтому вместо приветствия отпустил комплимент:
– Мадам, видя вас, я вспоминаю о латыни.
Рыкова нахмурилась.
– И что у меня с ней общего? Латынь – древний язык. А я разве древняя?
– Конечно, нет, мадам! – с чувством произнёс Ржевский. – Латынь напоминает мне вас, потому что я никогда ею не овладею.
Анна Львовна ответила снисходительной улыбкой и, наконец, все сели обедать.
Князь Мещерский обосновался во главе стола, с торца. Княгиня Мещерская – на противоположном конце, создавая впечатление, что во главе сидит именно она, а не номинальный хозяин дома. По правую руку от хозяйки сидела Анна Львовна, далее с той же стороны – Ржевский.
Поручик тут же положил себе на колени салфетку и начал старательно разглаживать. Так старательно, что провёл ладонью левой руки не только по своему колену, но и по колену сидевшей рядом Анны Львовны. Разумеется, он сделал это неслучайно.
– Простите, мадам, – с нарочитым смущением сказал поручик, а Рыкова всё так же снисходительно улыбнулась и ответила:
– Ничего.
Если бы на нынешнем обеде присутствовал Алексей Михайлович Бобрич, то не удержался бы от тяжкого вздоха – уж очень опасную игру вёл поручик. Однако Ржевский полагал, что опасности нет. Он собирался оказывать знаки внимания Анне Львовне вплоть до окончания свадебных торжеств, после чего «с разбитым сердцем» отбыть к себе в деревню.
«Авось со временем всё забудется, – думал поручик. – Не стану же я каждый раз по приезде в город изображать влюблённого в мадам Рыкову! А даже если не забудется, то что? Что эта мадам сможет сделать после того, как свадьба Тасеньки состоится и мнение общества устоится? Да ничего!»
* * *
На первое был сырный суп по швейцарскому рецепту. Ведь надо было куда-то девать сыр, который в родовом имении князей Мещерских производился в огромных количествах – тысяча пудов в год. Наибольшую часть продавали, но ещё оставалось, чтобы накормить всех желающих и нежелающих.
В обычное время Ржевский мог бы признаться, что сыт по горло сырами и блюдами из сыра, но приходилось вести себя прилично, то есть чавкать с нарочитым удовольствием. Ведь от этого зависела судьба Тасеньки.
К тому же Рыкова, от которой тоже зависела судьба Тасеньки, искренне любила сырные супы. Анна Львовна, сидя по левую руку от поручика, с удовольствием черпала ложкой светло-жёлтую тягучую субстанцию.
Старушке Белобровкиной, сидевшей по другую руку от поручика – между ним и князем Мещерским, суп тоже нравился.
– Ванечка, – обратилась старушка к князю Ивану Сергеевичу. Пусть ему было уже за пятьдесят, но как ещё обращаться матери к сыну!
– Что, матушка? – откликнулся князь.
– Я всё забываю, который сыр ты хочешь подать к свадебному столу на десерт. Эмменталь?
– Нет, будет слишком обыкновенно, – ответил князь. А вот Ржевский не считал обыкновенным сыр с такими огромными дырами, что можно палец просунуть. При первом знакомстве с эмменталем поручик решил, что сыр наполовину съеден мышами, но оказалось, что всё в порядке, так и надо.
А позднее оказалось, что и в других сырах, которые делались в имении Мещерских, всегда было что-нибудь странное для несведущей публики, и с этими странностями поручик не мог смириться, хоть и пытался.
– А который тогда? – выспрашивала Белобровкина. – Лимбургер?
– Это то, что мы вчера ели? – уточнил Ржевский. – Воняет, как пропахшая потом рубаха… – Он по-прежнему старался вести себя прилично и, спохватившись, добавил: – То есть это не я так думаю. Я с приятелем делился впечатлениями, и приятель мне сказал, что лимбургер воняет.
Князь вздохнул.
– Для одних – как потная рубаха, а для других – как туника разгорячённой нимфы.
– Лучше не надо тунику на стол, – посоветовал поручик. – Пусть даже тунику нимфы.
Белобровкина продолжала предлагать:
– А если подадим зелёный?
Для Ржевского это было уже слишком.
– Нет! – решительно произнёс он. – Только не зелёный. Общество вас не поймёт.
Белобровкина пожала плечами:
– Так ведь он зелёный не из-за плесени, а потому что в него ароматную траву добавляют.
– Да, ростки молодого пажитника, – отозвался князь.
– И вы станете объяснять это каждому гостю? – спросил поручик. – Дескать, сыр зелёный не оттого, что испорчен.
– Ох, – вздохнул князь и посмотрел на супругу, сидевшую на другом конце стола, – вот в такие минуты я сожалею, моя дорогая, что твой брат оставил должность тверского губернатора. Сколько он делал для просвещения здешнего общества! В том числе гастрономического просвещения! Вся западная Европа ест зелёный швейцарский сыр, а мы, претендующие на то, чтобы зваться европейцами, отторгаем его в силу невежества.
Княгиня Мещерская, урождённая Всеволожская, конечно, тоже сожалела, что её брат Николай Всеволожский, много лет занимавший пост губернатора Твери, уже не занимает его. А поскольку княгиня привыкла говорить прямо, то и в этот раз не изменила себе.
– Мой брат не сам оставил должность, – произнесла она. – Его вынудили уйти. Из-за либеральных взглядов. А он мог бы принести ещё много пользы здешнему краю. Это всё декабрьское восстание! Из-за кучки глупцов с Сенатской площади множество прекрасных людей лишилось своих постов, потому что либерализм больше не в почёте.
Генерал Ветвисторогов, сидевший возле князя, напротив Белобровкиной, подал голос:
– Совсем вы свои нервы не бережёте, княгиня. К чему эти волнения о прошлом? Что свершилось, того не изменить. А то, что брат ваш потерял должность, может, и к лучшему. Иначе он бы вконец разорился, устраивая балы и маскарады для здешнего дворянства. Спору нет – праздники были хороши. Но сколько своих средств ваш братец на них потратил! А теперь поживёт в тишине и спокойствии, литературой займётся. Он ведь давно хотел ею заняться?
– Вы правы, генерал. – Княгиня вздохнула. – Иные губернаторы на своих должностях богатеют день ото дня, потому что воры. А моему брату эта должность не принесла ничего кроме расходов. Посмотрим, кем окажется наш новый губернатор, этот Борисов. – Княгиня обернулась к Рыковой, сидевшей справа от неё: – Анна Львовна, я слышала, что на него эпиграмму сочинили.
Председательница поэтического клуба сразу встрепенулась и позабыла про сырный суп:
– Верно. Мне приносили её список.
– И как?
– Бестактно и грубо.
Ржевский задумался:
– Мадам, простите моё невежество. Но разве эпиграмме присущи такт и вежливость?
Рыкова фыркнула.
– Если вы не понимаете, то я не смогу вам объяснить. Человек, обладающий литературным вкусом, сам чувствует, что уместно, а что нет. Вы, как видно, не чувствуете.
– Как я могу чувствовать, когда не читал! – в своё оправдание ответил Ржевский. – И даже не знаю, что это за сочинитель, который над губернатором насмехается.
Рыкова снисходительно посмотрела на поручика и произнесла:
– Это господин Измайлов Александр Ефимович. Вице-губернатор, хотя формально в должность ещё не вступил.
– А! – протянул поручик, чтобы хоть что-нибудь сказать.
Анна Львовна продолжала:
– Господин Измайлов мнит себя поэтом. Совсем недавно приехал в город и уже успел сочинить несколько эпиграмм. Не только на губернатора, но и вообще на всех, с кем познакомился. – Она ехидно добавила: – Поэтому знакомиться с господином Измайловым никто больше не стремится. Никому не хочется стать героем эпиграммы. Особенно если она дурно написана.
– А что вы мне советуете? – спросил Ржевский. – Читать эти эпиграммы или не читать? Как скажете, так и сделаю.
Рыкова опять посмотрела на поручика снисходительно, но теперь её губы растянулись в довольной улыбке. Власть, как и следовало ожидать, доставляла Анне Львовне удовольствие.
– Конечно, не читать.
– Повинуюсь, – сказал Ржевский.
Рыкова снова улыбнулась и вдруг сообщила:
– Я слышала, Пушкин в городе. Вот один из немногих поэтов нашего времени, который пишет вполне достойно. Но с ним в отличие от этого ужасного Измайлова не познакомиться.
Тасенька, всё это время сидевшая молча, встрепенулась:
– Почему?
Анна Львовна охотно пояснила:
– Пушкин остановился в гостинице, а визитов никому не делает. Если бы он кому-то нанёс визит, я была бы там. – Рыкова тут же смутилась из-за своей откровенности: – Не подумайте, что я способна бегать за молодым человеком, чтобы искать знакомства, но Пушкин…
– Так я же его знаю! – спохватился Ржевский.
Председательница поэтического клуба отнеслась к этой новости равнодушно:
– Ещё бы вы его не знали! Пушкин – это такая фигура, которую все знают. Любой мало-мальски образованный человек знает Пушкина. Я нисколько не удивлена, что даже вы читали его стихи.
– Вообще-то, я очень мало читал, – ответил поручик.
Рыкова нахмурилась.
– И так откровенно в этом признаётесь? Здесь нет повода для гордости.
Тасенька, как видно, решила выручить Ржевского:
– Александр Аполлонович, я уверена, что вы преуменьшаете, то есть читали не так уж мало.
– Да мне не было нужды их читать. – Поручик пожал плечами. – Пушкин мне сам свои стихи читал.
Вот теперь новость произвела эффект. Все за столом недоумённо воззрились на Ржевского. Даже Петя Бобрич – самый молчаливый участник застолья – не выдержал:
– Как это сам? – пробормотал он. – То есть вы лично знакомы с Пушкиным? Не с его творчеством, а с ним самим?
– Ну да. – Поручик снова пожал плечами. – Я его вот уже несколько лет знаю. И не просто знаю – мы добрые друзья. А познакомились, когда я ещё в Мариупольском полку служил.
– Не может такого быть! – твёрдо произнесла Рыкова. – Мне кажется, вы преувеличиваете, чтобы произвести впечатление.
– Не верите? – Ржевский вздохнул. Он сразу вспомнил своё неудачное знакомство с дамой в сером, которую встретил в гостинице. Та особа тоже была убеждена, что поручик врёт ради того, чтобы зазвать её на кофе.
Меж тем никто кроме Рыковой не спешил усомниться в словах поручика, но и выразить уверенность, что Ржевский говорит правду, общество тоже не спешило. Даже Тасенька. Минуту назад она и так уже позволила себе лишнее – возразила Рыковой, забыв, что от благоволения этой дамы многое зависит.
Остальные тоже не хотели сердить Анну Львовну, поэтому просто ждали, что Ржевский скажет, хотя был только один способ доказать, что дружба с Пушкиным – не выдумка и не преувеличение.
– А хотите, я Пушкина сюда привезу? – предложил поручик. – Вот сейчас поеду и привезу.
Через мгновение он сообразил, что нечаянно погубил свои же планы. Ведь Ржевский обещал Пушкину пробыть на обеде совсем недолго, а затем сказать, что живот прихватило, и откланяться. Друзья собирались вместе навестить цыганский табор. А теперь как? Но идти на попятную было уже нельзя. Да и Тасенька так взволновалась, что ответила вперёд Рыковой, успевшей только рот открыть.
– Конечно, Александр Аполлонович, – затараторила Тасенька. – Если бы господин Пушкин согласился заглянуть к нам, это было бы чудесно. Помните, вы спрашивали, что я желаю в подарок на свадьбу, а я ответила, что ничего не нужно? Но если бы вы устроили мне знакомство с Пушкиным, это был бы такой подарок, что лучшего и желать невозможно. Поэтому если бы…
Наткнувшись на недовольный взгляд Рыковой, Тасенька смутилась и замолчала, а Анна Львовна изрекла:
– Как посажённая мать я должна заметить, что столь бурные восторги для невесты уместны лишь в отношении жениха. А в отношении всех прочих мужчин это неприлично.
Тасенька смутилась ещё больше.
– Но это же Пушкин, – осторожно произнёс Петя.
– Всё равно неприлично, – отрезала Анна Львовна.
– Пушкин – неприлично? – удивился Ржевский. – Может, тогда не надо его сюда везти? А то мало ли… кто-нибудь что-нибудь подумает.
Рыкова снисходительно улыбнулась, и произнесла, будто царица, оказывающая милость:
– Ну отчего же не надо? Надо. Но познакомьте Пушкина сперва со мной, а с нашей Тасенькой – в последнюю очередь. Так лучше для репутации невесты.
– Повинуюсь, – ответил поручик, вставая из-за стола.
* * *
Всю дорогу до гостиницы Ржевский решал, как объяснить Пушкину внезапную перемену в планах. Хотели в табор, а вместо этого придётся сидеть на обеде в приличном обществе и вести скучные светские разговоры. Пушкин, конечно, не будет рад. Он такими визитами ещё в Москве пресытился.
«А может, ещё успеем в табор? – думал поручик. – Посидим полчаса, скажем, что живот прихватило. Да, у обоих одновременно. Разве не бывает? В общем, откланяемся, и из дома Мещерских рванём сразу в табор».
Ржевский уже шагал по гостиничному коридору, когда решил, что предложит Пушкину этот новый план. Вот и дверь номера, где остановился друг. Однако стоило войти, как первые слова заготовленной речи застряли у поручика в горле.
В номере царил разгром, как если бы там провели обыск, ничего не нашли и провели ещё один. Ящики секретера были выдвинуты, а также все ящики комода и шкафа. Раскрыты были и дорожные чемоданы. Содержимое валялось на полу, на кровати, на подоконниках, на каминной полке – словом, везде, а посреди этого хаоса в кресле сидел Пушкин, схватившись за голову.
У ног поэта на ковре лежала красавица-бутылка рейнского, совершенно опустошённая, а позади кресла стоял высокий пожилой слуга с гладко выбритыми щеками – Никита, всегда сопровождавший Пушкина в поездках. Очевидно, Никита уже не в первый раз повторял:
– Зачем так убиваться, Александр Сергеич? Может, ещё найдутся.
Пушкин, услышав звук открывающейся двери, медленно поднял взгляд.
– Что случилось? – спросил Ржевский.
– Я погиб, – ответил поэт, продолжая держаться за голову.
– А отчего погиб-то?
– Они пропали.
– Кто «они»? – не понял поручик.
– Не кто, а что, – пояснил Пушкин, уронив руки на колени. – Черновики.
– Что за черновики?
– Записи, изобличающие меня в том, что я бунтарь.
– Что ты бунтарь – это и так все знают, – заметил Ржевский, подойдя поближе.
– Нет, ты не понимаешь, – в отчаянии произнёс Пушкин, вскочил с кресла и начал перерывать бумаги, валявшиеся на откидной столешнице секретера. – Ну почему пропали именно эти три листка?! Почему именно они?! Боже!
– А что было на этих листках? – продолжал выяснять Ржевский.
– Послание в Сибирь, – сказал поэт.
– В Сибирь? У тебя там есть знакомые?
– Да, и много.
– Когда же ты успел завести столько знакомств? – всё ещё не понимал поручик. – Ты ведь в Сибири не бывал.
– Зато я вращался в кругу бунтарей, которые в декабре прошлого года вышли на Сенатскую площадь, – с грустной улыбкой ответил Пушкин. – Теперь бунтари сосланы в Сибирь, а у меня в Сибири появилось много знакомых.
– Вот оно что.
– И я, дурак, решил отправить им послание.
– Но что в нём сказано?
– Там сказано: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье», – процитировал поэт и добавил: – Я сам на себя беду накликал.
– Почему же? – спросил Ржевский.
– Я в том послании назвал себя свободным. Вот и сглазил. – Пушкин снова принялся цитировать: – Там было: «В ваши каторжные норы доходит мой свободный глас». Свободный… Ха! Если это послание окажется не в тех руках, тогда моя свобода, и так уже ограниченная, обратится в ничто.
– Тебя опять принудят безвыездно жить в деревне? – уточнил поручик.
– В Сибири я буду жить! – воскликнул Пушкин. – На рудниках! Но вряд ли проживу долго.
Ржевский не поверил:
– Да брось! Сколько, говоришь, было листков? Три? И на этих трёх листках ты умудрился накропать столько, что довольно для каторги?
– Представь себе!
Представить было трудно. Ржевский почесал в затылке:
– Погоди. А как же появилось это послание? Ты же сам рассказывал, что обещал государю не сочинять ничего против правительства.
– Да, обещал, – нехотя отозвался поэт.
– А теперь рассказываешь, что всё-таки сочинял.
– А помнишь, что я тебе говорил о музах? – спросил Пушкин. – Это своевольные создания. Я не могу предугадать, куда они меня повлекут. И не могу противиться. – Он бросил перебирать листки, валявшиеся на секретере, и опять плюхнулся в кресло: – Нет, это не музы, а коварные сирены. Они завлекли меня на гибель!
– Погоди-погоди, – перебил Ржевский. – Твои черновики с посланием кто-то украл? Или они просто потерялись?
– Не знаю! – крикнул Пушкин и снова схватился за голову. – Ещё два часа назад, когда я ушёл в ресторан обедать, они лежали здесь, на секретере. А когда я вернулся после нашей с тобой встречи, их уже не было.
– И ты обыскал всю комнату?
– Всю! Сам видишь. Я надеялся, что эти листы унесло сквозняком куда-нибудь или я сам сунул куда-то по рассеянности. Но нет. Их нет нигде!
Слуга Пушкина – пожилой Никита – подал голос:
– Батюшка Александр Сергеич, да не убивайся ты так! Под секретером-то мы ещё не искали.
Никита кинулся к секретеру и, несмотря на почтенный возраст, ловко бухнулся на колени, а затем и вовсе распластался на ковре, чтобы шарить рукой в тёмной щели под мебелью.
Пушкин и Ржевский целую минуту напряжённо следили за действиями слуги, а тот вдруг просветлел лицом, как если бы что-то нашёл.
– Ну? – не выдержал поэт.
Никита вытащил из-под секретера листок, а Пушкин торопливо схватил находку, но сразу отбросил и чуть не плюнул с досады:
– Это счёт одного из прошлых постояльцев.
– Больше ничего там нету, – виновато произнёс Никита, вставая с ковра, и развёл руками. – Ты уж прости, батюшка Александр Сергеич.
Пушкин молча вскочил с кресла и одним резким движением отодвинул секретер от стены. Ведь бумаги могли оказаться не под секретером, а за ним.
– Ничего кроме пыли, – подытожил поэт и обречённо вздохнул. – Значит, эти три злосчастных листка украдены. Они не могли просто исчезнуть. Но кто их украл? И зачем? Неужели у меня в Твери есть враги? Что же делать?
– В полицию обратиться, – предложил Ржевский.
Пушкин посмотрел на него в ужасе.
– Нет! Полиция не должна знать. Ведь в этих черновиках бунтарские идеи. И написано всё моей рукой. Это равносильно приговору. Что же делать?
– Ну, если в полицию нельзя, тогда я знаю, кто нам поможет, – уверенно произнёс Ржевский. – Собирайся. Едем.
– В табор? – спросил Пушкин и задумчиво добавил: – Можно и туда. Пускай цыганка карты раскинет. Авось подскажет, где искать рукопись. Или нагадает мне дальнюю дорогу… в Сибирь.
– Нет, – возразил поручик. – Нам не в таборе надо помощь искать.
* * *
Через четверть часа коляска, в которой сидел Ржевский вместе с Пушкиным, подкатила к крыльцу особняка, выкрашенного полинялой голубой краской. Гипсовые гиганты справа и слева от дверей всё так же пристально разглядывали посетителей и будто спрашивали: «Кто это явился?»
Ржевский первым выбрался из коляски, взбежал по ступеням и позвонил в дверной колокольчик. Пушкин встал рядом.
Всю дорогу поэт молчал – даже не спросил, куда лежит путь. Да и теперь, стоя на крыльце, не спрашивал, кому принадлежит жилище. Вместо этого нёс околесицу.
– Знаешь, – сказал он Ржевскому, – человек перед лицом опасности порой обретает необычайную остроту восприятия. В такие минуты он может постичь все тайны мира или даже увидеть будущее. Я сейчас ощущаю в себе нечто подобное.
– Что? – оживился поручик. – Ты знаешь, где искать рукопись?
– Нет, – ответил Пушкин. – Но вот смотрю на этот мрачный дом, и мне кажется, что здесь должна жить старая графиня.
– Ошибаешься. Здесь живут князь и княгиня Мещерские.
– А должна бы жить графиня, – задумчиво повторил Пушкин.
Дверь открылась, швейцар впустил гостей в переднюю, принял у них головные уборы – цилиндр и гусарский кивер, – после чего предложил проследовать наверх.
Путь наверх, по широкой парадной лестнице, был довольно долог, и Ржевский воспользовался этим, чтобы продолжить разговор:
– А что за графиня, по-твоему, должна здесь жить?
– Старая графиня, которая обладает тайным знанием.
– Тайным знанием?
– О том, как выигрывать в карты. Скажет она, например, что при игре в фараон тебе надобно ставить на тройку, семёрку и туза… И ты выиграешь, если послушаешь совета.
Ржевский внимательно посмотрел на товарища:
– На вид не пьян. Но, судя по всему, рейнское подействовало. Сколько оставалось в той бутылке? Половина? А тебя эдак развезло!
– Рейнское ни при чём, – возразил Пушкин. – Но сейчас, когда судьба моя висит на волоске, мне приходят странные идеи о моём будущем. К примеру, что я мог бы сочинять прозу.
– Прозу? – удивился Ржевский. – Ты же поэт. Не дури.
– О графине повесть вышла бы недурная, – возразил Пушкин, но привести доводов не успел, потому что лакей открыл перед ним двери обеденной залы.
За столом как раз доедали очередное блюдо – печёную телятину, почти скрытую под слоем растопленного сыра. «Опять сыр», – подумал Ржевский, стараясь не морщиться, но душевная борьба на его лице осталась незамеченной. Все смотрели на Пушкина.
Пушкин в свою очередь оглядел собрание, ничего не понимая, ведь поручик так и не объяснил, зачем привёз друга сюда.
Первой опомнилась хозяйка дома, то есть Тасенькина матушка.
– Оу! – воскликнула она на английский манер. – Не может быть! Князь, посмотри, кого к нам привёз Александр Аполлонович. Такая честь для нас! Скорее встречай гостя.
Князь Иван Сергеевич послушно отложил вилку и нож, а затем с приветливой улыбкой произнёс:
– Рад видеть в нашем доме. Весьма рад. Надеюсь, вы – любитель сыра?
Обходя стол и направляясь к дверям залы, Иван Сергеевич приостановился возле жены и тихо спросил:
– Душенька, а кто к нам приехал? Что-то я его не узнаю.
Княгиня Мещерская ответила громко и сердито:
– Ах ты, сырная голова! Разве не помнишь, о чём мы здесь говорили менее часа назад? Это же Пушкин к нам приехал. Сам Пушкин!
– А! – протянул князь. Он подошёл к Пушкину и повторил: – Весьма рад.
Хозяин и гость пожали друг другу руки, а затем Ржевский повёл Пушкина вокруг стола, представляя всем присутствующим: княгине Софии Сергеевне, Анне Львовне Рыковой и прочим.
Когда Пушкин прикладывался к руке Тасенькиной матушки, поручик на всякий случай предупредил:
– Княгиня Мещерская страдает англоманией, но, как меня уверили, это почти не заразно.
Княгиня расхохоталась по-английски:
– Хо-хо-хо! Александр Аполлонович всё шутит.
Затем настал черёд старушки Белобровкиной. Поэт долго не отпускал её сухонькую руку, вглядывался в морщинистое лицо и вдруг пробормотал едва слышно:
– Нет, плохая из неё графиня, – но Белобровкина вопреки своей глухоте расслышала.
– Из меня плохая графиня? С чего это?
Ржевский решил, что и здесь должен предупредить. Правда, он не знал, как назвать состояние Пушкина, которое подметил ещё на лестнице, – когда вроде пьян, а вроде и нет:
– Не обращайте внимания. У господина Пушкина… временное помешательство. День и ночь занимается сочинительством, вот голова и устала. Но не волнуйтесь. Это не опасно. Только временами бред начинается. О какой-то графине. Вы на свой счёт не принимайте.
– Как же не принимать? – обиженно возразила Белобровкина. – Я ведь – графиня.
– Графиня? – переспросил Пушкин. – Невероятно!
– Но вы же – матушка князя, – заметил Ржевский. – Стало быть – княгиня. Или запамятовали?
Белобровкина обиделась теперь уже на поручика:
– А ты думаешь, я из ума выжила? Я всё помню. Когда выдали меня за князя Сергея Васильевича Мещерского, я княгиней стала, но тот уж очень рано умер. Мне всего-то двадцать девятый год шёл. Я погоревала, конечно, но затем подумала: «Отчего снова замуж не выйти?» И вышла за графа Белобровкина. С тех пор я графиня. И даже после смерти графа осталась графиней, потому что ни за кого больше не вышла. Так-то вот!
– Невероятно! – повторил Пушкин. – И прошу простить меня. Я ничего дурного не хотел сказать. Просто я задумал повесть о графине…
– А обо мне ничего не хотите сочинить? – встряла Анна Львовна.
Поэт посмотрел на неё, будто вглядывался в своё туманное будущее, но ничего там не увидел. Не желая обижать даму, он ответил:
– Возможно, позже.
– То есть не хотите? – не отставала Рыкова. – Даже стихи? Что-то вроде «Пред богинею колени робко юноша склонил…»
Пушкин сразу узнал своё сочинение:
– Вам понравилась моя «Прозерпина»?
– Местами, – ответила Рыкова. – Я бы дала вам, юноша, несколько советов, как её улучшить.
– Возможно, позже, – повторил поэт, явно потеряв к Рыковой всякий интерес.
На лице Анны Львовны появилось недовольное выражение. Беседа могла кончиться плохо, но Белобровкина снова перетянула внимание на себя:
– Так о чём, говоришь, повесть-то твоя?
– О графине.
– А повесть страшная?
– Вы угадали.
– Повесть о графине… Значит, в этом графине ядовитый напиток, – уверенно заключила Белобровкина.
– Нет-нет, я имел в виду графиню, не графин, – поправил Пушкин, но старушка не слушала и начала ворчать:
– Ох уж нынешние сочинители! Всё время у них страсти какие-то. То травят кого-то, то душат, то топят.
– Или всё же она, – пробормотал поэт.
– Что-то не очень любезен твой Пушкин, – продолжала ворчать Белобровкина, обращаясь к Ржевскому. – И вином от него пахнет.
За Пушкина вступился генерал Ветвисторогов:
– Графиня, вы слишком строги. Почти не пахнет, – сказал он. – А вот от Ржевского в былые времена так пахло, будто он нарочно пил, чтобы винным духом всех приличных людей от себя отпугивать.
Поручик поспешил представить Пушкина генералу, пока не всплыли новые подробности, а затем повёл поэта дальше вокруг стола – к Пете Бобричу.
Тасеньку познакомили с гостем последней, как велела Рыкова, но теперь Ржевский полагал, что это всё только кстати.
Едва Пушкин обменялся любезностями с «барышней», как поручик воскликнул:
– Нет! Здесь беседовать неудобно! – и, отодвигая Тасеньку от стола вместе со стулом, подмигнул Пушкину. – Пойдёмте вон в тот дальний угол, сядем в кресла.
Общество пришло в движение – даже князь, уже успевший вернуться к еде, но поручик сразу остановил всех, кто ему был не нужен.
– Нет-нет, – нарочито любезно сказал Ржевский. – Не смею отрывать вас от трапезы. Продолжайте кушать. А мы с Таисией Ивановной и с господином Пушкиным немного побеседуем вон там в уголке и сразу к вам присоединимся.
Анна Львовна оставаться за столом не хотела.
– Я бы тоже побеседовала с вами… то есть с Пушкиным, – сказала она, однако Ржевскому это портило весь план.
– Дражайшая, любезнейшая Анна Львовна, – сказал поручик, бросаясь к Рыковой и придвигая её стул плотнее к столу. – Я хотел всё же преподнести свадебный подарок Таисии Ивановне и подарить ей пять минут наедине с Пушкиным… ну почти наедине. Вы ведь добрейшее существо, и вообще ангел, – продолжал он, удерживая стул, чтобы дама не могла встать. – Вы, конечно, разрешите мне сделать этот небольшой презент невесте.
– А жених не возражает? – ехидно спросила Анна Львовна.
Петя Бобрич был растерян, поэтому просто развёл руками и пожал плечами. Тасенька тоже немного растерялась. Однако Ржевский своими уверенными действиями всё же добился цели: Анна Львовна вернулась к трапезе, а он сам, Тасенька и Пушкин расположились в креслах в дальнем углу обеденной залы, где можно было вести беседу, которую никто не подслушает, если говорить приглушённо.
Тасенька несколько мгновений смотрела на Пушкина, будто на чудо.
– Александр Сергеевич, – взволнованно начала она, – позвольте мне выразить восхищение вашим талантом. Хоть вам и говорили сто раз…
Ржевский кашлянул.
– Это всё после, – тихо и строго сказал он. – Таисия Ивановна, разговор сейчас будет серьёзный.
– О чём? – так же тихо спросила Тасенька.
– Вы ведь хотели познакомиться с Пушкиным?
– Да.
– Я вас познакомил. Вы довольны?
– Конечно, – пробормотала Тасенька.
– Тогда не откажите в просьбе.
– Но что я могу для вас сделать?
– У Александра Сергеевича пропала рукопись. Всего три листка, но чрезвычайно важных. Содержание рукописи таково, что в полицию заявлять нельзя. А если рукопись окажется не в тех руках, Александр Сергеевич может угодить на сибирскую каторгу.
Поэт, всё это время молча слушавший диалог Тасеньки и поручика, решил вмешаться:
– Погоди, Ржевский. Зачем этой милой барышне знать о нашем деле?
– Барышня поможет нам найти рукопись, – пояснил Ржевский.
– Я? – удивилась Тасенька.
– Она? – удивился Пушкин.
– Да, – уверенно ответил поручик. – Таисия Ивановна в таких делах имеет большой опыт. Прошлой зимой помогла предотвратить убийство важного чиновника. Минувшим летом помогла мне отыскать пропавшую крепостную. Вот и пропавшую рукопись отыщет. Думаю, за пару дней это дело распутает. Таисия Иванова у нас умница.
– Вы меня переоцениваете, Александр Аполлонович, – сказала Тасенька. – Я даже не знаю, с чего начать. Может, вам обратиться к кому-то другому?
– Не к кому нам обратиться, – заверил её Ржевский. – Частный сыщик в любом случае с полицией связан. Может донести. Нам нужна особа, которая при любых обстоятельствах будет действовать в интересах Александра Сергеевича. И эта особа – вы, ведь так восхищаетесь его талантом и так хотели познакомиться.
– Но я… не могу, – чуть запинаясь, проговорила Тасенька.
– Вам что, безразлична судьба Александра Сергеевича? – спросил поручик.
– Разумеется, нет! – с жаром возразила Тасенька, но тут же притихла, оглянувшись на тех, кто сидел за столом. – Я прекрасно понимаю, что если такой поэт, как Пушкин, окажется в Сибири, русская литература понесёт невосполнимую утрату.
– Вот! – Ржевский многозначительно поднял указательный палец. – Русскую литературу спасать надобно, Таисия Ивановна. А вы упираетесь.
– Я вовсе не упираюсь, – возразила Тасенька. – Но вы должны меня понять: я невеста в круговороте предсвадебных хлопот. А для того, чтобы искать рукопись, я должна поехать с вами туда, где она пропала. Но как я поеду? Кто меня отпустит? Это ведь скандал, если я уеду с двумя мужчинами, пусть даже один из них – шафер.
Очевидно, Тасенька надеялась объяснить Ржевскому, что просьба его невыполнима, но тот был непреклонен:
– Так придумайте что-нибудь, Таисия Ивановна, – сказал он строго, как в начале разговора. – Судьба русской литературы на кону.
Тасенька тяжело вздохнула, опустила голову и сложила руки на коленях, так что могло показаться, будто она молится. Пушкину стало не по себе.
– Право, Ржевский, – сказал он, – это слишком. Ты не можешь требовать от барышни, чтобы она забыла обо всём ради меня.
– Ради русской литературы, – поправил поручик, многозначительно покосившись на Тасеньку.
– Да брось, – отмахнулся Пушкин. – Я, конечно, в поэзии величина весьма заметная, но равнять мою судьбу с судьбой всей нашей литературы…
– Так это не я сказал, – возразил Ржевский. – Это Таисия Ивановна сказала.
– И всё же… – начал было Пушкин, но Тасенька его прервала:
– Придумала, – радостно сообщила она и вся засияла.
– Что придумали? – не понял Пушкин.
– Как мне поехать с вами и при этом избежать скандала.
– И как же? – с широкой улыбкой спросил Ржевский, весьма довольный, что план его осуществился, то есть Тасенька теперь участвует в деле.
– Я переоденусь в одежду своей горничной: надену сарафан, душегрейку, платок. И никто меня не узнает. Тогда я смогу поехать с вами, а затем вернуться. То, что непозволительно барышне, крестьянке можно.
– Экое превращение! – улыбнулся Пушкин. – Барышня-крестьянка. – Он вдруг задумался: – А неплохой сюжет для повести…
– Опять бредишь прозой? – строго спросил друга поручик. – Оставь. Не время сейчас. Лучше давай обговорим, как нам всем троим с этого обеда улизнуть, чтобы не вызвать подозрений.
Глава третья,
Самый простой план – самый лучший, поэтому Ржевский предложил дружно покинуть залу под предлогом, что живот прихватило.
– У всех троих разом? – с сомнением спросил Пушкин.
– А почему нет? – возразил поручик. – Разве так не бывает? Вот когда я служил в Мариупольском полку, то у нас случалось, что весь полк…
– Я не могу, – перебила Тасенька. – Если я стану жаловаться, что живот болит, все подумают, что я беременна. То есть ещё до свадьбы. Это скандал.
– Я тоже не хочу болью в животе отговариваться, – подхватил поэт. – Не эстетично.
– Зря ты это, – сказал Ржевский, ведь теперь предстояло выдумывать что-то другое. Однако через пять минут, когда он, Пушкин и Тасенька сели за стол, план действий был готов.
Следуя плану, Тасенька почти сразу пожаловалась, что у неё болит голова, и попросила разрешения удалиться.
– Конечно, иди, – сказала княгиня Мещерская. – Послать за доктором?
– Нет-нет, – ответила Тасенька. – Думаю, это из-за волнений. Лягу спать пораньше, и к утру всё пройдёт.
Покинуть застолье ей не составило труда, а вот Пушкину, которого усадили между княгиней Мещерской и Анной Львовной, пришлось нелегко. На него были обращены все взгляды, интерес к его персоне не ослабевал. Поэт не смог бы легко покинуть залу, даже имея достойный предлог.
Петя Бобрич, который подобно Тасеньке ценил хорошую литературу, ловил каждое слово поэта, надеясь, что после будет рассказывать об этой встрече своим детям и внукам. Генерал Ветвисторогов, хоть и не ценитель, тоже видел в госте занятную персону.
Даже старушка Белобровкина, назвавшая Пушкина нелюбезным, продолжала разговаривать с ним. Она попросила новых подробностей повести «про графин», а в ответ услышала вопрос, случалось ли ей водить знакомство с графом Сен-Жерменом.
– Сен-Жермен? Кто таков? – спросила Белобровкина.
Пушкин пояснил:
– Говорили, что он был алхимик – изобретатель жизненного эликсира и философского камня. Но Казанова в своих мемуарах называет его шпионом.
– Казанова? – встрепенулась Белобровкина. – Казанову я знавала.
Однако углубиться в воспоминания ей не дали.
– Матушка, прилично ли? – заметил князь Иван Сергеевич.
Меж тем настало время десерта, и к столу подали блюдо, которое объединяло страсть князя к сырам и страсть княгини ко всему английскому. Это был чизкейк – английский «сырный пирог».
– Попробуйте, – пристал к Пушкину князь. – Просто чудо.
– Если только немного, – ответил Пушкин. – Я уже отобедал в гостинице.
– А что вы ели?
– Да так. Макароны с пармезаном и…
– С сыром! – в восторге воскликнул князь Иван Сергеевич. – Сразу видно просвещённого человека, который понимает роль сыра в европейской кухне.
Как и следовало ожидать, княгиня София Сергеевна велела сменить тему:
– У нас в гостях поэт, а мы – о хлебе насущном.
– О сыре насущном, – возразил князь.
– Кстати, о духовной пище, – сказала Рыкова и начала зазывать Пушкина на заседание своего поэтического клуба. Пусть эта организация стала чисто женской, но Анна Львовна собиралась сделать для Пушкина исключение. – Вы будете особенным гостем, Александр Сергеевич, – сказала Рыкова. – Прочтёте краткий доклад о том, как поэзия служит воспитанию молодёжи и исправлению общественных вкусов.
– Да, общественные вкусы – это важно, – согласился князь. – Пока общество не поймёт, что вкус сыра…
Княгиня на него шикнула, а Пушкин тем временем отвечал Анне Львовне:
– Я, право, не знаю. Мне часто говорят, что моя поэзия портит нравы, не воспитывает.
– Но ведь в Москве государь имел с вами беседу на этот счёт, – не отставала Рыкова. – И с тех пор ваша поэзия совсем иная.
Следовать плану, который составили Ржевский, Пушкин и Тасенька, становилось всё сложнее. Они договорились, что Пушкин посидит четверть часа, а затем «вспомнит», что должен отправить важное письмо. Дескать, отправить надо сегодня, а если сидеть в гостях до вечера, то никак не успеть. Но главное – Пушкину не следовало принимать никаких приглашений. Поэт должен был располагать собой, чтобы участвовать в поиске рукописи.
Если бы он принял хоть одно приглашение, за этим неминуемо посыпались бы новые. Вся Тверь захотела бы видеть известного поэта в своих гостиных, так что настойчивая просьба Анны Львовны казалась опасной.
– Видите ли, – сказал Пушкин Рыковой, – я только сейчас вспомнил, что мне нужно отправить важное деловое письмо. И сделать это сегодня. Так что вскоре буду вынужден откланяться.
– А как же доклад в поэтическом клубе?
– Я подумаю.
– Думайте быстрее, раз вы спешите, – ответила Анна Львовна. – Я не отпущу вас, пока не услышу определённое «да».
– Увы, мадам, у меня в ближайшее время много дел.
– Ну разумеется! – воскликнула Рыкова. – Было бы странно, если бы у такого известного человека, как Пушкин, оказалось мало дел. Ничего иного я не ожидала, поэтому наш клуб терпеливо подождёт, пока вы освободитесь.
– Через месяц? – спросил Пушкин.
– Я уверена, что у вас найдётся время пораньше. Так что же?
– Но я всё ещё не знаю, что вам доложить на предложенную тему.
«Эх, – думал Ржевский, наблюдая за другом. – Побрезговал моим советом, а зря. Если б сказал, что живот прихватило, никто не стал бы задерживать. Побоялись бы, что гость до нужного чулана не успеет добежать».
– Не отпирайтесь, Александр Сергеевич, – тем временем настаивала Анна Львовна. Она хитро улыбнулась и покачала головой. – Мне всё известно. Если бы вы не думали о воспитании молодёжи и исправлении нравов, то не сочинили бы своего «Пророка».
Княгиня Мещерская оживилась:
– Да, мы читали его в списках. Великолепные стихи.
– И как раз по теме! – добавила Анна Львовна. – Так что у вас, Александр Сергеевич, доклад почти готов.
Не зная, как помочь другу, Ржевский воззвал к богине Фортуне: «Милая, вмешайся. Тут русская литература в опасности, а эта мадам под ногами путается». Однако богиня никак не дала понять, что услышала. Возможно, она считала, что поручик способен справиться своими силами.
Увы, Ржевский не мог ничего поделать. Разве только, улучив момент, намекнуть Анне Львовне, что идея с докладом плоха. Рыкова как раз говорила Пушкину:
– Вы легко сможете доложить нам, как поэт сеет добрые семена, – на что Ржевский многозначительно заметил:
– Господин Пушкин вряд ли захочет докладывать вам про осеменение.
Намёк был предельно ясный. Куда уж яснее! Но Анна Львовна лишь фыркнула и снова обратилась к Пушкину:
– Я не удержалась и тоже сочинила стихи об исправлении нравов. Когда вы явитесь на заседание клуба, я вам прочту.
Ржевский опять решил намекнуть, что не надо никого зазывать на заседание.
– Прочтите сейчас, – предложил он. – Тогда Пушкину не придётся никуда являться.
– Вы – хам! – строго заметила Рыкова.
Княгиня Мещерская тоже принялась распекать поручика:
– Александр Аполлонович, не забывайте, что вы – шафер, а Анна Львовна – посажённая мать. Проявите уважение.
Князь Мещерский, генерал Ветвисторогов, старушка Белобровкина и даже Петя Бобрич осуждающе посмотрели на Ржевского, но Анна Львовна вдруг воскликнула:
– Погодите! Кажется, я поняла! Александр Аполлонович, вы просто ревнуете? Ревнуете меня к Пушкину?
Ржевский не смог сдержать изумления, а Анна Львовна продолжала:
– А я всё думала, отчего вы не позволили мне слушать, как наша Тасенька выражает Александру Сергеевичу свои восторги. Вы же силой удержали меня за столом! Значит, вы не хотели, чтобы я была рядом с Пушкиным? Как мило!
Поручик насупился. Хоть он и старался притворяться влюблённым в Анну Львовну, но ему не нравилось, что роль удаётся так хорошо.
– Ладно, не дуйтесь, – смягчилась Рыкова. – Если настаиваете, я могу прочесть стихотворение сейчас. Но только если всё общество этого желает.
– Разумеется, желает, – тоном, не терпящим возражений, произнесла княгиня Мещерская.
* * *
Общество переместилось в тот угол залы, где Ржевский и Пушкин ещё недавно обсуждали с Тасенькой план действий. Там были не только кресла, но и два дивана, стоявшие вокруг небольшого столика. Встав рядом со столиком, Анна Львовна оказалась в окружении зрителей.
Она готовилась начать, но Ржевский как будто снова показал признаки ревности – взялся за спинку одного из кресел и передвинул его так, что заслонил кресло Пушкина.
– Александр Аполлонович, это уж слишком, – сказала Рыкова.
– Не беспокойтесь, – возразил Пушкин. – Мне и здесь удобно.
– Вот что значит воспитанный человек, – сказала княгиня Мещерская и обернулась к поручику: – А вы, Александр Аполлонович, забываетесь.
Пушкин продолжал возражать:
– Мне это кресло впереди вовсе не мешает.
– А мне господина Пушкина совсем не видно, – пожаловалась Рыкова.
Вообще-то, Ржевский как раз и добивался, чтобы Анне Львовне стало не видно, ведь у поручика созрел новый план, как помочь другу уклониться от доклада в клубе. С Пушкиным поручик всё это уже обговорил, пока общество перемещалось в угол залы. Вот почему теперь Пушкин произнёс:
– Знаете, Анна Львовна… Стихи – как музыка. Их лучше слушать, не глядя ни на что и ни на кого. Я бы, с вашего позволения, так и сделал.
Не дожидаясь позволения, Пушкин со своим креслом отодвинулся назад, оказавшись позади прочих зрителей. Теперь, если бы они захотели взглянуть на поэта, им пришлось бы оборачиваться, а от Рыковой его заслонял Ржевский – прекрасная позиция, чтобы незаметно уйти. Точнее – уползти.
Сначала Пушкин должен был проползти за диванами, а если кто спросит, ответить, что пуговицу потерял. Затем следовало так же ползком пробраться к столу, который был хорошим укрытием благодаря длинной скатерти. А вот напоследок оставалось самое сложное дело – подняться на ноги и сделать рывок через большое открытое пространство к дверям. Главное, чтобы в сторону дверей никто не обернулся.
К тому же стихотворение Рыковой могло оказаться не достаточно длинным. Что если поэт не успел бы добраться до выхода? Но Ржевский обещал позаботиться, чтобы времени хватило. И вот, усевшись в кресло, поручик вместе со всеми начал слушать даму-поэтессу, которая, вдохновенно закрыв глаза, декламировала:
- В ночи стонала я одна
- От безотрадности духовной.
- На стон явился сатана
- И указал мне путь греховный.
- Но как отдаться сатане?!
– Мой вам совет: просто расслабьтесь, – сказал Ржевский. Он же обещал выиграть Пушкину время, вот и решил отвлекать внимание дамы-поэтессы при каждом удобном случае.
Рыкова открыла глаза и посмотрела на поручика в упор.
– Вы не поняли, – сказала она. – Фраза «как отдаться сатане» означает, что отдаться никак нельзя. Это же путь к погибели, поэтому я не хочу.
– Не хотите? – переспросил поручик. – Ну, значит, одной заботой у вас меньше. Не надо думать, как отдаться сатане.
Рыкова снова закрыла глаза и продолжала декламировать:
- Но как отдаться сатане?!
- В тоске томилась я ночами.
- И ангел прилетел ко мне.
- Весь светел, исходя лучами.
- И светлый ангел мне сказал:
- «О дева, ты чиста душою…
– Не знал, мадам, что вы – дева, – заметил Ржевский. – А зачем же ваш покойный супруг на вас женился, если так и оставил девой? Неужели, вообще ни разу?..
Анна Львовна опять открыла глаза и посмотрела на поручика.
– Не цепляйтесь к словам. Конечно, я не дева. Это художественная условность. И вообще это аллюзия на библейский текст.
– А что такое аллюзия? – спросил Ржевский.
– Намёк, – вдруг послышался голос Пушкина из-за дивана. – Госпожа Рыкова делает отсылку к библейской истории о том, как к деве Марии явился ангел.
Пушкину лучше было промолчать, но он, как истинный поэт, не смог удержаться от участия в разговоре, когда дело касалось стихов.
Рыкова расплылась в довольной улыбке.
– Вот! Александр Сергеевич прекрасно всё понял. – Она задумалась. – Кстати, Александр Сергеевич, а что вы делаете за диваном?
Все оглянулись в ту сторону.
– Пуговицу потерял, – ответил Пушкин. – Прошу вас, Анна Львовна, продолжайте.
Рыкова в который раз закрыла глаза и продолжила декламацию:
- И светлый ангел мне сказал:
- «О дева, ты чиста душою.
- Я два крыла тебе достал.
- Так воспари же над толпою!
- Паря над всеми, примечай
- Пороки суетного мира.
- Бичуй, пори их, обличай.
- Бичом тебе послужит лира.
- Ты одинока будешь там,
- На высоте недостижимой,
- Зато ты станешь ближе нам,
- Созданьям мудрым и красивым».
– Да, вы умны и красивы, мадам, – сказал Ржевский. – Несомненно.
Рыкова как будто не поняла, что это комплимент. Пока поручик говорил, она перевела дух, а затем, не открывая глаз, выдала новую порцию строк:
- Я ангельским словам вняла.
- Решила взять я в руки лиру.
- А грудь моя теперь полна…
– Согласен, мадам, – снова встрял Ржевский. – Грудь ваша полна, округла, и вообще очень даже…
Рыкова, приоткрыв один глаз, недовольно хмыкнула.
– Дослушайте сначала, – сказала она. – Я имела в виду совсем не это.
- А грудь моя теперь полна
- Слезами состраданья к миру.
– А! – протянул Ржевский. – Вот оно что! – Он нарочито задумался: – Но слёзы ведь в глазах, а не в груди. Разве грудь может быть наполнена слезами?
– Может, – снова раздался голос Пушкина, но на этот раз откуда-то из-под стола. – Ведь если сердце способно плакать, то, значит, и грудь может быть наполнена слезами. Я слышал у поэтов такое выражение.
– Ах! – в восторге вздохнула Рыкова. – Как тонко вы воспринимаете поэзию, Александр Сергеевич! – Она посмотрела туда, откуда доносился голос Пушкина. – Но почему вы под столом?
– Пуговицу никак не найду. Но вы продолжайте. Мне всё прекрасно слышно.
Рыкова продолжала:
- Порой, когда парю, поря
- Бичом стиха грехи людские.
- Слеза печали у меня
- Сбегает. А за ней другие.
- И так я наконец нашла
- Своё призванье в этой жизни.
- Моя поэзия пошла…
– Вы слишком строги к себе, мадам! – воскликнул Ржевский. – Ваша поэзия вовсе не пошлая. Я как известный пошляк… то есть как человек, знающий, что называется пошлым, могу с уверенностью сказать…
– Да что же вы никак не дослушаете! – рассердилась Рыкова. – Дослушайте.
- Моя поэзия пошла
- На путь служения Отчизне.
– А! – снова протянул Ржевский. – Теперь ясно. – Поскольку Рыкова молчала, он на всякий случай уточнил: – Это финал? Вы закончили? А то опять скажете, что я не дослушал.
– Закончила, – сухо произнесла Анна Львовна.
Тогда Ржевский вскочил с места и принялся громко аплодировать:
– Браво, мадам! Браво! Прекрасно! Браво! Давно не слышал стихов с таким глубоким смыслом. Браво! Браво!
Рыкова, только что сердившаяся, простила поручика и снисходительно улыбнулась ему, а затем поклонилась всему обществу, которое, чуть подумав, последовало примеру поручика и тоже начало аплодировать стоя.
Аплодисменты продолжались не менее минуты, но Рыкова, окружённая овациями, вдруг опомнилась и беспокойно оглянулась:
– А где же Пушкин?
Поэта и впрямь нигде не было. Его принялись окликать по имени отчеству, но он не отзывался. Посмотрели за диваном, под столом, но никого не нашли.
– Так он небось в передней свою пуговицу ищет! – с самым невинным видом воскликнул Ржевский, чтобы никто не заподозрил побега. – Пойду посмотрю.
Пушкин в передней как раз надевал перед зеркалом цилиндр, только что поданный швейцаром.
– Ну что? Едем? – спросил поэт.
– Минуту, – ответил поручик и снова взбежал по лестнице наверх, в залу.
Всё общество вопросительно смотрело на Ржевского, а тот уже сообразил, что теперь можно использовать лучшую отговорку из всех возможных.
– Ну что? – сердито спросила Анна Львовна. – Нашёл Пушкин пуговицу?
– Не в пуговице дело, – изобразив смущение, ответил поручик. – У Пушкина живот прихватило, но это же человек деликатный: разве признается! Видать, макароны с пармезаном впрок не пошли.
Старушка Белобровкина поверила:
– Да, от гостиничной еды что угодно может быть. Домашняя пища куда лучше.
Ржевский поспешил откланяться:
– Повезу Пушкина обратно в гостиницу. Уж извините.
Он снова спустился в переднюю, взял свой головной убор, вышел во двор и сел в коляску, в которую уже успел сесть Пушкин.
Короткий ноябрьский день закончился. Стремительно темнело, поэтому даже если бы кто-то смотрел в окно, он бы не заметил, что за воротами особняка Ржевский велел остановиться, вылез из экипажа и галантно подал руку некоей крестьянке, чтобы усадить эту особу рядом с Пушкиным.
Коляска была двухместная, так что поручик вынужденно переместился на облучок, рядом со своим Ванькой, а крестьянка вдруг заговорила тоном барышни:
– Александр Аполлонович, не покажется ли это странно? Вы мне своё место уступили, а ведь простой девушке положено ехать на облучке.
– А если на мостовую свалитесь? – ответил Ржевский. – Сидите уж.
* * *
Возле гостиницы было гораздо светлее, чем возле дома Мещерских. Почти во всех окнах горели огни, а фонари, расставленные вдоль фасада и перед парадным входом, сияли вовсю. Значит, прохожие даже издали могли видеть происходящее возле гостиницы, поэтому Тасенька постаралась играть свою роль как можно лучше. Не дожидаясь, пока кто-нибудь подаст руку, барышня-крестьянка выпрыгнула из коляски сама.
Ржевский понял, что должен соответствовать, поэтому соскочил с облучка и, почти не оглядываясь на спутницу, бросил:
– Пойдём, Таська.
Тасенька замерла от неожиданности, но быстро сообразила, что всё правильно, а поручик так же небрежно бросил своему слуге-вознице:
– Стой тут, Ванька. Жди нас. И в кабак не отлучаться!
После этого Ржевский, Тасенька и Пушкин направились к главному входу, но так просто войти не удалось. Швейцар, рослый бородач в красной ливрее, открыл дверь и участливо спросил:
– Вы, господа, видать, в карты проигрались?
– Проигрались? – не понял Ржевский.
– Наши гостиничные мамзели, значит, не по карману? – всё так же участливо продолжал швейцар. – Потому и девку простую с собой ведёте? Да ещё одну на двоих.
Поручик хотел найти приличное объяснение, зачем двое господ ведут к себе юную крестьянку, но ничего приличного на ум не шло. В итоге он вынул из кармана серебряный пятак и, уронив в ладонь швейцару, сказал:
– Ты нас тут не видел.
– Само собой, – подмигнул гостиничный служитель.
Тасенька, по счастью, не слышала разговора. Прошмыгнув в гостиницу, как только швейцар открыл дверь, барышня-крестьянка в нетерпении остановилась возле лестницы. Хотелось скорее приступить к расследованию.
На Тасеньку подозрительно глянул ещё один швейцар, дежуривший с другой стороны входа, поэтому пришлось Ржевскому и здесь дать пятак, а вот коридорному лакею, встреченному на этаже, поручик решил ничего не давать.
Пушкин меж тем открыл дверь своего номера и со вздохом проговорил:
– Вот место преступления. Прошу.
Прежнего хаоса, который запомнился Ржевскому, не было. Слуга Пушкина – Никита – успел всё прибрать, оказавшись расторопным, несмотря на возраст.
Когда дверь открылась, Никита как раз заканчивал разглаживать покрывало на хозяйской кровати, а затем обернулся и всплеснул руками:
– Батюшка Александр Сергеич! Что это вы затеяли? Время ли сейчас для девок?
– Никита! – с укоризной произнёс Пушкин, впуская гостей в номер и закрывая дверь. – Не стыдно тебе так судить о барине? Это совсем не то, что ты подумал.
«Эх, – мысленно вздохнул Ржевский, вспомнив о своём обещании вести себя так, чтобы никто ничего не подумал. – Мы ещё ничего сделать не успели, а уже три человека много чего подумали».
Тасенька, кажется, не поняла, в каком значении употреблено слово «девка», поэтому не смутилась и пытливым взглядом сыщика оглядывала номер.
– Это Таисия Ивановна, – строго сказал Никите поручик. – Она поможет пропавшие бумаги искать.
Никита вгляделся в гостью:
– А гостья-то непростая! – воскликнул он. – Барышня переодетая.
Тасенька ответила ему нарочито просто:
– Вовсе я не барышня. Я барышнина горничная.
– Нет, – улыбнулся Никита. – Ручки вон какие белые да нежные. И личико тоже. У горничных такого не бывает.
Тасенька на этот раз смутилась:
– Ладно, признаюсь. Я барышня. Только не говори никому.
– А зачем же вы сюда явились, барышня? – с поклоном спросил слуга. – Неужто и вправду сможете бумаги найти?
– Надеюсь на это, – снова обретя уверенность, ответила Тасенька. – Но ты, Никита, должен мне помочь. Я тебя стану спрашивать, а ты рассказывай всё, как в точности было. Ничего не утаивай. Любая подробность может иметь большое значение.
– Спрашивайте, барышня.
Ржевский и Пушкин молча переминались с ноги на ногу, а Тасенька огляделась и подошла к секретеру, на откинутой столешнице которого теперь царила идеальная геометрия. Все бумаги были сложены в аккуратные стопки. Чернильница, пресс-папье и прочие вещи из письменного набора располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Даже два пера, торчавшие из чернильницы, торчали не как-нибудь, а смотрели в противоположные стороны.
– Я вижу, Никита, ты порядок любишь, – наконец произнесла Тасенька.
– Я к барину Александру Сергеичу на то и приставлен, чтобы порядок был, – ответил пожилой слуга.
– А сегодня, когда барин ушёл обедать, ты порядок в его бумагах наводил?
– Навёл немного.
Пушкин вздохнул и посетовал:
– У меня в бумагах своя система, которая только кажется беспорядком, а Никита всё перекладывает. Бывает, он так переложит листы, что я после ищу целый день.
Никита понурился, а Пушкин, видя это, поспешно добавил:
– Правда, его порядок порой лучше моего. Никита мне некоторые черновики с «Онегиным» перекладывал, а я в итоге решил порядок глав поменять.
Тасенька улыбнулась, но думала при этом о чём-то своём.
– Значит, – снова обратилась она к Никите, – когда твой барин ушёл обедать, ты все бумаги на секретере аккуратно разложил?
– Разложил.
– А после ты из номера отлучался? Тебе ведь тоже надо обедать.
– Да, – сказал Никита. – Я ходил в трактир неподалёку, поел и скоро вернулся.
– И сколько времени тебя не было? – уточнила Тасенька.
– Полчаса, наверное.
– Значит, ты вернулся раньше барина?
– Да.
– А бумаги лежали всё так же?
Никита задумался.
– Нет, – наконец произнёс он. – Я их сложил уголочек к уголочку, а когда вернулся, они неровно лежали, будто шевелил кто. Я решил, что сквозняк.
– А ты окна проверил? – насторожилась Тасенька.
– Проверил, – ответил Никита. – Закрыты были, но мало ли в гостиницах щелей! Откуда только ни дует! Так что я снова бумаги поправил, чтоб ровно лежали.
– А когда же стало ясно, что пропали три листа?
– Когда явился барин Александр Сергеич. Он по обыкновению пожурил меня, что я бумаги переложил.
– И он сразу начал искать листы? – спросила Тасенька.
– Не сразу, – ответил слуга. – Барин откуда-то бутылку вина принёс початую, так что сперва сдвинул все бумаги в сторону и эту самую бутылку на пустое место поставил. – Никита подошёл к секретеру и показал место, где стояла бутылка.
– А дальше? – продолжала спрашивать Тасенька.
– Велел мне сбегать за бокалом. Я побежал на кухню, дали мне там бокал для барина. Возвращаюсь, а барин кричит: «Куда ты дел листы со стихами?!» Я говорю: «Да вот они тут все лежат». А барин сказал, что не хватает новых, которые с самого верху лежали.
– Значит, пропавшие три листа лежали сверху? – снова уточнила Тасенька.
– Выходит, что так, – согласился Никита. – Я порядок не менял. Просто положил стихи отдельно, письма – отдельно, а барские шалости – отдельно.
– Шалости? – не понял Ржевский.
Никита обернулся к нему и обстоятельно пояснил:
– Это рисунки дерзостные с подписями, которые даже друзьям показать совестно. Барин ими бумагу марает, а бумаги эти после в печку кидает.
– А из шалостей что-нибудь пропало? – спросил поручик.
Вместо Никиты ответил Пушкин:
– Ничего не пропало. По крайней мере, ничего из того, что я помню. И письма все целы. Пропали только три листа со стихами. – Он вздохнул. – Потому я не верю, что бумаги похитил недоброжелатель. Если бы кто-то хотел мне навредить, то скорее взял бы листы с рисунками. Он не имел бы времени читать стихи. Не имел бы времени понять, что в некоторых строках сокрыт мой приговор.
– Зачем читать? – не понял Ржевский. – Не проще ли сгрести в охапку сразу все бумаги, а разбираться после?
– А ведь верно, – согласился Пушкин. – Почему взято только три листа?
Тасенька начала рассуждать вслух:
– Если взять всё, пропажа обнаружится гораздо быстрее. К тому же такую кипу бумаг трудно вынести незаметно. А если взять три листа, их можно спрятать куда угодно.
– Но почему именно эти листы? – не понимал Пушкин.
– Полагаю, простая случайность, – сказала Тасенька. – Неизвестный зашёл в номер, взял то, что лежало сверху, и поспешил скрыться.
– Но Никита сказал, что были потревожены все бумаги. – Пушкин посмотрел на своего слугу. – Так?
– Так, батюшка Александр Сергеич, – последовал ответ. – А помнишь, ещё давненько в Петербурге случай был? Ты из квартиры отлучился, и вдруг приходит человек незнакомый. Он просил, чтобы я его пустил к тебе в кабинет. Говорит: «Подожду там твоего барина». Я ответил, что нельзя. А он тогда мне пятьдесят рублей предложил, чтобы я ему твои бумаги дал посмотреть. Я, конечно, отправил его куда подальше.
– А это оказался полицейский шпион, – закончил Пушкин.
– Может, и теперь – шпион? – предположил Никита.
– Сомнительно, – сказала Тасенька. – Шпион забрал бы больше, чем три листа. Он бы забрал столько, сколько можно унести за пазухой.
– Но зачем он перебирал бумаги? – не понимал Пушкин. – По повадкам очень похоже на шпиона.
Тасенька продолжала рассуждать вслух:
– Думаю, ему нужны были именно стихи. А откуда он мог знать, что Никита складывает стихи отдельно? Поэтому неизвестный осмотрел всё, увидел стихи, схватил и ушёл.
– Но кто этот неизвестный? – продолжал спрашивать Пушкин.
– Тот, у кого есть ключ от номера, – ответила Тасенька. – Если все окна были закрыты, значит, похититель мог проникнуть в номер только через дверь. И сделал это с помощью ключа. Александр Сергеевич, у кого есть ключ, кроме вас и Никиты?
Ржевский тем временем пытался вспомнить всё, что знал о повадках воров:
– А если не ключом открывали, а этими… отмычками?
– Здесь же дорогая гостиница, – возразила Тасенька. – Если бы кто-то стал открывать дверь отмычками, а не ключом, это непременно заметил бы коридорный лакей. Такие служители здесь неотлучно. Даже когда мы заходили в номер, я видела, как коридорный лакей посмотрел на меня с подозрением. А ведь я пришла вместе с господином Пушкиным, то есть с постояльцем. Интересно, в чём лакей меня подозревает?
Ржевский мог бы сказать Тасеньке, что в ней подозревают проститутку, но предпочёл молчать, боясь, что та смутится и потеряет вкус к расследованию.
Меж тем Пушкин, чуть подумав, вскипел праведным гневом:
– Конечно! Коридорный лакей! Ключ есть у него! Надо допросить этого шельмеца.
В следующее мгновение поэт открыл дверь, выглянул в коридор и крикнул:
– Эй ты, мошенник! А ну иди сюда! – Очевидно, лакей не понял, что речь о нём, потому что Пушкин повторил. – Да, ты. Иди-иди!
– Зря это, – тихо вздохнула Тасенька. – А если лакей не виноват? Прямых доказательств у нас нет. Ах, мне бы хоть несколько минут подумать, как и о чём его спрашивать.
Ржевский меж тем сообразил, что Тасенька по-прежнему не догадывается, за кого её принимают гостиничные слуги.
– Знаете что, Таисия Ивановна? – осторожно начал поручик. – Вы лучше не разговаривайте с этим лакеем. Пусть Александр Сергеевич сам поговорит.
– Почему? – удивилась Тасенька.
– Ну… мне кажется, этот лакей не проявит к вам достаточного уважения.
– Почему?
Ржевский не хотел отвечать правду, но его вдруг осенило:
– Вы ж в крестьянском платье. А если лакей по вашим манерам догадается, что вы – переодетая барышня, и заговорит вежливо…
– Вы правы, – согласилась Тасенька. – Не надо, чтобы он догадался.
– Тогда прячьтесь за ширмой, – предложил Ржевский, указывая на соответствующий предмет в углу, вдалеке от входной двери. – Незачем лакею лишний раз на вас смотреть. Меньше будет смотреть – меньше подумает.
Тасенька ушла за ширму, но Никита покачал головой:
– Ножки-то снизу видать. Дайте-ка я, барышня, возле ширмы встану, чтоб загородить, но вы уж там стойте на одном месте, туда-сюда не ходите.
* * *
Коридорный лакей шёл на зов Пушкина очень медленно. Если ещё издали обзывают мошенником, торопиться незачем. Вот почему у Тасеньки оказалось достаточно времени, чтобы спрятаться, а когда лакей наконец зашёл в номер, то увидел там только троих: Пушкина, Ржевского и Никиту.
– Чего изволите? – спросил гостиничный служитель, отвесив поклон, но смотрел при этом нагло.
– Чего изволю?! – напустился на него Пушкин. – Изволю, чтобы тебя с места прогнали и под суд отдали!
– За что же? – спокойно спросил лакей.
– Он ещё спрашивает, вор! – воскликнул Пушкин.
– А с чего это я вор? – нарочито удивился лакей. – Вы, барин, таких слов зазря не бросайте.
Пушкин совсем распалился:
– Так ведь ты, шельмец, в номер ко мне заходил и бумаги у меня украл!
– Какие бумаги? – лакей захлопал глазами. – Знать не знаю ни про какие бумаги. Да и на что они мне? Я-то уж думал, что ценная вещь пропала. К примеру, перстень с камнем али золотые часы на цепочке.
– Пропало три листа, чрезвычайно для меня ценных! – продолжал кричать поэт.
