Каратели бесплатное чтение
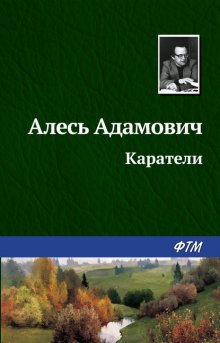
«Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя было бы совершить над людьми, не считая себя виноватым…»
Лев Толстой.
Чем выше обезьяна взбирается по дереву…
Анна Шикльгрубер, служанка, незамужняя, родила Алоиса, которого усыновил человек без определенных занятий Джон Георг Гидлер: Алоис Гидлер и Клара родили Адольфа… Адольф Шикльгрубер-Гитлер родился в австрийском городе Браунау 20 апреля 1889 года.
Особые приметы: хорошая память, плохие зубы.
… Он плакал во сне, проснулся от одиночества, тоски. Открыл глаза и вспомнил, что заболеет: перед тем как заболеть, всегда плачет во сне. В большой, отделанной деревом и задрапированной теплыми коврами бетонной спальне он был один. Никого не хотелось видеть. А его ждут: там уже собрались, с 16.30 его дожидаются начальники штабов – сухопутных войск, военно-воздушных, морских. И «человек № 2», «человек № 3», «№ 4», «№ 5» – все, сколько их есть пронумерованных, себя пронумеровавших. Смотрят на разложенную на столе карту, развязно болтают, обсуждают положение на юге, осторожно посматривают на единственный стул и стараются угадать Его сегодняшние мысли, решения.
Думать о себе, как о Нем, видеть себя, как Его, давно стало привычкой Адольфа Шикльгрубера-Гитлера. На Него и сам уже может смотреть со стороны, но не снизу вверх, как другие обязаны, а скорее – как очень заботливый, хотя и бесцеремонный денщик. Которому все кажется, что хозяин без него не то и не так сделает и тем повредит своей репутации. «Ну, что у Тебя рука эта все дрожит, попридержи правой, если дрожит!.. Ну, что Ты так засмущался, уставился в свою бумагу?! Может, еще очки достанешь, на нос посадишь – при всех?!
Крикни! Громко выкрикни – неважно что! – и пойдет. Сразу узнают Тебя, обрадуются…»
До трех утра не спал, выслушивал вечерние донесения офицеров-оперативников: о неожиданно широких действиях русских на Харьковском направлении. Неужели догадываются, что не Москва, а юг главное направление?.. Хотят опередить, ослабить Твой удар. Поздно! Такого, упреждающего, боялся – кошмары мучили! – в тридцать девятом, сороковом. Вдруг вырвутся на европейские бетонные дороги! Пока их обратно загнали бы, все израсходовали бы: накопленные боеприпасы, бензин, время. Главное – время! И при этом не давать им чему-то научиться, воевать научиться: разгрызать по одному, главное, по одному! Те самые генералы, которые дрожали перед азиатскими просторами и хитростью Сталина, потом, друг друга толкая, спешили сообщить, как все удачно и по плану идет. И даже лучше, чем планировалось. Никто не мог рассчитывать на внезапность тактическую. Стратегическую – понятно, этого добиться некоторым удавалось, если какое-то государство взялось раньше и действует энергичнее. Но чтобы сегодняшний противник ничего не замечал до последнего дня, когда современная военная машина такая громоздкая, звучная!..
Или они действительно не верили, не хотели верить собственным глазам и ушам? Почти две тысячи самолетов удалось сжечь на земле. Радиоперехваты совершенно немыслимые: «На нас напали немцы! Бомбят, обстреливают, танки движутся!» – «Да вы что там, белены объелись? Не отвечать на провокации!»
Вот уж действительно: если Провидение решило погубить, оно прежде всего ослепит. Зато, если изберет кого, не пожалеет знаков. Их было столько все эти годы, знаков – и на востоке, и на западе…
Но вот этот сон, и снова слезы, давние, детские слезы – уводящие далеко назад, где не было Фюрера, а если бы и был, никто этого не знал. И знать не хотели! Не было Фюрера, но были тоже планы и мечты – всегда о великом. Художника Гитлера мечты, который всем им докажет, заставит приползти к ноге – всех, кто знать не хотел его… Который стоял у изголовья умирающей и уже знал, что умирает Мать Избранного. Под призрением «доктора для бедных», еврея Эдуарда Блоха, умирала Мать Фюрера!.. Интересно, сберег доктор Блох картину, подаренную ему после похорон? Теперь эта акварель – его талисман! Сколько раз ни настигала бы германская армия еврея Блоха, Эдуарда Блоха из австрийского города Линца, куда бы ни переезжал он – будет, как было в 1938-м. Далекая и вседержащая рука откроет ему дверь в соседнюю страну. И снова в соседнюю. Пока существуют соседние страны.
Возможно, Эдуард Блох и будет последний еврей в Европе, потом в Америке, потом в Азии, в Австралии…
Ни к чему теперь болезнь, а Ты обязательно разболеешься – нашел время! Возьми, возьми в руки себя. Нужна ясная голова – это наступление должно все выправить. Зима показала: положиться не на кого. И больше всего злит, когда начинают бормотать, будто Ты не говорил им, не было этого, не предупреждал, не указывал заранее! Пусть, пусть снова сидит Людвиг Кригер и все записывает, чтобы не могли отпереться, когда История будет подводить итоги. Можно подумать, что Ты не вбивал всем в башку, не повторял сто раз: не Москва, не Москва, не Москва! Главная цель – юг, промышленность и нефть юга!.. Так нет же, каждому хотелось обскакать Наполеона. А что бензина осталось на один месяц – это не их, не генеральская забота. Затащили армии в снега, на погибель!.. А потом готовы были бежать, как тот самый корсиканец, до Березины и дальше. И побежали бы, если бы не взял армию в собственные руки и не превратил русские «котлы» в немецкие крепости. Сколько ни смещай этих Беков, этих Браухичей – все они одной кости, и для них ты «гефрайтер», даже не унтер-офицерский чин. Как бы громко, каким бы сладким хором не повторяли: «мой фюрер!» Вот отдал бы я тогда армию капитану Рему, он бы вас всех подравнял, подстриг под СА! А может, зря, зря не отдал?! Ха, вон как удивились и скрыть не смогли удивления, обиды, что «гефрайтер» отшвырнул их бездарную директиву и написал свою – о наступлении на Кавказ, на Сталинград. Как же, их наукам не учился – списывать у Клаузевица, Мольтке, Шлиффена, – а лезет в их святая святых! И никак не привыкнут, что нет больше военного министерства и генерального штаба. Вот где было бы не продохнуть от генеральской спеси! Никак не усвоят, что главный фактор – то, что генерирует гений фюрера, а не их штабные линейки. Я и сам не могу объяснить, как это исходит из меня, но разве мало доказательств! Она в учебники войдет, директива № 41 – решающая директива о решающей битве! Пока Сталин дожидался нового наступления на Москву (далась она им всем, и моим тоже!), я перережу России жилы. Сначала на юге. Потом Мурманскую дорогу. Москва и повиснет – в пустоте. Пыль и кровавое месиво! Не нужна мне Москва. Как и Петербург не нужен. Пусть содрогнется мир: я с корнем вырву два ноющих зуба Европы. В Гималаях эхо отзовется. Впереди – Иран, Ирак, Египет, Индия… И Тибет! Наконец-то никто не будет стоять между мной и Ними!..
Холодная, скользко-вогнутая, замкнутая Вселенная, а в ней солнечно освещенная ниша. Как стеклянная мухоловка. Стенка из синего бесконечного льда. Там, снаружи – Их глаза. В круглой нише, внутри ледяной Вселенной ползают по изогнутой стенке те, кто называет себя людьми. (И воображают, что они не внутри шара, а на поверхности – «на планете».) Снаружи – Они. Глаза льда. Нет, огненные Глаза! Я, только я вижу Их. О, не легко было выманить Их из тысячелетней дали и выси! И остановить, удержать на себе. На Германии. Мои людендорфы думают, что под Москвой меня русские остановили. Нет, меня, нас оставили Они! Отвели Глаза в сторону, и лед пополз, стал побеждать. Огонь отступил. Отвернулись на миг, чтобы мы ощутили, что с нами будет, если оставят насовсем. Как его оставили, отдав в мои руки. Не сибирские дивизии и не Америка страшить должны, а Их гнев. И не гнев это, а внезапное безразличие, отсутствие. Их нет, и лед наступает на нишу. Надо быть Их огнем, Их гневом и ужасом, и тогда Глаза снова смотрят, ждут, требуют. И все идет, как предсказывал я. В этом еще раз все убедятся, когда заработает директива № 41, победоносно двинется шестая армия, направляемая моим шестым чувством. Любопытное совпадение!.. Вот наше главное оружие, секретное, им владеет Германия, пока есть я. Только пока я есть. То, что я существую, – важнейший фактор. Пора наконец понять простую истину: Фюрер хорош не потому, что хорош, а потому что есть, и он незаменим. Попрекают меня импровизаторством. Меня – эти бумажные черви в мундирах, которые я же им и вернул. Я, «гефрайтер», «младший чин», вернул им генеральские, фельдмаршальские погоны. Вернул Германии оружие. Но они все еще Клаузевицем живут, война для них – служанка политики, и только. А политика по их книжонкам и понятиям – наука всего лишь о возможном. О «возможном»! Тоже мне наука. Возможное я достану и без всякой науки. Весь фокус, чтобы добиться невозможного. Вопрос о жизни и смерти расы, а они – «возможное»! Не государства сегодня, а расы воюют – все против всех. Какие бы ни возникали союзы, коалиции. И должна победить и остаться одна-единственная раса. Разве возможно, чтобы одна – всех? Ну, а погибнуть германской, арийской расе – эту возможность вы допускаете? Ага, вас другое смущает: зачем кричать на весь мир, зачем объявлять наши конечные цели? Лишних врагов наживать. Пусть мир считает, что «Майн Кампф», что угрозы истребить низшие расы – всего лишь аллегория, образное преувеличение…
Ну что ж, пусть так считает мир, если он боится, не умеет смотреть правде в глаза, смотреть в глаза мне. Но вы-то, вы, мои сподвижники и номера, вы, мои немцы, – чего вам трусить? Мы еще только в начале дел и пути.
Не союзы, не коалиции страшно потерять. Их не было никогда у Германии – союзников надежных. Главное для нас – не упустить время. И единственно важный союз – с Ними, с Могуществами. Значение имеет лишь то, что Они меня избрали, и я с Ними. Я знаю, я-то знаю, что, прежде чем заметить меня, Глаза остановились на нем. На моем главном противнике. И за это я ненавижу его больше, чем за его большевизм, которым мой Йозеф пугает Европу и Америку. Они к нему присматривались, я это понял, примеривались, оценивали. Он объявился раньше, и там Азия, это ближе. Глаза на нем стояли, пока мы копошились на этом европейском полуостровишке – в своем Мюнхене, и когда даже Берлин не был наш. У немцев не было признанного вождя – кого было замечать?! А были трусливые политиканы: вздрагивали, как от снарядов, от одного лишь урчания французских, английских желудков, лениво переваривающих германские репарации. На ком еще могли остановиться Их глаза? Не на бедняге же дуче с его опереточными чернорубашечниками. Когда придет Время Песка, я его и гауляйтером, пожалуй, не поставлю. За один только запах изо рта! Кажется, что и в телефонной трубке слышен. Жрет мясо. Кстати, вот вам классический пример коалиций! Как отважно бросается дуче, да и все они, вонючие наши сателлиты, вперед, но только туда, где уже торжествует, победило германское оружие. Ну нет, на этот раз будешь сполна платить за победу – пойдешь добывать ее на Кавказ, на Волгу – все пойдете!..
Да, я опоздал, а он был прямо под Ними. Проклятая география! Проклятый полуостровишко – Европа! И народ мне достался, – он хотя и не испорчен настолько вольтерьянством и евреями, как народы латинские, но с ним тоже будь начеку. Сегодняшний немец, а немки, те особенно, – руку не моет, коснувшись руки, одежды или машины фюрера. Про это сами по радио мне рассказывают. Но как скоренько они умыли бы руки свои, если бы не получилось с рейнской операцией, с Чехословакией, с Польшей… Шарахаться в крайности – это у них в природе. Еще за день до моего триумфа голосовали за красного Тельмана, буквально за день!..
22 июня 1941 года – вот когда я все о вас узнал, немцы! Сыновья ваши сквозь огонь устремились на Восток – добывать великое будущее для Германии, а вы, вы!.. Вы забаррикадировались трусостью, осторожностью в своих норах-домах, и ни один берлинец – зеваки не нашлось! – не пришел на Вильгельмштрассе, чтобы приветствовать гвардию фюрера. Точно испортилось у всех радио… Немец не пожелал посмотреть на марширующие войска – возможно ли такое?! Оказалось, мои вы преданные и верные, с вами возможно все! Так что славьте фюрера и его неслыханные победы – голос у вас прорезался сразу же, как услышали о великих победах на Востоке, – но у фюрера память хорошая. Что-что, а память у меня отличная, мои вы верные и преданные!.. И вот с ними, с такими, я сумел то, чего никто не добивался. Не за 20 лет, а за 5–6! Одного радио хватило мне для этого. И евреев.
И Они отвели глаза – в мою сторону…
Уж теперь-то я сделаю из вас германцев, выбью немецкую труху из истории, из душ ваших! Какие-то бедуины, пастухи завладели полмиром, когда у них появился вождь и идея, настоящая религия не слабых и сирых, а воинов, преданных пророку. Вот у кого, у мавров, а не у римлян позаимствовать бы нам религию, а с нею получить в наследство полмира. Но с германцами случилось самое плохое, что только могло: на плечах они унесли римское золото, а в душах – еврейскую, христианскую заразу. Нет! Из большевистской Азии мы принесем только золото победы. Только! Всю заразу, как холеру в средние века, выжечь огнем. На месте.
Но моим немцам и хочется, и дрожь в ногах… Какие разработочки присылают мудрецы из Восточного министерства! Спор чиновничий затеяли: 30, или 50, или 70, или 100 миллионов выселить по Генеральному плану. Не повиснет ли «невыносимая тяжесть» на совести исторического немца, если с поляками поступим, как с евреями? И нельзя ли украинцев использовать против русских, а литовцев, латышей – против и тех, и других, и белорусов. Все пытаются обойти твердый принцип: впредь никто, кроме немцев, не должен носить оружия! Даже в моем Розенберге пискнул либерал. Одно дело на бумаге да в романтических спорах и мечтаниях, а тут практика, мясо. А ведь и он – втайне, конечно! – считает себя моим учителем. Это они меня «открыли», «зарядили», «сделали»! Для немца даже фюрер – всего лишь нафаршированная колбаса! Вильгельмштрассовским революционерам хотелось бы с помощью одних славян победить и истребить других – все у них союзы да коалиции в голове. В мечтах да на бумаге цифры не пугали. А когда до дела дошло… Интересно бы посмотреть на этих Майеров, Ветцелей да на моего прибалтийского эстета Альфреда, если бы им пришлось не миллионами душ туда-сюда отсчитывать, а двух-трех женщин, но самим, своими руками ликвидировать. Да еще с их недоносками. Поставить живых перед ними – ну-ка исполняйте нашу историческую миссию! Опозорились бы, как Гиммлер в Минске. Велел поставить под расстрел сто, но на втором десятке свял, сбежал, как баба. И молчит, тут он не спешит докладывать!.. Нужен огонь и огонь! На Востоке мы выжигаем еще и немецкую серу из германской руды. Без этого хорошей стали не получишь. И делать это будем безжалостно. В лаборатории чистой расы не создашь. Одними этими вашими измерениями черепов. Нет, не сырья, не «вооружения вглубь», «вооружения вширь» – не этого недостает мне. Что бы ни толковали мои «специалисты». Будет и сырье, будет и оружие – если умело балансировать ресурсами. Времени – вот чего не хватает. Чтобы из сырья человеческого, которое нам оставила история, из этого мусора рас выплавить чистую сталь новой расы, нового человека. Нажал на перо – сто, тысяча, миллион упали на бумагу! Нажал на спусковой крючок – столько же под дулом автомата! Новому Человеку все будет одинаково легко и радостно. Будь у меня два-три поколения, воспитанных как следует, невозможного не существовало бы. Но отпущено мне было только шесть лет, если не считать времени, когда я шел к власти. Но и на эти шесть я, кажется, не имел права: следовало начинать в 1938-м – прямо с Мюнхена. Невзирая на то, что они уступили, во всем уступили, эти лондонские трусы. Но свои, немецкие трусы повисли на руках и ногах: рано, не готовы, хотя бы еще полгодика! Мы сильнее не стали, а они пришли в себя – остальной мир. Не следовало дарить им такую возможность. А еще эта идиотская история с итальянским наступлением в Греции.
Отняли, отнимают у меня месяцы, недели, которые могут отозваться в столетиях!..
Нет, мне еще надо было докричаться до них – до Главных Союзников. Политический жаргон, шепоток иносказания для Них не годились. Нужно было во весь голос и открытым текстом. Они должны были увидеть, что я готов исполнить Их дело, погрузиться в такую кровь, на какую никто не решался, по крайней мере, в открытую. Они должны были поверить, что моя борьба – Их борьба. Ведь Им безразлично куда – с Востока на Запад или с Запада на Восток течет река крови. Важно, чтобы текла и чтобы это не ручеек был, а всеобновляющий поток, уносящий весь мусор истории, расовый сор. Цена идеи исчисляется кровью. Моя стоит больше – в Их глазах. Ни одна идея не обещала столько очистительной крови, огня…
Я сразу понял, когда это случилось – наконец Они перевели глаза на Германию! Особенно, когда началось в маленькой Финляндии. И прежнее обрело логику, высшую: она вдруг открылась мне. Я понял: приходит мое время! И даже то, что было до поры скрыто, спрятано от меня, – даже это обернулось заботой Провидения о моем торжестве, успехе. Я распахнул дверь на Восток, не зная, что там увижу. Не зная, не подозревая, какая танковая армада, воздушная мощь у него там. Когда бы знал я, не решился бы, пожалуй, а это не входило в Их расчеты. И Они позволили ему обмануть меня. И тем самым поманили, подтолкнули меня напасть. И разбить, разметать армии, скованные по рукам и ногам его страхом перед судьбой. Внушенным ему страхом…
А как он собрал все это у самых границ, тоже как бы по Их подсказке. Чтобы я мог одним ударом…
Надо знать, помнить, что все наши чувства, цели, наши интересы, границы и пр. и пр. для Них – необязательное, воображаемое. Как и обычное наше представление, что земля – каменный шар, круглая глыба. Из людей я один это знаю, один я вижу Их глаза и нашу «планету» как она есть, – ледяной шар изнутри. Какое острое наслаждение носить в себе высшее знание, выдерживать направленный на тебя Их взгляд – Глаза Ужаса! А вокруг маленький наш привычный мир, и такой здешний, земной испуг на лице Евы: «О ком ты, мой дорогой, говоришь? Кто «они», о ком ты? Ты плохо себя чувствуешь?» Простая душа, она все-таки не верит, что я нечто большее, нежели «мой фюрер». Когда Елизавета Ферстер – мужественная германка, сестра великого Ницше, прислала приветствие «Первому на земле сверхчеловеку», всем это показалось лишь красивым жестом. Ведь для них все, в конечном счете, слова, слова.
И не подозревают, даже мои ближайшие «номера», что Новые Люди уже здесь, присутствуют, действуют, и я – их посланец. Важнейший фактор то, что я существую.
Ради кого-то или чего-то другого не стоило, но ради такой идеи можно было вынести все, что вынес я и через что прошел. Все смог, сумел и остановил Глаза Ужаса на Германии. Той самой Германии, где меня унижали, оскорбляли, знать не хотели, обзывали «почтмейстером», грозились «выгнать плетью» в Австрию… Где-то же есть он, затаился тот Гжесинский, – польский ублюдок, посмевший стать немецким полицейским чином. Он смел плетью грозить будущему фюреру и ушел от возмездия. Другие тоже спрятались – сколько их, попрятавшихся! Ускользнули в безвестность, в смерть или за границу. А старый бык Гинденбург – в немецкую славу, в историю. Пауль фон Бенекендорф унд Гинденбург!.. Дайте время, я поукорочу ваши имена! Наступает пора новой аристократии. Придет время, и в германских пантеонах станет просторнее. Мощи этого тупицы-шутника вышвырну в первую очередь…
«Кто он такой, этот Гитлер? Я сделаю его почтмейстером, пусть лижет марки с моим изображением…» Он это сказал, он посмел?!
О, старый мерин, потом и ты узнал, кто я такой. Как вяло пожимал руку новому рейхсканцлеру, позванному к власти немецким народом. Но пожимал! Чувствовал «фон унд», чувствовал, что не для того пришел Адольф Гитлер, чтобы играть в парламентскую болтовню, а чтобы вас всех вышвырнуть. Посмотрим, где будет твое «изображение», старая кляча, когда я возьмусь за немецкую историю по-настоящему! Придет Время Песка!..
В чем только меня не подозревали, чем не попрекали – дезертирством из австрийской армии, «еврейской» буквой «д» в фамилии деда… Даже автомобилем «за сорок тысяч марок» – эти крикуны из СА, пока их не укротила ночь длинных ножей. Попрекали машиной, которая потом спасла фюрера, выхватила из-под полицейских пуль – с ключицей сломанной, с этой вот рукой, но спасла! Кем, чем вы были бы сейчас, где были бы без фюрера?! О жадная толпа, которая, даже покорившись, подчиняясь, старается овладеть тобой, господствовать! Тянет преданно руки, чтобы завладеть полностью тобой. И ей даже удается. Как сладостной Гели удавалось, моей пышнотелой и нервной племяннице, а когда не до конца удалось, взяла в руку пистолет и отняла себя у своего господина. «Ну, тогда я уйду!» – и ушла, закрылась и выстрелила. Ревнивая и нервная. Как сама Германия. Сама и поплатилась. Ревность и неверность – в этом их природа. С этого и Ева пыталась начинать – в первые наши месяцы. Все грозила отравиться. И все это ради того, чтобы, подчинившись, господствовать. Завладев, предать. У толпы, у женщин – тут верное чутье, инстинкт, верный путь. И та же жадность. Любя, поклоняясь, отнимут все радости, без которых сами своего существования не представляют. Живи ради них, дыши ими и ничем, никем больше! Еву до сих пор прячу: смертельно обидятся, если узнают. Как же, обручен с Германией! Все готовы отнять добрые, преданные немцы у любимого фюрера. Но фюреру ничего и не надо. Ничего! У него есть то, о чем вы и думать не умеете. О чем не догадываются даже те, кто знает о Еве, – ближайшие «номера». Даже эта африканская свинья Герман. И всезнающий рейхсфюрер не знает. Да, интересно, как там у моего хромоножки Иозефа? Бьет его Магда, нашего сморчка-германца, или он собственным удовольствием и старанием делает ей детишек – сколько их там уже, пять или шесть? Гиммлер намекал на связь его с какой-то подлой славянкой, чешкой: ну штрассеровский бесенок, ну социалист!
Мне известны ваши порочные тайны и тайные пороки, мои законопослушные немцы! Плотоядные, неверные, старательные, оглядчивые. Мы общей тайной перед миром повязаны. Только вы и передо мною простодушничаете. О это простодушие старонемецкое, эта честность на весь мир! Они-то и есть самая великая немецкая хитрость и самая полезная. Как швабы лучшие, талантливейшие лжецы в Германии, так и мы с вами – в Европе. Благодаря нашему мефистофельскому простодушию. Если чем и победим другие расы, то именно простодушием, которым всегда питалось истинно немецкое чувство правоты перед всеми и за все. Кто больше меня предан этому гениальному немецкому чувству? Так не надо хотя бы передо мной хитрить. Я во всем с вами и всегда. Да, мы всегда честно требуем только необходимого, ничего лишнего! Требуем по праву немецкой культуры, немецкого трудолюбия – честно! Чувство любого немца, когда он обижен за Германию, – самое справедливое. Это народное чувство. Как ни у кого другого. Никто и никогда не хотел считаться с нашими правами, требованиями, которые только справедливы. И сегодня мы честно объявляем: отныне мы становимся нацией истребляющей! Англосаксам придется передать нам вместе с Ближним Востоком, Африкой, Азией – и эту роль, это право.
Ваша, немцы, простодушная честность, она и моя тоже. Но я не позволю вам сыграть в слишком знакомую игру: не удастся вам простодушно отречься от своего фюрера. Умыть руки, которыми тянулись к Нему, старались коснуться хотя бы одежды или крыла машины. Я не сам, мы не сами пришли – вы нас позвали. Но не были бы вы немцами: и здесь вы простодушничаете, хитрите! Вы не вышли с нами на мюнхенские улицы, осторожненько выглядывали из-за штор, когда мы шли под пули. Вы не дали мне все голоса, хотя и поманили нас. А этот ублюдок Штрассер едва не расколол партию, и едва все не погибло. Я должен был пистолет поднести к виску и только угрозой, что ухожу, выйду из игры, – только этим снова привлек Их глаза и повернул события в нашу пользу. У вас на все и всегда есть алиби. И все равно мы возникли не сами по себе, мы – из вашей всегдашней правоты, мы – из вашей простодушной немецкой обиды на всех: на банкиров, на красных, на Запад, на Восток, на поражение, на голод, на своих, на чужих. Вы нас позвали!..
Я выбрал борьбу со всеми и до полной победы, что означает – и я это не скрывал никогда! – полное уничтожение побежденных. Вы на это согласились, пошли за мной, за ними. Потому что я угадал вас, угадал то, чего вы сами стыдились всегда, боялись в себе. Мы повязаны. Не рассчитывайте, что вам простят то, чего не простят мне. Если победим не мы.
Я вас вижу всех и до конца, вы меня – на сколько хватает вашей смелости. И сколько я позволю. Наша с вами общая тайна кончается там, где начинается только моя. И где начинается тайна моего общения с Могуществами. С Ними я разговариваю не на немецком. Я сам это не сразу обнаружил. Почему-то совсем не задумывался раньше, на каком мы разговариваем, когда Глаза Ужаса смотрят мне в лицо. Ева пугается, спрашивает, что со мной, готова голову мою пощупать, если бы не боялась, что рассержусь. И больше всего пугает ее, что разговариваю на незнакомом языке. Только имена звучат для нее знакомо: Дитрих, Петш, Лянц, Кубичек… Но при чем здесь Кубичек, этот жалкий музыкантишка?.. О чем это я? Да, так и должно быть: особый язык, не всем доступный, язык посвященных! Но если не немецкий, тогда какой же изберем мы, избравшие себя? Все планируем, а об этом наши мудрецы – никто! – даже не задумываются. И мне это не сразу в голову пришло. Столько лишних народов, испорченных рас, а ведь это и языки. Это тоже наши трофеи. Но никем не замечаемые. Предполагалось, что это ненужный хлам, лишнее, подлежащее забвению. А ведь это чудесные скальпы для победителя! А что, неожиданный поворот мысли. Шутка истории. Никто не задумывался, как все-таки будут общаться Высшие Люди и чем отгораживаться будет каста господ от тех, кто внизу. Как будут общаться различные касты, которые мы создадим? Идеально было бы – каждой выделить свой язык. Кроме служебного – пусть себе и немецкого. Без этого не возникнет ощущение избранности. Посвященности и недоступности. Высоты. Тибета. Не придумывать же специальный язык, еще один, новый эсперанто. Противно, труп! Нет, получить язык с еще теплой плотью, кровью! Кто сказал, что это противоречит нашей идее? Мы же не отказываемся даже от французских картин – явного декаданса, от старинных книг – даже христианских! Рейхсмаршал Геринг тем только и занят, что все тащит в свои дворцы. Кому картины подавай, кому шахту, поместья, но никто не увидел величайший трофей – язык врага! А что, забрать на самый верх язык греков, например, или албанцев. Или еще более древнее что-нибудь. Даже Ганнибал, Александр не замечали такой трофей. А они знали права победителя.
А что, если французский или даже английский! С английским поработать пришлось бы! И не самое трудное их чахоточный остров. Что остров: закрыть для посещения на годик-два, предварительно запустив туда все эти батальоны, что сейчас практикуются на Востоке. Бах-Зелевский докладывал, что у них там, особенно в Белоруссии, много поучительного, достойного внимания… Так вот, закрыть остров, а потом распахнуть: заходите, смотрите! Что такое, куда девались эти англичане? Был такой народ, говорите? Хорошенько ищите, хорошенько! Что-нибудь да осталось, если был…
Дорого вам обойдется ваше островное высокомерие, ваша несговорчивость, всегдашняя готовность влезть в германские континентальные дела! Но существует еще этот монстр, чудовище искусственное, что нависает из-за океана. Созданное все теми же старательными, неосмотрительными немцами. Будет справедливо, если американский континент заговорит только по-немецки. Останется на нем лишь то, что на немецком будет разговаривать. Но сложность даже не в этом, а в англоязычных тварях – азиатских, африканских, австралийских – их столько по всему миру! Попробуй сними английский скальп со всех этих голов – белых, желтых, черных! Но чем труднее задача, тем больше она зажигает. Сделать так – за 10, 20, пусть 30 лет, – чтобы английский, когда-то «мировой», стал служить четыремстам или только сорока человекам! Цель, обратная той, которую ставили высокомерные островитяне. И ничего не скажешь. Твердо, умело шли к ней четыреста лет, принуждая все новые континенты говорить по-английски. А тут наоборот: убрать с планеты миллиард, который смеет понимать язык господ. Фантастическая цель, под стать богам, да и то разве что дохристианским!
А для тех, кому позволим существовать на «планете», общим будет немецкий. Он и будет языком приказывающим. Он словно специально для этого создан. Не случайно укротители пользуются именно немецким – в цирках и зверинцах всех стран. Да, да, по-немецки вежлив лишь обман! Кто это сказал?.. Но из немецкого следует убрать лишние эмоции. Сколько в нем наследили все эти плакальщики-гуманисты, многие века эксплуатировавшие низменные чувства жалости, сострадания! И чему надо помешать обязательно, так это немецкой привычке к регламентации. Мои немцы захотят все добросовестно перестроить на свой, на немецкий лад. Как будто мы затем пришли, чтобы украинца заставить мыть тротуар перед жилищем. Пусть доживают, что им осталось, в своей исторической грязи, не наше дело поднимать культуру, учить, лечить туземцев. Немецкий порядок, но совсем в другом понимании, смысле. Каждое немецкое слово будет звучать как сигнал, и они должны бросаться со всех ног и выполнять приказ! Прежде всего – дороги. И все их образование – дорожные знаки. Хотя и это не нужно. А может быть, вообще – язык жестов. И этого для них много! Им не ездить по дорогам, которые они будут мостить, их повезут. Каждое поселение, каждая улица в доживающих свой век неарийских городах должны существовать замкнуто. Ни вчерашнего, ни завтрашнего для них не существует, только то, что есть сейчас. А есть только это: высится столб в центре каждого изолированного региона, а на нем репродуктор, а из него звучат приказывающие немецкие слова. А в остальное время – музыка. Сколько угодно, как можно больше музыки. Пусть вымывает, уносит из их памяти все прошлое. Никакой истории, ничего о прошлом, о будущем. Пока к зарастающим лесами городам и в поселения не придут машины и не увезут всех на восток – по бетонным дорогам. Сейчас там ни хороших дорог, ни нужного спокойствия, но порядок налаживается. Изобретательные командиры неплохо используют деревянные здания с соломенными крышами. У славян даже церкви покрыты соломой. Что-то языческое, крематории одноразового употребления. Но чем дальше мы продвинемся в Европу, в собственно Европу, тем сложнее, труднее будет без хорошо налаженной системы и технологии. У западных славян дома из кирпича, камня. Не говоря уже о латинских народах. Любопытно все это выглядит: продвигаясь на Восток, мы одновременно начинаем двигаться с Востока на Запад – в осуществлении наших расовых целей…
15 июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Пауля Дирлевангера убили и сожгли жителей белорусской деревни Борки Кировского района Могилевской области. Кроме этой деревни спецбатальон Дирлевангера (один из многих, действовавших на территории Белоруссии) уничтожил еще около двухсот деревень – более ста двадцати тысяч человек. В числе этих деревень и Хатынь.
Ю. В. Покровский (заместитель главного обвинителя на Нюрнбергском процессе): Известно ли вам что-либо о существовании особой бригады, которая была сформирована из контрабандистов, воров и выпущенных на свободу преступников?
Бах-Зелевский (бывший начальник штаба всех боевых подразделений по борьбе с партизанами при рейхсфюрере СС): В конце 1941 – начале 1942 гг. для борьбы с партизанами в тыловой группе «Центр» был выделен батальон под командованием Дирлевангера. Эта бригада Дирлевангера состояла в основном из преступников, которые имели судимости, официально из так называемых воров, но при этом они были настоящими уголовными преступниками, которых осудили за воровство со взломом, убийства и т. д.
Ю. В. Покровский: Чем вы объясните, что немецкое командование тыла с такой готовностью увеличивало количество своих частей за счет преступников?
Бах-Зелевский: По моему мнению, здесь имеется открытая связь с речью Генриха Гиммлера в Вевельсбурге в начале 1941 года, перед русской кампанией, где он говорил о том, что целью русской кампании является: расстреливать каждого десятого из славянского населения, чтобы сократить их количество на 30 миллионов. Для опыта и были созданы такие низкопробные части, которые фактически были предназначены для реализации этого замысла.
Особая команда, «штурмбригада», доктора Оскара Дирлевангера состояла из трех немецких рот (кроме немцев – австрийские, словацкие, латышские, мадьярские фашисты, французы из вишийского 638 полка), из «роты Барчке» (Август Барчке – фольксдойч, начальник кличевской районной полиции) и «роты Мельниченко» (Иван Мельниченко – бандеровец) – католики, лютеране, православные, атеисты, магометане…
Деревня Борки состояла из семи поселков – более 1800 жителей…
Из показаний бывшего карателя-дирлевангеровца Грабовского Феодосия Филипповича, уроженца деревни Грабовка Винницкой области:
«На эту операцию мы выезжали из Чичевич на автомашинах и мотоциклах. Помню, уже не весна, уже картошка цвела… Перед выездом Барчик (так полицаи упростили немецкую фамилию Барчке. – А. А.) сказал, что поедем в деревню Борки на помощь немцам, так как их в районе этой деревни обстреляли партизаны. Примерно в трех километрах от деревни Борки на шоссейной дороге Могилев – Бобруйск автомашины и мотоциклы остановились. По команде Барчика взвод Солдатенки Анатолия и Добрынина Дмитрия, а также часть немцев и украинцев разгрузились. Тот же Барчик сказал, что эти взводы совместно с группой немцев и украинцев должны оцепить центральную деревню и прилегающие к ней поселки с восточной и северной стороны. Остальные наши взводы, а также силы немцев и часть роты Мельниченко поехали дальше по шоссейной дороге…»
Поселок первый
Ну, сачки, ну, работнички! Учат вас, да никак не научат. Шефа, штурмбанфюрера Доливана на вас, чтобы душа вон! Покуривают, скалятся, аж тут из-за сарая слышно. А я тут возле пустой хаты, як хрен на вяселли. Зато в деревне немцы и бандеровцы – те свое дело знают! Из погребов сальце удят, шмутки бомбят. Бегают по дворам, как подсмаленные…
Тупига пошарил в отвисших, как пустое вымя, карманах желтой мадьярской шинели. Полы шинели у него подняты, засунуты за ремень. По-июньски жарко, но шинели он не снимает. Оттого что голова все время принаклонена к плечу, а жилистая шея изогнута, такое впечатление, что человек постоянно прислушивается: левым ухом к земле, правым – к небу.
Пошарил в накладных карманах зеленого френча с белыми, крест-накрест, игрушечными винтовками и гранатами на черных эсэсовских петлицах. Вспомнил, догадался и обрадованно ляпнул по ноге: о, есть! Добыл из брючного кармана кусок галетины, осторожно забрал ее, как лошадь, большими губами и принялся сосать. Наклонился и поднял на руки раскоряку-пулемет, который до этого скучал у его ног. Сказал, хрустя ртом: «Иди, ладно». И снова пожаловался: «А нам стой тут, як хрен на вяселли». Наклонил голову и сунул, как в хомут, под замасленный, грязно-зеленый ремень, и раскоряка-пулемет уютно пристроился у него поперек груди. Тупига поправил тяжелое железо, чтобы обоим было удобно.
Где эта паскуда, этот Доброскок? Дал бог второго номера! Диски бросил в песок, шинель бросил. Тоже за сарай спрятался: можно подумать, без него там не обойдутся. Ха, идет, ну, ну, иди, я тебе сейчас выдам, скажу пару тепленьких! Шагает коротконогий, как пишет, – колхозничек, сачок паршивый. Недомерок вонючий, загнали ноги в задницу, а вытащить забыли. Но и этот туда же: хлебом его не корми – пусти в курятник, теток попугать-пощупать, когда они ни живы ни мертвы от страха. На пару с Кацо промышляют. Всегда с оцарапанными носами, рожами – тхоры[1] вонючие. Нет, на месте Доливана научил бы я вас работать. Ползет, еле ноги переставляет. А я для вас – карауль пустую хату. Там одна баба осталась. Ну точно, одна во всех окнах! Бегает от окна к окну, летает по хате, ждет не дождется. Идет, идет твой милок, не бойся, что забыли. Хоть через полчаса, но вспомнили, идет и по тебя. Дурной все-таки народ эти бабы! И правда, как курятник. Их бить, убивать гонят, тащат, а они хлеб, миски, платки волокут – чуть не подушки. Верят, что их увозить будут. Как же, в Германию, ждут вас там – не дождутся! Вон сколько фуфаек и кусков хлеба, тряпья всякого по полю валяется, по картошке. А выбрать, взять нечего. Один платок только и поднял, в цветах весь – подарок стерве могилевской, пусть покрасуется. Да еще спички отнял. Зажала в руке и несет. Куда ты несешь, спросить бы тебя? Наверно, как утром взяли ее от печки, так и не разжала руки. «Дай прикурить, тетка!» – а она не понимает. Умрешь от всех вас! Но откуда у них спички? Немцы же не привозят. Во, борисовская фабрика. Распотрошили магазин в сорок первом. А может, и правда из Москвы им все присылают. Говорят же, что в деревне этой бандит на бандите. Был я, был в вашем Борисове! Спасибо, побывал везде. Только дома сто лет не был. Да и где он, тот дом?
– Ну что идешь, как спишь? Диски твои где? Что «ладно», было бы ладно, я б тебе не говорил. Как врежут зараз из того леска бандиты, сразу забегаете. Вот тогда и правда жарко станет.
– Да ладно тебе, Янка.
– Евдокимович…
– Дай лучше закурить, Евдокимович. Слюна как резина. Курнуть дай.
– А штаны не тяжелые?
– Две ямы загрузили. С верхом.
– А эту что, на развод оставили? Или вы с Кацо для себя припрятали? Доливан вам протрет глаза, если не видите. Может, и еще десять их там – под печкой, под полом. Что, Тупига за вас будет выволакивать? Не рассчитывайте!
– Загорится дом – сами выползут. Нам что, больше чем кому надо? Верно я, Иван Евдокимович? Дай курнуть.
Доброскок, низкорослый, с красным, как у новорожденного, сморщенным личиком, все переступает короткими ногами в тяжелых сапогах, все сплевывает сухим ртом. За каждым словом сухой плевок. Глаза воспаленные, страдающие. И хитрые. Он боязливо посматривает на окно, где белеет лицо женщины, и с затаенной какой-то мыслью приплясывает возле нависающего Тупиги, а тот смотрит на него с насмешливым наклоном головы, как курица на ползущего червяка. Вот-вот клюнет. А Доброскок тянет, тянет – слова, время…
– В эти самые Борки хлопцы наши до войны прибегали, бегали, говорю. Во куда, знацца, к девкам они бегали!
– А тебя не брали, сморчка?
– Все говорили: Борки, пойдем в Борки…
– Не брали бздуна!
– Мне и своих хватало. Знацца, это сюда бегали. Во какая деревня большая. И там дым, и там.
– Кому тут приходилось бегать, так это голове колхоза. Собери вас попробуй, сачков! Таких вот работничков. Ну, что топчешься? Забирай ее и кто еще есть и веди. Пока ты баб щупаешь, бандеровды все сундуки да погреба обшарили.
Тупига вдруг начал судорожно хвататься за бока, за живот, за грудь – все карманы обстучал. И замер сладко, как кролик, добравшийся до крольчихи: кажется, пискнет умирающе и глаза закатит. С отрешенным, вовнутрь повернутым взглядом, Тупига застыл, как бы прислушиваясь. Голову совсем на плечо свалил. Кадык, как поршень, протолкнул слюну, и раз, и второй. Есть! Нашел! (Кажется, что кто-то все время подкладывает в карманы ему сладкие сюрпризы.) Достал смятую пачку сигарет, заглянул в нее. «Одна!» – сказал обрадованно и выхватил сигарету желтыми зубами. Пачку, однако, не выбросил, а сунул в карман.
И пошел огородами к деревне, где все бегают со двора во двор солдаты в черном и голубом. Оглянулся и сердито показал своему второму номеру на сумку с пулеметными дисками. И на окно, испуганно белеющее. Доброскок тронул, как бы проверил, при нем ли, немецкую пилотку с «адамовой головой» – костями и черепом, поправил на плече слишком длинную для него французскую винтовку, даже одернул черный мундир и пошел к дому. В окне все белеет ужасом и ожиданием женское лицо. Громко, как бы знак подавая, ударил каблуками по грязному крыльцу.
Идет за мной! Это по нашу душу, детки, идет. Погонит туда, за сарай. За тот страшный угол, куда все ушли. Наша очередь, наша, детки мои! Так кричали, так плакали, а теперь тихо. Нас ждут за тем страшным углом. Смертонька наша идет. Сынок мой необцелованный! Или доченька?! Вы даже не заплакали ни разу. Не услышала, не увидела и не знаю, кто ты – сынок, дочурка? Не надо, не стучи ножками по сердцу – я здесь, я с вами, а он еще, может, и пожалеет нас. Он все отталкивал, отпихивал меня в угол, к стенке, загораживал от других немцев, когда нас была полная хата, – тащили, хватали за руки, за одежду, били, кричали, и стоял такой вой. Он глянул, узнал, я видела, что узнал, и все спиной меня отпихивал. Не пугайтесь, не полохайтесь, сынок, доченька. И что ж нам одним делать тут, когда никого нет, никого-никого на свете?! Вы и не услышите. Больно будет мне, страшно мне – как хорошо, что вас еще нет! И вы их не увидите…
– Так это ты, знацца? Ну так добрый день, племянница! Ты это, знацца, а я увидел и думаю. Узнал сразу, хотя ты во какая! Что ж твой мужик, учитель твой, с брюхом тебя да по такому времени оставил? В армии? Или тоже в банде? Ну, чего ты все в окно да в окно? Обязательно чтобы видели тебя! Не забудут, не бойся. И что мне теперь с тобой делать? Кого я вместо тебя поведу? Есть тут кто еще, зашился, может? Под печкой, может? Эй, ты там, вылазь, гранату сейчас кину, по-доброму говорю! Ну вот видишь, нету никого. А меня послали, думают, что еще остались. А тут одна ты. Ну, что глядишь? Не признала? Габруся сынов помнишь? Доброскоки мы. Не помнишь, малая была, когда приезжала к нам из города с мамашей. А теперь чего прибежала из города сюда? К бандитам! Сидели бы, где сидели, или у вас там жевать нечего? У нас дома карточка висит – твоя и твоего учителя, мужика твоего. Он где? Да ты не бойся, свой я, Габрусевых помнишь? Еще мой брат Федор был. Пропал, как пошел в военкомат, так и не вернулся. Даже и не звали в тот военкомат, сам побежал…
Еще бы я его не узнала! Как две капли, только Федор высокий был. А лицо такое же: все морщится, как плачет. Смешными мне казались оба, смотреть не могла. Брат его приезжал еще со стариком в Бобруйск, куда-то учиться устраивался. Но тот добрым казался, смеяться хотелось. Увидела этого – сразу про них подумала. Еще когда гнали нас от деревни через поле сюда, к этой, хате. Кто-то фамилию Доброскока выкрикнул – нашу фамилию, какой-то полицейский, и я тут же услышала. Хотя от криков, ругани, «ферфлюхтеров», от воя детского и мыслей, куда нас и что с нами, – ничего не соображала, ничего не слышала…
– Знацца, и ты в Борки попала? И я тоже в первый раз. Все говорили: Борки, Борки! Девок отсюда наши брали замуж. Беда с вами: тут такое делается, а она рожать надумала! А может, ты с мужиком сюда прибежала? В банду захотел! Не сидится им, а теперь бабам и детям за них отдувайся. Надо им эти партизаны! Сидели бы как люди!.. Ну что мне с тобой делать, говори? Ну что? Где я тебя в этой конторе спрячу? Все сгорит. А я кого-то должен привести, послали за тобой. И Тупига видел…
О чем он, чего он от нас хочет, господи? И кто это так плачет, почему я здесь, неужели правда, что это я, что я здесь, плачу, кричу, и все это происходит, господи?..
– Разозлили немцев, а отвечать нам с тобой! Ну вот сама скажи: что я могу? Живая сгоришь, если бы и осталась. Думал, что как-нибудь, племянница все же. Но что ты тут придумаешь? Во, ай-яй-яй! Тупига вертается, назад идет! Ну, пропали! И еще не один, с кем это он идет? Сиротка! Его тут не хватало! Звини, хотел, а тут видишь… («Эй, тхор блудливый, ты все здесь?») Видишь, кличет Тупига! Ды иди уже, чего тут. Слышь, баба, добром вас просят!..
…Я плачу, я кричу, вою, рву на себе волосы, мне не хочется свет белый видеть – жить не хочется. Мне только страшно идти по полю этому, среди разбросанных платков, галош, детских курточек и видеть впереди тот сарай, угол, за который все шли и где такая жуткая тишина. Каждый, подходя к углу, обязательно останавливался: детки бросались в сторону, их ловили, хватали, тащили туда, за угол… Какое счастье, что мои не видят, ничего не увидят. Мы тоже оставим на этом поле платок. Оставим. Гриша придет из лесу – он обещал прийти, когда я рожу, забрать нас от тетки Маланки – придет и заберет платок и будет знать, где мы. Будет знать где. Видите, детки, нас не бьют, не толкают. Вот он даже платок мой поднял, догнал, подает мне. Потому что он дядька наш. Ваш дедушка. А за ним еще двое идут: гогочут, им так весело, так весело. Только минуть угол. И ничего не думать, ничего не думать… За страшным, тихим сараем – голоса, смех! Вот они: в черном, в зеленом, голубом стоят среди поля и под стеной – смотрят на меня, замолчали и ждут. Я что-то должна сделать, они ждут. Я должна умереть. Но где все люди, куда они их девали?.. Больно толкают – в плечо, в спину. К нему подталкивают, вот он – тот, кто ждал, дожидался за углом! Все на него смотрят, на нас – на него и на меня, – и ждут. Он глаз не поднял, не видит меня, но он уже зол на меня больше всех, уже ненавидит. За то, что меня надо убить, за это он так ненавидит? Рука с наганом опущена к ноге, а сам он по пояс голый, подвязался, как фартуком, рубахой. На жирной груди мокро от волос, никогда не видела, чтобы столько волос было на человеке. Руки аж черные, нет, это рукавицы у него шоферские, по локоть длинные… Стоит над ямой. Только не смотреть на яму, не смотреть туда! Картофельная ботва затоптана и полита чем-то, как смолой, песок слипшийся… И на ноги налипает, меж пальцев. Я не обула ничего на ноги, собралась в Германию, а ничего не обула. Я же босая!.. А они смеются все громче, выкрикивают и смеются: «Гляди, уже с брюхом!.. Вот что значит Доброскока послали. И Кацо не докажет!.. Смелее, смелее, тетка, у Кацо это еще лучше получается!» А яма молчит. И все открывается, все ближе, шире открывается. В поясницу больно уперлась винтовка, они меня вперед подталкивают, а Голый, Черный все отступает, не поднимая руки с синим наганом, отходит к яме… Только не смотреть. В яму не смотреть. Такое что-то кислое из нее! Мне же нельзя пугаться, мне нельзя! Деткам повредит, пошкодит. Нет, я отвернусь, я не хочу смотреть. Дядька, что ты, что же это ты робишь с нами!.. Какое у него плачуще-сморщенное личико, как дико оно похоже на детское! Испуганно заслонилось локтями, руками, вскинувшими винтовку…
…Доброскок выстрелил в повернувшуюся к нему женщину. Выстрела она не услышала. Сделала шаг, второй, третий назад и опрокинулась навзничь на убитых – в яму. Тупига подошел к яме, и ему показалось, что рука женщины еще захватила и потянула на колени подол платья.
Женщина спала.
Свидетельства жителей «огненных деревень» – Красница, Борки, Збышин, Великая Воля:
«Во ржи они не искали. Из хаты в хату ходили. Може, ближе где искали, а нас – никто. Только было такое тяжелое, страх – и спать хотелось… Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное, люди же горели, запах тяжелый был. И спать хотелось…»
«Рассказывать вам, как это все начиналось? Ну вот, я жала на селище. Ячмень жала, а рожь стояла, и там перебили двенадцать душ. А как стали они людей тех бить, я во так легла ничком и заснула. Я не слышала, как их били, не слышала ани писка того, ани крика. А потом, когда встала я – ого! – уже моя хата упала, уже и соседские. Все трещит, и свиньи пищат, и вся скотина ревет. Так я поднялась и стою, а соседка идет и говорит:
– Чего ты тут стоишь? У нас же всех побили!»
«А тут приезжает на лошади полицейский, который добивал. Видит, что живой – добивает. Он ко мне подъехал, а я глаза приоткрыла и тихонько смотрю на него. А дети не шевелятся, спят. Уснули».
«Я попал тогда как раз в другую группу, двадцать четвертым. Я только помню, что до того момента был при памяти, пока скомандовали ложиться. Упал я – уже выстрелов не слышал, как по нас стреляли. Может, и уснул. Что-то получилось».
Так это правда? Правда, что я здесь и мне это не снится? Но почему я должна не здесь быть, а где-то еще: и мама, и отец со мной, они меня любят, и нам хорошо вместе. Голоса у них добрые, утренние, когда ничего еще не случилось за день, никто никого не расстроил, не обидел. Это вечером отец бывает сердитый, уставший от ругани со своими строителями, и тогда мама с ним разговаривает вполголоса, очень спокойно, но все равно не так, как утром. Почему я думала (я помню, что думала, считала!), будто мама моя умерла? Вот же она, со мной, с нами, и все мы вместе! Да, война, где-то война, и там нет мамы, отца тоже нет, я там одна, а здесь, сейчас мы вместе, все втроем, и они такие молодые и похожие на самих себя – отец и мама. Особенно мама. И наша общая спальня: процеженный сквозь белые шторы свет, ярко-красный шелк в вырезе пододеяльника, отец позвал: «Малышка!» – и я соскользнула со своей кроватки на холодный, как стекло, крашеный пол, меня встретили его руки и втащили на «взрослую» кровать, мягкую и пахнущую табаком. Я нырнула носом, лицом в скользко холодноватый красный шелк и стала шиться под белый пододеяльник, а папина рука ищет меня там, щекочет, мама нас утихомиривает: «Как маленькие!» Папины руки оторвали меня от одеяла – «земли», высоко подняли, держат, и я больно ощущаю под его пальцами, какие у меня еще детские, тонкие ребрышки. Щекотно и почему-то стыдно, но от этого еще радостнее. Мама смеется вместе с нами, но она тотчас почувствовала мой стыд и отнимает у папы меня, стаскивает с «неба» на одеяло. Пахнущие кремом, ночью и еще чем-то красивые руки ее не могут справиться с папиными, и у нас столько смеха, возни, рук, ног! Папа опустил меня лицом, ртом, губами на жесткую, колючую грудь. И тут же перекатил, как котенка, к маме: «Вот твое молочное хозяйство!» Мама пугается, сердится: «С ума сошел!» Стыдит меня: «А ты, большуха!» Но я все равно прижалась, как притянуло меня, жадно-жадно к ней прильнула и так близко услышала тихое постукивание. Тихое, потом громче, громче, уже весь мир заполняют гулкие удары – я снова там, у себя, под необъятным куполом маминого сердца!..
Уют и тревога, полет и цепкая устойчивость… Что-то уже радовало его, мальчик улыбался, слыша гулкие, ровные удары, он морщился, сжимался, когда высокий купол куда-то уносился, унося и его, а удары делались оглушительными и частыми-частыми. Из материнской плоти в него заходила кровь, принося сны. Все поколения когда-либо живших людей и умерших давно существ пытались пробиться в его сны, теснились в маленьком мозгу, в каждой клетке его тельца, снова пытались вернуться туда, откуда унесла их и все дальше уносит смерть. Сны он не видел, он их ощущал: как чье-то доброе или злое присутствие. Доброе сливалось с ровными и вечными ударами, злое копилось, когда удары делались оглушительными, тревожно-частыми. С каждым ударом вспыхивала, открывалась из конца в конец вселенная, звук этот уносил купол вверх, держал и не позволял куполу опуститься, упасть и все увлечь за собой…
Шестимесячный под живым сердцем матери лежал вместе с нею на трупах.
На ручных швейцарских часах немца Лянге было 11 часов 31 минута по берлинскому времени.
… Мама отталкивает меня от груди стыдливо, даже сердито, отец хохочет, опять поднял на вытянутых руках, и я вижу что-то черное там, где наше большое зеркало. Длинная, как мамино новое платье, черная тряпка висит на зеркале. Господи, нет, это неправда, что мама умерла! Папа поднимает меня, чтобы я могла ее видеть, а я не смотрю на лицо, а только на платочек в желтых пальцах, нежный, как светящийся мотылек. Потому что если увижу ее лицо, – это будет правда. Господи!.. Какие-то женщины внизу шепотом подсказывают мне: «Поплачь, тебе надо плакать, тебе надо…» Я отвожу глаза на зеркало, на черную тряпку и нарочно вспоминаю, как мы ходили фотографироваться, все втроем, а он спрятался под черное, тот, к кому мы пришли… Упадет черная тряпка, и я все увижу. Все!.. «Ты не бойся, ты поплачь, тебе надо плакать…»
Прошло три минуты после выстрела Доброскока: Тупига как раз посмотрел на свои «кировские», было уже 11.34 по берлинскому времени. Именно здесь женщина открыла глаза, лишь на миг, и увидела, унесла в себя, в спасительный сон и это: чьи-то огромные, в сапогах ноги над ней и уходящие в небо, наклонившиеся, будто падающие, нечеловечески большие фигуры. Слух ее зачерпнул и звук – воющий, далекий…
И каратели услышали многоголосый вой в соседнем поселке и теперь говорили об этом.
– Во когда мельниченковцы проснулись.
– Нет, там первая немецкая.
– Когда будэт им конэц?! – сердито сказал, глядя в яму, голый по пояс каратель с черными, в шоферских рукавицах, руками, вытирая волосатый живот и под мышками сначала одним, потом другим рукавом грязной рубахи, которой он опоясан, как фартуком. Стащил и подальше от ямы, к стене бросил рукавицу, принялся стаскивать вторую, а она, длинная, тесная, не слазит с потной руки, щедро покрытой шерстью. Морщится, как от боли, и смотрит на Тупигу, который в шинели стоит рядом и, склонив набок голову, жует травинку. Черные глаза все напирают на Тупигу, все больше круглеют, а тот вроде и не замечает, что вид его кому-то неприятен.
– Пачэму не сымешь? Пачэму? Кто тебя заставляет? Кто, спрашиваю? Я тебя заставляю?
Голый, потный каратель все больше свирепеет, будто его самого пеленают в пыльное сукно Тупиговой шинели.
– Кто укусил вашего Кацо? – поинтересовался Тупига.
– Шинэл, пачэму шинэл! – страдающе выкрикивал Голый. – Пачэму не сбросил?
– Вы бы все побросали, – презрительно сказал Тупига и ткнул стволом пулемета в сторону ямы: – Во, они у вас ползают. Работнички!
И другие подошли, стали смотреть. Подсказали:
– Проведи разок. Распишись, как в день получки.
Нехотя, с ленцой, движением мастера, которого призвали исправить чужую мазню, халтуру, передвинул на груди «дегтяря», взвел клацнувший затвор и стал боком к яме. Даже голову от плеча поднял, держит почти прямо. Резко передернул ремень пулемета так, чтобы ствол смотрел вниз, и сразу ударила очередь. Длинная и дымная. Как бы сопротивляясь, упрямясь, но влекомый тугой пружиной, Тупига медленно поворачивался, разворачивался на краю большой, оставшейся от картофеля, заполненной людьми ямы. И пошел по краю, ноги его, сапоги рвали окровавленные и похожие на внутренности стебли картофеля, ступали осторожно, чтобы Тупиге не поскользнуться и не сбиться с плавного рабочего хода. Эхо, забивая паузы меж очередями, понеслось через поле, ударилось о зелено-белый березняк, бросилось в противоположную сторону – о дома поселка стало биться. (А оттуда уже выползает мирное, как на пастбище, стадо коров.)
Тупига тянул очередь, как опытный портной шов, – твердо и плавно, внимательно вслушиваясь в работу машины. Следил, замечал, как испуганно вздрагивают и, кажется, ойкают мертвые, словно оживающие от его работы… Сначала у стенки ямы, по краю прошелся, подчистил (правда, кое-где неаккуратно задевая, сбивая черный и желтый песок), затем круг поменьше взял, оставляя самый центр ямы напоследок, – где, поджавшись и все равно бесстыже, на спине лежит та самая, которую привел Доброскок. (Было это на самом деле или только показалось Тупиге, что руки ее еще потянулись к подолу, когда она свалилась туда?)
У меня ползать не будут. Не будут! Не будут!.. Ишь, комсомолочка бесстыжая, развалилась, как дома. С затяжечкой надо, с затяжечкой, а точку поставить на ней… На-а-не-е-ей!.. Сейчас, сейчас – угадать, чтобы не раньше и не позже, последние пяток патронов, пуль – туда, в самый центр, на-а-а-не-е-ей!..
Уже подвел гремящую очередь к лежащей в середке женщине, уже взорвалась кроваво голова старика, который распластался у нее под спиной, уже почти доста-а-ал…
И тут пулемет пусто смолк, будто и не стрелял. Лишь вонь пороховая перед лицом.
– Где диски, свинья? Тебя спрашиваю! – Тупига слюной брызгал в лицо Доброскоку, а тот только моргал и не понимал.
– И правда – диски! – наконец вспомнил Доброскок и, повернувшись, посеменил, исчез за углом.
Тупига как можно спокойнее отошел от ямы и сказал, чтобы все слышали:
– Работа! Учитесь, сачки!
– Эй, Тупига! – вдруг заорал молодой и весь в ремнях полицай (это с ним Тупига вернулся из деревни, с ним шел за Доброскоком и женщиной). – Давай пошли! А то Барчик свернет шею тебе на другую сторону. Фэрштейн? И мне, посыльному, заодно.
– Заткнись, Одесса дурная!
– А мне что? Сказано: найди и тащи живого или мертвого. Нужен ему зачем-то.
Вот уж на кого целого диска не пожалел бы – на ворюгу этого, крикуна! Никто фамилии его не помнит, зато клички аж две: «Одесса» и «Сиротка». Противный голосок, скулящий. И наглый. И все так изобразил, что другие смеются, им хоть палец покажи, будут скалиться. А сами на месте Тупиги еще как бы заносились: его, а не кого-то другого ищет командир роты, без него не может! Да только Тупига не из таких: зовут – пойдет, но бежать не собирается. И даже радоваться во весь рот.
Идти надо, раз кличет гауптшарфюрер. Но тут есть свой начальник – Лянге, и хоть он всего лишь шарфюрер, но настоящий, германский немец, а не такой недоделанный, как Барчик. Стоят у стенки сарая оба шарфюрера, два командира одного взвода и тихо беседуют – не лезть же к ним! Лянге по-русски ни бельмеса, но Сечкарь-то, русский командир и шарфюрер, слышал, что говорил Сиротка, и, значит, должен объяснить немцу. Он для этого – а для чего же еще? – и состоит при Лянге. Помогает немцу командовать «русским взводом». И еще семеро немцев – «майстэры» во взводе, для того, чтобы Лянге не скучал, чтобы не один был среди чужестранцев. Прежде их было только трое – немцев во взводе, теперь добавили, стало по семь, по десять в каждом ненемецком взводе. Это после того, как целое отделение сбежало в лес, весь караул Горбатого моста. Заскучали по Советам! Вот на кого дисков не пожалел бы!
Замухрышка этот Сечкарь никак не натешится, не нарадуется, что говорит, как настоящий немец: научился где-то студентик! Так и сечет, так и лопочет – все патриотизм свой показывает. А Лянге слушает и не слышит, смотрит и не видит: он все ушами своими занят. Просверлит ухо и посмотрит на свой палец, второе продырявит и тоже посмотрит. Не любит он близкой, громкой стрельбы, уши у него попорчены паровым молотом.
– Там живые были, ползали, – запоздало объяснил Тупига в сторону немца. Чугунный он какой-то и непонятный, этот немец. И ему разрешают иметь толстые, черные усы – ни у одного немца усов нет, разве что у высших офицеров бывают маленькие, как у фюрера. Это потому, что у него заячья губа. Одна у него радость и забота: вернется батальон в казармы, в Печерск, каждый ищет свой способ отдохнуть – кто посылку в Германию собирает, кто на месте меняет, загоняет сало и шмотки-транты на шнапс, а Лянге бежит к евреям. Это всем известно. «Где шарфюрер Лянге?» – «Где же еще, обнюхивает жидков!» В подвале сидят, работают евреи. Классные сапожники аж из Польши – специально для штурмбанфюрера и его знакомых держат. Лянге из их конуры не вылазит. «Что он там делает?» – «А что собака с зайцем делает? Лапки ему только и достанутся, нюхает, пока можно!» Но говорят и такое, что Лянге вовсе не с молотом паровым, а с сапожницким работал – мастерская у него в Германии. Вот он и скучает, не жидков, а кожу нюхать бегает, вар, дратву. Отнимет у Боруха работу и сам начинает головку натягивать, гвоздей в рот себе натыкает и только мычит, когда Борух его нахваливает: какой мастер наш герр шарфюрер, какой мастер! Возьми, возьми его в свою бригаду, еще и стахановцем будет! Он тебе когда-нибудь покажет, какой он мастер, наш Лянге. Мирный-смирный, но это он, а не другой кто придумал и посоветовал начальству: чужестранцам давать специальные патроны, чтобы видно было, куда пуляешь. Трассирующие пули, светятся – у Лянге не посачкуешь, не схитришь! Будешь стрелять куда надо… Этот сапожник дело знает. Хотя и слушает – не слышит, и смотрит – не видит. Но что ему надо, заметит и расслышит.
