Полутени бесплатное чтение
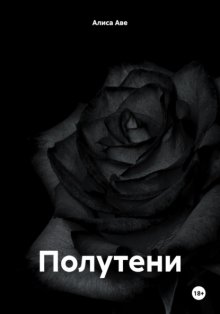
ЧАСТЬ 1. ТЬМА: Ты сияй, звезда ночная
– Ты сияй, звезда ночная,
Где ты, кто ты я не знаю…
Высоко ты надо мной
Как алмаз во тьме ночной,
– пела Лара дрожащим голосом. Черные глаза смотрели на Лару с нежного маленького личика Кая.
Она прибежала в детскую с первого же зова сына. Крик оборвался легким треском, Лара застыла у кровати малыша с протянутыми к нему руками. Трещина поползла из-под пушистых ресниц к виску, голубые глаза затянуло чернотой. Кай плакал и дергал ножками, Лара взяла его на руки, прижала к груди. Малыш тыкался в скользкий шелк сорочки, хотел есть. Из рассеченного трещинами ищущего ротика посыпался золотистый песок. Лара прижала сына сильнее, Кай закряхтел, ему не понравились крепкие объятия.
– Только солнышко зайдёт,
Тьма на землю упадёт,
Ты появишься сияя,
Так сияй, звезда ночная!
Летняя влажная ночь наполняла детскую, занавески дремали серебристым туманом над открытым окном, даже легкий ветерок не беспокоил их, они спали. Подоконник белел в свете луны. Ночному светилу не хватало тонкого сегмента до полноты боков. Ступни Лары тоже впитали лунное сияние, сливались с белизной подоконника. Она влезла на него, исполненная решимости, страха не было, теперь она точно знала, что делать.
Кай снова разразился криком, приглушенным, ему не хватало воздуха, Лара не отрывала сына от груди. Она понимала, стоит еще хоть раз заглянуть в черные глаза, и ничего не получится.
– Тот, кто ночь в пути проводит
Знаю, глаз с тебя не сводит.
Не смотри, Лара, не смотри! – пела она.
Трещины покрывали пухленькие ручки, на белом подоконнике тянулась дорожка песка.
– Он бы сбился и пропал,
Если б свет твой не сиял! – Лара поцеловала макушку сына и сделала шаг навстречу ночи.
Ей никто не верит. Здесь не принято верить пациентам, их бредни быстро наскучивают медсестрам и санитарам, а врачи придерживаются назначенного плана лечения, куда входит как раз исцеление больных от веры в собственные бессвязные бредни.
– Просящих о твоей помощи, ищущих… не подходите ко мне! Не пускайте его ко мне! Твоего заступничества, был тобою оставлен… Пожалуйста, заберите меня! Пожалуйста, неужели вы не видите?
Крики о помощи смешиваются с горячечной молитвой к богу. Но ни он, ни санитары, ни маячившие за спиной доктора Стивенсона медсестры не слышат её. Имя мужа она давно уже не выкрикивает, в стенах «Тенистых аллей» муж был столь же далеко от нее, сколь и бог, и человечность. Одной рукой Лара сжимает крохотный нательный крестик, другой отмахивается от приближающегося доктора Стивенсона.
Доктор Стивенсон улыбался, трещины на его лице извивались, на пол сыпался песок. Он кивнул санитарам, те заломили ей руки, прыгнули вместе с ней на низкую койку, прижали к сырому покрывалу.
– Держите крепче, – приказал профессор Стивенсон, – вот так.
– Не прикасайся ко мне! Пусть червь в твоей голове избавит мир от
скверны!
– Сестра, я попрошу вас аккуратнее.
Она выворачивает шею, затхлый воздух маленькой палаты заполняет аромат лимона и хлора, знакомый запах антипсихотических, что изгоняют из тела душу, отращивают щупальца, дышат холодом и тянутся к затылку, к сердцу, к животу, пока не превращают тело в черную дыру, в бесконечную, безграничную тюрьму, полную невыразимой боли и безмолвных криков.
– Помогите, помогите мне! Неужели вы не видите, что он демон!
Они не видят, они помогают ей не видеть, желают ей добра и всаживают сразу два укола до самого предела, игла прокалывает кожу с влажным треском. Трещины на лице доктора вторят ей, разрастаются. Она зажмуривается и шепчет молитву, но слова вязнут в коротких приказах врача.
– Очень хорошо, теперь уложите на кровать. Нет, можно не привязывать.
Он садится рядом, отсылает санитаров и медсестру, гладит ее по спине, она снова изворачивается, сжимается в комок на подушке, подальше от покрытой язвами руки. Трещины змеятся между струпьев, когда Стивенсон говорит, в них видно мышцы и сухожилия, а между ними трется золотой песок.
– Ты не заберёшь меня, не заберёшь! – шепчет она.
– Успокойся, Лара, тебя никто не никуда забирает.
– Я вижу, вижу тебя…
Голос подводит отделяется от неё, плывет по палате, тает.
– И это замечательно, Лара!
В карцере стены движутся, мягкие, выпуклые, разделенные на ромбы неровной строчкой, они выдавливают пациента, не желая его присутствия. Сюда сажают на перевоспитание, и от частого пребывания в карцере пациент превращается в почти пустой тюбик. Персоналу остается только чуть надавить, и он опустошается окончательно. Можно не наряжать в смирительную рубашку и не снабжать новой дозой успокоительного. С Лары даже не сняли крестик, она снова сжимает его, бабушкин подарок. Уголки крестика врезаются в руку, от боли сознание проясняется, стены отступают, а Лара снова становится Ларой, молодой матерью, попавшей в «Тенистые аллеи» из-за депрессии и истерии, развившейся на фоне тяжелых родов. Она не спала почти месяц после родов, не выпускала сына из рук день и ночь, чтобы его не украли, чтобы он не перестал дышать, чтобы она не уплыла вновь по реке наркоза в зовущую, белоснежную даль. Гормональный всплеск спровоцировал невротические проблемы, доктор Стивенсон объяснил встревоженному отцу семейства, Адаму, поймавшего Лару на проезжей части в халате и спящим месячным сыном в слинге, что она не понимала всю тяжесть своего состояния, не обращалась за помощью, что и привело к ухудшению, и поинтересовался анамнезом матери теперь уже пациентки Лары Коулман, ведь психические заболевания передаются чаще всего по женской линии. Пока Адам чесал в затылке, в горле Лары зародился крик, она чесала шею, сдерживая его, и терла глаза, которые настойчиво показывали ей глубокие черные тени на лице ведущего психотерапевта. Тени прорезали морщины на дряблых щеках, чертили линии между коричневых пятен на лбу и с треском пробивались вглубь профессора, превращаясь в трещины полные песка. Крик пробился также, сначала призрачный он освободился и раскрошился по стенам клиники, торжествуя подтвержденным диагнозом.
Дверь карцера украшает зарешеченный квадрат смотрового окошка. Но Ларе не нужно окошко, чтобы понять Стивенсон стоит за дверью и достает ключи. Она узнает его по отдышке, по запаху пыли, по тошноте, что накатывает на неё с приближением потрескавшегося человека.
– Я подготовил документы к выписке, Лара, вот пришел обрадовать тебя!
Лара кивает, много-много раз, голова вот-вот отвалится, крестик качается в безвольной рук.
– Не мог ждать. Представляешь, как обрадуется Адам! А малыш Кай, как он будет рад мамочке.
Имя сына выводит Лару из оцепенения, она бросается к профессору Стивенсону и царапает изрезанные трещинами руки крестиком, вновь и вновь.
Он дергает её за волосы, откидывает на напрыгнувшую выпуклую стену и с грохотом закрывает дверь.
Стивенсон снова пробежал глазами по заключению, будто это что-то изменило бы, с третьей попытки слова перемешаются и станут на места иначе, как в игре Монтезума, за которой он коротал вечера после бесконечных, смазанных чужой и собственной болью дней в больнице. Маленькие кристаллики дергались и набухали сиянием, когда он долго не мог найти следующий ход, набухала и наливалась соками и глиобластома у него в правой лобной доле Стивенсона. «Первичного типа», «стремительное развитие», «третья степень», «летальный исход» – головоломка скрывалась у него внутри, снаружи, на бумаге все предельно ясно и без прикрас, врачи не врали друг другу. Внизу, могильной плитой на равнодушном печатном диагнозе стояло рукописное «прости». Это прости вмещало в себя и горькое «прощай», которое друг Стивенсона, маститый онколог, не решился произнеси при встрече в Скайпе, и скрытый интерес – а ну как ведущий мозгоправ примет окончательный приговор, пройдет ли все стадии: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Если бы он все же решился попрощаться и открыто спросил, что Стивенсон чувствует, он вычислил бы только гнев. Стивенсона бесила краткость человеческого существования, но гнев подавляли годы тренировки и безукоризненная белозубая улыбка. Стивенсон улыбался диагнозу, потому что знал, что ему не надо впадать в депрессию и торговаться. Все исправимо. И кандидатура подобрана.
Обычно выписка пациента из «Тенистых аллей» – настоящий праздник. В столовой пекут торт, символично ярко-фиолетового цвета, украшают его кремовыми розами, и немного криво пишут имя счастливчика. Но за выпиской Лары Коулман наблюдает только старшая медсестра. Она смотрит сквозь слезы, как молодой муж дарит выздоровевшей жене букет крокусов, но она не берет цветы, она полностью растворилась в сыне, четырехмесячном малыше в чудесном костюмчике из велюра. «Мамин сыночек» написано на груди и спинке, и это лучше любых кремовых роз и кривых имен. Медсестра машет им рукой, красная машина вытекает за ворота, вытекает вместе с потоком непрекращающихся слез.
«Тенистые аллеи» плачут, стенами, палатами, кафелем в столовой и туалетах, кабинетами и зоной отдыха, санитарами, медсестрами, пациентами, ивовой аллеей, давшей название клинике, ровным газоном и молчаливым фонтаном, в котором никогда нет воды. Утром профессора Стивенсона нашли мертвым. Седая голова лежала прямо на выписных документах Лары, а с запястья свисал крестик. Даже старшая медсестра, правая рука профессора не знала, что Стивенсон был верующим человеком, хотя с таким диагнозом всякий поверит в бога. И будет просить, если не для самого себя, то для блага вверенных пациентов. «Глиобластома, будь она не ладна… Где тонко, там и рвется…, – шептались коллеги, – Столько лет вправлял мозги, а сам… жалко, жалко… кого нам теперь поставят…»
У Лары теснило в груде, она дышала часто и поверхностно, глубокий вдох не выходил, грудь раздирала режущая боль. Адам вложил ей в руки спящего Кая, и она ощутила радость, захлестнувшую тело горячей волной. Радость зародилась в саднящей груди и ударила по ребрам, выбив остатки воздуха.
– Да, – шепнула Лара над сыном, – ты подходишь!
– Что дорогая? – переспросил Адам.
– Так похож – сказала Лара громко, – он стал так похож на тебя.
– Ага, – гордо протянул Адам, – но когда проснется, сразу станет на тебя похож. Глаза твои!
Лара прижимала маленького Кая к сердцу и не понимала, что происходит. Радость выплескивалась из неё, и, если бы Адам не сидел за рулем, она бы поделилась ею с малышом. Всей темной, густой волной, вытесняющей материнскую нежность жаждой соединиться с этим крохотным, источающим огромную силу тельцем.
Лара вспомнила про крестик. Старшая медсестра не вернула ей украшение, бабушкин оберег. Она забормотала слова молитвы, столько раз возвращавшей ей душу в стенах палаты, и волна отступила, сжалась в дрожащий черный сгусток между легкими и лишь слегка трепыхалась, вторя бою сердца.
Кай кричал и плакал без остановки, как только проснулся и увидел над собой мать. Он махал маленькими кулачками и бил Лару по лицу и груди.
– А я думал, он обрадуется, – печально произнес Адам, – но ничего, скоро снова привыкнет. Они ведь быстро привыкают, да?
Адам и уложил сына на ночной сон.
– Лежи, милый, я пойду, – шепнула Лара мужу, когда Кай заплакал в час ночи, – я так хочу побыть с ним наедине.
Кай кричал надрывно, прося и приказывая одновременно, как умеют плакать младенцы. Лара зашла в детскую на цыпочка и боль в груди вырвалась на свободу. Лара рухнула на пол, глаза наполнились слезами. Она следила за тенями, пробежавшими по стенам детской, глубокими черными трещинами. Ей мерещился золотой след в их пути. Вот же он! Или это из-за слез все блестит. Плач оборвался, тени сомкнулись над кроватью с легким хрустом. Лара вспомнила карцер, доктора Стивенсона и крестик, которым она пыталась защититься от зла в его дыхании. Он что-то передал Ларе, и теперь оно перебралось в Кая…
Скорее всего от и тогда умирал от глиобластомы, тогда в далеком тысяча триста тридцатом году, на узких улочках Праги, в подвале каменного дома, у головы мавра, из которой в пробирку падали вязкие золотые капли. Тогда ему было сорок пять лет. Для нынешнего века – возраст зрелости, когда знания и сила тела примерно равны, когда жизнь уже успела набить шишек, но опротиветь не успела. Для четырнадцатого века возраст в сорок пять означал старость. В его деле старость играла на руку, умудренный годами, убеленный сединами, чуть скрюченный на правый бок алхимик видел и королей, и графов, и священников, и простолюдинов, обивающих порог его дома. Он провожал гостей в подвал, где в блеск склянок и дурман снадобий застилал их разум, и они платили ему золотом и серебром. Стивенсону ни к чему было разгадывать тайну превращения воды в золото, деньги перетекали к нему из кошельков страждущих, для этого не требовался философский камень, лишь тонкое умение понимать, чего хотят гости. Обычно они хотели самых простых вещей – власти, любви, славы, еще больше денег. Почти все эти запросы решали яды, более или менее смертоносные.
Стивенсон бился над другой загадкой философского камня. Его терзало желание одержать верх над временем, оковами, сжимающими человеческое тело, его тело, сильнее день ото дня, точащими болью виски, тревожащими руки тремором. Он хотел жить. И торжествовать над жизнью.
«Надо взять человека рыжего и веснушчатого и кормить его плодами до тридцати лет, затем опустить его в каменный сосуд с медом и другими составами, заключить этот сосуд в обручи и герметически закупорить. Через сто двадцать лет его тело обратится в мумию. После этого содержимое сосуда, включая то, что стало мумией, нужно принимать в качестве средства, продлевающего жизнь». Этот секрет передавался в его семье от отца к сыну, вместе с огромным сосудом и плавающим в нем человеком. Сто двадцать лет подошли как раз сорока пяти годам Стивенсона, его предшественники могли только любоваться золотым медом в колбе, проклинать застывшего в ней человека и предполагать, кем считала себя эта муха в янтаре, когда еще дышала и ходила среди людей.
Был ли человек в сосуде рыжим и откармливали ли его плодами до тридцати лет, Стивенсон, звавшийся тогда Калеб Албик, не знал. Да и на мумию человек в медовой смеси не походил, безволосый и оплывший, он тем не менее сохранил гладкость молодой кожи, а значит, удерживал влагу и возможно жизнь.
Алхимик пил его по капле, свой философский камень, пока в подвал не ворвались воины нового короля. Они сожгли его пергаменты и свитки, разбили сосуд, вылили содержимое и избавились от тела. Они отрубили голову Калебу Албику, не позаботившись о костре, ведь алхимики все же не ведьмы. И не заметили как вместе с кровью на погост высыпался золотой песок. Ветер подхватил песок и понес над головами зевак.
Сперва ему попадались ничем не примечательные люди, для них волшебство существовало лишь на страницах книг да в детских мечтах, но потом он научился находить особенных, умевших видеть. Они изнашивались не так быстро и дольше носили в себе его бессмертный дух.
Лара Коулман видела, тяжелые роды спровоцировали раскрытие способностей, скорее всего они достались ей от бабки, да, обычно они передаются через поколение. Женское тело тоже годилось, хотя он предпочитал мужское вместилище. Все же от закостенелых привычек не избавиться, особенно, когда ты рожден в средневековье. Женщины – существа без души или с «малой душой» учили алхимики и священники, с одинаковой силой презирающие женщин. Работа психиатром показала, что души женщин намного сильнее мужских, и борются они дольше…
Стивенсон поморщился. Все упиралось в время, только оно имело сейчас значение.
Как впрочем и всегда.
Адам устал от вспышек фотоаппаратов и вопросов журналистов. Ночь переползла в бесконечный горький день и растянулась на завтра и послезавтра. Малыш Кай требовал внимания, и теперь Адам сросся с ним воедино. Он даже начал понимать Лару.
Лара… Она все же сделала то, что не удалось в первый раз. Ушла. Журналисты и полиция сказали в один голос: «Это чудо! Настоящее чудо, что ваш сын выжил!»
Адам не выпускал Кая из рук. Он верил, что Лара не хотела забирать с собой сына, поэтому он выжил. Не сомневался ни на миг… она так прижимала его к груди, в последний момент она пожалела о содеянном, без сомнений. Кай пускал пузыри, предрекая плохую погоду особым младенческим чутьем, и смотрел на отца большими черными глазами.
Селфи
Катя заметила изменения не сразу. Зеркало, оно ведь лживое. Катя вглядывалась в него утром и думала: «Ничего, мать, жить можно». А на следующее утро оттягивала веки или давила прыщ и злилась оттого, что не могла надавать жалкому отражению по отекшим щекам. Домашнее зеркало, зная Катины перепады настроения, чаще всего подлизывалось. Зато витрины магазинов одежды и подсвеченные, немилосердные, от пола до потолка, зеркала примерочных кричали, что Катя точно чья-нибудь злая мачеха. И на вопрос: «Кто на свете всех милее?», – ей суждено услышать: «Да кто угодно, кроме тебя!»
Страшнее магазинных зеркал была лишь фронтальная камера телефона – крохотное всевидящее око.
– Скачай уже приложение, – фыркнула Даша, наблюдающая за безжалостным удалением десятого селфи, – Триста рублей в месяц, и ты красавица, – Даша постучала длинным ногтем по бирюзовому квадрату с женским профилем в своем навороченном смартфоне, – И не делай страдальческое лицо, не всем повезло с внешностью…
«Как мне», – хотела сказать Даша, но проглотила окончание фразы вместе с дрожащим кусочком панна-коты. Она, не вынимая ложки изо рта, следила за тем, как Катя скачивала программу. Даша входила в число счастливчиков, которые питались исключительно булками и десертами и гордо носили на лбу невидимую, но известную всем печать «повезло с генами». Катя, в отличие от остальных завистников, видела и другую Дашину печать – «удачная пластика». Даша числилась сразу в нескольких списках баловней судьбы. В фитнес-зал Катя с Дашей ходили вдвоем, но гибкий стан, пресс, подтянутые ягодицы и свежий тон лица доставался одной Даше.
Катя подправила талию на выбранном из галереи фото. Вроде бы задний фон не поплыл. Она с сомнением перебирала набор предлагаемых приложением функций.
– Да шикарное приложение, что ты! – подбодрила Даша и подтолкнула к Кате капучино. – Где бы ты еще так выглядела?
Кофе остался без внимания. Катя прибавила себе роста, объема волос и занялась лицом. Губы, нос, глаза. Большие-маленький-большие. Все просто. Щеки впалые, скулы высокие, кожа блестящая.
– Ну вот, – Даша с ухмылкой разглядывала результат через плечо Кати, – Пей, давай, кофе и пойдем! Меня Стас ждет.
Стас разглядел преображение раньше Кати. И Катя уже не могла игнорировать происходящее, ведь Стас выдохнул ей на ухо: «Я тебе позвоню».
– Не знай я тебя, Кэтрин, подумала бы, что ты операцию сделала. Но ты же у нас за естественность, – Даша вынырнула из облака белых шаров и лилий, чтобы фотограф сделала пару кадров её, роскошной, и Катьки, как всегда бледной и неуверенной. Но Катя вошла в кадр в красном платье, смазав Дашин взгляд и улыбку на их общем фото. Стас подбежал и встал рядом с Дашей.
– Это что, подруга твоя? Катя которая? – спросил он громче, чем стоило.
Фотограф нащелкал кадров двадцать.
Катя в красном платье восседала на стуле, как вишня на торте. Даша отмечала день рождения в белом цвете. Торт без всякой вишни был белым, украшения искрились кристальной чистотой, гости боялись заляпать белоснежные наряды. Виновница торжества встречала поток поздравлений в атласном платье с перьями, подобно ангелу или сказочной царевне-лебеди, у которой и месяц под косой, и звезда во лбу, и шаг как у павы. Катя, красная ворона, дергалась, комкала салфетку и объясняла имениннице, что в приложении из всех вариантов лучше всех подошел красный.
– Ты платье по приложению выбирала? – Даша подняла ламинированные брови.
– Там много возможностей, я купила премиум версию, – оправдывалась Катя.
– Допустим, – Даша потеребила перья на рукавах платья, – А с лицом что? Что-то в тебе изменилось, не пойму что именно. Села на диету? Нет, ну ты точно увеличила грудь! Колись, Кэтрин, – Даша расправила перья на лифе, – Вступила в наши ряды?
Кроме Даши, в целом легко воспринявшей нарушение дресс-кода на собственном драгоценном празднике, повышенное внимание Кате уделил Стас.
– Мне нравится красное, – заявил он, подсев к ней.
Даша как раз сияла в центре танцпола. Официант принес Стасу бутылку красного Батазиоло Бароло взамен заказанного для стола белого Монтесолае Греко ди Туфо.
Стас делал вид, что не понимает, почему белое платье Даши похоже на свадебное, и все поправлял бретельку, сползающую с Катиного плеча. Катя часто-часто моргала большими карими глазами и пыталась сползти по примеру бретельки куда-то под стол и в сторону выхода, но тугое платье удерживало её на стуле и тянуло к подбирающемуся ближе Стасу.
– Что ты делаешь завтра вечером? – спросил Стас с придыханием, и вместо Кати ответили её красные губы:
– Есть что предложить?
– Я тебе позвоню… после…
Катя откинула блестящие темные локоны, перевернулась на бок и прижалась к спине Стаса голой грудью.
– Я боялся тебя сломать, – откликнулся он на прикосновение, – у тебя такая тонкая талия. А Дашка говорила, ты жирная, – Стас осекся, помолчал и добавил: – Прости, но она в самом деле говорила.
– Не надо сейчас о ней, – попросила Катя.
«Ни о Дашке, ни о талии», – сжевала она продолжение, как обычно делала Даша, поглощая пирожные.
Они со Стасом полночи поглощали друг друга, и Катя наконец смогла оценить, чем отличаются поцелуи губами-нитками от поцелуев припухшими от страсти, полными, нежными губами. Со дня рождения Даши прошел месяц, изменения продолжались. Фитнес Катя забросила. Ела, что хотела, и влезала в размер XS, обтягивая идеальные бедра, которые забыли проклятие целлюлита. Кошелек, наоборот, прибавлял в весе, избавленный от частых походов в «Золотое яблоко», на массажи и к косметологу. Ни тебе складочек, лишних килограмм, угрей и высыпаний, и даже мелкая сеть морщин, пылью протянувшаяся от уголков глаз, исчезла.
Исчез и густо-фиолетовый кровоподтек, оставленный Дашкой, которая била бывшую лучшую подругу кулаком, с зажатыми в нем ключами от машины. Стас стоял немного поодаль беспомощным придатком ко всем троим: Даше, Кате и визжащей машине. И поражался отчаянному рычанию Даши и спокойному принятию Кати.
«Ничего, ничего», – шептала Катя телефону, поглаживая бирюзовую иконку приложения. «Ничего-ничего», – вторило зеркало, висящее теперь напротив кровати, где Катя и Стас наслаждались неведением Даши. Точнее наслаждался Стас, а Катя изучала их сплетенное отражение. Она действительно менялась, и в глазах под идеально вычерченными бровями горел зеленый огонь.
Сфотографироваться голой перед зеркалом, да еще в полный рост, оказалось не просто. Мысль поразила Катю неожиданно. Родилась не в голове. Катя исправляла многочисленные фото, развалившись на диване, и замерла, прислушиваясь к ощущениям. Волна поднялась из живота, накрыла грудь, сбив дыхание, ударила в лицо и в руки, обожгла кончики пальцев, что метались по экрану. Или импульс от нагревшегося телефон растревожил пальцы, а после, превратившись в настойчивое желание, пробрался в голову?
Отражение корчилось Катиным недовольством. Обработанные селфи подтверждали, все куда плачевнее. Как в той песне: «Ну что ж ты страшная такая?» Над пипеточными ногами торчал круглый живот, над ним стеснялась обозначить себя маленькая грудь, жалко стекали покатые плечи. Лицо – венец несчастного тела – являло зеркалу мешки под невзрачными карими глазами, узкие губы, каплевидный нос. Зеркало тщетно выставляло в неярком освещении красивые руки, молочную кожу, усыпанную легким золотом веснушек, темно-каштановые мягкие волосы, всю Катину немодную, сахарную рассыпчатость. Катя подняла телефон и, распахнув глаза как можно шире, нажала на кнопку.
На голую Катю на экране упала слеза.
Она изменяла себя с довольным оскалом прямо перед зеркалом. Выше, больше, тоньше, меньше, гуще, лучше. Телефон пожаловался на низкий уровень энергии. Катя на экране и Катя в отражении застыли в полном противоречии друг другу.
– Вот, – Катя очнулась и показала зеркалу экран, – Вот она я! – она потрясла телефоном, – Не это все, – отражение ткнуло в Катю пальцем, – Я такая! Я хочу быть такой!
Перемены происходили не разом. Взмахов волшебной палочки Катя не видела, фея действовала украдкой. Тело наливалось соками, молодело, разглаживалось, приобретало упругость. Метаморфозы происходили по ночам, с каждым разом Катя приближалась к идеалу – голому селфи в полный рост. Иногда ей мерещилось, что она слышит хруст костей: расходились бедра, вытягивались ноги, сужалась талия. Куда реже Катя улавливала назойливый голос, похожий на её обычное нытье: «Не надо, а?» Просьбы перекрывали жадные вздохи: «Еще!»
После побоища Стас прислал короткое «прости» и ссылку на фотки с Дашиного дня рождения. Катя чесала щеку, которая за ночь очистилась от следа праведного гнева подруги, и понимала, как бы ни обновлялось ее тело, как ни сохраняло отзеркаленный образ, Даша все же оставалась выше и стройнее. А изменить чудо-селфи у Кати уже не получалось. Она водила пальцами по фото, добиваясь превосходства, но формы возвращались к исходнику, вымоленному в тот вечер. Катя вновь оценивала отражение, зеркало она перевесила из прихожей в спальню, и кривила нос. Мало отредактированных фотографий в соцсетях, ей надо быть прекрасной в реальной жизни! Но ведь Даша подсунула ей приложение! Она сама пользуется им и делает все, чтобы превзойти Катю!
Таксист кидал восхищенные взоры на скукожившуюся на заднем сидении Катю, и усталость долгой, насыщенной ночи для него отражалась разве что в томных зеленых глазах пассажирки. Больше не требовалась целая ночь, час-два от силы, и красота возвращалась. Катя зажимала ворот пальто у горла, прикрывала обнаженное тело, распаренное яростью взбунтовавшейся крови, и кровь Даши, покрывшую ее сперва безупречно, как красное платье, а после побуревшую, ссохшуюся, подобно старой змеиной шкуре, из которой Катя выросла. Катя косила. Один глаз не отрывался от мутного окна, другой, шальной, горящий, принимал молчаливые знаки восторга таксиста. Катя с трудом сдержалась, чтобы не пригласить его в дом. Молчание спасло мужчину от бьющего в Катин висок требования.
«Еще!»
У программы насчитывалось более семидесяти тысяч скачиваний. Среди хвалебных отзывов маячили Катины пять звезд и благодарность разработчикам. «Лучшее приложение». «Стоит своих денег». «Пользуюсь уже год, очень довольна». В потоке радости мелькнул чей-то слабый писк: «Как удалить приложение?» Катя хмыкнула глупому вопросу. Нажала на иконку, подержала, дождалась появления «минуса» и удалила. Очистила галерею и корзину, изгнав с телефона селфи, и уснула крепким сном в своей бурой змеиной коже. На утро фотки и приложение встречали Катю на привычных местах. Отражение в зеркале таращилось испуганными зелеными глазами, именно того цвета, что Катя подобрала в вечер своей великой боли, и улыбалось спелыми губами.
«Не надо, а?» – пищала неуверенная, некрасивая Катя, когда прекрасная Катя, вошла в квартиру Даши.
– Чего тебе? – спросила Даша, вскинув точенный подбородок.
– То, что мое, – прошипела Катя.
Стас запивал недавнюю смерть Даши джином с тоником, телефон беззвучно разрывался в кармане. Звонила какая-то из многочисленных Дашиных подруг, обвинявших Стаса во всех грехах, но не явившихся на похороны любимой-обожаемой-бедняжки. «Это Света. Как какая? Света Павлова. Ты совсем, Стас? Ну рыжая, блин… Короче, эта ненормальная… прости Господи… Дашкина однокурсница. Не притворяйся, что не въезжаешь! Катька Сенчина, короче, умерла. Повесилась. Да откуда я знаю?! Даша с ней возилась, я эту придурочную на дух не переносила!»
В то утро Стас летел к Даше с букетом роз сорта Аргентина, оттенка Пинк Флойд, купленный вместо пионов. Пионов Стас не нашел, но надеялся, что бархатная коробочка со сверкающим сюрпризом перевесит по значимости неправильные цветы. Он почти видел, как Даша прыгает при виде кольца с бриллиантом и хлопает наращенными ресницами, смахивая последнее недоразумение между ними. Она уже простила Стаса, неразумного, запутавшегося, любящего её одну и больше никого-никогда-ни за что. А до него снизошло озарение, что он не скоро найдет кого-то более красивого и отходчивого на данном отрезке своей жизни. Катя, конечно, получше, поэффектнее, но на «прости» она реагировать не пожелала. Последнее Даше знать было ни к чему, и Стас прятал бегающие глаза за лепестками роз и терзал домофон.
Вместо Даши вокруг Стаса запрыгала полиция и не радужная перспектива подозреваемого номер один в особо тяжком убийстве. Полицейские говорили что-то об отрезанных кистях и ступнях, волосах и груди, выщипанных ресницах и бровях, а Стас трясся над телефоном, вызванивая Наташу, очередную Дашкину знакомую, из постели которой и помчал за букетом.
Алиби Стаса подтвердилось. Катя, слава богу, сама повесилась, и даже записку оставила. Никаких осуждающих «прошу винить в моей смерти того-то», а коротенькое «похороните с телефоном».
Ну точно дура. Она же телефон даже в кровати из рук не выпускала…
Телефон лежал на подушке рядом с красавицей Екатериной Сенчиной. Жизнь еще не схлынула с нее. Приоткрытые губы чудились теплыми и податливыми, ресницы бросали манящую тень на гладкие щеки, волосы пахли апельсином. Кружево покрывала почти дышало на большой груди. Катю обрядили в белое платье, которого не нашлось для дня рождения Даши. Хотя незамужних девушек, Стас выудил информацию из неизвестного уголка памяти, вроде как хоронили в свадебных платьях.
– Ну что тебе не жилось, – вздохнул Стас и в порыве грусти прижался поцелуем к волосам Кати.
Он спрашивал обеих, Катю и Дашу, которую несколькими неделями раньше провожали в закрытом гробу. Вокруг толпился народ, безликий в своем причитающем горе. Стас никого не узнал, никто не узнал Стаса, да и на Катю мало кто смотрел по-настоящему. Стас не удержался, чиркнул взглядом по сторонам и взял телефон с подушки. Почти не удивился, что телефон не выключили. Пароль Катя не сменила. Стас открыл галерею проверить, удалила ли она фото их недолгих встреч. И выронил трубку. Телефон стукнулся о Катину грудь. Стас отполз от гроба, не в силах перебирать ногами. Он пятился и пятился, пока неведомая гравитация не ослабла, и он не побежал прочь из мавзолея.
Совместные фотки нашлись сразу. И с Дашкиного праздника тоже. Вот он. Вот Даша. Вот Катя. Стас зажал ладонью прорвавшийся вскрик. Что за чушь? Катя… вот она… Только не та Катя! Не стройная, яркая, желанная, какой она явилась на день рождения. Не скромная и невзрачная, какой её знала Даша. Со всех фото на Стаса взирала пародия на абстрактных человечков Пикассо или Дали. Или на детские попытки слепить фигурку из дешевого не расшибаемого пластилина. Это не могло быть Катей! Стас пролистал кадры, борясь с тошнотой, в голову лезли странные образы. Части насекомого, склеенные под острыми углами. Опыты над мутантами из дурацких голливудских фильмов. Или… или словно кто-то зашел в редактор фото, в одно из приложений, что меняли внешность, и от души поиздевался над Катей. Талия вот-вот сломается, бедра как у статуэток первобытных мадонн, дородных, слишком откормленных, грудь от горла до пупа, ноги – длинные, кривые палки, губы на пол-лица и огромные зеленые глазища почти у ушей.
Но бежать Стаса заставили не фото. Он оторвался от экрана, уверенный, что увиденное – чья-то плохая шутка, и увидел настоящую Катю. Она лежала, вся в белом, точно такая, как на искореженных фото. На покрывале проступала кровь, черные губы кривились в усмешке, к одутловатой щеке приклеился клочок жестких волосков, загнутых к одному концу и покрытых бурой коркой у другого. От этого клочка и спасался Стас.
От Дашиных ресниц на щеке Кати.
Койотл не понимает
Койотл не понимает. Сестра кружит по залу, взмахивает руками и туман благовоний обвивает золотистые запястья и плечи. Ожерелье из оникса пляшет на её груди. Койотлю нравится глухое постукивание пяток о каменный пол и звон тройного ряда бус. Сестра источает терпкую радость, пахнет потом и предвкушением. И Койотль тоже готовится, чувствует как бурлит кровь, как отдалённый гул рождается в ушах, нарастает и заполняет голову, как щекочет ноздри аромат трав и горячего тела.
– Ты так любишь этот зал, брат, – слова гаснут и вспыхивают танцем. Сестра кружится: закручивает ноги, тонкую талию, гибкую спину, голову, украшенную материнским венцом. Последним отводит от брата взгляд, закрываясь на миг чёрной пеленой волос, чтобы сразу же вновь взглянуть ему в глаза, – Мне же здесь душно и тесно! Тесно в огромном доме, где серебряный звон колокольчиков на щиколотках слуг перемежается с хрюканьем свиней во дворе. Где в чистой воде фонтана во внутреннем дворе храма отец омывает ритуальные чаши. Где с первым лучом солнца над изголовьем моей кровати поднимается и чёрный дым костра. Где ты, мой брат, пьёшь яд и вино, и кровь подношений. Где каждый праздник ты возносишь нож, и жрецы провозглашают, что Великий Койот насытился. Я почти не дышу, когда стою над толпой, изливающей своё сияющее благоговение и смрадный страх. Я терзаюсь днями и ночами, прячу хохот и не показываю слез, потому что он, тот, кому так улыбается зачерненными губами маменька, кому благосклонно кивает отец, пряча истинные эмоции покорённого вождя за белой равнодушной жреческой маской, ждёт назначенного дня. Ждёт завтра. Я должна была выйти за тебя, как мать вышла за своего брата, а их мать за своего. Я бы смирилась, ведь я люблю тебя, брат. И ты бы был счастлив, ведь ты ничего не понимаешь. Но у моего… нет! Я не могу даже выговорить этот приговор – у их избранника три подбородка и маслянистые глаза, на животе у него зелёные змеи татуировок, он видел много и знает многое, и привык брать все, на что падет его взгляд. Но меня он не получит!
Койотль не понимает, что она говорит. Сестра, наверное, поёт, и он закрывает глаза и сквозь источившиеся веки видит ряды кукурузы. Рассвет разливается над зрелыми початками и множество солнц горит на поле. Койотль идёт по полю, его ведёт нюх, обострённый за долгие годы проведённые в темноте жертвенного зала, настроенный на терпкость и горечь, на сияющий нектар, бьющий из ритуальных чаш.
– Страданиям моим придёт конец. Мой возлюбленный Матакл ждёт у Ночных врат. Я прощаюсь с тобой, с этим залом, с уготованной мне судьбой. Мы скроемся за полем и нырнём в рассвет, в новую жизнь.
Койотль знает, чья кровь слаще других. Юных. Смелых. Влюблённых.
Сестра накидывает ожерелье ему на шею, целует в испещрённый узорами лоб.
– Бедный брат. Как бы мне хотелось, чтобы ты в самом деле обернулся койотом и сбежал с нами. Но ты не понимаешь…
Койотль не понимает. На завтра Праздник Урожая приносит ему жареную кукурузу, много початков, отмеченных светом солнца и жаром, поднимающимся от углей, что символизируют тьму. Приносит сердца трёх войнов – смелых, трёх новорожденных – юных. И двоих влюблённых. Матакла, который подобно оленю, чьё имя он носил, бежал по полю прочь от стрел Ицтли. И Инзель, дочери вождя, сестры Великого Воплотившегося Койота, обещанной в жены Ицтли, вождю соседнего племени.
Койотль воет на луну, заглядывающую в единственное око храма, но ночное светило прячется за облаком. Цветом прозрачная, туманная Луна походит на влагу, что струится из глаз Койотля. Он трогает влагу пальцами, нюхает, пробует капли и не понимает, почему на его лице эта солёная лунная вода…
Дом
Я люблю исполнять мечты. От зловонного, полузалитого водой подвала до обгаженной голубями крыши, я полон желаниями.
Мне не сбежать от круговорота мыслей, не сдвинуться с места, никуда не деться от поколений сменяющихся людей. Я пытался, трескался, скидывал шифер, стряхивал сосульки с козырьков в опасной близости к жильцам, выпускал на волю содержимое дряхлых труб. Тщетно. С годами смирился, понял, что я часть игры в жизнь, стал наблюдать за лицами, судьбами, снами. И желаниями, что люди шепчут в горячке гнева или мимолётных порывах радости. Когда прискучило наблюдать, решил тоже принять участие в игре. Оказалось, с человеком играть весело.
Аня нашла квартиру в новостройке. Взглянула вниз в чистые стекла витражей, почувствовала как воздух проникает в тело, обнимает, пронизывает. Столько света! Простор! Никаких порогов, комната перетекает в комнату, потолки высокие. Подъезд белый, не выедает глаз ядовито-зелёная краска со следами грязных рук, засохших соплей, крови и чего-то более мерзкого. Шумоизоляция, сплит-система и минимализм. Идеал. Ипотека. И пусть. Они с Женей решили пожениться, молодой семье предоставляются льготы, небольшие, но все же. А там в минимализм ворвётся ураган, по имени Макс. Или Ева. Ну как получится.
Главное, она выберется из сырого плена старой девятиэтажки. Сердце перестанет высчитывать этажи, дрейфуя в вонючем лифте, с надеждой что в этот раз не застрянет между пятым и шестым. В темноте. С хихикающими подростками или наевшимся лука ухажером соседки. Перестанет оправдываться перед бабулькой снизу, что же она так громко топает, вроде не слон. И забудет, наконец, о горьком привкусе железа во рту от пьяного голоса отчима. Он появлялся до того, как тяжелый кулак прилетал в ухо.
– Не зажимай язык зубами, откусишь, говорить больше не сможешь, – Петьке, брату, доставалось чаще. Он смотрел папе Вите в глаза, тот бесился. Мать поджимала губы. Под сердцем сучил ногами третий ребёнок., что хоть этот будет удачным. Его-то точно бить никто не будет, любимого крошечку, «ути-пусечку».
Петя периодически ронял страшные слова, когда утешал сестру. Очень тихо, чтобы не услышали взрослые.
– Он не родится, их чудесный малыш, вот увидишь.
– Что ты, Петька! – девочка в страхе трясла головой, – он же не виноват. Может, появится братик и папа Витя успокоится.
– Он скорее пожелает место для него освободить.
– Как?
– Сошлёт нас к бабуле, в деревню. Хотя, это к лучшему. Слушай, Аня, давай маму уговорим. Бабушка нас с радостью примет, будем ей по хозяйству помогать. Представляешь, корову станешь доить?
Идея манила. Нос уже вдыхал свежий воздух, полный аромата трав и цветов. Мама обещала поговорить с отчимом, сама она в принципе не против. Вот только Петя оказался прав. Через неделю после радостного решения раздался чавкающий звук. Мама готовила кофе. Закричала, согнулась, прижала руки к круглому животу. Кровь потекла из-под халата. Темная, вязкая. Кофе сбежал. Преждевременные роды на двадцать седьмой неделе. Мог бы быть Миша. Могла бы жить мама.
– Как в моем сне, – шептал Петя, пока в соседней комнате друзья семьи и соседи тихим гулом поминали две души, -Я лежал в кровати, всё не мог уснуть. Вдруг услышал голос. Он шёл будто бы из стен. Спрашивал, чего я хочу. В тот вечер он мне ребро сломал, помнишь? А мама не стала везти в больницу. Я и ответил, что хочу, чтобы они страдали. Оба. Мама особенно. Я увидел малыша. Он валялся на полу, в дальнем углу комнаты. Вопил, я видел, как широко рот раскрывает, а звука не было. Потом посмотрел на меня, из глаз у него потекла кровь. Много крови. Потом кожа вся слезла, словно сдёрнули целиком. Я позвал маму. Она вошла… такая же, как младенец. Сделала два шага, упала. Я проснулся…
Аня вспоминала рассказ брата каждый раз, проворачивая ключи в замке.
Отчим съехал. Отпинал Петю, забрал все деньги и смотался. Его сбила машина в трёх кварталах от дома. Смерть не прибрала папу Витю, ему выдали инвалидную коляску и мизерное пособие. Бить детей он больше не мог. Аня ликовала. Судьба избавила их от человека, отобравшего маму и счастливой детство. Бабушка приехала из деревни, шуршала документами, бегала в опеку, в школу, собирала внуков в дорогу. От бабушки пахло блинами и любовью. Корова, куры, мягкие холмы и березы – Аня грезила ими во сне и наяву.
Грезы оборвались распахнутой дверью. Брат дрожал и заикался.
– Я снова, снова слышал голос!
– Петь, давай пойдём к школьному психологу. Он же помог после смерти мамы.
– Я не рассказывал ему о сне. Меня же в дурку заберут.
– И мне ничего не рассказывай!
У Пети от сестры секретов не было, он привык делиться с ней болью и страхами.
– Я ничего не желал, честное слово. Ты же знаешь, как я хочу уехать!
Лифт не работал, бабушка упала с лестницы. Кто-то толкнул или неловко поставила ногу. Она пересчитала два марша, шея хрустнула у основания головы. В школе Аня посещала кружок «уроки медицины»: продолговатый мозг отключает тело. Бабуля не успела понять, что умерла.
– Я мечтал переехать в деревню. Он сказал, что такое желание исполнить не может.
– Кто? Кто сказал, Петька!
– Не знаю… стены…
Они все же переехали. В интернат. За неимением родственников, готовых взвалить на себя обузу в виде двоих школьников. Четыре года растянулись в четыре века. Петя не спал ночами, его мучил голос, требующий вернуться. Аня делала вид, что с братом все в порядке. В зеркалах ловила сходство с матерью и ненавидела себя за это. Один морок Петя заменил другим. Шприцы ходили по кругу. Корки на венах мальчик прятал под длинными рукавами. Съеденное передозировкой тело обнаружили в сарае завхоза за главным зданием интерната. В восемнадцать Аня вернулась в большой мир совершенно одиноким человеком. Точнее в пыльную, маленькую квартиру на восьмом этаже, как единственный наследник.
Аня вязла в горе, почти не спала и без конца пила энергетики, когда жизнь засияла улыбкой Жени. Чудеса еще случались, Анино было сплошь в веснушках. Появились новые обои, яркие занавески и даже в лифте вдвоём застревать оказалось весьма интересно. Женю Аня называла «вознаграждением», «подарком», «ангелом». У них появилась общая мечта: прыгнуть с самолета, распахнуть купола парашютов, растворить прошлое в свободном небе. Аня твердила мантру перед сном: «Я благодарна тебе. Я люблю тебя». С Женей поверила в визуализацию и материальность слов и обязательно делилась счастьем с Петькой и бабушкой, которых хранила в сердце. Трещала им вслух о Жене, его серьезных намерениях и синих глазах, маму с Мишей старательно обходила мыслями и взглядом, пусть стоят в углу.
Женя сделал предложение, выбрал банк для ипотеки, торжественно объявил, что вместо свадебного платья и толпы гостей Аню ждёт полет.
– Замолчи! – крикнул Петька, – Нельзя никуда лететь!
Аня упала с кровати.
– Зажми язык зубами! Не показывай радости!
Следом раздался другой голос, перебил мольбы брата: «Чего ты хочешь, Анечка?»
Голос странно напоминал на едкий аромат водки, исходивший от отчима в минуты негодования. Кружил голову, сушил губы.
– Не говори ничего, – Петька кричал где-то в глубине сознания.
Аня зажала зубы. В глазах отразилось небо, сверкнул крыльями самолёт, захватило дух.
Крыша девятиэтажки видела поцелуи юных пар, пьяные вечеринки студентов, драки, ссоры и, что тут таить, шаги в бездну.
Аня всегда хотела летать. Улететь прочь от пьяного папы Вити, безразличной матери, спятившего брата. Из этого дома, где пахнет мочой, испражнениями, тоской и серыми буднями. Она хотела чувствовать воздух кожей, волосам, кончиками ресниц. Витражи новостройки почти подарили ощущение света в душе, опьянили высотой. Но её ждал настоящий полёт.
Женю отгоняли от распростертого на земле тела. Самоубийца или нет должно решить следствие. Женя то и дело отпускался на колени, поправлял склеившиеся пряди, прикрывал зияющую дыру в черепе. Он успел сложить тонкие руки на груди, ими девушка обнимала мир в полёте.
Аню прятали в большой пакет, Женя прятал в кармане крохотную записку.
Почерком отличницы Аня написала: «Это наш дом, Петя».
Слезы никак не могли прорваться. По прогнозу обещали дождь. Он выплачет горе, смоет с улицы кровь, унесёт записку в канализационный сток. Вместе с ипотекой, идеалом. И пусть…
Я храню их в стенах, они никуда не делись, не ушли. Жизнь продолжается, ведь они хотели жить. На самом деле самой большой мечтой была именно жизнь.
Я исполнил эту мечту, они снова вместе, кроме мерзавца отчима. Он пришлый, не мой человек. Не думайте, что я забочусь только об этой семье. Во мне девять этажей, тридцать шесть квартир, в подвале ночуют трое бомжей, я даже за ними приглядываю. Играю, живу наравне с людьми. В квартиру мечтательной Ани вселяются новенькие, с собакой, вертлявым, пушистым шпицем. Он лает в угол хозяйской спальне. Маленький Мишка смеётся беззубым ртом, старшие брат с сестрой улыбаются. Гармония.
Священник не поможет, экстрасенсы тоже. Новая семья пока не понимает, но у отец у них балуется писательством, может, почувствует, ведь фантазия разгулялась, как никогда прежде, стоило лишь переступить порог квартиры. Мне нравится свежий ремонт. Собака вскоре замолкнет, чтобы не мешать милейшей бабуле снизу.
Новостройки возводят вокруг. Они что дети, не могут понять истинного значения стен, квартир, крыш. Я место, которое люди называют Домом. Я продолжение их тел, отражение душ. Я люблю исполнять мечты и не люблю, когда они решают переехать. Они мои.
Джон Марстон
Говорили, Джон Марстон не знает промаха, и тот, кто выйдет против него – не жилец. Говорили, он отливает пули с особой молитвой. Чуть тише, но так же горячо убеждали, что молится Джон Марстон вовсе не Богу, а кому-то за своим левым плечом. Еще рассказывали, дурашливым тоном, какой бывает, когда человека или крепко любят, или крепко боятся, если спросишь у Джона Марстона, который час, он не достанет из кармана серебристых часов, но ответит непременно точно. Обсуждали, но уже совсем шепотком, что Джон Марстон и не человек вовсе. Но все уверяли, что уж это точно слухи.
Джон Марстон вышел из салона и встал, очертив свои границы в этом мире: утоптанная серая дорога под ногами и усталая закатная дорожка в небе. Ровно в десяти шагах дороги пересекались с Бьюфордом Пирсом. Над левым плечом противника отсчитывали время часы. Бьюфорду Пирсу оставалась ровно минута. Они выхватили револьверы и выстрелили. Бьюфорд упал, ограничивая границу своей жизни алой полосой, часы над ним исчезли.
Говорили, Джон Марстон стрелял куда-то влево, поверх головы Пирса. Клялись, что стрелял он с закрытыми глазами. И не обманулся с исходом.
Джон Марсом всегда знал, с кем выходить к закатному солнцу. Лишь с тем, чьи часы гнали время по последнему кругу. То, что круг последний Марстон определял по особенному дрожанию секундной стрелки.
– Эй, Джонни, который час? – крикнул Марстону пьяный старик, навалившийся на двери салуна.
– Семь двадцать пять пополудни, – ответил Марстон, – У тебя есть запас, старый Билл.
Джон Марстон не нуждался в механических часах, он видел время каждого в этом городе. И понимал, какой час наступает. Все чаще он чуть запрокидывал голову, косил глаза влево и яростно моргал, ненавидя секундную стрелку, выбивающую нервный пунктир на белом циферблате. Запас Джона Марстона подходил к концу, а люди говорили, что он молится после очередной победы. Молится своему неизвестному не-Богу.
Новая жизнь
– Когда я закончу чертить круг, вы войдёте в его центр и будете стоять совершенно неподвижно, даже неверный вдох приведет плачевному результату.
– Что же мне совсем не дышать?
– Дышите, конечно, но не шевелитесь. Делайте, что я говорю, если хотите сохранить гарантию на последующие чистки.
Один дорисовывает круг, второй внимательно наблюдает. Круг сложносоставной, многослойный, в него вписаны знаки: из знакомых только символы планет – вот Юпитер и Сатурн, а вот Луна и Солнце. Остальные второму в новинку, он разузнает побольше, прошерстит сеть, после ритуала. Вроде нарисован круг мелом, но вот замыкается бесконечная линия и сложный рисунок начинает светиться. В полумраке свет распыляется, над кругом поднимается дымок.
– Очень осторожно, сразу в середину! – первый подает руку второму, помогает перешагнуть видимые и невидимые грани. Ступни приклеиваются намертво с центре круга.
Посмотришь со стороны: два обычных человека. Одеты в джинсы да рубашки, гладко выбриты, волосы в пределах приличной растрёпанности. А заняты странным делом.
– Вы гарантируете, что после всех этих манипуляций мое сознание полностью очистится и жизнь откроется для меня в новом свете.
– Гарантия десять лет, как указано в договоре. В случае неполадок в мироощущении и новообращённом бытие вы абсолютно бесплатно проходите повторную процедуру очистки. Я работаю с недовольными своим существованием уже полвека и ещё ни разу не было осечек. Но гарантию я сохраняю. Как ответственный исполнитель.
– И всем становится легче жить?
– Абсолютно. Но лишними вопросами вы отнимаете у нас время, весь день расписан, люди ждут. Вы же читали договор.
– Да-да, конечно. Просто я думал, приду в лабораторию, врачи там, белые халаты. А у вас скорее алхимия какая-то.
– Нет ничего лучше старой доброй практики. Врачи только делают вид, что исцеляют, после них вы снова страдаете. Я же избавляю от страданий раз и навсегда. Ставлю душу на место, так сказать. Итак, готовы?
Неуверенность исчезает, второй машет рукой: готов! Первый поднимает над ним руки с зажженной свечой, громко зачитывает что-то непонятное. Не язык, а белиберда. Набор глухих букв, про гласные будто забыли. Ну хоть голос приятный, мягкий, бархатный, читает как поёт. Речитатив убаюкивает, раскачивает на волнах странных звукосочетаний, голос заполняет пространство, резонирует. От него по телу бегут мурашки, мелкие, так много. Все зудит, нос чешется, а двигаться нельзя. Уже и слезы навернулись, ну что за напасть!
Тело второго вибрирует с голосом первого. Голова раскалывается от этого невыносимого языка. Мысли сбиваются, лезут воспоминания из детства: не купили, не дали, не обняли, не услышали, не поняли. Сплошные «не». Следом подростковые обиды: не ходи, не кричи, не ленись, не поворачивайся спиной. Список «не» увеличивается. Пошла работа: не жди премии, не опаздывай, не нужно инициативы, не в этом месяце, не выполнил план. С первых дней до этого самого часа его окружали одни «не». Пока в руки не попалась брошюра. «Очищение сознания. Без химии. Недорого и с гарантией! Ваша жизнь полностью изменится! Станьте новым человеком, откройте новый мир в новом сознании!» За спиной столько психологов, групповая и индивидуальная терапия, вправка воспалённых ежедневной неудовлетворённостью мозгов. И всё та же стенка из «не» и недовольство существованием. Отчего не рискнуть? Цена заманчивая.
Предварительная консультация проходит в светлый кабинете, витражные окна, вид на океан, премиленькая секретарша. Глаза немного стеклянные, зато губы, грудь, попа, все на месте. Сразу подает кофе, горячий, обжигающий нёбо, как он любит. Проводит на встречу с целителем, как этот высокий пожилой мужчина с добрыми голубыми глазами, просит себя называть. «Я исцеляю души и судьбы. Вам подобного никто больше дать не сможет». На стенах висят многочисленные дипломы, на открытых полках громоздятся награды. Известен на весь мир, в интернете полно восторженных откликов.
«Моя жизнь полностью изменилась после очищения сознания. Стало везти в каждом начинании. Я наконец раскрутила бизнес и зарабатываю большие деньги. Я знаю наперёд, что и как мне делать».
«Я перестал чувствовать себя неудачником. Раскрыл в себе таланты художника. Мои картины продаются. Я бросил опостылевшую работу и полностью отдался творчеству».
«Больше никаких волнений по поводу и без. Я само спокойствие и моя интуиция меня не подводит. Я дышу полной грудью благодаря процедуре очистки сознания».
Тысячи отзывов – целитель исколесил полмира, видимо.
«И я хочу так! Хочу быть свободным от сомнений. Хочу удачи! Хочу полноценной жизни, такой какой я хочу!»
Сеанс назначен. Оба стоят в полумраке. Один в недоумении, второй в горделивой позе. Мысли тают, неприятные воспоминания стираются, их заменяет установка – моя жизнь – чудесна! Кажется, теперь можно разобрать слова, их значение открывается. Что-то вроде: я отдаю жизнь в твоё распоряжение, от тебя получаю чистый лист… Разве так должно быть? Смысл слов мгновенно растворяется, едва коснувшись слуха и восприятия. Легкий туман заполняет сознание. Был ли он вообще чем-то недоволен? Как может не нравиться жизнь? Жизнь прекрасна, волшебна, в одной своей возможности – она тебе дана. Так живи!
Нос чешется нестерпимо. Он еле удерживается, чтобы не почесаться. «Я обладаю твоей душой. Взамен даю тебе счастье». Не нравится ему этот язык. И голос этот, проникающий во всей клетки тела разом. И тяжесть рук и ног. И неподходящий зуд.
– Апчхи! – как громко, оглушительно, жизнеутверждающе он чихнул.
– Дааа! – раздается торжествующий крик.
Второй смотрит, как загораются красным глаза первого. Какая странная у него голова, деформированная, словно рога на лбу. Небольшие, загнутые, чёрные. В свече какой-то наркотик? А руки, что эту свечу держат, по ним же кровь течёт! По пальцам с длинными когтями, по локтям с шипами. С шелестом раскрываются крылья. Перепончатые, чешуйчатые, они сомкнулись над головой. Вопль прорезает горло, сворачивает язык в узел, ногами не шевельнуть, не произнести ни слова. Он забыл как говорить, забыл как кричать. Он забыл, как называют это создание, возвышающееся перед ним. И как поднять ногу, чтобы перешагнуть пылающий круг огня. Глазам больно от слепящих знаков, вписанных в круг. Кто их нарисовал? Кто поставил его в центр огня? Кого его?
– Энжи, детка, запиши сорок четыре души плюс
Подходит к концу весьма продуктивный день. Опустошенные, бессознательные тела вывезли по разным психиатрическим больницам. Полностью недееспособны. Шизофрения. Нервное истощение. Амнезия. Слюна в уголке рта, закатанные глаза. И сорок четыре отчета о проделанной работе за сегодняшнее число. Работодатель будет доволен, возможно повысит. Как хорошо, что они почти все или чихают, или чешутся, или переминаются! Очень мало, кто остаётся неподвижным и получает ту, жизнь, о которой мечтал. Сознание очищается от комплексов, сомнений и страхов, и они просто-напросто начинают жить, не существовать. Да, теперь они удачливее, раз этот бонус обещан договором, и талантливее. Душа достаётся организации, потому что договор стандартный с давних, древних времён, и мелкий шрифт никто не отменял.
Энжи вбивает в базу информацию о душах, раздел «Новая жизнь». Сознание очищено от сознания, без химии, старинной, проверенной веками практикой. «Полвека, -думает он, – Полтысячелетия вернее. Ещё половинка миллениума и повышение до командующего легионом обеспечено». А пока он рядовой собиратель душ, с весьма интересной методой.
– Это тело мне жмёт! – жалуется Энжи.
– Завтра придут новые, выберешь что поудобнее.
– А ты?
– У меня вполне презентабельный вид. Благородный муж в годах. Седина и мудрый взгляд имеется. Таким доверяют. Я в бизнесе подольше, кое-что понимаю.
– Сколько дураков ведётся на приманку, не перестаю удивляться.
– Люди всегда недовольны жизнью, какая бы она не была. То им мало, то много. Они не видят сути, жаждут изменений. Истина неизменна – суть жизни в жизни. Я понял это, когда отверг собственную жизнь и стал тем, кем стал.
– Ты тоже недоволен?
– О, нет! Я доволен, доволен каждым днём на бренной земле. Сдай отчеты до полуночи или наши дни на этой самой земле урежут.
В вагоне метро молодая девушка листает яркую трехстраничную брошюрку, взяла в торговом центре. Что-то в этом клочке бумаги её привлекло. Новая жизнь. Изменение сознания и качества жизни. Девушку бросил парень, она заедает любовь мороженым, стараясь не думать, как мороженое заест её бока. В любви не везёт, вот совсем. Жизнь сплошная тоска… Сначала бесплатная консультация, горячий кофе и шарик мороженого. Словно знали, что она любит фисташковое. И целитель приятный, и глаза у него голубые-голубые, совсем у её великой разбитой любви…
Преемник
Он сказал: «Пойдём к горе». И вручил мне свиток.
Трубка его давно погасла, но он продолжал жевать мундштук, периодически гоняя в узких губах.
– Не открывай.
Выходило что-то вроде «не овывай». Я отпустил завиток бумаги.
– Почему?
– Не открывай, говорю, – «не овывай, ю».
Открыть следовало у подножия горы.
Он появился внезапно. С неба посыпал снег, мокрый, липкий, забивающийся под воротник и стекающий ледяными струями по спине. Снег напоминал навязчивых мух, вился, хрустел, не отмахнуться, не спрятаться. Я не любил зиму, с вьюгой с горы к поселению спускалось чудовище, поживиться. Прошлой зимой унесло мою сестру.
– Вынырнуло из темноты, – рассказал я, – мы кидались снежками, как дети. Тьюи такая меткая, она всегда попадает в голову или в глаз. Я оттирал очередной снежок, когда она закричала. Тоненько. Нежно даже. Я помню кровь на снегу и помню, как бежал. Везде снег, везде, и красные следы. Я не видел их, только силуэт, огромный, рогатый и хвост змеей. Я протянул руку, будто бы мог ухватиться за Тьюи. Руку что-то сильно дернуло, боли не было.
И вот.
Я показал кривые шрамы на запястье.
И тогда он сказал, что мы пойдём к горе, вдвоём.
В поселении его не замечали. Он пил пиво, пыхтел вонючим дымом, не снимал ни перед кем островерхой шляпы. Говорил мало, обрывисто и только тогда люди будто бы просыпались, рассеянно хмурились, разглядывали про, озирались по сторонам, призывая в свидетели хоть кого-нибудь. Стоило ему замолкнуть, как он тут же исчезал для них. Но не для меня.
– Как тебя зовут? – спросил в первую встречу. Он достал маленькую книжицу, погладил истёртую бурую кожу, пролистал.
– Пусть будет Марций.
Я старался не называть его по имени, мы никак к друг другу не обращались, хоть и провожали каждый вечер робкое зимнее солнце в сумерки, в ночь.
Я поправлял соскальзывающие ноги, отфыркивался от снежных мух, косился на рукоять меча, упирающуюся под рёбра.
– Держи крепко.
Он говорил и о мече, и о себе. Я ненавидел зиму всё больше.
– Боги обратились в чудовищ, когда люди перестали в них верить, – сказал я.
– Интересно говоришь, мне нравится. В чудовищ поверить легче. А страх кормит лучше благоговения.
– Что такое благоговение?
– Его ты испытаешь, когда дойдём.
Гора напомнила мне кашу из детства. Мама наполняла глубокую тарелку, каша высилась могучей, непоколебимой твердыней. Я покорялся ей, она мне никогда.
– Слишком, – прошептал я.
У подножия лежало озеро, лёд затянул водяную гладь узорным панцирем, гора смотрела в сверкающий доспех и в отражении выглядела больше, страшнее.
– Снег прекратился.
Чёрный небосвод впитал весь снег, вьюга бушевала на нем мерцающим танцем звёзд.
– Ждём.
Он загасил трубку, завернул в тряпицу, спрятал у груди. Снял шляпу, завернул острую верхушку, оставил сиротливо лежать у кромки ледяного озера, перевязал седые волосы тесемкой.
Чудовище выпрыгнуло из под земли. Набросилось на него, подмяло, бросило на лёд, ринулось следом. Он встал, отряхнулся, вытянул руку. Я отчаянно вынимал меч из ножен, руки падали безвольными плетьми, колени подкашивались.
Чудовище это или бог – в тот момент смыслы испарились, слова разбились об ужас, сковавший меня. Оно походило на волка и медведя, сквозь мех поблескивала голубая чешуя, длинный хвост украшали шипы, голову ветвистые оленьи рога. Оно дышало холодом и совсем не пахло. Живое должно источать запахи, приятные или мерзкие, какие-нибудь. Чудовище пахло разве что тьмой, отчаянием.
Огромная пасть распахнулась, с клыков капала льдистая слюна, чудище упало сверху, лязгнули челюсти. Я повалился на снег, выпустив из рук бесполезный меч.
Чудовище урчало, медленно поворачиваясь ко мне. Звёзды погасли. Лёд переливался, всполохи поднимались из глубины, разливались по поверхности, гасли и вспыхивали. Чудище сделало шаг, завыло. Брюхо его надулось, затрещало, оглушительный вой обрушился на гору. Я приподнял голову, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Чёрная кровь брызнула на меня, я попробовал чудовище на вкус. И осознал благоговение.
– Вместе с обликом они утратили и разум.
Он вновь отряхивался, тряс руками, брезгливо морщась.
– Отдохнул?
Я кивнул не в силах ответить.
– Обернись.
Второе чудовище кинулось на меня. В желтых глазах горел огонь. Оно выползло отомстить. Я нашёл меч.
– Годишься, – смеялся он.
Зубы его спорили белизной с зимой. Он набивал трубку, шляпа бодро топорщилась в небеса
– Вытри меч.
Я отбросил оружие далеко и не собирался к нему прикасаться. Кровь второго чудовища оказалась красной. Она впитывалась в красный плащ, и в голубом свечении льда казалась жидким пламенем. Кудри отрасли, губы алели не угасшей ещё страстью, крылья носа заострились, залегли в уголках глаз морщины тревог и забот, но это была Тьюи. Кто-то глухо плакал в ночной тишине, совсем рядом, словно щекой к щеке со мной, отчего и мои щеки странно намокли, замёрзли, отяжелели.
– Вытри меч. Богам не чуждо человеческое. Ты мне подходишь. Ты выжил, остальные увы… увы… Свиток где?
– Здесь, – я достал из-за пояса измятый свиток, – пора?
Он кивнул. Свиток раскрылся сам собой.
– Калеб. Кто это?
– Теперь это ты. Встань, Калеб.
Я встал, с удивлением глянул на девушку, лежащую у ног. Бледная красота её волновала сердце.
– Как она столько прожила?
– Сильный дух.
– А с ними что, Марций?
Из горы выбежали крохотные меховые комки. Они водили хвостами по снегу, к матери подойти боялись.
– Малы пока. Ни к чему грех брать.
– Ни к чему…
Я подобрал меч, тщательно оттер рукавом, вернул в нужны.
– Свиток? – спросил он, влезая мне на спину.
Свиток написал «юг».
– Юг, – повторил я.
– Значит, на юг идём.
– Там будет дом?
– Отныне да.
Малыши подкрадывались к озеру.
– Интересно, как её звали? – спросил я, когда вершина горы перестала звать меня обратно. Утро разрезало горизонт, – Она мне будто бы знакома.
– Первая удача. Тебе встретится много богов. Я тебя научу всему, сынок, ведь для меня эта удача была последней.
Сказка
– Разве же это горе, – сказала лягушка нежно.
Коснулся её Иван – кожа влажная, прохладная, гладкая, не убрал руки. В глаза заглянул – утонул, взгляда не смог отвести от темных омутов: горели в них звезды, со звездами небесными сиянием споря.
Всё знала лягушка. Почему Иван-царевич стрелу золотую в небо пустил, для чего стрела прямо в лапы ей упала. Обещалась теперь тоске Царевича помочь:
– Всем нужна добрая жена, она любое желание исполнить может.
– Будь моя воля, – махнул рукой царевич и понял, что махнул рукой и на желание, и на волю, и на выбор стрелы, – да что тут… младшему сыну один путь.
– Возьми меня, царевич, в жены, – взмолилась тогда лягушка, – не пожалеешь.
Делать нечего, согласился Царевич, завернул находку в белый шелковый платок. Лягушка сидела в платке молча, держала золотую стрелу в лапках всю дорогу. Иван на суженую не смотрел, гнал коня и горестные мысли. Ждали его холодные объятия ночей.
Смех гремел в царских палатах громче колоколов свадебных. Царь взирал на невест старших сыновей благосклонно, стать девичью видать ещё с ворот: взмыленные кони гнулись под тяжестью полнокровных девиц, тянулись за ними телеги с приданым. Не пожалел царь, что отдал стрел заветных. Всего три оставалось у него, ведающих цель. Покойная жена, добрая женщина, принесла с собой не шелка, не жемчуга, не меха соболиные, – колчан со стрелами. С чем нашёл, такую и взял.
– Натяни тетиву и пусти в ту сторону, куда сердце потянет, – говорила жена в первую ночь в покоях царских, – да держи в голове заветную мысль.
Прирастала земля с каждой пущенной стрелой, с востока и запада, с богатого севера, с дикого юга. Желал царь укрепления власти. Из двенадцати стрел за три года шесть истратил: шли на поклон к нему гонцы с дарами, приходили волхвы да колдуны, славили силу великую, леса полнились зверьем, реки рыбою, только жена не тяжелела. В высокое небо отправил царь со стрелой просьбу сердечную, счастья женского для жены пожелал. Трижды возводил лук к небесам, троих сыновей жена принесла в мир, да на третьем истончилась. Всё металась в горячке, твердила про утекающую воду, умения отобранные.
– Из чего стрелы твои, душенька? – спрашивал царь.
– Сбереги последние для сыновей, – стребовала жена последним вздохом, – стрелы им благословением материнским станут.
Хранил царь стрелы до заветного дня. Старел, дряхлел, ждал дня встречи с покойницей-женой, никак не наступал час, вот и решил царь поторопить судьбу. Не подвели стрелы старших братьев, только младшего завели в болото.
– Чего ты желаешь, супруг мой? – шептала лягушка.
Кожу лягушачью сорвала с себя, как платье подвенечное скинула. Распрямила белые плечи, повела молочным бедром, жаром губ дохнула, и разомлел Иван. Виделись ему воды темные, поднимались волны, возносили его и затягивали в глубину, в прохладу, подбирались к груди, вытесняли душу шёпотом.
– Хочу я здоровья для батюшки-царя, – отвечал Иван всем сердцем горячим, тянулся к жене молодой. Мысли по воде кругами расходились:
«Старшему брату земли достанутся, поведёт свою жену по красным коврам, из сундуков её золотом крыши терема покроет, венцом царским плешь прикроет, да и будет судьбы вершить не своим разумом, женой да братом средним подсказанным. Разорит накопленное за годы правления отца, порвут на клочья царство враги очнувшиеся».
– Царь-батюшка велел тебе к утру ковёр сшить, – вспомнил Иван.
Холодны поцелуи лягушки, от них по коже мороз укусами в кровь пробирался, качался Иван на волнах, а лягушка, с глазами ночи черней, над ним раскачивалась. Песню пела, ворожила словами да ласками.
– Я нить к нити плету, заплетаю,
Забираю печаль, забираю.
Вместо горькой этой печали
Я тебе сладкий сон напеваю.
Я тебе жизнь сотку красной нитью,
А к утру вновь лягушкою быть мне…
– Я развею чары, – обещался Иван водам, – К ногам твоим царство положу, только нет у меня царства.
– Не кручинься Иван-царевич, утро вечера мудренее.
Ковром Царевны-лягушки покрыли тело старшего сына, царь пожелал, чтобы искусное шитьё грело бездыханное тело первенца. Жену его, дородную боярыню, выволокли из светлицы едва живую. Коса русая растрепалась, в руках ковёр, на котором алое солнце садилось в кровавое море. Клялась она, что не убивала мужа, в ту ночь не спали они вместе, пришла она в опочивальню мужа и увидела, как обнимает он призрачный женский силуэт, жадно целует и зовёт возлюбленной. «Повезло же дурню», – повторяла она без конца мужнины слова. Но пятна крови на ковре, на измятой сорочке, на холёных пальцах, траурной каймой под ногтями, кровью чертят следы босых ног путь от светлицы к опочивальне.
-Я опару готовлю с любовью, с любовью,
Я прильну, мой супруг, в твоём сне к изголовью,
Белу грудь я покрою огнём поцелуев,
Я в болоте год к году сидела, тоскуя.
Подниму я дворцы как венец караваю,
Все, что снится тебе, все, что хочешь ты знаю.
– Хочу сына, назову в батюшкину честь. И дочь с огневыми глазами и статью твоей, сердечко мое, – выпалил Иван в сахарные уста своей лягушки.
«Средний брат рад, благословение царское к нему перешло. Жена у него, даром что купчиха, науськивает, да поучает: Ваньку в дальние земли отправить, дань собирать, там глядишь и пропадёт братец. Боле не на кого оглядываться, не с кем мериться будет, а в скорости и царь-батюшка отойдёт, совсем старик исхудал.
Младшему кроме бога не на кого надеяться, да и бог любит первенцев. Хорошо, что с доброй женой в земли дальние».
– Не кручинься, – молвила Лягушка, обняла за плечи, голову, косами украшенную краше любого кокошника, на грудь положила, пальцами волновала, губами ласкала, – ты меня из болота вызволил, я за тобой хоть в огонь.
В огне печи поднимался каравай, отец испытывал невесток на свой лад.
Утром среднего брата искали, да не нашли нигде, жена его в платье золотом шитом сама хлеб свой вынесла. Дочь купеческая рукастая, хлеб пышный, царь кусок отрезал и обмер. Была у среднего царевича примета на пальце указательном – родинка чёрная. Упал кусок хлеба на пол, царь отбросил каравай, а в нём сыновий палец. Отыскали среднего царевича в конюшне, изрубленного, истерзанного.
– Ведьма! – кричал царь, ногами топал, – К старшей её, на хлеб, на воду! Сжечь обеих по утру!
Рвалась жена среднего сына из рук стражников, била себя в грудь, в любви клялась, самого царя в убийстве царевича обвиняла:
– Что же ты, старый, творишь? За власть держишься мертвой хваткой! Берегись, Ванюша, он и тебя со свету сживет.
Высоко вился дым, доносил крики женские до богов, в небесах прятавшихся.
Расползлись по царству слухи, что царь силу и молодость у сыновей своих отбирает. К одному духа злого подослал, другого собственными руками изничтожил. Жалели младшего, Иванушку-Царевича, и ликом он мил, и словом добрым одаривал люд, и на расправу был не скор, выслушивал да правду искал. Такого ещё быстрее царь со свету сживет, ведь власть она всякого развращает и близкого врагом делает. Вспомнили, что и от жены царь-батюшка избавился, как сыновей она нарожала. Вспомнили и то, что жену он в плен взял, повстречал в лесу, да там и сделал своей.
Царь по сыновьям слез не лил, на тризне по среднему закусывал караваем Царевны-Лягушки. Жаба Ванькина, даром что зелёная, и ткать, и печь умела – не пропадёт младшенький с доброй женой.
Сам же царь топил горе в вине да на жемчужной груди девицы, что повадилась к нему к рассвету ходить.
– Откуда ты такая, чернобровая? – спросил он в первый раз и больше не спрашивал.
Тело млело, наливалось соками юности. Напевала на ухо царю девица, всё про желания выведывала.
– Чего желать в преклонных летах? – удивлялся царь, – Передать земли хочу в руки надёжные, знать бы какой из сыновей не подведет.
Да только сны ночь колдовала странные, томящие: «Руки не болят, колени не хрустят, глаза вновь небес синей, не талая вода. Идет царь молодым по золоту полей, подле лебедью плывёт чернобровая девица, коса до земли. Поле ширится, не поле вовсе, народ колосьями множится, царю кланяется, славит его как бога среди богов. К чему богу приемники, куда взор его падет, там и власть его».
Дрожали палаты царские, гости под столы заползли, царь державой отгородился, один Иван-Царевич сиял пятаком чищенным. Знал, кто терему резному мчится, ему на гордость, другим на зависть. Вошла Царевна-Лягушка во дворец, запахло первоцветами, запели над ней птицы, сердца застучали неверно. Под руки взял её Иван, к отцу подвёл.
– Вот жена моя добрая!
Ахнул царь: чернобровая, коса длинная до пола вьётся, глаза – омуты манящие.
«Не бывать Ваньке царем! Отошлю прочь, а лягушку его подле себя оставлю!»
«Как смотрит, как смотрит, старый черт, словно забыл, что седьмой десяток разменял».
– Я белой лебедью, я сизой горлицей,
Полечу-поплыву над околицей,
Загляну в окна, в очи милые,
Прогоню из души грусть постылую.
Загляну в сердце красное, лживое
И желание коршуном вырву я.
Подплыла Лягушка к царю, обвила руками-змеями, поцеловала в сухие губы. Блеснул нож, кинулся Ваня на отца. Вспомнил царь молодые годы, заслонил грудью девицу, выхватил кинжал с пояса, бросился на сына. Улыбнулась царевна тайком. Увидели гости, как подбежал царь к танцующей Лягушке, к ногам её упал и дух испустил. Уронил Иван чашу, полилось вино со стола, потекло рекой по полу.
– Чего ты желаешь, супруг мой, – вопрошала Лягушка.
– Царь-батюшка пир устраивает, народ повеселить, хочет, чтобы и ты пришла. Да только как я тебя покажу. Приди на пир лягушкою, красавица ты лишь для меня, под крылом ночи.
«Он отнимет тебя у меня. И царство отнимет. И жизнь».
Царский венец горел на рыжих волосах Ивана, рука, сжимающая скипетр, дрожала. Всё знала Лягушка, не говорил Иван ни слова, смотрела Царевна в глубину его жара любовного, читала в стонах. Не подвела, добрая жена.
– Напою-расскажу я про девицу,
За которой тьма полозом стелется.
Как родной отец дочь проклял свою,
Захотел владеть её силою,
Захотел владеть красотой её,
Среди всех богатств выше всех ценил,
Захотел навеки в рабыни взять,
Выпить досуха, волшебство отнять.
Ночью скинула царица лягушачью кожу.
– Что же, царь мой, Иванушка, всё исполнено? – стояла Царица новая за мужниной спиной, в шитых золотом одеждах, в венце с изумрудами.
Иван-Царь жене руки целовал, со своих пальцев перстни снимал, на тонкие персты нанизывал.
– Не зря в народе говорят, добрая жена и при смерти мужа спасёт.
– Верно, – рассмеялась Лягушка, – Поцелуй же меня, дорогой супруг!
Слаще этого поцелуя не знал Иван, растеклась прохлада по губам, скользнула в рот, заполнила затхлой водой легкие. Вспомнил царь Иван болото, вспомнил как кричала жена старшего брата про женский силуэт, как слова повторяла «повезло, дурню», как смотрел царь-батюшка на Лягушку с узнаванием.
– А ты чего желаешь, Лягушка? – спросил он тогда, ещё несчастным Царевичем, на болоте невесту, развернув платок.
– Исполнить обещание матери, – проквакала Лягушка.
Ой, была у меня свет-любовь матушка,
Поделилась она со мной знанием,
«Все живое вокруг, даже камушки,
Все душой горит – ярким пламенем».
Ты люби, дочь моя, землю милую,
Ты люби, дочь моя, воду чистую,
Они делятся с нами силою,
Они делятся с нами мыслями».
Только злой колдун, отец мой родной,
Не терпел её силу добрую,
Да к тому же пленён был моей красой,
Что змеёю звал, им рожденною.
Он забрал у матушки знания,
Да отправил прочь, в земли соседские,
Но она взяла в приданное
Стрелы острые, стрелы меткие.
Стал отец меня золотом пленять,
Троном из кости, новым именем.
«Подзабудь, просил, ты старуху мать,
Я бессмертие нам выменял».
Отказала отцу, да за матерью –
Только как я могла отказать ему.
Превратил он меня в жабу хладную,
И забрал мою девичью магию.
Вместо скипетра держала Царица в руках золотую стрелу. Вышла на балкон, стрелу на запад направила.
– Чего ты желаешь, отец? – закричала Царица вдаль.
В ответ подбросил шапки народ, восхваляя красоту и величие госпожи своей.
