Одноколыбельники бесплатное чтение
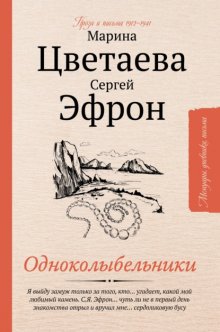
© Л.Л. Кертман, составление, подготовка текста, предисловие, послесловие, комментарии, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
«Нерушимое родство…»
«Я живу по стольким руслам…» Это важное признание звучит во многих письмах Марины Цветаевой разным адресатам, но особенно подробно и откровенно она углубляется в его сокровенный смысл в одном из писем к Р. Рильке. Она пытается объяснить великому поэту свою «безмерность в мире мер»: когда она пишет ему, та часть души ее, что принадлежит маленькому сыну, «не должна ничего об этом знать», и наоборот – когда она с Муром, эта часть ее души не должна ничего знать обо всем том, что связано в ее жизни с Р. Рильке. Эти слова можно отнести и к ее отношениям с Борисом Пастернаком, и к творчеству… Каждое из очень многих «русел» для нее безусловно самоценно, и она ревниво оберегает его от «смешивания» с другими.
Эта книга посвящена тому важнейшему руслу жизни и творчества Марины Ивановны Цветаевой, которое связано с ее пожизненным спутником – Сергеем Яковлевичем Эфроном, чье 125-летие отмечалось в 2018 году (через год после ее юбилея). В этой книге собраны посвященные ему стихи Марины Цветаевой и те отрывки из ее писем и записных книжек разных лет, где ощутимо его «присутствие» – порой в ярких живых эпизодах, порой – в размышлениях о его личности и месте его в ее жизни, а часто – просто в жгучей тоске по нему в годы разлуки…
Если перед многими стихами открыто стоит посвящение («С.Э.» или «Сергею Эфрон-Дурново»), то в прозе это может быть не так явно. Тем не менее не только в письмах и записных книжках, но и в помещенных здесь фрагментах больших цветаевских очерков, написанных в поистине разные эпохи ее жизни, – времен Гражданской войны («Мои службы») и эмиграции («Пленный дух» и «Страховка жизни»), где Сергей Эфрон отнюдь не является «главным героем», ощущается ее – в разное время очень по-разному эмоционально наполненный – «оборот» в его сторону: вначале восхищенный, наполненный гордостью за него, затем – болевой и все более напряженно обеспокоенный… И создается очень запоминающийся его образ – такой, какой только она и могла создать.
Но и образ молодой Марины никто не воссоздал талантливее, чем Сергей Эфрон в своей юношеской повести «Детство». (Впервые после 1912 года она была опубликована в полном объеме в 2016 году в Иерусалиме в издательстве «Филобиблон».) Марина Цветаева по-особому ценила эту повесть и всегда верила в писательскую одаренность Сергея. «Главное русло, по которому я его направляю – писательское», – писала она гораздо позже – в 30-е годы (новой заочной знакомой, живущей в Америке – Р.Н. Ломоносовой). Она всегда глубоко сожалела, что дальнейшая жизнь его не пошла по этому руслу…
Все же Сергей Эфрон успел немало написать, и в этой книге представлены, кроме «Детства», его очерки уже много испытавшего воина (из «Записок добровольца»). Многие историки утверждают, что трагические дни Октября 1917 года в Москве нигде – ни одним из очевидцев! – не описаны так живо и ярко, с такими бесценными подробностями, так талантливо, как в очерке С. Эфрона «Октябрь. (1917 г.)». В книгу включены и наиболее значительные его письма, в которых не менее, чем в прозе, ощутимы многие «составляющие» безусловно присущего ему писательского таланта – зоркая наблюдательность, внимание к деталям, живой юмор, эмоциональность и увлекательность повествования, тонкий психологизм.
Живой голос Сергея Эфрона опровергает несправедливое, но, к сожалению, ставшее за последние годы едва ли не стереотипным утверждение, согласно которому они с Мариной Цветаевой с самого начала были несовместимо разными людьми, но якобы просто не заметили этого на волне молодой влюбленности. (В этом утверждении явно слышится недооценка как талантливости, так и – особенно! – общего уровня личности Сергея.) О том, что это далеко не так, свидетельствует и наиболее любимый Мариной Цветаевой рассказ его – «Тиф», на важных страницах которого с такой силой звучит ни на минуту не отпускающая его в долгие годы разлуки боль за Марину, оставшуюся в далекой и ставшей теперь такой страшной их любимой Москве, страх за ее жизнь… Нельзя не ощутить при чтении этих пронзительных строк связывающее их поистине «нерушимое родство», о котором сказано в цветаевских стихах «Лебединого стана» («Как по тем донским боям…»).
Есть здесь и их письма, статьи и записи 30-х годов, когда возникло тяжелое отчуждение, связанное с овладевшими сознанием Сергея Эфрона наивными иллюзиями относительно якобы счастливой жизни народа в советской стране. Эти иллюзии разделялись многими знаменитыми писателями западных стран, но не Мариной Цветаевой, слишком хорошо помнящей советскую Россию, в которой прожила после революции пять страшных лет. Она страстно пыталась переубедить Сергея, рвавшегося вернуться на родину и уже подавшего прошение о советском паспорте, и была в отчаянии от невозможности этого – от его «почти фанатизма», увлекающего и трагически обманывающего и их детей. Такое отчуждение бросает невольную тень на весь их прежний долгий совместный путь, и в этой тени порой перестает видеться все ценное, что навсегда связало их – и не разрушилось даже в самых страшных испытаниях отношений.
Многое освещается важным дополнительным светом, если читать стихи и прозаические записи Марины Цветаевой и прозу Сергея Эфрона параллельно, как они расположены в этой книге: тогда обнаруживаются и многие пронзительные «переклички», и резкие расхождения. (Так, в том самом июне 1931 года – может быть, в тот же день, когда Сергей Эфрон отправил официальное прошение о советском гражданстве, Марина Цветаева написала трагическое стихотворение «Страна», проникнутое совсем другим настроением…) Такое чтение требует не скороспелых выводов, а вдумчивой неторопливости. С верой в добрую волю читателей именно к такому чтению издатели с волнением представляют эту книгу.
Лина Кертман
Часть первая. Прощание с детством
Москва
Сергей Эфрон
Детство
Посвящаю эту книгу Марине Цветаевой
…Дети – это мира нежные загадки,
Только в них спасенье, только в них ответ!
Марина Цвеmаева (Из сб. «Вечерний альбом»)
Дама с медальоном
Выходя в тот день с Fräulein на прогулку, я был, как всегда в таких случаях, довольно дурно настроен. Прогулка не предвещала ничего интересного: снова копаться в песке с запрещением пачкать костюм; снова сидеть с Fräulein на скамейке и слушать ее никому не нужные разговоры с другой Fräulein, такой же скучной; снова скрепя сердце отказываться от участия в играх, точно от этих веселых девочек и мальчиков можно чем-нибудь заразиться. Но как не пойти? Fräulein нужно слушаться.
У нас во всем расходились вкусы: она любила тень, я – солнце; она скамейки с Fräulein’aми, я предпочитал без них. Мы сходились лишь в одном: мы не любили гулять друг с другом.
Был майский солнечный день. Мы шли по главной аллее бульвара. На песке играли синие тени листьев вперемежку с золотыми пятнами. Эти пятна – островки, синее между ними – вода. Надо ступать с острова на остров. Это трудно – у меня такие большие ноги! Все время попадают в воду!
Может быть, на островах есть люди, которых я не вижу. Может быть я, ступая, каждый раз убиваю целые тысячи. Может быть, сейчас, в эту самую минуту, когда я поднимаю ногу, какой-нибудь мальчик тоже гуляет с Fraulein по своему бульвару. Моя нога для него страшная желтая гора (я в желтых башмаках). Гора опускается – мальчика нет! А что, если и меня сейчас раздавит какой-нибудь великан? Гляжу наверх – никого. Только синее, синее небо.
На скамейке – их всегда выбирала Fräulein – ужe сидела знакомая нам бонна с раскрытой книгой в руках. При виде нас она радостно отложила ее в сторону, и через минуту обе Fraulein уже, захлебываясь, рассказывали друг другу новости.
Что делать? Строить песочную гору? Ну, выстрою, а потом? Можно, конечно, выстроить на ней замок. Но с кем же я там буду? В замке нельзя без принцессы. Ах, если бы вчерашняя девочка, так долго звавшая меня играть, cогласилась в нем со мной поселиться! Но это невозможно – ни ей, ни мне не позволят. Остается одна Fräulein… Нет, лучше тогда совсем не нужно замка!
Я поднял глаза: рядом играют в кошки и мышки; девочка в большой шляпе катит серсо; вот толстая няня уводит домой плачущего мальчика – другой мальчик отнял у него лопаточку… Все заняты, все меня забыли.
Я перевожу глаза на синие тени у скамейки. Может быть, это пруд? Нет, лучше море! Я на корабле (без Fraulein) и еду открывать чудесный остров. Там не играют в песок, там настоящие замки и настоящие принцессы. У меня, конечно, будет много-много замков. Утром я буду ездить на охоту в дикие леса. У меня будет много-много коней: все, как Конек-Горбунок, только без горбов. А в лесу будут жар-птицы, колдуны и волки. Когда я въеду в лес, они все захотят меня убить, а я…
– Какой чудный мальчик!
Я вздрагиваю: на плечах у меня чьи-то руки. Испуганно поднимаю глаза: передо мной чужая дама в черном платье, с золотой цепочкой на шее. У нее бледное лицо и большие темные глаза. Она не уходит. Чего ей от меня нужно?
– Как тебя зовут, детка?
Какой странный голос! Точно ее кто-нибудь обидел, и она сейчас заплачет.
– Ты меня боишься?
– Нет.
– Так как же тебя зовут?
– Кира.
Она садится на скамейку и берет меня на колени.
Fräulein прекращает разговор и недовольно оборачивается в нашу сторону.
Мне отчего-то неловко. Хочется слезть, но я не решаюсь.
– Кто твоя мама?
– Мама? Не знаю… Она моя!
Дама улыбается.
– Ты очень хорошо ответил. Я тоже мама, и у меня тоже был свой мальчик.
– А где же он?
Я чувствую, как Fräulein дергает меня за рукав, но нарочно делаю вид, что не замечаю, и смотрю в другую сторону.
– Hast du schon vergessen, was dir Mama unlängst sagte?[1] – не выдерживает она.
– Vergessen[2], – xoлодно отвечаю я.
Fräulein отвертывается, делая вид, что не слыхала моего ответа.
Моя новая знакомая мне все больше и больше нравится.
Я даже и не думаю слезать с ее колен.
– А тебя как зовут? – спрашиваю я.
– Зови меня тетей Валей.
– Разве ты тетя?
– Почему же не тетя?
– Тети не такие! – убежденно говорю я.
– Ну, зови меня просто Валей, если я, по-твоему, не похожа на тетю, – улыбаясь, говорит она и, протягивая руку к сидящей против нас старушке, добавляет: – А это моя мама. Идем к ней.
Старушка мне сразу понравилась. У нее было такое же печальное и доброе лицо, как у Вали, только с морщинами. Платье у нее было какое-то особенное, с блестками, которые при малейшем движении вздрагивали и тихо звенели. Солнце, отражаясь в них, казалось совсем другим.
– Как это называется? – спросил я после долгого и внимательного разглядывания таинственных стеклышек.
– Ах, вот на что ты так долго смотришь! – тихо засмеялась старушка. – Это называется стеклярус. Разве у твоей бабушки нет его на платьях?
Тут я припомнил, что изредка видел такое платье на бабушке.
– У бабушки тоже черное платье! – ответил я, – и тоже с этим. Но у вас этого больше, у вас лучше. Вы очень похожи на бабушку. Вы, наверное, тоже бабушка?
– У меня был внучек, как ты; такой же хороший, большой. Только Бог не захотел его оставить с нами и взял его к себе на небо.
– На небо?.. – Я задумался. – Где же там можно жить? И зачем Богу понадобился бабушкин внучек?
Старушка и Валя что-то тихо говорили между собой по-французски, и я уловил эти несколько слов: Quelle ressemblance! C’est frappant![3]
От черных блесток я перевел глаза на цепочку у Вали на шее. На конце ее висел какой-то длинный кружочек, а в середине кружочка был какой-то мутный камешек, точно капля молока.
– Что это у тебя, брошка? – и я повернул кружочек.
– Нет, милый, это называется медальон.
– А для чего это?
– Сюда вставляют карточку.
Тут она раскрыла кружочек на две половинки, и я увидел маленькое лицо.
– Что это?
– Это мой мальчик, который умер. Его звали Женей.
– У меня тоже есть маленький брат Женя. Он сейчас дома, больной.
– А что с ним? – спросила она, проводя рукой по моим волосам. – Он часто болен?
– Часто. Он кашляет.
– У моего мальчика были такие же глаза, как у тебя, и такие же волосы. Тебе нравится его лицо?
– Он тут такой маленький!
Мимо нас, обгоняя друг друга, пробежали две девочки. Одна из них, поменьше, держала над головой палочку с вертящимися разноцветными звездочками.
Валя улыбнулась.
– Когда я была маленькой, я страшно любила эту игрушку.
– Ты любишь игрушки?
– Да, – рассеянно протянул я, глядя вслед убегающим девочкам, – но я тоже люблю книги. У нас много книг. Я больше всего люблю с картинками. Мы с Женей кладем книгу на стул, сами становимся на колени и смотрим. Есть такая хорошая картинка: такой дом, – высокий-высокий, в окне огонь, а вокруг море. Я забыл, как это называется, но это для кораблей, чтобы не заблудились.
– Маяк?
– Да, да. Ты, наверное, все знаешь? А знаешь еще картинку Мах und Moritz?[4] Это были два брата, они никого не слушались, а под конец из них сделали пироги.
Старушка и Валя смеялись. Я продолжал:
– А потом я еще люблю Weihnachtsmann’a[5]. Он к тебе приходит?
– Когда-то приходил, к моему мальчику…
– А знаешь что? – оживился я. – Когда он к нам придет – это будет на Рождество, – я его попрошу, чтобы он и к тебе заходил. Хочешь?
– Спасибо, милый.
Fräulein со своей скамейки делала мне отчаянные знаки.
Я встал.
– Меня Fгäulein зовет. Мне ужасно не хочется к ней.
– Иди, иди, а то мама рассердится, – сказала старушка.
– Ну, мама-то не рассердится! Она добрая! Я ей все расскажу про Валю… И про вас тоже, – спохватившись, добавил я.
Мы попрощались, и я медленно перешел на другую сторону аллеи, где Fräulein уже приготовилась идти домой. Чужая бонна ушла. У Fräulein было сердитое лицо.
– Wart nur! Wart nur! – шипела oнa. – Alles wird Маmа erfahren! Hat dir Маmа erlaubt mit fremden Leuten zu sprechen? Du schlechter, uпgezogener Junge! (Подожди! Подожди! Все мама узнает! Позволила тебе мама разговаривать с чужими? Гадкий, непослушный мальчик!)
– Gehen Sie zum Kukuck! (Оставь меня, наконец, в покое!) – крикнул я, вырывая руку из цепких пальцев Fräulein, и с плачем пустился к Валиной скамейке.
– Fraulein ругается! – захлебываясь, говорил я. – Ни за что я с ней не пойду! Пусть одна идет! Отведи меня домой сама. Ты совсем останешься у нас, ты будешь жить в нашей детской, и мама тоже, и Женя. А Fräulein пусть с Томкой в будке!
Валя слушала с участием, старушка качала головой.
– Вот что я тебе скажу, – ласково начала Валя, – когда ты придешь домой, ты все расскажешь маме, а мама скажет Fräulein, чтобы она на тебя не сердилась. Согласен?
– Дд-а-а… – неуверенно протянул я, – а ты к нам придешь в гости?
– Приду, приду!
– И вы тоже? – обратился я к старушке.
– И я приду, – с улыбкой согласилась та.
– Так беги же скорей! – сказала Валя. – А вот тебе на память о моем мальчике.
Она сняла свой медальон и надела мне его на шею. Я растерянно молчал.
– Ну, прощай, Кира! Ты меня не забудешь?
– Нет.
Я все еще не пришел в себя.
Она несколько раз поцеловала меня, и я бегом пустился к Fräulein, придерживая обеими руками качающийся медальон.
– Fräulein, Fräulein! Что она мне подарила! – кричал я еще в десяти шагах от скамейки, куда она села. – В нем портретик!
– Was wird noch Mama darauf sagen?[6] – ехидно проговорила она и, взяв меня за руку, молча повела по боковой аллее.
Мне было грустно. Почему Fräulein сердится? Почему тени листьев уже не похожи на воду? Почему так не хочется думать о чудесном острове с замком и охотой?
Я так ясно видел свой замок, я даже слышал стук копыт по мосту. Теперь все скрылось – куда? И девочка скрылась, нарядная девочка, так долго звавшая меня играть.
. .
Дома я все рассказал маме. Она, как я и ожидал, выслушала меня очень ласково и долго вглядывалась в портретик.
– Знаешь что, Кира, – сказала она, – я боюсь, что ты потеряешь свой медальон. А ведь жалко было бы, правда?
– Жалко, – уныло согласился я.
– Хочешь, я его спрячу?
– Спрячь. Только можно мне его поносить до вечера?
Мама, конечно, согласилась.
Вечером в постели я еще раз говорил с ней о Вале.
– Она придет к нам, мама, и будет с нами жить. Она обещала. Ты рада? – закончил я свой рассказ.
– Да, милый, я буду рада.
Прощаясь со мной, она сняла с меня медальон и опустила в свою шкатулку. Я до сих пор вижу ее жест: сначала скрылся кружочек с камешком, двойной змейкой легла цепочка…
– Когда ты захочешь на него посмотреть, ты мне скажешь, – проговорила мама, целуя меня.
А у меня давно уже капали на подушку слезы.
Сюрприз
В доме было тихо. Мама с Женей легли спать, сестры готовились к экзаменам.
Побродив по пустым комнатам, переглядев в сотый раз на стенах все картины, перелистав в гостиной все альбомы, я только что поудобнее расположился с книгой в своем любимом мягком кресле, как послышался голос нашей горничной:
– Кирилл Сергеевич! А Кирилл Сергеевич!
– Что такое? – лениво отозвался я. (Наверное, опять тарелку разбила и боится сказать.)
– Барин, миленький, я сейчас на минутку отлучусь из дому. Не можете ли вы открыть дверь, когда позвонят? – торопливо шептала Маша. – Только скажите, что никого дома нет.
Я сразу согласился. Очень весело открывать дверь!
Я бросил книгу, влез на подоконник и стал следить за прохожими. Вот идет какая-то дама с мальчиком. Какой славный мальчик! Дай Бог, чтобы к нам! Проходят под нашими окнами. Я стучу по стеклу. Мальчик поднимает голову, дама смеется и грозит пальцем. Нет, мимо. Вот студент. Куда он так спешит? Двое мастеровых, баба в платке, какой-то господин с тросточкой… Столько людей, и все не к нам!
– Сосчитаю до ста, – думаю я, – наверное, за это время кто-нибудь позвонит!
Считаю возможно скорее, отстукивая пальцем по стеклу.
– Господи, уже семьдесят, и все никого! Дело идет к девяноста – счет постепенно замедляется. – Восемьдесят девять…
Проехал пустой извозчик.
– Девяносто… девяносто один, – нарочно растягиваю слова, – девяносто два, девяносто… три, девяносто че-ты-ре, – какая скука, – девяносто пять.
Когда Маша дома, все время звонят, в кои-то веки открываю я – и никого!
– Девяносто шесть… Девяносто семь…
Пальцы совсем прилипают к стеклу.
– Девяносто восемь…
Тут мне начинает казаться, что я с пятидесяти перескочил прямо на семьдесят. Приходится начинать с середины.
Идут, идут, и зачем все идут? Высунуться разве в форточку и крикнуть что-нибудь городовому?
– Пятьдесят три.
Тут мое внимание привлек выезжавший из-за угла экипаж. Толстый кучер крепко натянул вожжи. Лошади в серых яблоках быстро несутся по переулку. В экипаже какой-то господин, с ним двое мальчиков. Да это дядя Володя! Сейчас будет звонок.
Я быстро спрыгиваю с подоконника и бегу в переднюю. Звонят. Сердце бьется быстрее.
Дядя Володя, – какой он важный! Статный, высокий, седой! У нас дома говорят, что у него греческий профиль. Почему греческий? Я знаю одного грека из фруктовой лавочки. Нос у него крючковатый, глаза черные…
– Эта фрукта перваго сорт, – говорит он.
Дядя Володя не такой: у него прямой нос и серые глаза.
Все это быстро проносилось у меня в голове, пока дядя и двоюродные братья-гимназисты, глядевшие на меня свысока, снимали пальто и оправлялись перед зеркалом.
Только в столовой я вспомнил о Машином наставлении. Но было поздно: дядя Володя уже сидел у стола, мальчики рассматривали обои.
– Ну, Кира, где же мама? – начал дядя Володя.
– Она за покупками уехала на Кузнецкий, – храбро глядя ему в глаза, ответил я.
– А сестры дома?
– Нет, они тоже уехали.
– Bcе? Куда же?
– В Пассаж.
– Гм… – Дядя Володя побарабанил пальцами по столу. – А папа дома?
– И папа тоже уехал…
– В Пассаж? – докончил дядя.
– Я не знаю, куда он уехал! – с отчаянием воскликнул я.
Мальчики переглядывались, дядя барабанил пальцами.
– Женя-то по крайней мере дома?
– И Жени нет, никого нет!
Вдруг из маминой спальни раздался громкий зевок. Я так и замер от ужаса.
– Это кто же зевает? – спросил дядя.
Я, не отвечая, летел к сестрам в комнату.
– Дядя Володя там сидит! Я сказал, что никого дома нет! – шепчу я, открывая дверь.
Дверь с шумом захлопывается. Я стою на середине залы красный, готовый расплакаться от смущения.
– А это кто? – дядя указывает на беспощадную дверь.
– Там… Там Женя мне сюрприз готовит! – упавшим голосом отвечаю я.
В эту минуту на пороге маминой спальни показывается… Женя! Только что вставший, заспанный, сладко зевающий Женя.
– Где же твой сюрприз? – иронически улыбается дядя.
Женя удивленно трет глаза:
– Я с мамой спал!
………
И теперь при каждой встрече со мной дядя неизменно спрашивает: «Ну, а как твой сюрприз?»
В Пассаже
Для меня навсегда осталось загадкой, почему у всех немецких бонн непременно есть жених и этот жених непременно Карл.
Они могут различаться друг от друга цветом лица (вернее, оттенком румянца – бледных Fräulein не бывает), прической, манерой наказывать и прощать, но у каждой из них на комоде мы неизбежно найдем фотографическую карточку с надписью: «Моей горячо любимой Доротее… Эльзе… Сусанне… от ее верного Карла».
У этого Карла высоко поднятая голова, закрученные усы, широкие плечи и выдвинутая грудь с двумя дугами блестящих пуговиц.
Такой Карл красовался на комоде и у нашей Fräulein, и о нем рассказывала она в тот день на прогулке Лене. Этот рассказ мы, дети, знали уже давно, – с первого дня ее приезда.
У ее Карла были голубые глаза, веселый характер и цитра, на которой он играл три вещи: «О, Tannenbaum, о, Tannenbaum», «Die Wacht am Rhein» и «Kommt’s Vöglein geflogen»[7]… Кроме того, он хорошо танцевал и пел на вечерах «Schnadahüpfeln». Этого слова я, даже после старательных разъяснений Fräulein, никак не мог понять. Мне эти «Schnadahüpfeln»[8] представлялись в виде маленьких прыгающих насекомых с очень длинными ногами. В конце концов я так и решил, что он, несмотря на свои двадцать три года и усы, пел именно о них.
В тот день незадолго до прогулки Fräulein получила от него письмо и с новым жаром рассказывала о нем Лене.
– Он недавно катался на лодке в Тиргартене со своей тетей. О, он прекрасно гребет! Если бы вы только видели, Ленхен, как он красив на воде! Взмахнет один раз веслами, и лодка уже на середине озера! Дома вы сама прочтете его письмо. Недавно он был приглашен в крестные отцы к своему товарищу и дал своей крестнице мое имя – Сусанна. После крестин он с ней фотографировался, я скоро получу эту карточку. Как вы думаете, Ленхен, в какую рамку ее лучше вставить?
– Я думаю, в золотую? – нерешительно сказала Лена.
– О, нет, Gott bewahr! Он ведь сам золотой, – я хочу сказать – блондин. Я думаю, к его волосам лучше всего пойдет голубая рамка небесного цвета.
– А по-моему, малиновая, – вставил я свое слово.
– Ты еще слишком молод, чтобы судить об этом, – строго сказала Fräulein и, обернувшись к Лене, продолжала свой рассказ.
В Пассаже было пестро и людно. У витрин стояли нарядные дамы; то и дело открывались и закрывались двери магазинов, впуская и выпуская покупателей. Сквозь стеклянную крышу синело осеннее небо.
Взглянув наверх, я вспомнил небесно-голубую рамку, свой совет и последовавшую за ним фразу Fräulein.
Мне семь лет, и я слишком молод! Но если я слишком молод, зачем мне слушать о Карле? В Пассаже столько вещей более привлекательных и подходящих для моих семи лет. Например, кондитерская, где такие красивые пирожные, или игрушечный магазин, или…
Я оглянулся: Fräulein, увлеченная разговором, очевидно, не думала обо мне; Лена, хотя и не увлеченная, тоже не смотрела в мою сторону.
Дойдя до угла, я быстро свернул в боковой ряд и бегом пустился вперед. Моей ближайшей целью было разыскать большого белого медведя с тарелкой в лапах у двери мехового магазина. Из-за него, собственно, я и упросил Fräulein пойти в Пассаж. В одной немецкой книге я прочел его историю. Детство и молодость его прошли в ледяном дворце на берегу океана. Там он был королем над всеми медведями. Утром он пил рыбий жир, конечно, не такой противный, как мой; после обеда ему подавали на серебряном блюде целую гору мороженого. По окончании утреннего завтрака он шел в тронный зал, усеянный бриллиантами, и судил всех других медведей. Вечера его проходили частью в катании на санях, частью в танцах, – медведи отлично танцуют на льду. Все стены его дворца были увешаны ледяными лампочками, в середине которых пышным цветком горело голубое пламя. При первом взмахе королевской лапы музыканты брались за трубы, и бал начинался. Не знаю, можно ли назвать балом, когда танцует один? Потому что он танцевал один – королева в это время укладывала своих медвежат спать. И вот однажды ночью пришли во дворец какие-то страшные враги, увезли королеву с детьми в зверинец, а его приставили в Пассаж сторожить меховой магазин.
К этому медведю я и направил свои шаги. Найти его было не так легко – ряды ничем не отличались друг от друга. Везде сияли витрины, всюду перед ними стояли дамы.
Мое внимание привлекла одна такая витрина, немного походившая на тронный зал короля-медведя. Толстое стекло напоминало лед, разноцветные камни, особенно бриллианты, – стены его дворца.
Кто знает, может быть, их привезли сюда вместе с медведем? Может быть, они взяты из той тарелки, которую он так жалобно протягивает прохожим? Я стал разглядывать одну брошку – бриллиантовую розу. В немецкой книге говорилось о лампочках-цветах. Когда они зажжены, они голубые; днем они должны быть белыми. Это, наверное, такая лампочка!
Через минуту я был в этом убежден и решил во что бы то ни стало возвратить ее медведю.
Я призадумался. Мои семь лет говорили мне, что без денег ее не отдадут, но мои семь лет говорили мне также, что за двадцать копеек, звеневших у меня в кармане, бриллиантовой лампы купить нельзя. После нескольких секунд колебаний я вошел в магазин.
– Что вам угодно? – с некоторым удивлением спросила меня барышня у прилавка.
– Мне нужна бриллиантовая лампочка… бриллиантовая роза… – поправился я, сообразив, что барышня не знает истории этой розы.
– Бриллиантовая роза? Что же вы будете с ней делать?
– Она мне нужна для одного дела. Это секрет!
– Вот как! – засмеялась барышня. – А нельзя ли узнать – какой?
– Можно, – только дайте мне розу!
– Роза не моя, я не могу вам ее дать. Но скоро вернется хозяин, и я передам ему вашу просьбу. Вы подождете его?
– Да, конечно.
– Так сядьте вот сюда на стул и расскажите мне о себе. Кто вы, как вас зовут, сколько вам лет, почему вы без няни?
Я сел на указанный стул и начал:
– Меня зовут Кира, мне семь лет, и няни у меня давно уж нет, но есть Fräulein.
– Где же она?
Я замялся.
– Вы, может быть, от нее убежали? Ай-ай-ай! Это нехорошо! Она, наверное, вас ищет, беспокоится.
– Ничего не беспокоится, она сегодня утром получила письмо от Карла и совсем обо мне не думает.
– Кто это – Карл?
– Ее жених, лейтенант. Он играет на цитре, у него голубые глаза и золотые волосы. Ему двадцать три года.
– Это она вам все рассказывает? – засмеялась барышня.
– Нет, не мне, – Люсе и Лене. Но я всегда слышу и уже наизусть все знаю. Я его терпеть не могу!
– Почему же?
– Когда Fräulein получит от него письмо, она три дня рассказывает, что он написал. Кончит и сначала, кончит и сначала…
Барышня смеялась. Часы над кассой пробили три. В половину четвертого мы должны быть дома к обеду.
– Вы, может быть, в другой раз зайдете? – спросила барышня, заметив мой взгляд на часы.
– Нет, мне в другой раз, наверное, не удастся… Мне сейчас нужна роза…
– Хозяин, вероятно, долго еще не придет. Вы такой умный мальчик, такой развитой, послушайтесь меня: идите лучше к вашей Fräulein.
«Умный и развитой» мне понравилось; от совета я поморщился.
– Знаете, Кира, эту розу, наверное, долго не купят, она очень дорогая, – продолжала барышня. – Когда вы будете побольше, вы придете за ней. Хорошо?
Я уже колебался. Гнев Fräulein меня мало трогал, но что скажет мама?
Барышня подошла ко мне и взяла меня за руку.
– Я сберегу ее для вас!
– Наверное?
– Да, обещаю.
– Хорошо… – со вздохом ответил я.
Барышня вышла и через минуту вернулась с каким-то господином.
– Этот господин сейчас усадит вас на извозчика, и вы дадите ему свой адрес. Вы ведь знаете, где ваш дом?
– Да-а… – уныло протянул я.
– Так до свиданья. Вырастайте скорее! – сказала барышня, целуя меня.
Господин взял меня за руку и повел к выходу.
……..
Ночью я проснулся от какого-то бормотания в соседней комнате. Это Fräulein перечитывала вслух письмо своего Карла.
Детский сад
В одном из тихих переулков нашего города стоял маленький розовый особняк. За ним сплошной стеной поднимались старые дубы; в углу, между особняком и оградой, был грот, а в самом конце сада – двухэтажный флигель. В этом флигеле жили мы.
Ах, какой это был сад! Сейчас же после утреннего чая мы выбегали туда, разбрасывая на бегу желтые листья, собранные в кучу садовником. Нашим любимым уголком был, конечно, грот. Он был сделан из серого пористого камня, уже обвалившегося кое-где, одна сторона его заросла плющом и травой, по другой поднималась железная лесенка, ведущая наверх, на площадку.
С этой площадки была видна улица, и мы с Женей целыми часами глядели сверху на прохожих. Кроме этого наблюдательного поста, нас часто можно было найти в закоулке между особняком и гротом. Там росли большие колючие кусты, в которых мы особенно любили прятаться. К тому же на них росли какие-то красные ягоды; садовник их ел, но нам старшие запрещали, так как считали их ядовитыми. Мы с братом окрестили их «змеиными». Но ни грот с его вышкой, ни место для пряток, ни змеиные ягоды не могли отвлечь нас от розового дома.
Вечно запертая высокая стеклянная дверь не давала нам покоя. По обе стороны от нее тянулись большие окна, за которыми видны были раскидистые пальмы, ровно обрезанные деревца с розовыми и белыми цветами, много толстых колючих кактусов и других интересных растений. Ключ от этой двери садовник всегда носил с собой. Отпиралась она лишь ненадолго рано утром, с приездом водовоза, когда мы еще спали.
Вообще этот дом казался нам таинственным: с утра в окнах второго этажа мелькали детские лица, часто оттуда доносилось хоровое пение или просто слова нараспев.
– Мама, что там делается? – спросили мы однажды.
– Это детский сад. Вы скоро будете в него ходить.
– А почему же в саду никого не видно? Там только садовник.
– Это зимний сад! – засмеялась мама.
– Почему же он называется «детский»?
– Это не детский, – детский наверху. Впрочем, вы сами скоро увидите: с будущей недели вы будете ходить туда.
Разговор на этом кончился. Мы торжествовали: дом становился нашим.
– Как будет злиться садовник! Уж теперь ему придется дать нам ключ! – мечтали мы вслух с Женей.
Накануне долгожданного дня мы переговаривались перед сном.
– Кира, как ты думаешь, можно будет рвать цветы? – спрашивал Женя.
– Конечно, можно. Теперь все будет наше.
– Я беру розовые.
– Нет, я!
– Ведь они мои уже. Ты бери белые!
– Сам бери белые, я розовые хочу.
– Я первый увидел сад! Ты еще спал, а я везде был, все видел и выбрал себе розовые!
– Во-первых, я их хотел для мамы, а во-вторых, ты можешь их брать. Я возьму себе пальмы, апельсины, лимоны, те белые цветы и… и весь детский сад!
– Я тоже хочу детский сад! – обиделся Женя.
– Нет уж, извини. Ты бы раньше брал! Оставайся теперь со своими розовыми!
Женя заплакал.
– Хочешь, поменяемся? – предложил я.
– Хочу-у… – сразу успокоился Женя.
– А дашь мне розовые?
– Бери.
– Только сад пусть будет общий!
– Общий… – уже сонным голосом повторил Женя.
Мы заснули. Завтра волшебный дом раскроет нам свои двери.
Длинная полутемная передняя с зажженной у подзеркальника лампой; множество пальто, шляп, калош; шум детских голосов за стеной…
– Вам старшую мамзель? – спрашивает прислуга.
– Да, пожалуйста, – утвердительно кивает мама.
Голоса за дверью на минуту стихают. Мы крепче прижимаемся к маме.
– Сейчас придет учительница, – говорит мама, – будьте с ней повежливей и отвечайте на вопросы по-французски. А главное – не бойтесь, вам тут будет очень весело.
– Мама, а сад этот – как внизу? – и я указываю пальцем в сторону голосов.
– Сейчас сам увидишь!
Мы смотримся в зеркало: какие у нас хорошие новые матроски! Совсем одинаковые, только якоря у меня побольше.
– Bonjour, madame!
Я испуганно повертываю голову: перед нами «старшая мамзель». У нее желтое лицо, высокая прическа и темно-синее платье.
– Это, наверное, ваши маленькие мальчики? – продолжает она по-французски.
Мы кланяемся.
– Можно их пока отвести к детям?
– Пожалуйста. Идите, детки! – говорит нам мама.
– А ты с нами не пойдешь? – спрашивает Женя, не отпуская маминой руки.
– Я потом приду. Идите, милые! Не забывайте, что я вам говорила!
Мама целует нас. Mademoiselle берет нас за руки, – сейчас мы войдем в наш сад! Длинный коридор, по стенам картинки со зверями, – пока ни цветов, ни деревьев не видно… Мы с Женей переглядываемся.
– Вот мы и пришли! – говорит m-llе, нажимая медную ручку двери.
Господи, как в этом саду кричат! Мы входим. Крик замолкает.
У меня рябит в глазах от всех этих красных, синих, клетчатых девочек и мальчиков.
– Вот вам, дети, два новых маленьких друга, – говорит m-llе, выдвигая нас вперед, – я сейчас пойду говорить с их мамой, а вы пока познакомьтесь. Как вас зовут? – спрашивает она уже в дверях.
– Меня Кира!
– Меня Женя! А вас как?
Все почему-то громко смеются. Женя краснеет.
– Меня зовут m-llе Marie. Тише, дети. Смеяться тут не над чем. Маргарита, познакомьте их со всеми.
M-llе Marie ушла. Мы стоим у стены под любопытными взглядами чужих детей. Сколько их! Мы никогда не видели столько за раз! И какие у них всех блестящие глаза!
Я оглядываю комнату: веселая комната! Три светлых окна, обои с голубыми венками, длинные столы, покрытые листами цветной бумаги. Но какой же это сад? Мне хочется спросить у Жени, но я не решаюсь.
С ближайшей скамьи поднимается девочка в клетчатом – зеленом с красным – платье. Это, наверное, Маргарита. Сейчас она будет нас знакомить со всеми детьми. Вот она перед нами. Заложила руки за спину и смотрит. Детям нельзя класть руки за спину – Fräulein всегда нам это говорит! У девочки круглое лицо, припухший, точно от насморка, нос, маленькие глаза и вьющиеся волосы, завязанные на макушке бантом. Как он смешно торчит! Наверное, он на проволоке.
– Кто из вас Кира и кто Женя?
Голос у нее, как у большой, и ростом она много больше меня.
– Кира – я, а Женя – он.
Молчание. Девочка крутит шеей и смотрит в потолок.
– Меня зовут Маргарита. Это очень красивое имя. Моя крестная мама тоже Маргарита. У нее свой дом, своя карета и свои лакеи. Когда я вырасту, у меня тоже все это будет. Я здесь старше всех, и все меня должны слушаться. Ты меня будешь слушаться?
Я отвечаю не сразу. Мне, собственно, хочется ответить «нет», но как знать – может быть, это тоже учительница? M-llе Marie старшая, а это младшая… Спросить у Жени? Но Женя тоже не знает. Нет, наверное, не учительница! Разве у учительницы бывают короткие платья и торчащие банты? А если не учительница, то…
– Почему ты молчишь? Ты немой? – прерывает Маргарита мои размышления.
– Ты сама знаешь, что я не немой. Я тебе только что сказал, что меня зовут Кира, а его Женя.
– Кира! Кира! – презрительно фыркает она, – вот так имя! Ну, Кира, ты меня будешь слушаться?
– Нет. Ты не учительница, ты просто маленькая девочка. И не хвастайся, пожалуйста, своей крестной мамой. Моя мама говорит, что глупо хвастаться.
– Сам ты глупый!
Я смотрю на Женю: он прижался к стенке и испуганно моргает глазами. Вокруг нас уже целая толпа детей. Я храбро смотрю прямо в глаза Маргарите.
– Тебе сколько лет? – спрашиваю я.
– Мне десять с двумя месяцами. Через десять месяцев мне будет одиннадцать, и мама мне на рождение обещала подарить браслет. А тебе сколько?
Я молчу. Ни за что не скажу ей сколько. Господи, когда же и мне будет одиннадцать лет через десять месяцев?
– Скажи мне, пожалуйста, Маргарита, – решаюсь я переменить неприятный для меня разговор, – где же здесь детский сад? Нельзя ли пойти туда?
Что это сделалось с Маргаритой? Она сперва вытянулась на концах своих красных туфелек, потом закружилась на месте, хлопает в ладоши…
– Я же сразу сказала, что ты глупый! Ха-ха-ха! Близко ли детский сад! Что же ты думаешь, это настоящий сад – с деревьями! с дорожками! с клумбами! Ах ты глупый, глупый, маленький, малюсенький мальчик! – обидно громко кричит она, вертясь во все стороны.
Другие дети тоже вертятся и кричат. Остается одно: высунуть ей язык. Это нехорошо, маме бы это не понравилось. Да где же мама? Неужели она ушла домой? Я беру Женю за руку.
– Женя, пойдем к маме, – шепчу я, – здесь все важничают. Тебе ведь тоже не нравится?
– Но ведь мама сказала, что скоро придет, – неуверенно говорит уставший стоять Женя.
Милый Женя! Как я люблю его сейчас! Какой он ласковый, добрый!.. Зачем я ему вчера не давал розовые цветы? Я теперь все отдам ему. Да, но где же цветы? Никакого сада тут нет, только дети, и еще Маргарита дразнится.
– Слушай, Кира, я тебе скажу, что такое детский сад, – как-то слишком ласково начинает она, – это такой большой сад с деревьями, с клумбами, с дорожками… А на деревьях – девочки, а на клумбах – мальчики, а на дорожках – дурачки, один дурачок – Кира!
– Нет, не Кира, а дурачок Маргарита! И не дурачок ты, а просто обезьяна в клетчатом платье. К нам раз пришел шарманщик-болгарин с обезьяной; она сидела у него за пазухой, на ней было красное с зеленым платье, она дразнилась, важничала, ну совсем как ты. Правда, Женя?
– Нет, – слышится тихий Женин голосок, – она лучше: она на руках ходила.
Маргарита стоит красная, со слезами на глазах, и глядит на свои тоже красные туфли. Мне уже немного жаль ее. Вдруг она заплачет?
– Ты не сердись. Ее звали Марина Ивановна, и она была ручная. Она все мерзла: ее привезли из далекой страны, где даже зимой растут апельсины…
Маргарита не дает мне окончить. В ее руке комок розовой бумаги. В следующую минуту он уже ударился о мой лоб и отскочил к ее ногам. Она нагибается, чтобы поднять его, я толкаю ее… Маргарита на полу и громко плачет. Женя спрятался за меня и тоже плачет; и дети, особенно очень маленькие, тоже плачут; и я, сам не знаю почему, тоже плачу.
Появление мамы в сопровождении m-llе Marie положило конец нашему «знакомству с детьми». Начались объяснения; извинения мамы, извинения m-llе Marie, злобные извинения передо мной Маргариты, довольно непонятные мои извинения перед ней.
– На сегодня достаточно, мои маленькие друзья, – сказала m-llе Marie, точно мы действительно много сделали. – Теперь вы можете идти. Завтра приходите к 10 часам. Вы увидите, как у нас весело!
– Да, весело, – подумал я, – все плачут! Но, конечно, не произнес этого вслух.
– Кира, – зашептал Женя, все еще угнетенный странным садом, чуть только мы вышли из передней, – а ведь ключа-то он нам не даст!
– Не даст… – уныло согласился я.
M-llе Marie сказала правду: в детском саду было очень весело. Пришлось, конечно, отказаться от торжества над скупым садовником, но в новом саду было столько интересного, что тот, прежний, быстро отошел в прошлое.
Дети делились на три группы; нас приняли сразу в среднюю. В этой группе было человек восемь, кроме нас. От двенадцати до часа, на grande rékréation[9], все три группы смешивались, и устраивались общие игры: мнения, шарады, телефон… В сад нас не пускали – говорили, что хозяин дома, брат наших m-llеs, не хотел, чтобы мы туда ходили; говорили, что он жалеет свои цветы и траву. Но мы, конечно, знали, в чем дело: жадный садовник боялся, что кто-нибудь из нас пролезет в зимний сад. «Зачем хозяину цветы и трава, когда он сам не живет в своем доме?» – рассуждали мы.
Женя и я дружили почти со всеми детьми. У нас был только один враг – несносная Маргарита. При m-llе Marie и ее сестре Sophie она не смела к нам приставать, но при третьей учительнице, m-llе Jeannе, становилась смелей.
От неизменных слов m-llе Jeannе: «Бросьте, дети, не стоит ссориться», – веяло такой далекостью и спокойствием, что никто ими не смущался. Она была очень высокая, тонкая и бледная, с очень темными глазами и волосами. Учила ли она с нами новую песенку, показывала ли, как делать особенно пышные цветы из пестрой бумаги, читала ли нам какую-нибудь смешную сказку про зверей, – ее лицо всегда оставалось сосредоточенно-спокойным.
Больше всех она любила Адриэнну, тоже француженку, веселую и живую девочку лет семи. Адриэнна так и висла на ней. Мы с некоторой завистью следили за их быстрым разговором, в котором постоянно мелькало слово «Paris»… Для m-llе Jeannе оно, кажется, было лучшим в мире.
Нашей любимой учительницей была m-llе Marie – полная противоположность m-llе Jeannе. Ни m-llе Jeannе, ни m-llе Sophie не выдумывали таких чудных игр, не вырезывали таких чудных картонных кукол, как она. К тому же она почти всегда улыбалась.
Ее сестра, m-llе Sophie, помогала нам одеваться, разливала за завтраком молоко и редко сидела с нами во время учения. Обе сестры поразительно походили друг на друга: обе маленькие, быстрые и веселые.
Дома мы никак не могли нахвалиться перед мамой нашим детским садом. Одно отравляло счастье: приставание Маргариты. Придем ли мы в новых костюмах, Маргарита уж тут как тут: приседает, вертится, дергает за рукав.
– Женя похож на воробья, а Кира – на мешок с картошкой!
Заплачет ли кто-нибудь, разобьют ли тарелку за завтраком и m-llе спросит о причине шума, тотчас же покрывает все голоса звонкий и резкий голос нашей преследовательницы: «Это Кира толкнул его» или: «Это Кира разбил». Женю она еще терпела, меня же просто ненавидела.
Одним из самых веселых дней в детском саду был день истории с Илюшей. Этот Илюша был в младшей группе, – толстый, стриженый шестилетний карапуз. За ним водился только один недостаток: плаксивость. Но в день памятной нам истории он имел полное право плакать.
Случилось так, что m-llе Marie уехала провожать на вокзал каких-то знакомых, m-llе Sophie занималась по хозяйству, и с нами на целый день осталась m-llе Jeannе.
Во время большой перемены она обыкновенно читала французскую книгу, изредка вскидывая на нас свои большие глаза и лениво произнося свое вечное: «Ведь скучно ссориться». «Ссориться» у нее значило все: и громкий смех, и беготня по скамьям, и бросание друг в друга объедками завтрака.
На этот раз она тоже читала свою книгу.
У нас была одна особенно любимая, но почему-то запрещенная игра – качели: двое стоят неподвижно, а третий, обхватив их за шею, раскачивается. Лучше всех качается тот, кто попадает ногами в стену.
Жене, как тихому и скромному мальчику, почти всегда приходилось служить столбом. Но на этот раз счастье ему улыбнулось, и он весело двигался между Адриэнной и мной, когда вдруг раздался за нашими спинами сначала крик, потом захлебывающийся плач. Плакал Илюша – невинный зритель, в которого попал, думая попасть в стену, Женя.
На вопрос подбежавшей m-llе Jeannе Женя смущенно и тихо ответил:
– Это его нос.
– Илюшенька, Илюшенька, не плачь, – утешал я его. – Мы сейчас пойдем с тобой к нам, ты ляжешь на постель, и все пройдет. А потом ты будешь королем, а мы охотничьими собаками. Хочешь?
– Или ты будешь собакой! – перебил Женя.
M-llе Jeannе сразу согласилась отпустить к нам Илюшу, и через минуту мы все трое бежали по листьям к нашему флигельку.
В передней – никого, в гостиной – пусто. Заглянув мимоходом в столовую, мы помчались в комнату сестер. Люся сидела у стола и что-то писала.
– Люся! Люся! Что случилось! – кричали мы вместе. – У Илюши нос разбился!
Люся при виде красного платка на Илюшином заплаканном лице так и замерла от ужаса.
– Бедный мальчик, бедный мальчик! – повторяла она, доставая из шкапика гигроскопическую вату. – Как это с тобой случилось? Ты упал?
Илюша, было переставший плакать, начал снова всхлипывать.
– Это я его нечаянно лягнул, – пояснил Женя.
– Ну как можно? Бедный, бедный! Очень больно? – говорила Люся, запихивая ему в нос целую гору ваты.
Илюша попробовал было ее вытащить, но не смог: Люся крепко держала его руки.
– Теперь ты похож на Weihnachtsmann’а! – неожиданно проговорил Женя, разглядывавший его, закинув голову и приставив к глазам бинокль из сложенных пальцев. – Только у тебя бороды нет. Хочешь, мы тебе устроим?
– Нет, зачем Weihnachtsmann’а? Он рассердится, когда узнает, что мы его передразнивали. Рассердится и не придет. Лучше будь арапом – арапским королем. Мы тебя разденем, вымажем сажей…
– Лучше жженой пробкой, – вставил Женя.
– Наденем на тебя золотую корону, и ты будешь королем. Хочешь?
– Хочу. Только завтрак будет? – спросил повеселевший Илюша.
– И завтрак будет! У королей все есть: и корабли, и солдаты, и пушки, и дворцы, и конфеты, и шоколадные тянучки. Мы будем таскать тебя на носилках; у тебя будет волшебная палочка, детский сад…
– Я пойду сварю вам шоколада со сбитыми сливками, – проговорила Люся, рассеянно слушавшая наш разговор. – И, пожалуйста, не попадайте друг другу в нос ногами!
Люся ушла. Мы сидели на диване и мечтали.
– Ты чем больше хотел бы быть, королем или королевой? – спросил я Илюшу.
– Не знаю.
– Ну а все-таки? Если бы вдруг появилась фея и спросила – что бы ты ей ответил?
– Не знаю.
– Так тебе все равно?
– Да.
– Так хочешь быть арапской королевой?
– Хочу. А скоро шоколад будет?
Но я уже не слушал его. Арапские королевы не ходят раздетыми. У них чудные платья, на голове перья и корона, в носу кольца. Корона, положим, у нас есть. Платьев у Люси много. Вот будет сюрприз, когда она увидит Илюшу в своем платье! Кольца в нос придется оставить: этот Илюша такая плакса, вдруг ему не понравится, и он опять расплачется?
– Кира, – прервал Женя мое раздумье, – мы его сначала вымажем или потом?
– Сначала, – решил я. – Иди, достань пробку и неси сюда, а я буду надевать ему платье.
Женя побежал. Я вынул сначала зеленое платье.
– Как тебе нравится?
– Как капуста, – безразлично ответил Илюша.
Я обиделся.
– Это совсем не капуста! Это Люсино любимое платье! Ну, а это хочешь? – и я вытащил Люсину черную юбку.
Илюша внимательно осмотрел ее со всех сторон и, наконец, обиженно оттолкнул.
– Тут рукавов нет. Я в ней буду как в пеленках!
Выпотрошив на пол все содержимое шкафа, мы остановились на шелковой полосатой юбке в оборках. Илюше она понравилась больше всех.
– Так хорошо шумит! Такая полосатенькая! – восторженно восклицал он, пока я просовывал его голову через отверстие.
– А наверху ничего не будет? Просто моя синяя матроска?
– Нет, наверху будет… звериная шерсть!
Через какие-нибудь пять минут королева была готова. На плечах ее висел лохматый коврик из-под рояля; полосатенькая юбка, завязанная под мышками полотенцем, тащилась по полу, – недоставало только перьев, короны и пробки.
Я отправился за Женей. Детская была полна дыма. На Женином беленьком личике красовалась пара огромных усов. При виде меня он отбежал от зеркала.
– Я хотел попробовать, как выйдет, – оправдывался он. – Я бы раньше пришел, но Люся не хотела давать мне пробку. Я ей говорил, что это сюрприз, а она все спрашивала – какой. Насилу выпросил. А что королева?
– Очень хороша, сейчас увидишь. Только она все есть просит.
– Ну, потерпит, – хладнокровно проговорил Женя, и мы побежали в комнату сестер.
Наша королева, как и следовало ожидать, плакала.
– Домой хочу, к маме… Я кушать хочу, – тянула она с противными гримасами.
– Да ведь ты королева! Понимаешь? Ты арапская королева!
– Как тебе не стыдно плакать? – возмущался я.
– Никакая я не королева. Я к маме хочу…
– Слушай, Илюшенька, – начал я вкрадчиво, – сейчас ты будешь пить шоколад…
– Люся уже сбила сливки, – вставил Женя.
– Люся уже сбила сливки. Ты сядешь на папино место и будешь пить из большой чашки шоколад. Через пять минут все это будет. Потерпи еще чуть-чуть!.. Ты совсем готов, ты чудная арапская королева. Когда мы тебя вымажем пробкой, ты будешь весь бархатный.
– Весь черный и бархатный, – дополнил Женя.
Мы быстро принялись за дело. Илюша, успокоенный близким шоколадом, стоял смирно. Только из-за глаз вышло маленькое недоразумение: мы хотели их сделать черными (разве бывают арапские королевы с серыми глазами?), но чуть только мы поднесли к одному из них пробку, как Илюша так начал морщиться и так зловеще произнес: «А я сейчас заплачу», что пришлось помириться с серыми. Золотая корона сначала все спускалась ему на шею, перья на стриженой голове никак не хотели держаться, но при помощи Люсиных лент и ваты все устроилось. Королева стояла перед нами во всем своем величии.
– Мальчики, завтракать! – раздался из столовой голос Люси.
Мы побежали. Собственно, бежали мы с Женей, а королева просто заплеталась. За неимением носилок пришлось нести ее на креслице из четырех сплетенных рук.
– Давай кричать ура! – предложил я тяжело пыхтевшему Жене.
– Не могу! Она мне все руки отдавила! – ответил тот, кривясь от Илюшиного груза.
– Она, наверное, пудов пять весит!
– Какое пять! Пятнадцать! Я сейчас упаду!
Шествие двигалось медленно. Пройдено было всего две комнаты, а мы уже еле дышали.
– Я каждый день буду арапкой, – вдруг заявил откуда-то сверху Илюша.
– Арапка – это собака. И не думай, пожалуйста, что мы каждый день тебя будем таскать, – озлобился я.
Женя уже не мог говорить.
На пороге столовой стояла Люся. Наша группа произвела на нее странное впечатление: светло-карие глаза расширились, рот открылся.
– В чем это ты? – воскликнула она, подбегая.
– Он – арапская королева, – с достоинством объяснил Женя.
– Да кто вам позволил трогать мои вещи? Моя самая лучшая нижняя юбка! Дрянные мальчишки! – кричала она.
– Это тебе сюрприз! Ты не рада? – возмутился я.
– Я с тобой больше не разговариваю! Ты, конечно, один виноват! Ты всегда подучаешь Женю на всякие гадости, а Илюша почти в пеленках. Как тебе не стыдно!
Илюша уже начал всхлипывать. Мы стояли сконфуженные. Звонок в передней прервал это неприятное объяснение: приехали за Илюшей.
Напрасно просили мы горничную оставить его еще на немножко. Илюшу, перепачканного и лишенного всех украшений, усадили на извозчика и увезли.
Этот первый визит оказался и последним.
Три дорождественских месяца промелькнули, как сон.
Исчезли в саду кучи увядших листьев; в мутном зимнем небе уныло качались пустые черные ветки; на снегу по всем направлениям бежали дорожки; грот покрылся тоненькими хрустальными сосульками; скрылись в глубоких сундуках под серебряным нафталином осенние пальто с золотыми пуговицами и легкие береты…
В детском саду шла оживленная работа: каждый что-нибудь клеил, вырезывал, рисовал. Старшие дети учили наизусть стихи, средние писали поздравления, младшие вышивали крестиками кольца для салфеток, книжные закладки и подушки. Всюду на полу лежали куски мятой разноцветной бумаги, обрывки шерсти, обрезки картона. Чаще, чем когда-либо, разливались пузырьки клея, образуя на столах лужи, а на руках корочки. Скрипели по глянцевитой бумаге перья, высовывались от усердия языки, сажались и соскребывались кляксы. Их было особенно много, – не только на поздравительных листах, губах и пальцах, но и на лбу у самых волос, за которые схватывались в порыве бессилья маленькие поздравители.
Кроме великолепного розового абажура из мятой бумаги и собственноручно эмалированной тарелочки (первая – работа Жени, вторая – моя), мы приготовили маме еще один подарок: выученное понаслышке стихотворение. Учила его вся старшая группа.
– Как ты думаешь, Кира, – спросил у меня однажды Женя, после того как я выслушал сказанное им наизусть стихотворение, – о чем там говорится?
– Конечно, про детский сад. Ты помнишь, там в одном месте как будто есть garçon?
– А мне почему-то казалось, что про зверей, – разочарованно протянул Женя.
– Ты думаешь, про зверей? А как по-французски зверь?
– Animal.
– Там ведь нет animal.
– Почем ты знаешь? Мы так скоро говорим…
Но стихотворение было выучено, – мама, во всяком случае, разберет, в чем там дело.
Вечером, в сочельник, после получения подарков и прихода Weihnachtsmann’а, за чаем, я шепнул Жене на ухо:
– Пора начинать, а то нас уложат спать.
– Только вместе, – так же шепотом ответил Женя.
– Что вы там шепчетесь? – спросила мама.
– Это наш главный сюрприз! – сияя, ответил Женя.
Все насторожились.
– Как! Еще один? – радостно удивилась мама.
Мы встали, переглянулись, затем, торопясь и перебивая друг друга, сказали наше стихотворение.
В ответ – странное молчание.
Папа удивленно смотрит на маму; сестры почему-то кусают губы; старший брат, плохо знающий французский, презрительно улыбается (должно быть, от зависти); у мамы недоумевающее лицо.
– На каком это языке? – спрашивает она.
Мы краснеем.
– Конечно, на французском! – храбрюсь я.
– Я не поняла ни одного слова.
Все смеются. Я смотрю на Женю: он весь красный и вот-вот расплачется.
– Пусть скажет один из вас и помедленней, – предлагает папа.
– Вам-то хорошо слушать, а каково нам говорить, ничего не понимая, – с горечью думаю я.
– Ну, что же?
У Жени от обиды трясется губа.
– Сказать или не сказать? Скажу.
- Леселинар ишер ибаш,
- Клош кариронэ дема,
- Жезиенэ наиерже паш…[10]
Общий хохот. У меня на глазах слезы. Женя плачет.
– Ничего вы не понимаете по-французски, – всхлипываю я. – У нас все старшие дети это учили.
– Теперь я поняла. Это очень веселое стихотворение, – говорит мама.
– Нет, ты нарочно! Я даже до конца не сказал…
Это кровное оскорбление смылось только папиным обещанием повести нас на днях в зоологический сад.
Рождество. За окнами синее небо, в белой детской розовые мечты.
– Женя, хороший был день вчера?
– Хороший. А сегодня еще лучше.
– Как ты думаешь, будет на елке серебряный дождь?
– Конечно, будет. Золотой, серебряный – всякий!
– А Маргарита будет?
– Непременно. Помнишь, она еще говорила m-llе Jeannе, что придет в розовом платье? Она еще так обиделась, когда m-llе сказала, что она и так розовая.
– Жалко. Ну, все равно! Я уверен, что будет чудно! Только нам нужно вставать. Ты не помнишь, где конфеты для m-llеs?
– У мамы в комнате, на столе. Ну, раз, два, три…
Ровно в девять часов мы стояли перед дверью детского сада с коробками и цветами в руках. Нам долго не открывали.
– У меня цветы лучше, – хвастал Женя, – у меня розы.
– Мне мои больше нравятся. У меня и так на коробке розы!
– Это не розы, а шиповник.
– Все равно.
Этот вопрос так и остался невыясненным, потому что распахнулась дверь.
– Здравствуйте. Поздравляю вас с праздником! – встретила нас расфранченная горничная. – Барышни еще спят.
– Вот сони! – воскликнул Женя.
Я укоризненно дернул его за рукав. Горничная засмеялась.
– Вы больно рано пришли.
Qui est la? Qui est la?[11] – послышался откуда-то издалека голос m-llе Marie. – Матриона! Матриона!
Горничная убежала. Мы разделись и встали в дверях, крепко прижимая к себе подарки.
– А все-таки у меня лучше, – не унимался Женя. – У меня настоящие розы, а у тебя нарисованные.
– Зато нарисованные никогда не завянут. Ты думаешь, m-llе очень нужны какие-то глупые девочки на твоей коробке?
– Посмотрим… – с предвкушением близкого торжества проговорил Женя.
В соседней комнате послышались шаги. Мы замолчали и приняли приятный вид.
– Барышни проснулись и вас ожидают.
Матрена шла впереди, мы за ней. Мы еще никогда не были в комнате m-llеs и потому чувствовали себя немного неловко.
Первое, что поразило нас в этой комнате, было множество портретов на стенах, второе – сами m-llеs. Вместо обычных синих платьев на них были какие-то пестрые, страшно яркие балахоны с массой оборок и лент.
– Наши милые маленькие друзья! Как мы рады вас видеть! – говорили они, целуя нас.
– А это я вам к Рождеству, – сказал я, протягивая m-llе Marie сначала коробку, потом букет.
– Это я вам к Рождеству, – повторил Женя, делая то же с m-llе Sophie.
– Как мы тронуты! Зачем? Зачем? Какие чудные розы! Поблагодарите вашу маму, – восклицала m-llе Marie, суетливо бегая по комнате.
Пока Женя передавал мамино поздравление, я принялся разглядывать портреты. Это были портреты детей: больших и маленьких, кудрявых и стриженых, смеющихся и серьезных.
– Эти дети тоже приходили в детский сад? – спросил я подошедшую m-llе Sophie.
– Да, это все маленькие ученики и ученицы. Многие из них уже в гимназии.
– А эта тоже в гимназии? – и я указал на фотографию девочки в золотой рамке, висевшую над постелью одной из m-llеs.
– Нет, это наша маленькая племянница Blanchette. Она всегда живет в Лозанне.
– Там хорошо? Там есть море?
– Моря там нет, но есть озеро – Женевское, или Леманское, – голубое, тихое, с белыми парусными лодочками.
– Когда я вырасту, я непременно туда поеду. Почему вы туда не едете?
Лицо m-llе Sophie сделалось грустным.
– Долго рассказывать, да ты и не поймешь. Пойдем лучше посмотрим, что там m-llе Marie показывает Жене.
M-llе Marie сидела у письменного стола; Женя стоял подле нее и рассматривал какие-то картинки.
– Я показываю Жене фотографии нашей школы, – сказала m-llе Marie, обращаясь к сестре, – показать им, может быть, наши семейные карточки?
Та согласилась. M-llе Marie достала с полки небольшой альбом из темно-красной кожи, украшенный серебряными разводами, и распахнула его на первой странице.
– Это мы обе с мамой, когда нам было пять и шесть лет. Похожи ли мы здесь?
Мы переглянулись. На нас смотрели две девочки в локонах. Одна держала в руке мяч, другая куклу. Руки матери лежали у них на плечах.
– Похожи! – воскликнул Женя. – Только вы теперь лучше!
M-llеs дружно расхохотались.
– А это мой брат, когда был в коллеже, а это папа с m-llе Sophie, а это опять мы, шестнадцати и семнадцати лет, а это наша бабушка… – говорила m-llе Marie, перелистывая толстый альбом.
– Как странно! Неужели и вы были маленькими? – спросил я.
– И мы были маленькими, и ты сделаешься большим, – petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prète vie.
– Разве я petit poisson?
– Не petit poisson ты, а petit garçon![12] – воскликнула молчавшая до сих пор m-llе Sophie и, притянув меня за плечо, поцеловала в голову.
– Нет, а все-таки, почему же здесь про рыбку? – допытывался я. – Расскажите, m-llе! Ну пожалуйста!
– Нет, про рыбку не надо; лучше про то, как вы были маленькие, – перебил меня Женя.
– Хорошо. А про рыбку я расскажу после праздников всем детям. Согласен, Кира?
– Согласен, согласен! Ну, как вы были маленькие?
– Мы жили в Лозанне, на тихой улице с большими садами. Нас было две сестры и брат…
– Маленький или большой? – перебил я.
– Он был старше нас на пять лет. Папа был учителем в одном пансионе для барышень, он преподавал историю…
– Какую историю?
– Древнюю, среднюю и новую. Когда вы поступите в гимназию, вы тоже будете ее учить. Кроме преподавания в пансионе, у него еще были уроки в коллеже и частные.
– Он приходил домой только в семь часов. M-llе Sophie и я уже с половины седьмого стояли у окна и поджидали его…
– А вы стучали ему в окно? – перебил Женя.
M-llе Marie улыбнулась.
– Стучали. А он посылал нам воздушные поцелуи. Наша мама была больна и редко выходила из комнаты. Только в очень теплую погоду она садилась с шитьем в садике.
– А что она шила? – спросил я.
– Чинила нам белье, шила платья.
– Почему же она не отдавала портнихе?
– У нас было мало денег. По утрам мама давала нам уроки пения. Мы тогда еще были очень маленькие. Потом мы играли в садике. Он был небольшой, но очень красивый. Посредине рос огромный платан, около дома было несколько розовых кустов. Вместо травы сад был посыпан гравием, – это мелкие, мелкие камешки.
– А ваш брат где был? – спросил Женя.
– Он учился в коллеже, где папа преподавал историю. С самого начала он шел первым учеником. Вечером мы четверо – папа, Louis, m-llе Sophie и я – шли на набережную. Папа покупал нам конфет, мы глядели на озеро, слушали музыку и к половине девятого возвращались домой к маме. Так шла наша жизнь до маминой смерти. Мне тогда было одиннадцать, m-llе Sophie десять лет. Нас приняли бесплатно полупансионерками в папин пансион. Мы оставались там от восьми утра до восьми вечера. В восемь папа заходил за нами, и мы шли домой. За год до нашего окончания умер и папа. Последний год мы были пансионерками; Louis тогда был уже в России, на месте…
Мы уже давно перестали спрашивать. Умерла мама, умер папа – как же это возможно?
M-llе Marie при виде наших задумчивых лиц вдруг сделалась веселой, достала из шкафа шоколада, m-llе Sophie налила нам кофе, и через несколько минут мы уже сидели за столом, с любопытством расспрашивая о предстоящей елке.
– Подождите до вечера! Подождите до вечера! – повторяли m-llеs с таинственными улыбками.
– А Маргарита непременно придет?
– Ты, кажется, ее не очень любишь? – спросила m-llе Marie.
– Я? Я ее ненавижу! – горячо воскликнул я.
M-llеs смеялись.
Мы с Женей чувствовали себя чудно. Эти m-llеs в пестрых балахонах были куда лучше тех темно-синих, ежедневных. Неужели они опять когда-нибудь сделаются темно-синими?
На ковре играл яркий луч; небо в окне сияло особенно ярко.
Вдруг – звонок.
– Это за господами Кирой и Женей пришли, – сказала вошедшая Матрена.
Как? Уже? Сколько же времени? Неужели двенадцать и мы уже здесь три часа?
Мы благодарили за рассказ и угощение; m-llеs – за подарки и просили кланяться маме.
– А где теперь Louis? – спросил Женя уже в дверях.
– Он здесь, в России, – ответила m-llе Sophie.
От розового дома до нашего флигеля мы шли молча. Молча вошли в детскую. Женя сел у окна.
– Скучно, Женя? – спросил я, садясь на ручку его кресла.
– M-llеs жалко… – дрожащим голосом ответил Женя. – Всех жалко… Знаешь, мне кажется, что твои гвоздики больше понравились, чем мои розы…
Я промолчал.
– Ну, мальчики, идите. Веселитесь побольше, будьте вежливыми со всеми, а главное – не объедайтесь. Я пришлю за вами Дуню. Идите, идите, – говорила мама, целуя нас перед отходом.
Уже темно. Снег весело похрустывает под ногами. Мы еще никогда не были в саду так поздно.
Окна верхнего этажа в розовом доме ярко освещены. Как он сейчас похож на замок!
– Кира, Кира, скорей! Вдруг опоздаем! – беспокоится Женя.
Взявшись за руки, мы быстро бежим по обычной дороге. Хлоп… Это Женя упал мне прямо под ноги. Я лечу вслед за ним. Несколько секунд мы весело барахтаемся, выдергивая друг из-под друга руки и ноги, затем вскакиваем и, отряхиваясь, бежим дальше.
– Тебе не больно?
– Нет. А тебе?
– Мне тоже нет. А вдруг нас Маргарита видала из окна? Вот будет дразниться!
– Мы скажем, что нарочно катались в снегу!
Вот мы и в передней.
– Скорей, скорей, Кирочка и Женя! Уж все гости съехались, – торопит нас Матрена, помогая раздеваться.
– А кто приехал?
– И барыни, и господа.
– А Маргарита приехала?
– Как же, – здесь, с мамашей.
Яркий свет заставляет нас на секунду зажмуриться. Господи, сколько чужих!
– Кира, – шепчет Женя, – нужно со всеми здороваться?
– Не знаю. Спроси у m-llе Marie, – так же шепотом отвечаю я.
Вот и m-llе Marie! Она опять в новом платье – сером с кружевами.
– Почему без мамы?
– Мама боится, что нам помешает.
– Такая добрая мама? Очень жаль, что мы ее сегодня не увидим. Сейчас все начнется. Мы вас только и ждали.
«Будьте повежливей», – вспоминается мне наставление мамы, а за этим мгновенно – неужели со всеми?
С кем сначала?
У зеленого стола сидит седая дама в очках. Мы направляемся к ней, издалека протягивая руки.
– Здравствуйте! – говорим мы в один голос и одним движением суем ей в руку свои правые.
Дама строго смотрит на нас, но все-таки пожимает.
Рядом с ней – толстый господин, тоже седой.
– Здравствуйте! – повторяем мы уже храбрей.
– Это что за молодцы?
– Я – Кира, а он – Женя, – быстро отвечаю я.
– Мы только что здоровались с вашей женой, – развязно добавляет Женя.
Господин поднимает брови.
– С моей женой?
Женя указывает пальцем на старую даму.
– Вот!
Господин хохочет как сумасшедший. Мы, обиженные, быстро отходим от него к детям.
Маргарита, конечно, ярче всех одета и громче всех говорит.
– Кира! Женя! Глядите! – кричит она, подбегая к нам. – Рядом с m-llе Sophie дама в бархатном платье, с лорнетом!
– Ну, что же?
– Это моя крестная мама! Я уговорила ее приехать со мной на елку. Тебе нравится ее платье?
– Да.
Маргарита мило улыбается. На ней розовое платье, розовые чулки и розовые туфли с каблучками.
Остальные дети тоже разряжены. Одни сидят с родителями, другие группами шепчутся, третьи, пришедшие одни, беспокойно крутятся на месте со всеми признаками нетерпения.
Наконец из двери рабочей комнаты выходит m-llе Marie. Все глаза устремляются на нее. Она с минуту шепчется с m-llе Sophie, затем хлопает в ладоши:
– Дети, в пары!
Начинается невероятная суетня. Все толкаются, никто никого не слушает, кто-то начинает плакать, несколько детей, было вставших в пары, снова расходятся. M-llеs бегают по гостиной, уговаривая всех вести себя получше.
В разгар суматохи я потерял Женю. Вот он, во второй паре с мальчиком из старшей группы.
– Женя! Женя! – отчаянно кричу я. – Иди ко мне!
– Сейчас! – кричит Женя.
Ко мне подходит m-llе Sophie, ведя за руку маленького мальчика.
– Встань с Юрой, – говорит она мне.
У мальчика большие синие глаза, розовые щеки и золотые локоны. Это, наверное, принц. Только принцы носят такие бархатные курточки с кружевными воротниками.
– Вы принц? – спрашиваю я, осторожно дотрагиваясь до его волос.
– Меня зовут Юра. А тебя?
– Меня Кира. Сколько вам лет?
– Мне семь, а тебе?
– Мне уже семь с половиной. Скажите, Юра, где ваше царство?
– У меня нет царства, но дома у меня был свой ослик.
– Вы русский?
– Я швейцарец.
Швейцарский принц! Швейцарский принц! Я стою за руку со швейцарским принцем! У него дома был свой ослик!
Я хочу к Жене, но замечаю, что первые две пары уже скрылись в комнату m-llеs.
– Тише, тише! – приговаривает m-llе Sophie.
Пара за парой исчезают в дверях. Еще три… Еще две… Вот последняя скрылась, – очередь за нами.
В комнате m-llеs все по-старому: никакой елки нет.
– Слушайте, дети! – громко говорит m-llе Sophie. – Сейчас будет лестница. Идите, пожалуйста, друг за другом очень медленно, не прыгайте через две ступеньки и не толкайтесь.
Около письменного стола – дверь, которой утром не было. Дети друг за другом исчезают в тусклую полутьму.
– Юра, куда мы идем? – спрашиваю я.
– Меня по-французски зовут Жорж, – говорит он, точно не услыхав моего вопроса.
На лестнице смех и легкий визг. Сейчас и мы пойдем!
Ступенек не видно, шагов не слышно, – странная лестница! Я великодушно иду вперед, оберегая швейцарского принца. Но опасности не встречается. Внизу стоит m-llе Marie, ласково протягивающая мне руку.
– Ты не боялся?
– Нет.
– И твой брат вел себя героем. Вы храбрые мальчики!
– И он храбрый! – говорю я, оглядываясь на Юру.
– Он? – Лицо m-llе Marie сияет. – О, он настоящий швейцарец!
Мне хочется расспросить ее подробней, но она уже отошла к первым парам, успевшим перессориться.
Я разглядываю место, куда нас привела лестница: длинная комната с круглым окном наверху.
В темноте – сдержанный шепот.
Вдруг, как яркий солнечный луч, – звон колокольчика.
Кто-то вскрикнул. Юра схватывает меня за руку. Скрип раскрываемой двери… Где-то впереди голос M-llе Marie:
– Идите, дети!
Наша вереница снова приходит в движение.
– Все вошли?
– Все, – отвечаю я. (Мы с Юрой в последней паре.)
– Раз, два, три! – считает m-llе Marie.
Резкое чирканье спички… Золотой огонек… Уже не огонек, а змейка… Змейка крутится; одна за другой зажигаются разноцветные свечи… Что-то золотое, серебряное, красное, синее, зеленое… Елка! Елка в зимнем саду!
– Женя! Женя! – кричу я, вырывая руку из Юриной руки.
Женя в двух шагах от меня. Рот его полуоткрыт, глаза так и впились в елку. Я дергаю его за рукав. Он вздрагивает.
– Кира, смотри: Weihnachtsmann’ы на ветках сидят!
– Где? – удивляюсь я.
– Целых три – разве не видишь? Вон, у барабана!
– Так это фальшивые… – разочарованно объясняю я.
Мы рассматриваем елку.
– Я так и знал, что мы когда-нибудь попадем сюда! – счастливо восклицает Женя.
Какой-то пожилой господин в сюртуке подходит к нам.
– Это вы – Кира и Женя?
– Да, это мы.
– Что же, нравится вам елка?
– Нравится.
Он долго смотрит на нас.
– А знаете ли вы, кто я?
– Вы чей-то папа.
– Юрин папа. Ты, кажется, знаешь Юру? – обращается он ко мне.
– Знаю: он швейцарский принц, и у него дома был свой ослик.
– Кто это тебе сказал?
– Про принца я сам догадался – у него такой воротник. А про ослика он мне сам сказал.
– Гм… Значит, он принц. Ну, а я, значит, король?
– Нет, вы не король. У королей на голове корона, а в руке палка с мячиком, – отвечает за меня Женя.
– Где же ты видал королей?
– На картах и в «Принц и нищий».
– Если Юра принц, я, может быть, нищий? – улыбаясь, но обиженно спрашивает он Женю.
Женя задумчиво оглядывает его с головы до ног.
– Нет, вы похожи на того сумасшедшего… Нет, разбойника…
– На кого?
Господин, кажется, по-настоящему обиделся.
– Я забыл, как его звали. Кажется, Баба.
– Ка-ак? Баба? Может быть, Баба-яга?
– Да нет! Ведь Баба-яга – дама, а тот Баба – господин!
– Ничего не понимаю! Странному вас учат в детском саду!
– Он хочет сказать, что вы похожи на Али-Бабу, – вступаюсь я.
– Ну да, конечно! – радостно восклицает Женя.
Господин смеется. Совсем как тот, наверху!
– Какой он глупый! – шепчет мне на ухо Женя. – Ничего не понимает, а сам смеется.
Господин, все еще смеясь, отходит к другим детям.
– В круг! В круг! Становитесь в круг! – кричит m-llе Marie, раскрасневшаяся от всех этих волнений.
Взрослые отходят в сторону, дети берутся за руки. Я стою между Женей и Юрой. Из соседней комнаты доносится музыка, – что-то громкое, веселое, – и мы начинаем бежать вокруг елки.
Свечки, красные, синие, зеленые шары, золотые орехи, ангелочки, яблоки, апельсины, Weihnachtsmann’ы, барабаны, – все это блестит, переливается, бежит за нами. Я уже не чувствую своих ног. Музыка, разноцветные блестки, быстрое кружение… Уж не летим ли мы?
Нет, не летим! Стихает музыка, замедляется кружение.
– Еще немного! Еще немного! – подбадриваю я Юру.
– Я очень устал, – спокойно отвечает тот, – и волосы в глаза лезут.
Эти слова мгновенно расхолаживают меня. Мне уже не хочется бежать. Круг разрывается, подходят взрослые.
Юрин папа берет меня за руку.
– Ты любишь своих m-llеs?
Вспомнив его смех, я отвечаю очень сухо:
– Да.
– Ты, кажется, сердит на меня?
Я молчу.
– Ну, не сердись. На елке никто не должен сердиться. Ты очень дружен со своим братом?
– Да, очень.
Господин молчит, точно ищет, что бы еще сказать. Я решаюсь возобновить разговор сам.
– А вы тоже любите наших m-llеs?
– Тоже. Очень, – серьезно отвечает он.
– Может быть, вы тоже приходили в детский сад, когда были маленьким?
– Нет, я старше m-llеs… Смотри, смотри, там уже игрушки раздают. Заговорились мы с тобой!
Рядом с елкой большая закрытая корзина; вокруг нее собрались уже все дети. Как я не заметил, что ее втащили?
– Дети, берите по очереди из корзины по одному пакету, – говорит m-llе Marie.
Первой выскочила, конечно, Маргарита.
– Мне самое лучшее достанется! – провозглашает она, наклоняясь к корзине.
Полная тишина. Все смотрят, затаив дыхание. Маргарита долго копается, шелестит бумагой.
– Скорей! Скорей! Нужно и другим дать! – торопит m-llе Marie.
Наконец она выбрала. В ее поднятой руке что-то большое, круглое, завернутое в бумагу.
– Вот!
Все шеи вытянуты; вокруг завистливый шепот.
– Самое большое, – ворчит стоящая передо мной девочка.
Маргарита медленно развертывает… барабан!
– Девочка с барабаном! Ха-ха-ха! – заливается соседка, встряхивая косичками. (Она тоже не любит Маргариту.)
Другие дети тоже смеются, и Маргарита, недовольная, надутая, отходит в сторону со своим злополучным барабаном.
Вытаскивание продолжается. Следующая девочка вытащила ванну с куколкой. Третьим стоит Женя. Мое сердце начинает биться: вдруг и он вытащит какую-нибудь ванну? Нет, слава Богу, – что-то непохожее на ванну. Он быстро развертывает бумагу и, сияя, показывает мне издали пистолет.
До меня еще далеко. Я опоздал и стою последним.
– Ты что бы хотел получить? – спрашивает меня стоящий рядом Юрин отец.
– Ослика или велосипед.
– К несчастью, они не умещаются в корзинке, – говорит он.
– Ну, тогда зверинец.
– Посмотрим, улыбнется ли тебе счастье!
Господи, как долго! Еще целых три до меня: Адриэнна, Юра и девочка с косичками. Мне останется самое худшее. Я с нетерпением смотрю, как они вытаскивают.
Адриэнна и Юра уже вытащили, девочка с косичками никак не может выбрать. Вот она выпрямилась и что-то крепко прижимает к себе. Очередь за мной. Я делаю шаг вперед, наклоняюсь к самому дну корзины и вынимаю какую-то завернутую коробку. Быстро открываю: уточки, лодка и красная подковка.
– Хоть не зверинец, а птичий двор, – говорит Юрин отец и объясняет мне, как в это играть: нужно взять красную подковку и двигать ее в разные стороны над тарелкой с водой; лодка и уточки поплывут следом.
Я ищу глазами Женю, чтобы показать ему, какую прелесть вытащил, но он уже занят Юриным поездом: Юра раскладывает рельсы, а он сцепляет вагончики.
Зовут пить шоколад. При виде нарядного стола, сплошь уставленного пирожными, конфетами, фруктами, я сразу понял, как трудно будет исполнить мамину просьбу не объедаться.
Меня посадили между Женей и Юрой. В ожидании шоколада мы играли в телефон. Первая скажет сидящая по эту сторону стола Маргарита.
Она долго выдумывает слово, потом наклоняется к своей соседке и что-то шепчет ей – очевидно, не одно слово, а целую фразу.
Ея движение повторяется от соседа к соседу: на мгновение ухо каждого под крышкой из двух рук говорящего; крышка поднимается, и только что слушавший сам наклоняет губы к уху соседа. Иногда сосед не понимает:
– Что? Скажи погромче!
– Нет, нельзя повторять! Передавай, как понял.
И Маргаритина фраза продолжает свое путешествие. Наконец она доходит до меня. Я чувствую в своем ухе горячее дыхание Юры и еле слышный шепот:
– В Арбатском счастье ест шар.
Беспрекословно передаю эту глупость Жене.
Последним сидит Юрин папа, единственный из старших за этим столом, кроме m-llе Marie.
– Господа, внимание! – провозглашает он, с шумом отодвигая стул. – В Арбатской части пожар!
– Что? Что такое? – слышится со взрослого стола встревоженный голос какой-то дамы.
– Вы шутите, или это серьезно?
Юрин папа смеется.
– Спросите Маргариту!
Все хохочут, Маргарита громче всех.
– Совсем я не так сказала! На горе Арарат три барана орали!
Все еще громче смеются.
В это время начинают разносить чашки с шоколадом, и мы сразу забываем Арарат и Арбат.
После шоколада нас ведут в большую светлую залу с колоннами, зеркалами и паркетным полом. M-llе Marie садится за рояль.
– Cavaliers, engages vos dames![13] – кричит Юрин папа.
Музыка играет что-то очень веселое. Несколько пар уже кружится.
– Кира, вот тебе дама, – говорит Юрин папа, подводя ко мне Маргариту, с которой только что танцевал польку.
– Я с Юрой хочу, – отвечаю я, не глядя на своего врага.
– Разве кавалеры с кавалерами танцуют? – фыркает Маргарита.
– Еще как танцуют! Сейчас увидишь!
Я бегу приглашать Юру. На наше счастье сейчас играют галоп, где роли дамы и кавалера приблизительно одинаковы.
Локоны моей дамы Юры хлещут меня по лицу; все кружится – и мы, и зала; все громче и быстрей играет музыка.
Чувство полета снова охватывает меня. Я что-то громко кричу, еще шире раскрываю глаза…
Галоп кончился. Я никого не видел, ни о чем не помнил. Теперь я знаю одно: я страшно люблю Юриного папу.
Вот он, нагнувшись над роялем, говорит с m-llе Marie.
Я бегу к нему.
– Как ты хорошо танцевал сейчас! – восклицает он.
– Я вас так люблю, так люблю! – говорю я, не помня себя.
Он целует меня в лоб, затем, обернувшись к m-llе Marie:
– Этот мальчик совсем покорил мое сердце!
– Очень рада, – перебирая ноты, отвечает та, – я знала, что эти братья в твоем вкусе.
Галоп сменяется полькой, полька – венгеркой, венгерка – па-де-катр, тот снова галопом.
Все раскраснелись, все запыхались. Старшие, глядящие на танцы из соседней комнаты, от времени до времени подзывают к себе детей, вытирают им мокрые лица, разглаживают растрепавшиеся волосы.
– Посиди смирно!
– Отдохни, милая, ты так разгорячилась!
Но никто не слушается, – пестрые платья продолжают раздуваться, лица улыбаться, щеки гореть.
Вот Женя танцует с Адриэнной. Какой он большой рядом с ней! Какие у нее тоненькие ножки! Но мне никто, никто не нужен, кроме Юриного папы!
Вдруг я замечаю в дверях Матрену. Она точно ищет кого-то глазами.
– Нет, наверное, не за нами, – ободряю я себя, хотя ясно знаю, что именно за нами.
Как, сейчас все кончится?! И танцы, и музыка, и все эти дети, и Юрин папа – вся елка? Так скоро? Женя еще не видел Матрены. Я бегу к нему.
