Стать Теодором. От ребенка войны до профессора-визионера бесплатное чтение
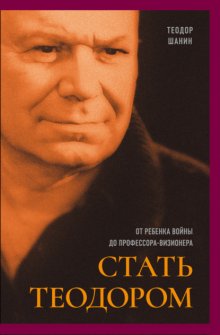
УДК 929Шанин Т.
ББК 60.5дШанин Т.
Ш20
Издательство благодарит за помощь в подготовке издания Шуламит Рамон, Александра Никулина, Ирину Троцук, Марию Пральникову, Надежду Пантюлину, Александра Артамонова.
Теодор Шанин
Стать Теодором: от ребенка войны до профессора-визионера / Теодор Шанин. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Критика и эссеистика»).
Теодор Шанин (1930–2020) – выдающийся британский социолог, профессор Манчестерского университета, признанный авторитет в крестьяноведении, исторической социологии и неформальной экономике. Им был основан один из первых частных вузов в постсоветской России – Московская школа социальных и экономических наук (неофициальное название «Шанинка»). Стремясь интегрировать российскую интеллектуальную традицию в международное научное сообщество, он сыграл большую роль в развитии новых форм академического образования в современной России. Биография Т. Шанина по событийности поразительна даже по меркам бурного ХX века: он родился в городе Вильно, входившем тогда в состав Польши, ребенком пережил Вторую мировую, после присоединении Литвы к СССР был выслан с матерью на Алтай, потом в Самарканд. В гетто погибли его младшая сестра и любимый дедушка. После долгих скитаний он вместе с родителями смог выехать в Польшу, а потом во Францию. В 1948 году, приписав к своим 17 лишние два года, он отправился добровольцем воевать за создание Израиля. После окончания Иерусалимского университета переехал в Великобританию, где состоялась его успешная академическая карьера. Автобиография для самого Теодора занимала важное место в ряду его научных трудов: автор рассматривает свой драматический личный опыт ушедшего столетия с философских позиций, исследуя то, что сам назвал бы метафизикой судьбы.
На обложке: Фотопортрет Т. Шанина. Фотограф неизвестен.
Оцифрованный архив Т. Шанина.
ISBN 978-5-4448-2473-3
© Т. Шанин, наследники, 2023
© Ш. Рамон, предисловие, 2023
© А. Архангельский, предисловие, 2023
© А. Никулин, И. Троцук, послесловие, 2023
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
Antonio Machado 1
- Caminanto son tus huellas
- El camino y nada mas;
- Caminante no hay camino
- Se hace camino el andar.
- На твоем пути твои шаги
- Обозначают путь, и только они;
- На твоем пути нет пути,
- Путь – это то, где ты идешь.
На трех основах зиждется мир2: на познании3, на труде4 и на делах милосердия5.
Шуламит Рамон-Шанин
Предисловие
Теодор Шанин родился 29 октября 1930 года и скончался 4 февраля 2020 года. Он был спутником моей жизни 50 лет – с 1970 по 2020 год.
Мы жили вместе в Израиле и Великобритании. Начиная с 1993 года Теодор проводил бо́льшую часть времени в России, приезжая в Соединенное Королевство раз в месяц, а я периодически ездила в Россию, где у меня вместе с партнерами из Великобритании, Греции и Италии было несколько проектов в сфере высшего образования в Москве и Иркутске.
Автобиография стала последней книгой Теодора, и ему было очень важно ее опубликовать. Здесь он подводит итоги всего, что узнал в своей богатой и сложной жизни, намеренно избрав жанр личных воспоминаний, а не академической работы.
Теодор был прекрасным рассказчиком и много вспоминал о своей жизни в Вильнюсе, в котором родился и который тогда был польским городом; о Сибири, куда их с матерью сослали, когда Теодору было 11 лет, пока его отец сидел в советской тюрьме после оккупации Литвы в 1941 году.
После был переезд в Самарканд, где они жили сначала с матерью, а потом и с отцом, вернувшимся к ним в 1944 году; потом – польский Лодзь, где в 1946‑м Теодор стал участником сионистского движения; затем – Париж 1947 года, а еще через год – Израиль, куда Теодор уехал, чтобы присоединиться к Войне за независимость, как ее называло еврейское население Палестины, или Накбе («Катастрофе»), как ее называли арабы (палестинцы?).
Теодор переехал в Великобританию в 1963 году, чтобы получить докторскую степень в Университете Бирмингема. После этого он остался читать лекции в Университете Шеффилда, в 1973 году получил должность профессора в Колледже святого Антония в Оксфорде, а позже стал профессором социологии в Университете Манчестера.
В 2019 году Александр Архангельский, телеведущий и профессор медиаисследований Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве, записал серию интервью с Теодором. В результате получились 19 видео о жизни Теодора и книга на русском языке под названием «Несогласный Теодор». Эти видео отразили мнение автора о том, что же было главным в жизни Теодора, в них Теодор, невероятно живой и близкий, как будто сидит сейчас с нами в одной комнате. Специально для этой книги Архангельский описал свое впечатление от Теодора, которое можно найти на следующих страницах.
Александр Никулин и Ирина Троцук из Центра крестьянских исследований и Московской школы социально-экономических наук сделали обзор наиболее значительных академических достижений Теодора.
Теодор сам выбирал, о каких событиях и моментах своей жизни писать в автобиографии, что неизбежно привело к отсутствию некоторых из них в данной книге.
Например, в ней относительно мало рассказывается о его жизни в Соединенном Королевстве, однако детство, юность и первые годы в Израиле, наоборот, описаны подробно – так же, как и период создания Московской высшей школы социальных и экономических наук.
С ранних лет жизни Теодор был лидером во всех областях своей деятельности и чувствовал себя комфортно в ведущей позиции. При этом он также признавал вклад других людей в его достижения.
Он вошел в мою жизнь, а я – в его, когда он возглавил первую в истории инновационную службу занятости для инвалидов Израиля, в которой я впервые в жизни, сразу после получения профессионального образования, занимала позицию социального работника. Параллельно с этим Теодор вел политическую деятельность в двух левоцентристских политических партиях Израиля, а также изучал социологию и запускал исследования китайских крестьян в Еврейском университете. Это было типично для него – широко расправить крылья и заниматься всем, что ему интересно, с одинаковой отдачей и вовлечением. Теодор хорошо умел как руководить, так и предвидеть будущее.
Со своей стороны, я обязана ему своей академической карьерой, так как до нашей встречи у меня не было намерения заниматься наукой. Теодор открыл мне новые способы познания мира, познакомил с научной фантастикой и русской литературой. Мы совершили много замечательных путешествий по известным и неизвестным нам местам, и у него всегда был интересный и особенный взгляд на то, что мы встречали по дороге. 1 января 2000 года мы праздновали наступление нового тысячелетия в Петре – очень древнем городе, расположенном в горах Иордании. Теодор рассказывал о набатейской цивилизации, и это было просто волшебно. Теодор всегда был мне верным другом, особенно в трудные времена.
Мне кажется, эта автобиография раскрывает интеллектуальную и эмоциональную глубину Теодора, его способность мечтать, следовать за мечтой и вдохновлять других на совместные путешествия и проекты, изначально кажущиеся невозможными. Она также отражает его природный оптимизм и глубокую веру в доброту человечества, несмотря на боль, которую Теодор носил в себе, пережив Вторую мировую войну.
Я надеюсь, что Вы, читатель, присоединитесь к Теодору в путешествии по истории его жизни, как он и хотел.
Автобиография была написана на английском и русском языках. Я благодарна переводчикам на английский язык за их усилия и преданность своему делу. Теодор свободно владел тремя языками (английским, ивритом и русским) и имел собственный, уникальный стиль изложения, что делало задачу перевода особенно сложной. Переводчицами были: Мария Пральникова, которая также являлась самым преданным личным помощником Теодора на протяжении многих лет; Лидия Хмелевская и Елена Карл.
Особая благодарность Сэнди Балфуру за важный вклад в дело публикации этой книги.
Март 2023
Александр Архангельский 6
Мой Теодор
В декабре 2019 года, за несколько недель до смерти Теодора Шанина, мы с ним и коллегами отмечали выпуск в России большого документального видео о жизни Теодора и книги на основе материалов этого видео под названием «Несогласный Теодор». И фильм, и книга были созданы по моей инициативе на материале моих многочасовых интервью с этим экстраординарным человеком в попытке уловить его суть. Наши разговоры и полученное видео убедили Теодора перейти к настоящей книге – автобиографии, рассказывающей историю его жизни.
Биографическая работа – будь то автобиография или традиционная биография, написанная сторонним автором, – имеет набор проблем, требующих решения. Любые рассказчики имеют собственные биографические легенды, поэтому автобиографии, как правило, отражают авторский образ себя, а биографии рисуют портрет с позиции внешнего наблюдателя, который зачастую сильно отличается от того, как себя видит герой.
Автобиографии нередко скатываются в саморекламу, самовосхваление и сведение личных счетов, могут содержать очень избирательное описание событий, а биографии никогда не могут полностью проникнуть в сознание и личность своих героев. Мне кажется, даже неидеальная, однобокая автобиография сообщает читателю что-то об авторе, в то время как плохая биография является просто отражением бедных способностей автора, не давая ничего для лучшего понимания героя.
С другой стороны, истории жизни интеллектуалов обычно менее захватывающи, чем биографии, наполненные событиями: жизнь интеллектуала часто глубока, но статична, в то время как другие повествования насыщены людьми, эмоциями, интересами, хотя и могут уступать первым в глубине.
К счастью, жизнь Теодора – ярчайшего интеллектуала – была полна событий. Его детство прошло на фоне войны и оккупаций его родины польской и советской армиями, с коротким периодом независимости Литвы перед новой оккупацией СССР. В его биографии есть сибирская ссылка в возрасте 11 лет; пьяный офицер алтайского НКВД, запрыгнувший на стол в сапогах с криком: «Вы здесь сдохнете!»; неожиданное возвращение польского паспорта в разгар Второй мировой войны; отъезд в Самарканд; кража хлеба для выживания семьи; еще более невероятный (легальный!) отъезд из СССР в Польшу сразу после поражения Гитлера; эмиграция из Польши во Францию в короткий период открытия границ; переезд в 17 лет по поддельному паспорту против воли своего отца в только что созданное государство Израиль, объявившее о своей независимости 14 мая 1948 года, после прекращения британского мандата в Палестине; участие в двух войнах; разрыв со страной, за которую он воевал; новая жизнь в статусе английского ученого; превращение из социального работника и социолога в выдающегося специалиста по крестьянству; основание университета во вновь созданной Российской Федерации.
В этих историях много интересных героев и подробностей – например, таинственный посланник сионистского подполья по имени Иегуда, внезапно появившийся в самаркандской квартире Шаниных с фанерным солдатским чемоданом. У чемодана оказалось двойное дно, из-под которого посыпались спрятанные там золотые монеты.
В жизни Теодора есть много увлекательных историй, однако он предпочитал рассматривать личный опыт с философских позиций, избегая риска написать просто приключенческий роман о своей жизни. Он хотел исследовать то, что назвал бы метафизикой судьбы.
Конечно, мы, аутсайдеры, воспринимали его биографию иначе. Довольно быстро в начале наших интервью мы оба поняли, что я практически ничего не знаю о нем. Это вызвало некоторые трудности. Как выбрать события для обсуждения? И насколько подробно обсуждать? Говорить откровенно или с определенной осторожностью? С самого начала мы решили говорить максимально открыто, без какой-либо цензуры памяти. А когда окончательные версии книги и фильма были готовы, мы вместе решали, что сохранить, а что вырезать. За все время Теодор использовал свое право редактировать биографию только дважды, попросив меня: «Пока я жив, эти эпизоды не должны быть опубликованы, но вы можете напечатать их позже, после моей смерти». Как бы я сейчас хотел, чтобы Теодор был жив и у меня не было возможности поделиться трогательным эпизодом, из‑за которого он чувствовал себя неловко. Эпизод касался его отца. Те, кто знал Теодора, сразу поймут его нежелание делиться настолько личной историей. Приведу его рассказ дословно:
С детства я помнил своего отца героем, но со временем его героические черты постепенно пропали. Когда мать сказала, что мы должны переехать в Израиль, он начал оправдываться, вспоминать о проблемах со здоровьем, обстоятельствах, говорил, что не стоит принимать поспешных решений, и так далее. Мать поехала в Израиль сама; уже в Израиле я оставался с ней в течение года, а отец в это время поселился в Париже, и его здоровье начало сдавать. Из успешного предпринимателя он превратился в обузу. Когда он умер в 1951 году, я отправился в Европу на его похороны (собрав деньги через друзей), и там, у его гроба, произошло то, что сильно на меня повлияло.
На похоронах было много народу, человек четыреста, флаги разных политических движений, все было очень торжественно. Лидеры двух сионистских партий Парижа выступили с речами у его гроба. Они спорили с моим отцом, говорили прямо в гроб. Утверждали, что не стоило быть таким упрямым, таким принципиальным и не готовым к компромиссу. Чем дольше они говорили, тем больше я хотел им ответить, но это было невозможно; ком стоял у меня в горле, хотелось плакать. Но плакать я не мог, мальчики не плачут – так меня учили. Однако последним выступал раввин, который сказал:
«По нашим законам, если человек умер насильственной смертью и неизвестно, кто его убил, но его тело было найдено на нашей земле, десять старейшин должны омыть руки и сказать: наши руки не проливали этой крови. Почему Талмуд требует этого от нас? Потому что, когда человек умирает, не ясно, кто несет ответственность за эту смерть: тот, кто физически совершил убийство, или те, кто не помог умирающему, когда это было нужно больше всего? Поэтому я говорю над гробом: пусть десять старейшин омоют руки свои».
После этого я подошел к раввину, пожал руку и поблагодарил его за то, что он сказал от моего лица и лица моей семьи.
С годами я осознал, что имею право плакать и что мне не стоит сдерживать своих слез.
Драматическая история, преисполненная мудрости.
Но главный вопрос так и остался без ответа: какой образ Теодора мы должны взять в основу этой истории? Борец за справедливость? Выдающийся организатор? Или, может быть, человек в постоянном интеллектуальном поиске?
К началу 2017 года мы с Теодором знали друг друга уже несколько лет, он был довольно известен в российских СМИ, давал интервью, участвовал в панельных дискуссиях. Из разрозненных упоминаний можно было узнать о некоторых аспектах его жизни, однако с ростом его популярности информации о его прошлом не становилось больше. Это был блестящий, оригинальный мыслитель, вносивший свежий вклад в российскую академическую сферу, о котором, однако, очень мало было известно. Именно тогда мы с Теодором договорились собраться на несколько дней и записать подробное интервью о его жизни, которое должно было выйти в России и как документальный фильм, и как книга.
В этот момент у меня начал формироваться образ «моего» Теодора: жесткий, даже весьма жесткий человек, когда дело касалось его принципов, но в личном общении невероятно открытый. Толерантный в западном смысле, то есть не соглашающийся на идейные компромиссы и в то же время до крайности уважающий чужое мнение. На заре нашей дружбы, в 2000‑х и 2010‑х, во время наших эпизодических встреч он рассказывал истории из своей биографии и постоянно повторял: «Мы, миснагдим7, всегда выступаем против, так что я человек, который постоянно с кем-то не согласен…» Поэтому довольно быстро и без долгих раздумий стало понятно: мы оба хотели поговорить о Несогласном Теодоре.
Для меня ключом к пониманию биографии Теодора стало то, что он родился и вырос в Вильнюсе в то время, когда город переходил от одного государства к другому. Из состава Польши он перешел СССР, потом Германии, потом обратно СССР и наконец стал столицей независимого государства в начале 1990‑х. Это значит, что для Теодора государственные границы с самого начала были второстепенны – главной была принадлежность к городу. Теодор сформировался как гражданин города, связанного не только с евреями в целом, но и конкретно с евреями Вильнюса. Все языки, на которых нашему герою пришлось говорить в своей жизни, также стали его собственными, в его говоре были отголоски польского, иврита, английского – это был удивительный язык вильнюсского жителя начала XX века, обогащенный дальнейшей сменой стран и культур.
С помощью краудфандинга (Теодор с его леволиберальными наклонностями был очень доволен) мы собрали достаточно денег, чтобы закончить фильм, и поехали снимать места, где разворачивались события его жизни: Вильнюс, Алтай, Самарканд, Польша, Тель-Авив, Иерусалим. Конечно, для иллюстрации его истории можно было бы обойтись кинохроникой, но тогда мы заперли бы его в прошлом, связав с ушедшей эпохой. А я хотел сопровождать его историю изображениями сегодняшнего дня, потому что Теодор не в прошлом – он здесь и сейчас. Съемочной группе удалось найти настоящий вильнюсский двор его детства; хижины в Рубцовске на Алтае, где он и его мать жили в ссылке; в польском городе Лодзь нам посчастливилось попасть на такой же выпускной экзамен в средней школе, как тот, который Теодор вспоминал так живо и так часто. Особенно ту прощальную речь своего одноклассника: «Я антисемит. Вы все это знаете. И ты, Теодор, конечно, это знаешь. Но я хочу сказать, что перестану быть антисемитом, если встречу больше таких заслуживающих уважения евреев, как Теодор. За вашу свободу и нашу свободу!»
Книжная версия интервью, выпущенная в России одновременно с фильмом при сотрудничестве с моими аспирантами, которые помогали с редактированием, набором и дизайном, в конечном счете была опубликована обычным профессиональным издательством в Москве. И вот тут-то и произошло наше с Теодором единственное серьезное разногласие. Камнем преткновения стало название серии, в которой должна была выйти книга. Когда Теодор услышал, что она называется «Счастливая жизнь», он очень разозлился. «Что за „счастливая жизнь“?! Жестокая смерть моего деда и сестры, насилие в отношении дорогих мне людей, уничтожение евреев, насильственный перенос границ, разрыв с Израилем, за который я воевал?» Я пытался объяснить, что счастье, по крайней мере в моем понимании, было не в спокойствии, а в способности проживать свою жизнь без оглядки на обстоятельства и стандарты текущего времени. Он молчал, глядя на меня. И вдруг хлопнул ладонью по столу: «Ты прав! Я изменю свое представление о счастье!»
И он его изменил, хотя имел полное право стоять на своем. Но как раз этим выдающиеся люди отличаются – тем, что они постоянно развиваются – и в 50, и в 70, и даже приближаясь к 90 годам.
В конце книги (это был финал нашего московского интервью) Теодор говорит:
Я счастливый человек. Почему счастливый? Потому что мне всегда было что-то интересно. Я делал только то, что хотел. И делал много того, чего от меня не ожидали. Поэтому с биографической точки зрения я оптимист. А с точки зрения мирового развития я пессимист. В последние 10, а то и 20 лет мир скатился к череде ужасных событий. Если бы 10 или 20 лет назад кто-то сказал мне, что в ближайшем будущем станет больше, а не меньше войн, что нищета останется нормой жизни, что часть населения даже богатейших стран будет голодать, я бы сказал, что такое невозможно.
И тот факт, что лично моя жизнь сложилась хорошо, вызывает у меня чувство вины, которое, кстати говоря, со мной всю жизнь. Думаю, в какой-то степени именно эта вина заставляла меня с нетерпением впрыгивать в каждый проект, который требовал участия или доведения до конца. Я не мог просто говорить, мне нужно было действовать здесь и сейчас. Моя любимая поговорка: «Не бывает невозможного, бывает только сложное».
И сейчас я так же говорю себе: «Не бывает невозможного, бывает только сложное».
Предисловие автора
Как построить рассказ длиной в жизнь? Хронологически проще всего, потому что тогда фактический материал определяет порядок повествования как связь календаря и происшествий. Но это может сгладить до неузнаваемости качественную разношерстность происходящего, комплексность и взаимовлияние процессов и причинностей, а без этого теряется реальная картина. Поэтому, когда покажется нужным, буду отходить в моем тексте от жесткой хронологии к тематичности разделов, от личного – к обобщениям и наоборот. Это будет не история или биография в узком смысле, а историческая социология и антропология, переплетенные личным опытом.
Некоторые разделы я назвал «мирами», так как анкетное разделение по датам (начал учиться… кончил учиться… начал работать…) недостаточно выражает различий между периодами жизни и подразделениями моего рассказа. Это были часто разные миры – реально, как и фигурально – в смысле сгустка идей, которые периодически доминируют над групповой или индивидуальной мыслью. С этим перекликаются короткие зарисовки людей, у которых и на которых я учился ви́дению мира. В определенном смысле эти люди – это также «миры». Местами я буду употреблять байки, бросающие добавочный свет на элементы текста. Но это не сказки-выдумки, а скорее притчи, которые несут этическую и эстетическую нагрузку, – а это часть познания.
Две вещи стоит подчеркнуть. Первое – это то, что я дитя войны. Это определило многое из того, что происходило и еще происходит со мной и вокруг меня. Я начал ощущать себя почти что взрослым во время Второй мировой войны и взрослел под ее влиянием. Меня впервые арестовали, когда мне было 10. В обществах войн и диктатур это даже не очень удивляет. Но мой арест и непростой процесс взросления/самоопределения можно понять только на фоне времен. Именно в этом смысле я дитя войны.
Второе – это то, что я такой, какой я есть, и это связывает разные периоды и «миры» моей жизни. Рассказ делается единым посредством меня как участника и носителя особого способа видеть происходящее и реагировать на стимулы внешнего мира. Личностный характер менялся с годами, но существовал постоянный стержень. Этот стержень – я.
Вопрос, как писать биографический текст, непрост, особенно когда это автобиография. Элементы такого текста, его разные линии и потенциалы движения соотносятся, перекрещиваются и взаимно влияют разными, часто неожиданными способами. Трудности описания и анализа приводят к тому, что картина описываемого может превратиться из линии развития в кучу фактов и фактиков, глядя на которые трудно ухватить какие-либо нити причинностей. Видишь только хаос, пусть и созданный сознательно.
Я решил подчинить форму представления текста тому, что мне кажется основным в нем. Для этого буду переходить в некоторых случаях от сугубо биографической последовательности к историческим и биографическим потокам, связывающим процессы и причинности, и попробую показать, как эти потоки влияют друг на друга. Надеюсь, читатели окажутся снисходительны к своеобразию такого повествования.
Часть I. Начала
1. Мир Вильно
Первый из моих миров – это виленское детство. Вильно/Вильнюс – это город, в котором я родился, что повлияло на то, кем я был и каким стал.
Я любил и люблю свой родной город. Есть такие города, в которые поголовно влюблены их жители, а в этом немалая часть их характеристики. Для еврейского населения бывшей Российской империи были два таких города – Одесса и Вильно. В обоих еврейское население очень гордилось тем, что они одесситы или виленчане. «Иерушалайм де Лита» – литовский Иерусалим, так говорили про свой город не только евреи Вильно. Но во всей Восточной Европе и за ее пределами, когда евреи говорили «Иерушалайм де Лита», это значило Вильно. До сих пор, если скажешь в Израиле «Иерушалайм де Лита», многие знают, что это Вильно, хотя Вильно уже нет, есть Вильнюс – столица Литвы. Город моего детства был полон интеллектуалов, политических вожаков и людей искусства – интеллигенции в классическом смысле, как еврейской, так и нееврейской.
Город Вильно был создан в XIV веке как столица Великого княжества Литовского. Во времена моего детства население в нем было иудейское и польское католическое, примерно половина на половину. Литовцев было мало, как и русских, а среди других «разных» были армяне, караимы, татары и немцы, но их было еще меньше.
Села вблизи города были в основном польскими и белорусскими, с крупными вкраплениями евреев. В городе Вильно жили главным образом поляки и евреи. Эти две этнические группы существовали параллельно, почти что совершенно отдельно, хотя на одной и той же территории. Например, было практически невозможно перейти этническую границу в вопросах женитьбы. Я помню свое удивление, когда, попав впервые в Россию, обнаружил, что есть среди ее евреев много этнически смешанных браков. В Вильно моего детства таких браков не было, кроме экстраординарных случаев.
Перед моим лицом проходила в детстве элита еврейской части Вильно. Мой отец был политическим вожаком и патроном искусства и, будучи человеком состоятельным, старался употреблять деньги на то, что было для него особо важным. За обеденным столом, куда в раннем детстве я допускался со своей «бонной» (няней-воспитательницей), часто бывали деятели искусства, политики, спорта и бизнеса – как виленчане, так и люди «извне». Артистической частью их, в особенности писателей, было так называемое «Молодое Вильно». К нам часто наведывались артисты и режиссеры еврейских театров, которые часто спонсировал отец. На стенах нашей квартиры висели картины местных живописцев.
На обратной стороне иерархической лестницы город был центром еврейского фольклора. Сочный идиш8 виленского рыбного рынка, многоэтажные ругательства торговок, полные юмора, как и сленг криминальных групп города («Ди Штарке» – «сильные», так их называли в Вильно), были частью особого народного говора. Лингвисты приезжали издалека слушать и записывать виленский идиш (они в шутку называли себя «учеными при рыбном рынке»), и интеллектуалы города щеголяли цитатами. Я помню, как эти цитаты летали над нашим обеденным столом.
Из всего этого в городе практически ничего не осталось. Виленчане рассыпались по всему миру. Многие поляки отбыли «по репатриации» в Польшу, евреи ушли в мир иной – в коллективный гроб на Понарах, где похоронены 75 тысяч расстрелянных нацистами – в основном евреи. На улицах города говорят теперь чаще всего по-литовски. Из «виленскости» моего прошлого в населении Вильно осталось немного, но здания старого города по-прежнему глубоко историчны, необыкновенно красивы. И среди них, куда ни повернись, живут воспоминания.
В сентябре 1939 года в город вошли советские войска, но быстро отступили – Божеская милость прибавила нам еще один мирный год. Уже шла война, уже Германия заняла часть Польши, а СССР – остальную ее часть, но неожиданно советская сторона решила передать город Литве, что и дало добавочный год относительного благополучия. Все вернулось на предвоенные круги своя, но теперь через Вильно шла волна еврейских эмигрантов: люди бежали из Польши, чтобы выехать дальше – в Америку, в Палестину и т. д. Еврейский Вильно быстро сорганизовался, чтобы помочь «своим» – добрая еврейская традиция. И у нас в квартире на короткий срок жили две получужих семьи. Но виленчане почти что не сдвинулись. Одним из примеров был, конечно, мой отец. По логике ситуации, как мы ее видим теперь, надо было бежать подальше и поскорее: с одной стороны – немцы, с другой – советская власть, где-то посередине – маленькая Литва. Но у моего отца был план и объяснение: Швейцария и Голландия оставались не оккупированными на все время Первой мировой войны. Вот и Вильно станет таким «мирным островком благополучия». Многие думали так. К тому же отец продал небольшой завод «Коста», и родители договорились вложить вырученные деньги в Палестину. Отец был активным сионистом и собирался купить там землю или апельсиновые сады, но в последнюю минуту ему предложили местный завод носков «Корона», и он купил его.
При всей разности осознаваемых причин и объяснений что-то подобное происходило со всем еврейским населением Вильно. Население это было в большинстве своем бедное и говорящее на идиш. Вопрос, куда вкладывать деньги, и выбор места, куда бежать, не очень-то стоял перед ними – но главным было то, что уезжать из Вильно хотелось немногим. Вспоминали немецкую оккупацию во время Первой мировой войны: немцы тогда пришли и ушли, и мало что изменилось. Но на этот раз после того, как в 1940 году, после соглашения Сталина с Гитлером 1939 года, повторно вошла советская армия, пути «за границу» закрылись. Эмигранты из других частей Польши в своем большинстве смогли уехать. Но если ты был виленчанином, то оставался. А далее для евреев оказалось слишком поздно. В 1941‑м пришли немцы.
Здесь стоит сказать что-то про особенности евреев Вильно. Где-то в XVII веке европейские евреи-ашкенази раскололись на хасидов и миснагдов. Хасиды – это были сторонники новой для того времени интерпретации еврейской религии с сильным мистическим уклоном, где религиозный экстаз как непосредственное общение с Богом ценился выше талмудической учености. Близость человека к божественному достигается главным образом не изучением закона, а восторженностью молитвы. Хасиды делились на подгруппы, в которых каждый еврей имел своего духовного лидера – «цадика» («праведник» на иврите), «адмора» (духовный лидер хасидского движения) или просто «ребе». Тот – это всегда был мужчина – был главой религиозного клана, зиждившегося на непреклонном авторитете и личности лидера. К нему ездили, чтобы посоветоваться почти что по каждому важному поводу. Хасид не женился без совета своего ребе, не делал крупных сделок, не менял места проживания. Ездить к дому своего ребе, садиться за его обеденный стол было важной частью жизни хасида. Статус ребе переходил с отца на сына или на другого родственника с нужными человеческими и религиозными знаниями и опытом. Тех, кто сопротивлялся этому движению, назвали миснагдами, что на иврите того времени значило «несогласные». Для миснагдов основным критерием религиозности оставалась раввинская ученость – изучение и знание Талмуда. Лично мне всегда нравилась печать «несогласные» для меня и моих земляков.
Вильно было столицей миснагдов. Это было так, особенно потому, что в ранние времена раскола главным религиозным авторитетом евреев города Вильно и всех миснагдов стал «Гений из Вильно». В еврейской Европе были только двое людей, наделяемых титулом «Гений» («Гаон»). Первым был «Гений из Праги», с которым связана легенда о Големе – создании из глины, которое он превратил в человека, в слугу себе, и был наказан за это святотатство. Вторым был «Гений из Вильно»9. Оба блистали познаниями не только в сфере религии, но и в светских науках, таких как математика.
Их редко называли по фамилии, говорили просто «Ха-Гаон», и было ясно, о ком речь. Евреи Вильно держались интерпретации религии, которая не признавала хасидских вертикалей, не признавала, что твой путь к Богу идет через посредничество твоего ребе. Для миснагда путь к Богу шел напрямую.
Миснагды сами несли груз ответственности за то, что делали или отказывались делать. При этом, по словам виленского Гаона, блестящий ученик разнится от тупицы только шириной двух пальцев – длиной свечи, горение которой добавляет два часа к ночной учебе. Когда многими годами позже я изучал жизнь других народов, то, вспомнив виленчан, осознал, что в своей догматике и эмоциональном мире миснагды схожи с гугенотами Франции (последователями Кальвина, Лютера и Цвингли), а хасиды – с ее ортодоксальными католиками. Но исторически это было наоборот. Миснагды XVII века были консерваторами, а хасиды представляли новую интерпретацию. Но далее миснагды проходили секуляризацию быстрее, оказались менее консервативны в вопросах доктрины, языка и даже в одежде. Таким образом, Вильно стал центром не только миснагдизма, но также ведущих светских, политических и культурных, движений евреев конца XIX – начала XX века. Город Вильно стал центром еврейской культуры, выражаемой на идиш, но также на польском и иврите, – школ, газет, театров, профсоюзов, спортклубов и политических партий. В политической жизни там было начало социалистического Бунда, «еврейской секции» компартии, разных фракций сионистов – от марксистских и даже большевистских до ревизионистов, крайне националистического крыла сионистского движения.
Первый из моих миров – это мир Вильно. Это был в немалой мере закрытый еврейский мир. Расцветала еврейская литература. В Восточной Европе часто говорилось о групповых характеристиках этих виленчан – упрямых, воинственных, считающих себя еврейской нацией, а не еврейским меньшинством польской, русской или литовской нации. Когда я вернулся в Польшу из Советского Союза, я услышал у польских знакомых: «Вы, литваки, – враги Польши». – «А это почему?» – «Да вы не признаете себя поляками». Это меня сильно удивило: почему это я должен был признать себя поляком? Я – еврей из Вильно.
Формально литваки – это литовские евреи (больше информации см.: Greenbaum, 1991), но для самих евреев это были те, кто говорил на том идиш, на котором говорили Литва, Вильно и Белосток. Это был особый говор, который ИВО – Центральный институт языка идиш – определил как литературную форму языка.
К концу XIX – началу XX века бурно развивалась литература на идиш. Из этого периода в России знают в основном Шолом-Алейхема, который переводился массово на русский. Не менее интересен Ицхак Перец, особенно его короткие рассказы, которые публиковались на идиш, но также на иврите и по-польски.
Один из его рассказов, который впервые пересказал мне один из друзей семьи, – это «Если не выше»: о бедном еврейском городке («штетл» – на идиш). Обычная для того времени картина – беда-полуголод. Местные евреи с трудом выживают на ремесле и мелкой торговле. Единственное особое, что у них есть и чем они гордятся, – это их ребе, предмет уважения и самоуважения. Они часто рассказывают и пересказывают друг другу, что их ребе каждый год поднимается вверх, пред лицо Всевышнего, просить за своих верующих.
Как-то в этот городок пришел литвак. Вы знаете, какие они, литваки, – смеются над всем, издеваются, никому на слово не верят. И когда вечером хасиды собрались поговорить про своего ребе, литвак сказал: «Почему человек должен подниматься вверх – кто такое видел? Кто сказал, что к словам рабби из небольшого городка будет прислушиваться сам Всевышний? Все это – чушь! Талмуд учить надо, а там четко сказано, что даже Моисей-законодатель и тот при жизни не мог взойти на небо!» Они объясняли ему, доказывали ему, убеждали его – все зря. Вы же знаете литваков, они упрямые. Итак, идет далее рассказ, литвак решил проверить все это лично. Вечером он спрятался под кроватью ребе.
Шло время. Ребе встал с постели, вышел из дома в ночь в простой одежде с веревкой и топором в руках и пошел в лес. Там выбрал сухое дерево, срубил его, расколол, с трудом поднял на спину и пошел обратно. А литвак – они такие – за ним вслед. Ребе подошел к дому одинокой и больной вдовы, положил древесину у ее ворот и вернулся домой.
И когда евреи городка собрались опять поговорить про своего ребе, литвак был как-то странно молчалив. Они повернулись к нему: «Ну что, ты поверил наконец, что наш ребе поднимается на небо?» И литвак ответил: «Если не выше».
Иногда взгляд со стороны глазами «других» помогает лучше видеть групповые характеристики. Я недавно прочел современные виленские воспоминания известного литовского поэта-нееврея. Он так увидел то, о чем говорит также рассказ «Если не выше»: «Хотя и рассыпанные теперь по всему миру литваки, то есть литовские евреи, но в основном виленские евреи, стали на время моделью еврейского характера: сдержанность, рациональность, ироничность, часто с насмешкой над самим собой, можно сказать уверенно, что без Вильнюса не существовало бы государства Израиль». Сильнее не скажешь.
В Западной Европе британское или французское понятие «nationalité» – это гражданство, то есть, когда спрашивают, какая у тебя nationalité, ты вытаскиваешь свой паспорт. В Восточной Европе это по-другому. Понятие гражданства отделено от понятия «национальность». Если твои родители были определенной национальности, ты наследуешь ее. В наше время из‑за неясности с этим понятием все чаще употребляется понятие «этничность».
Когда на пути в Палестину я попал в Париж, я решил изучить французский язык. К великому моему сожалению, я даже не начал учить его по-настоящему, так как вскоре уехал. Но для начала я пошел в школу Alliance Française, где французский изучали по потрясающе новой тогда схеме «погружения». По этой программе ты изучаешь новый язык, не употребляя ни слова родного, – с ходу начинаешь говорить и читать на языке, который изучаешь. Тебя обучают говорить по-французски, заставляя говорить только по-французски, несмотря на то что ты как будто бы ни слова по-французски не знаешь. На первой лекции учительница начала с самого простого: она спросила, какой мы nationalité. И ученики отвечали: Мали, или Ирак, или Болгария. Она дошла до меня, и я ответил «A Jew». Она сказала: «Нет-нет, я вас не спрашиваю про вашу религию». Я уловил слово «религия» и сказал: «Атеист». Она решила, что я издеваюсь, и гневно бросила мне: «Ты мне не давай глупых ответов, я тебя спрашиваю про nationalité». Когда я вернулся домой, меня спросили родители: «Ну, как прошла твоя первая лекция?» Я ответил: «Учительница – антисемитка, не хочет признавать еврейский народ». Вот так виленчанин столкнулся с западной языковой культурой. Все это было очень серьезно из‑за того, как важно то, как люди видят самих себя. Виленские евреи видели себя как евреи – и все. Никаких добавок. Позже я узнал, что евреи южной Польши на тот же вопрос отвечали: «Поляк, Моисеевой религии». В Вильно отвечали: «Еврей» – и иногда добавляли: «Гражданство польское». Для некоторых польских националистов это значило, что евреи Вильно – враги польского народа: они упрямятся, не хотят признавать своей польскости. Понятие «Иерушалайм де Лита» не случайность, а часть негласного спора между упрямо «несогласными» и миром «чужих». Еврейский Вильно был в большой мере сугубо еврейским, даже биологически. Это было также причиной ужесточения этнических границ в нашем крае.
Как пример этого я помню с детства громкий случай еврейской девушки, которая вышла замуж за поляка. Ее семья отреагировала, сев по ней на «шиву». У правоверных евреев есть психологически утешительный и, несомненно, эффективный метод попрощаться с мертвым членом семьи. Когда кто-то умирает, вся семья садится на пол, они семь дней не моются, не бреются («шива» значит «семь» на иврите). Целую неделю семья сидит на полу и вспоминает об умершем, друзья и соседи заходят в квартиру, где горят свечи, и в знак солидарности садятся на пол с семьей и говорят хорошее о мертвом. Когда «шива» кончается, члены семьи умываются, бреются, и им запрещено разговаривать далее об умерших. Такое драматическое прощание, нацеленное на освобождение от ужаса потери, когда забыть нельзя, а не забывать тяжело. Я с детства научился быть осторожен, когда вижу небритого еврея: не спрашиваю, почему он не побрился. Ответ может быть простым: у него «шива».
Сесть на «шиву» по живому человеку – ужасная процедура. После этого он «мертв» для своей семьи, не разрешается говорить с ним или о нем. Мать той девушки хотела продолжать видеться с дочерью, но вся сила влияния семьи встала на ее пути. Можно понять, насколько трудно верующим евреям переступить такую границу.
Как ребенок, я часто просил сказок у любимого деда – отца матери. Он упростил себе задачу, выбирая темой «сказок» отрывки реальной истории, часто из тех, которые изучал в своей школе. С годами я порой открывал реалии за его сказками. Одна особенно врезалась мне в память.
В то время в одном городе орудовала бандитская шайка. Один мальчик разузнал больше, чем надо, про ее криминальные дела. Решили от него избавиться, что и сделали. Тело подбросили на участок, где работал ночным сторожем бедный еврей. Его обвинили в ритуальном убийстве с целью взять кровь ребенка на пасхальную мацу. Обвинители считали, что убитый ребенок пал жертвой задуманного евреями жертвоприношения, приуроченного к закладке новой синагоги.
Разразился огромный скандал. Лучшие адвокаты Петербурга, известные либеральными взглядами, объявили о готовности бесплатно защищать «виновного». С обратной стороны мобилизовались некоторые монахи – знатоки Талмуда, которые выразили готовность доказать виновность обвиняемого – и более: объяснить антихристианские тенденции еврейства как такового. Суд проходил при огромном ажиотаже. «Черная сотня» (реакционное ультранационалистическое движение в России начала XX века) начала мобилизацию своих резко антисемитских сторонников и обещала грандиозный антиеврейский погром по всей России, как только будет окончательно доказана виновность убийц христианских детей.
Когда присяжные ушли совещаться, царило невероятное напряжение как в зале суда, так и на улицах города, где собрались ожидающие вердикта. Шли часы. Согласно рассказу деда, когда напряжение дошло до апогея, обвиняемый, нервы которого явно с трудом выдерживали происходящее, встал, повернувшись лицом на восток, и сказал: «Шма» (это короткая еврейская молитва, которую говорят в смертный час или в момент ужасной опасности). В эту минуту половина зала встала и повернулась лицом на восток, чтобы поддержать обвиняемого. По рассказу, в минуту, когда сведения о происходящем в зале распространились по площади перед зданием суда, в толпе повторилось то же разделение: на тех, кто повернулся на восток, и тех, кто этого не сделал.
В этом рассказе деда внуку драматизировалось фундаментальное разделение человеческого общества на «нас» и на «них». Драматизм был достаточно силен, чтобы рассказ остался в моей памяти на много десятков лет. Здесь стоит добавить, что вердиктом суда присяжных была объявлена невиновность подсудимого, которого освободили прямо в зале.
Многими годами позже дедовского рассказа я смог, посетив Украину, определить его точность в главном и расставить имена, связанные с ним. Суд происходил в Киеве. Убийство произошло в 1911 году, суд – в 1913‑м. Имя убитого ребенка было Андрей Ющинский. Имя обвиняемого было Менахем Бейлис. Суд присяжных, который нашел Бейлиса невиновным, состоял из людей «низкого происхождения»: семи крестьян, двух мещан и трех мелких чиновников. Они были явно отобраны властями для того, чтобы подтвердить вину подсудимого. Чтобы усилить моральное давление на присяжных, сторона обвинения доставила в суд мощи младенца Гавриила Белостокского, канонизированного православием в 1820 году в связи с более ранним «кровавым наветом», схожим с обвинением Бейлиса. Известный писатель Короленко написал тогда: «Это испытание, которому правда подвергнута на глазах всего мира, тяжело, и если присяжные выйдут из него с честью, то это значит, что нет более таких условий, на которых можно вырвать у народной совести ритуальное обвинение». Бейлиса оправдали и перевезли в США, где он умер в 1934 году. Короленко все же ошибался. «Навет» повторился – и повторяется доныне.
Примерно в тот же период моего детства произошли два маленьких события, память которых помогла мне оценить и запомнить другую важную грань общественного разделения тех времен. Параллельно с этническим разделом, который играл такую огромную роль в жизни обществ моей молодости, существовало второе фундаментальное разделение. Социалисты и социологи называли его «классовым». Как и первое разделение, его можно особенно ярко определить и осознать на уровне повседневности, как и в понимании детей.
Я учился в школе Тарбут («Культура» на иврите), в которой иврит был языком преподавания. По воле моих родителей и как выражение их либерализма, школа была социально смешанной: дети ремесленников, преподавателей и купцов – как богатых, так и тех, кто победнее. В этой смеси я явно предпочитал детей менее состоятельных семейств, которые были «хулиганистее» и этим подходили более тому, что я тогда определил бы как «настоящие парни». Одним вечером, возвращаясь из школы, я зашел в семейство товарища. На улице было холодно, и, как часто бывало в менее состоятельных семьях Вильно, обогревалась только одна комната, в которой сидела вся семья. С моим товарищем я уселся на полу, и мы увлеченно играли в морской бой. Во время этого приятного занятия мой товарищ назвал меня по фамилии (мы так называли друг друга в школе). Я заметил, как его мама подозвала его и тихо переспросила мою фамилию. После этого как ветром сдуло всю семью из комнаты – мы остались играть одни. А когда мой товарищ толкнул меня, он получил подзатыльник от мамы – дурак не понимает, какая честь, что сын «самого… играется с нашим»! Я не сумел бы тогда в точности объяснить все это в добрых социологических или социалистических понятиях, но почувствовал глубокое неудобство. И я никогда не вернулся в их дом.
Некоторое время спустя я, возвращаясь опять-таки из школы, пригласил к себе нескольких товарищей. Нашему обслуживающему персоналу это не очень нравилось, но никто не посмел сопротивляться. Панич (сын «пана» и «пани», господина и госпожи – хозяев дома) имел право во многом поступать как захочет, а остальные подстраивались. Замечания ему могла делать только сама пани – моя мама.
Но когда мы вошли в комнаты нашей квартиры, мои товарищи с трудом смогли продвигаться по паркету (к нам раз в неделю приходил однорукий инвалид, который нанимался для того, чтобы «фратерировать» полы комнат, то есть натирать их воском). Товарищи скользили и с трудом держались на ногах. Я рос на паркетах, и меня рассмешила их неспособность справиться с ними. Годами позже я прочел у Маяковского, что «американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные». Я знал это с детства. Внутренние классовые, как и этнические, различия могут иметь глубокие корни, их легко обнаружить, но в них трудно ориентироваться.
2. История: векторы и пунктиры
Нашей первой главой была зарисовка дней моего детства в преддверии Второй мировой войны – еврейский Вильно и я в нем. Для полноты образа мы должны «сменить линзу» – расширить картину и сделать ее более динамичной. Мы не ставим себе здесь задачу написать заново историю города и страны. Для этого имеются хорошие тексты (такие, как двухтомник Нормана Дэвиса10 и атласы исторической географии). Вместо этого мы предложим короткую, селективную «историю пунктиром», где «пунктами» будут выделенные элементы важнейших процессов, осознанных нами причинностей истории польско-литовской Речи Посполитой. Начиная с XVII века более чем 130 лет эти территории и население были под чужим владычеством и возродились только в польском и литовском государствах XX века. Без этого трудно понять как историю города Вильно, так и биографию моей семьи.
Выбор пунктов этого пунктира должен быть, конечно, не случайным, а связанным с более широким видением векторов истории страны и города, которые оказались на перепутье историй разных государств и народов. В определении точек этого пунктира мы будем особо акцентировать соотношения и столкновения политических сил и влияний, часто не вполне осознаваемых даже теми, кто в них жил.
Общее описание тех времен можно представить длинной диссертацией, но короткая шутка тоже подойдет. На стандартный вопрос «Вы откуда?» я часто отвечал речитативом: «Отец мой родился в России, мама – в Германии, я – в Польше, но мы все рождены в одном и том же городе, и теперь он столица Литвы». Это, конечно, не просто шутка, а скорее реальная история города и его населения.
В XVI–XVIII веках Вильно/Вильнюс был второй столицей самого территориально крупного в Европе государства – Литвы-и-Польши. Это государство создано в 1385 году женитьбой великого князя Литвы Ягайло/Ягелло на королеве Польши Ядвиге. Важнейшей причиной этого династического объединения была агрессия с севера и северо-запада тевтонского государства крестоносцев, что подтолкнуло к единению стран, оказавшихся под его ударами. Частью и условием этого процесса объединения было принятие католичества Литвой – последним языческим государством Европы. Пиком борьбы с крестоносцами стала битва под Грюнвальдом в 1410 году, победа в которой определила на последующие столетия характер польско-литовского государства. Его дальнейшее единение укрепила Люблинская уния 1569 года, согласно которой часть земель Литвы была передана Польше, но которая сблизила обе страны созданием единого для них парламента (сейма). При этом были удержаны раздельные польское и литовское законодательство и армии. Политические процессы переплетались с этносоциальным процессом постепенной полянизации высшего сословия Литвы.
Само название государства Речь Посполитая было прямым переводом с латыни – языка образованных людей того века, а также самоопределением социального слоя, который его создал. Говоря современным языком, это был особый вид республики, в которой формальное равенство и реальное избирательное право существовали, но ограничивались примерно 10% населения, то есть шляхтой – дворянским сословием страны. Короли избирались представителями этого сословия. Выбор был пожизненным, но королевский титул не переходил как само собой разумеющееся к наследникам той же семьи или династии. Власть короля была ограничена предварительным договором, принимаемым каждый раз заново новым королем и представителями шляхты в избираемом ими сейме, как и в сенате, состоящем из феодальных магнатов и глав церкви. Главной функцией, обязанностью и правом шляхтича была военная служба. Во время войн объявлялось «Rushenie Pospolite», то есть всеобщая мобилизация шляхты в «хоругви» – базовые подразделения армии ранних дней Речи Посполитой.
Сейм избирался мужской частью всей шляхты через посредство местных «сеймиков». Государственная власть была сильно децентрализованной – с тем, что каждые выборы короля создавали для представителей шляхты новую возможность расширить свои привилегии. Со временем определился как часть политического устройства принцип так называемого «liberum veto». Это значило обязательность единогласия всех голосующих в сейме для принятия закона. Это все чаще приводило к тупиковым ситуациям, в которых становилось невозможным принятие какого-либо решения.
Большинством нешляхетской части населения было закрепощенное католическое польское крестьянство. Закрепощение часто усиливалось принадлежностью к другим этническим и религиозным группам. В частности, многие крестьяне и часть шляхты были русинами, то есть православными протобелорусами и протоукраинцами. Закрепощение крестьянского большинства было обратной стороной «золотой вольности» шляхты, ограниченной властью короля и его окружения.
Существовали также относительно автономные формы самоорганизации этнических меньшинств, не принадлежащих к польско-католическому большинству. Они пользовались «привилегией», даваемой королевской властью и часто приводившей к непростым переговорам, конфликтам и согласованиям. Правовая система многих городов, где часть населения была немецкого происхождения, определялась так называемым Магдебургским правом, определявшим степень автономии, на которую немецкие меньшинства могли претендовать в Польско-Литовском королевстве. Аналогично этому евреи имели свой Комитет четырех земель как общее представительство и руководящий орган евреев Речи Посполитой.
Параллельно с усиливающейся децентрализацией и ослаблением польско-литовской государственности происходило быстрое усиление центральной власти в соседних с ней странах. Пиком этих процессов стали: для России период властвования Екатерины Второй (царствовала в 1762–1796 годах), для Пруссии – власть Фридриха Второго (царствовал в 1740–1786 годах), а для Австрии – власть Иосифа Второго (царствовал в 1764–1790 годах). Конечным результатом этих процессов стало разделение Речи Посполитой между ее более мощными соседями. Это происходило поэтапно, но сравнительно быстро: в 1772–1793 годах и окончательно – в 1795 году. Тем был положен конец Речи Посполитой. Самой крупной территорией, отторгнутой от Речи Посполитой, была ее часть, перешедшая под контроль царской России. Вильно стал губернским городом Российской империи в 1795 году.
Чувство «конца мира», то есть гибели их мира и их государства, вызвало у передовой части дворянства, как и некоторых других групп населения Речи Посполитой усилие спасти ее, осовременив ее структуру. Это выразилось в массовой агитации, а далее – в принятой сеймом Конституции 3 мая 1791 года. Глубокие реформы, предлагаемые этой Конституцией, были нацелены на ликвидацию «liberum veto», прекращение выборности короля и создание постоянной армии, которая включала бы не только шляхту. Часть реформаторов дозрела даже до постановки более радикальных социальных целей. Новая армия была создана под руководством Тадеуша Костюшко – ветерана Войны за независимость США, ставшего впоследствии польским национальным героем, – но не смогла удержаться под последовавшими ударами армий государств-соседей – России и Пруссии. Сам Костюшко, раненный в бою, был пленен и заключен в Петропавловскую крепость – российский эквивалент Бастилии для особо опасных преступников, – в которой в разные времена побывали Александр Радищев (писатель и критик), Николай Чернышевский (журналист и социальный философ), Федор Достоевский (журналист и писатель) и многие из декабристов и народовольцев России, отказавшиеся присягнуть царю.
Соседи Речи Посполитой правильно поняли характер и цели предлагаемых реформ, выраженных в Конституции, принятой сеймом 3 мая. Это было усилие воссоздать и эффективно защитить независимое государство. Екатерина Вторая выслала войска под командованием Александра Суворова – самого эффективного из ее полководцев, – чтобы силой оружия подавить предлагаемую реформу. Им помогали прусские войска. Внутри Речи Посполитой создалось также движение реакционных кругов дворянства, сопротивляющихся реформам (конфедерация Targovice, организованная напрямую из Петербурга). «Бунт» против раздела Речи Посполитой был подавлен. На период более чем в 130 лет государственность поляков и литовцев исчезла с карты Восточной Европы. Все земли Речи Посполитой были разделены на три территории, перешедшие под власть России, Пруссии и Австрии – ее самых могущественных соседей. В них начали перестраиваться правовые, образовательные и фискальные системы, надиктованные теперь режимами чуждыми как для поляков, так и для литовцев.
Во все времена «разделов» части населения бывшей Речи Посполитой продолжали сопротивляться потере независимости и единства своей страны. Земли бывшей Речи Посполитой потрясали заговоры и восстания. В 1830‑х восстала бо́льшая часть автономной польской армии, которая существовала в сильно урезанном виде, под русской эгидой и с братом царя, великим князем Константином Павловичем как ее руководителем. Константин был непопулярен среди поляков, и в ноябре 1830 года его действия вызвали массовое восстание среди младших польских офицеров и части гражданского населения. Русские войска жестоко расправились с повстанцами: многие из них погибли, были сосланы или наполнили тюрьмы, или же ушли за границы бывших польских пределов. В январе 1863 года пришел черед следующего крупного восстания, которое длилось до середины июня 1864 года и, как и прошлые, кончилось поражением восставших, тяжелыми репрессиями и массовыми ссылками в отдаленные районы Российской империи. Масса польских могил на старых кладбищах сегодняшней Сибири напоминает и теперь об этих борцах за независимость и свободу.
«Польская проблема» была в XVIII–XIX веках важным элементом идейных споров между правыми и левыми Европы. На время слово «поляк» стало синонимом «революционера». Поляки были очень активны в разных революционных движениях, служили в легионах наполеоновской армии, входили во многие международные легальные и подпольные организации. Наряду со многими другими мыслителями и политическими деятелями Карл Маркс выступал в защиту поляков и их борьбы. Во время Парижской коммуны генерал Ярослав Домбровский, польский дворянин с радикальным прошлым, командовал частью ее оборонительных операций.
Победа русских и прусских вооруженных сил над польскими повстанцами в 1860‑х не означала конца борьбы за независимость. Учитывая это, новые власти всех трех «обрезков» бывшего польско-литовского государства делали все, чтобы добиться культурной ассимиляции поляков. Стратегии ассимилирования их «государственными национальностями» были встречены упорным сопротивлением польских легальных и подпольных организаций образования и культуры, стремившихся защитить польский язык и католическую веру, которые оккупанты пробовали искоренить или ограничить. Польская литература этого периода стала важным орудием и свидетельством этой борьбы. Эти усилия не прекращались, несмотря на мощь и жестокость оккупационных режимов. Слова польского гимна «Польша не погибла, поскольку мы остаемся живы» точно выражали качества польской культуры, которых так и не смогли выкорчевать оккупанты.
Во всех трех частях бывшей Речи Посполитой шла двойная освободительная борьба. С одной стороны, повторялись усилия возобновить вооруженное сопротивление, нацеленное на политическую независимость, которое раз за разом кончалось поражением и карательными мерами со стороны России и Пруссии (в габсбургской Австрии политические процессы развивались по-другому из‑за более либерального отношения этой страны к этническим правам «меньшинств», ввиду ее многоэтнического и многонационального состава). С другой стороны, патриотическая элита всех польских «меньшинств» в решающей мере выигрывала битву в поле культуры. Массовая ассимиляция не стала решающим фактором для большинства непольского населения расчлененной Польши. Первая мировая война привела далее к ситуации, в которой соседи-оккупанты пробовали заручиться поддержкой польского населения. Это выражалось в либеральных поблажках или даже обещаниях создания независимой Польши, как только закончится война. По факту это произошло, однако, не просто по воле соседей, но в основном как результат борьбы самих поляков. Когда после Версальского договора 1919 года Польша обрела независимость, это случилось отчасти благодаря молчаливому согласию прежде могущественных соседей – Пруссии, Австрийской империи, а также России, охваченной революцией, – но главным образом в результате борьбы самих поляков во главе с Юзефом Пилсудским, сыгравшим решающую роль в сдерживании амбиций нового советского руководства.
Юзеф Пилсудский (глава государства и первый маршал Польши, 1918–1935) был сыном мелкопоместной шляхты виленской пограничной губернии Российской империи. Он стал членом запрещенной Польской социалистической партии (PPS) и в ней быстро выдвинулся как вождь ее националистического крыла. Бо́льшая часть его жизни как профессионального революционера-подпольщика была полна бесконечных усилий, отважных деяний, бесконечных переговоров и многих неудач. С началом мировой войны он создал в Галиции – «австрийской Польше» – польскую автономную вооруженную организацию «Легионы», нацеленную на борьбу с Россией. Позже он попробовал перейти на сторону Антанты – тройственного союза стран, воевавших против немецко-австрийской коалиции. Реакцией на это был разгон «Легионов» и заключение самого Пилсудского в Магдебургскую крепость, где он оставался до конца войны. После войны он вышел из тюрьмы героем, символом вооруженной борьбы и национального единства поляков, признанным как польским населением разных районов «раздела», как и теми, кто уехал в другие страны. Это сделало Пилсудского реальным руководителем воссоздающегося польского государства. Учредительный сейм избрал его «начальником польского государства» с чрезвычайно широкими полномочиями.
Пилсудский счел своей главной задачей воссоздание Польши как преемницы Речи Посполитой в ее прежних границах. Эта политическая позиция получила поддержку многих друзей поляков, самым важным из которых стал президент США Вудро Вильсон. Она также вовлекла воссоздающуюся Польшу в серию конфронтаций этнической окраски с новыми и старыми соседями – немцами, чехами, литовцами, украинцами и русскими. В самой Польше росло межэтническое напряжение между «титульной» нацией и «национальными меньшинствами». На первых свободных выборах в сейм был создан блок «меньшинств», который получил около трети голосов. Как важнейший шаг в войнах с соседями польская армия заняла Киев, но была отброшена назад контратакой советской кавалерии. Последовал ответный марш на Варшаву со все более определяющейся стратегической целью объединения Советской России с немецкой революцией или даже создания «всесоветской Европы». Говоря языком красноречивого приказа по советским войскам Западного фронта от 2 июля 1920 года, «через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару».
Когда советские войска были уже на подходе к польской столице, произошел неожиданный перелом в ходе войны. Патриотический подъем польского населения перед лицом опасности воссоздания этнически чужой им власти, эффективная реорганизация польских войск под руководством Пилсудского и Сикорского, как и экстраординарная работа польской разведки, взломавшей шифры советской армии, привели в августе 1920‑го к чрезвычайно удачному польскому контрнаступлению. Под неожиданным фланговым ударом советская армия начала в панике отступать и практически рассыпалась – отступление превратилось в разгром. Многие из советских солдат перешли через границы Восточной Пруссии, где были интернированы. Другие попали в польский плен. Части из них удалось уйти с потерями через реку Неман на советскую сторону. Поляки назвали эти дни «чудом над Вислой».
В этот момент личное решение и вмешательство Ленина определили участь войны. Он явно ждал победы, но, как и можно было ожидать от великого реалиста, каким он и показывал себя в решающие периоды, требовавшие смены пути, признал факты поражения советской армии и антирусского патриотического подъема в Польше. От Ленина исходило стратегическое решение спешно закончить всю полосу войн на западных пограничьях России, и он убедил в этом своих соратников. Советская делегация поспешила договориться о мире на условиях, которые давали польскому правительству более, чем кто-либо мог предполагать.
Взлет восточноевропейских национализмов совпал с развитием литовского национализма, вожди которого потребовали создания литовского государства со столицей в Вильно. На короткое время они овладели городом. Польской реакцией на это стал «бунт» генерала из ближайшего окружения Пилсудского – Люциана Желиговского, который силой занял Вильно и объявил создание в нем «Центральнолитовской» республики. Та, просуществовав год, выбрала снова влиться в польское государство. Эта «шарада» закончила собой войны на восточной границе новосозданного польского государства и определила его границы на последующие 20 лет. Литовское государство было создано, но со столицей в Ковно/Каунасе. Вильно и его окрестности стали частью Польши этого периода.
После нескольких лет под демократически избранным польским правительством в мае 1926 года произошел новый бунт – на этот раз реальный и возглавляемый самим Пилсудским, который к тому моменту некоторое время оставался не у дел, отказавшись принять предложенное ему президентство с сильно урезанными правами, ограниченными сеймом. На этот раз бунтующие победили, и власть перешла к сторонникам Пилсудского и его партии, самоназванной «Санация», то есть партией оздоровления государства силами антикоррупционного движения. Была принята новая, «президентская» Конституция. Со смертью Пилсудского в 1935 году власть осталась в руках его эпигонов, так называемых «полковников», возглавляемых генералом Рыдз-Смиглым, которые, проиграв войну с нацистской Германией в сентябре 1939 года, бесславно бежали через границу перед трагедией нового «раздела» Польши между Германией и Советским Союзом. Через год Рыдз-Смиглый тайно вернулся в Варшаву, чтобы присоединиться к польскому Сопротивлению, но умер в 1941 году.
Евреи появились на территории Польши в XI веке. Их права на пребывание в ней определились впервые Казимиром I (правил с 1034 по 1058 год). В Литве схожие права были официально даны им Витовтом I (правил с 1392 по 1430 год) только 350 лет спустя. Чтобы осесть в новой стране, евреи нуждались в формальном разрешении властей, которое давалось в виде «привилегии» – права на пребывание при условии финансовых обязательств по отношению к королевской казне. Привилегия определяла в основном право на выполнение своих религиозных обрядов и на создание органов самоуправления, важными задачами которых были сбор налогов, организация коллективных молитв, похорон и учебы. Во многих случаях изменение места проживания приводило к отмене привилегии пребывания в стране еврейских семейств, что часто происходило по требованию местного монашества или из‑за конкуренции с нееврейскими купцами. Новоприбывшие были купцами и ремесленниками, в большинстве мелкими, хотя некоторые из них стали финансистами королей и крупных дворянских фамилий, чем резко подняли свой финансовый и общественный статус.
Как язык ежедневного общения евреи принесли с собой идиш. Язык этот интегрировал элементы нижненемецкого диалекта немецкого языка, некоторые польские слова и библейский иврит – язык еврейской молитвы, который изучало большинство еврейских молодых мужчин. Идиш употреблялся в определенной мере как секретный внутренний код закрытого общества, которое этим отграничивалось от других этнических групп. Ко времени моего детства на нем создались мощные образовательные структуры, пресса и литература.
В политической экономии Речи Посполитой евреи играли непопулярную, противоречивую роль «губки»: поскольку бо́льшая часть их средств к существованию поступала от кредитования и финансирования операций для неевреев, они извлекали выгоду из любых неисполнений долговых обязательств, что давало им как кредиторам право конфисковывать активы, стоимость которых часто значительно превышала долги, которые они обслуживали. Бо́льшую часть этих доходов они передавали помещикам и политической власти, покупая себе таким образом защиту. Евреи владели также большинством трактиров, которые были для местного населения местом встреч и заключения сделок.
Эти факторы все более ставили евреев в условия открытого конфликта с большинством местного населения. Такое позиционирование в политической экономии страны привело к мощному взрыву в период восстания Хмельницкого (1648 год и далее). Восстание было направлено на защиту казацких привилегий и против преимуществ польского дворянства над украинским большинством. Оно выразилось в усиливающейся конфронтации между католиками и православными. Но оно особенно резко ударило по евреям, которые выделялись как в финансовой сфере, так и религией, обычаями, языком и одеждой. Целью восставших стало «очищение» Украины от поляков и евреев. С точки зрения еврейского населения Речи Посполитой, это стало первым Холокостом, где функции газовых камер по уничтожению людей исполняли воды Днепра, в которых повстанцы утопили немалую часть еврейского населения страны.
Единственными вооруженными защитниками евреев в Восточной Речи Посполитой оказались некоторые части королевской власти польского дворянства, магнатов и армии. Для них еврейское население было важным источником доходов, а казаки – бунтовщиками. Отношения между евреями и христианами были неоднозначны: происходили антиеврейские погромы, была ненависть многих к евреям, как и отчуждение многих евреев от населения, их окружавшего. Но в битвах за независимость Польши – в восстании Тадеуша Костюшко в 1794 году и в особо кровавом бою с русскими войсками Суворова за Прагу – на польской стороне бился еврейский конный полк, которым командовал полковник-еврей Берек Йоселевич. Борьба за воссоздание Речи Посполитой оказалась и борьбой евреев.
К концу XVII века число евреев в Речи Посполитой оценивалось в 500 тысяч, то есть примерно в 5% населения. Ко времени воссоздания польского государства в 1918–1921 годах более четверти населения принадлежало к «меньшинствам» – украинцам, белорусам, евреям, литовцам и немцам. Количество евреев страны приближалось к 10%, то есть к 3 миллионам. Этническое напряжение нашло свое крайнее выражение в убийстве всенародно избранного первого президента Польши – Габриэля Нарутовича – через пять дней после выборов 1922 года. Убийца объяснил это своим польским патриотизмом: первый президент независимой Польши не должен быть «социалистом, избранным голосами евреев». Голоса евреев, как и других «иноверцев», и впрямь помогли Нарутовичу обрести перевес на выборах.
Последующие польские правительства проводили ограничительную политику, резко враждебную всем этническим меньшинствам, но в особенности крупнейшим из них, то есть украинцам и евреям. Со своей стороны, «меньшинства» постоянно боролись за равенство, обещанное Конституцией, которая беспрестанно нарушалась.
В отношении польского населения враждебность к евреям росла: ширилось мощное движение так называемой «народной демократии» (Эндеки), для которой борьба за уменьшение еврейского влияния или даже самого присутствия евреев стала важным элементом идеологии. Они были также противниками Пилсудского и польских левых партий. В еврейском населении Польши усиливались группировки, боровшиеся за равенство евреев с прочими гражданами Польши. Важный элемент этой борьбы за права происходил в парламенте, где действовала еврейская фракция, руководимая Ицхаком Гринбаумом, известным своим ораторским талантом и бескомпромиссностью выступлений в защиту конституционных прав непольского населения. Усиливался Бунд – социалистическая партия, союзная с PPS и поддерживаемая еврейским профсоюзным движением. Усилились также сионистские партии, официальной целью которых были создание в Палестине еврейского «национального дома» и эмиграция туда евреев мира. В территориальных общинных организациях евреев было сильно влияние сугубо религиозной и антисионистской партии «Агудат Исраэль», руководимой раввинами. Важным для партийной принадлежности стал вопрос определения национального языка. Для «Агудат Исраэль» и Бунда это был идиш как реальный язык общения еврейского населения, а для сионистов – иврит как язык будущего возрождения еврейской нации.
Отношение к собственной еврейскости определяло еще один раздел между евреями Польши. Существовала группа евреев – патриотов Польши. Проходили процессы ассимиляции – признания себя «поляками еврейского происхождения» – и аккультурация, часто с последующей сменой этнического самоопределения. Эти процессы были особенно сильны среди евреев юга новой Речи Посполитой. Там чувствовалась особо сильная связь еврейского населения с польским языком и культурой. Примером таких взглядов может послужить здесь самый выдающийся польский поэт межвоенного периода Юлиан Тувим. Его послевоенная статья «Мы, польские евреи» стала мощным выражением амбивалентности взглядов и чувств этой группы перед лицом Холокоста 1942–1945 годов: единство крови, но не только той, которая в жилах, но и той, которая пролилась. Это был призыв признать собственную «польскость» как решающий элемент реального самосознания, но не прятать более своего еврейского происхождения. Почти что зеркальным контрвыражением этих взглядов была идейная позиция «литвацкой» элиты среди евреев Вильно.
Конец этому еврейству Польши пришел в 1942–1944 годах через его почти поголовное физическое истребление нацистами, немецкими и другими.
3. Польская война и Литовская свобода
В конце августа 1939 года проходила генеральная мобилизация польской армии в связи с опасностью немецкого вторжения. Началась отправка подразделений армии к границам. Мне было девять, и я стоял в толпе, которая смотрела вслед войскам, уходящим на войну. Мы жили в Вильно, на улице Субоч, в двух шагах от Острой Брамы – главной католической святыни города. Войска проходили там на пути к погрузке в поезда нашей железнодорожной станции. Они выглядели очень красиво. Плотные ряды пехоты, офицеры в седле. Вдоль улиц стояли жители города, прощаясь с солдатами выкриками: «До встречи в Берлине! До встречи в Крулевце!» – что дальше произошло, мы все знаем. Дрались они отважно, но в течение двух недель их победили. Обещанная помощь западноевропейских союзников не пришла.
Одинокая война польской армии образца, вооружения и руководства уровня 1920‑х с немецкими армиями 1939 года не могла окончиться иначе.
Один из наших виленских знакомых, Исаак, с которым мы позже жили по соседству в Самарканде, был евреем и польским офицером резерва. Евреев редко посылали в польские офицерские школы, но он по-литвацки заупрямился и добился этого. Его рассказ дал мне собственную картину польско-немецкой войны 1939 года.
Исаак начал войну лейтенантом, командиром роты в резервном батальоне пехоты, мобилизованном и переброшенном из Вильно на западную границу. Немецкие механизированные колонны их просто обошли и помчались дальше на восток. Война была реально проиграна в течение считаных дней, но офицеры подразделения решили продолжать борьбу и прорываться на помощь столице, где продолжались бои. Связь с Верховным командованием армии была утеряна, и они ориентировались в положении, слушая общее радио, которое сообщало о поражениях и отступлениях польских войск. Правительство и Верховное командование армии бежали из столицы и далее через румынскую границу.
За спиной у главных сил немцев отряд Исаака продолжал двигаться с боями к Варшаве. Он состоял из батальона пехоты и роты «спешенных» пилотов – пилотов, для которых не нашлось самолетов и которые потому сражались в пешем строю. По пути они уничтожили созданный немцами в польском поместье полевой аэродром и сожгли самолеты на нем, а также удачно атаковали несколько мелких немецких гарнизонов, которые никак не ожидали появления польского отряда, готового продолжать борьбу. Когда 17 сентября 1939 года советская армия, перейдя границу, ударила в спину польской армии, реализуя план раздела Польши между Германией и СССР, командир отряда и часть офицеров и пилотов решили уходить к румынской границе, чтобы далее добираться до Франции. Согласно сообщениям, передаваемым по радио, во Франции начали формироваться альтернативное польское правительство и армия под руководством Владислава Сикорского – до тех пор военного атташе Польши во Франции. После поражения Франции правительство и отряды Сикорского перебазировались в Англию, где польские пилоты сыграли свою роль в воздушной Битве за Англию.
Как добрый пример польского донкихотства, командир отряда написал уже не существовавшему командованию армии представление Исаака к ордену Vertuti Militari за отвагу в бою у аэродрома. Далее некоторые из офицеров и пилотов, как и сам командир отряда, двинулись к румынской границе, а большинство бойцов решили возвращаться в родные края. Командир передал командование Исааку, а тот довел отряд до территории, которую к тому времени заняла Красная армия. Там он распустил их с напутствием: переодеться в гражданское платье и пробираться домой. Большинству офицеров удалось выполнить это, так что никто из них не попал в Катынь, где 5 марта 1940 года по приказу Сталина были расстреляны 22 тысячи поляков.
В первые дни войны отдельные самолеты бомбили Вильно. После этого танки вошли в город. Самолеты были немецкие, а танки – советские. Первой реакцией населения города на этот симбиоз было совершенное «обалдение» – никто ничего такого не ожидал и не понимал. По опустевшим улицам города зашагали советские патрули.
Отец спешно убрался из дома к друзьям, так как считалось, что его могут арестовать. В наш дом определили на постой советского офицера. Он был политруком высокого ранга и оставил в моей семье очень хорошее впечатление: был спокойным и очень вежливым.
Во время этой первой и короткой советской оккупации часто создавались всякого рода смешные ситуации. Некоторые из советских офицеров привезли своих жен, и те сразу помчались по магазинам. Две из этих дам – весь город смеялся – купили себе шелковые ночные рубашки и, надев их как вечерние туалеты, вышли гулять вечером на Мицкевича, главную улицу города.
Солдатам было приказано на все вопросы горожан «Есть ли у вас то-то и то-то?..» отвечать: «У нас все есть». Виленские балагуры довольно быстро просекли это и начали спрашивать солдат: «А апельсины у вас есть?» – и, когда им отвечали: «У нас много апельсинов», не унимались: «Ведь для производства апельсинов нужны заводы?» – на что получали ответ: «И заводов таких у нас много», которому очень радовались. Моя мама рассказала об этом нашему постояльцу, и он как-то невесело хмыкнул и после длинной паузы сказал (я запомнил это, хотя и понял вполне то, что он сказал, с опозданием в несколько лет): «Вы танго танцевали, мы танки строили». Хороший ответ, особенно в Польше, которая пала в 17 дней (в 30, если считать Варшаву), несмотря на отвагу и готовность многих поляков платить жизнью за «вольность».
Это был конец сентября 1939-го, и «чехарда» властей продолжалась еще месяца три. Советские войска «передали» Вильно литовцам, но те еще долго не входили в город. Горожане объясняли это тем, что (ха! ха!) единственный литовский водитель танка простудился. Когда литовцы все же вошли, с ними прибыли литовские полицейские ростом не менее метра восьмидесяти сантиметров, которых особенно отбирали для новой столицы, добавив к их мундирам многоцветные шапки высотой не менее чем в 40 сантиметров. Это дало дополнительную причину посмеяться. Местные назвали их «калакутасами», то есть по-литовски «индюками». Новой игрой городских мальчишек стало выкрикивать это слово и пускаться наутек.
Происходили также некоторые более серьезные стычки между литовскими полицейскими и горожанами. Но все же мир оставался «нормальным». Это значило, что жизнь в городе изменилась очень мало, кроме появления беженцев из центральной Польши. В моей личной жизни осталась та же школа с тем же преподаванием на иврите. По-литовски никто говорить не стал, для большинства виленчан это был чужой язык. Органы литовского правительства даже не перебазировались тогда в Вильно – в город, о котором так мечтали литовские патриоты. Президент Литвы Сметана так и не приехал с официальным визитом в свою новую столицу.
В летние каникулы 1940 года воздух вдруг наполнился гулом советских самолетов. Над дачей, на которой мы находились, самолеты летели в сторону Порубанка – виленского аэродрома. Радио сообщило, что по просьбе населения советская армия вошла в Литву. Мы спешно вернулись с каникул. Помнится немногое, но остается в памяти первая вещь, которую я увидел, когда мы въехали в город. Это был красочный плакат, на котором огромная мускулистая рука сжимала глотку гадюки. На гадюке было написано «капитализм», а на руке – «пролетариат». Наши предприятия были национализированы на третий день прихода новой власти. Наша квартира была национализирована также – для нужд новоприехавших чиновников. Мы перешли в квартиру поменьше, но нас выкинули и оттуда, и тогда мы переехали жить в предместье. Моя школа резко изменилась, прекратилось преподавание на иврите как на несуществующем языке – «мелкобуржуазном измышлении сионистов». Это было начало учебного года, и я пошел в польскую школу предместья, где мы теперь проживали. Не ожидалось особых трудностей с продолжением моего образования, так как я свободно говорил на польском – моем первом языке общения. Мне было девять.
В первый день в новой школе меня сильно избил очень крупный парень из второгодников – старше меня на несколько лет. Бил и кричал: «Жидовская сволочь!» Я отбивался, но он этого даже не заметил – уж очень разные были весовые категории. Домой я вернулся с окровавленным лицом. Отец спросил, что произошло. Я ему рассказал о моем первом дне учебы. Он отреагировал: «Идем к директору школы». Их разговор происходил при мне. Директор сказал отцу: «Я очень сожалею, но, по правде говоря, я не смогу защитить вашего сына, как и не могу обещать, что это все не будет повторяться». С тем мы вернулись домой.
Родители обсуждали, что делать с моей учебой. Решили, что придется переводить меня в сугубо еврейскую школу, а это значило – в школу, где преподают на идиш. Такие школы существовали в Вильно, но на сравнительно далеком расстоянии от нашего нового места проживания. Хуже было с самим языком. В определенной мере я понимал идиш, но не писал и не читал на нем. Научных понятий на идиш я не знал вовсе.
Родители наняли одного из «беженцев» извне Вильно, который взялся доучивать меня идиш. Я должен был ежедневно выучивать определенное количество слов. Когда это удавалось, я получал от своего учителя интересную почтовую марку – я их собирал. Идиш мне давался с трудом – в основном из‑за чувства, что меня заставляют его учить. В школе я часто «срывался», отвечая по-польски даже на уроках, посвященных языку и литературе на идиш. Учителя говорили на это что-то в духе: «Ответ хорош, но повтори его на идиш». Мне это давалось трудно. С другой стороны, со мной произошла метаморфоза: в школе Тарбут с обучением на иврите я учился отменно плохо, несмотря на все усилия матери, которая нанимала мне все новых репетиторов. Сказывалось, по-видимому, то, что мой отец был почетным президентом школы и я чувствовал, что никто не посмеет меня из нее выгнать. Теперь, в новых и трудных обстоятельствах и на малознакомом мне языке, я одним махом стал одним из лучших учеников.
В моем классе новой школы оказались несколько учеников из моей бывшей школы. Они быстро «растворились» в новом мире. Я оказался менее «удобоваримым» и более заметным – сын в недавнем прошлом влиятельной семьи. Ученикам новой школы объяснили к тому времени, что в мире происходит классовая борьба, а также что новые власти теперь хозяева жизни, потому что при помощи Красной армии они победили в этой борьбе и из «ничего» стали «всем» (как в тексте «Интернационала»). А я стал «элементом» классовой борьбы. Среди ребят классовая борьба понималась, конечно, по-особому – выражали ее кулаками.
Я хорошо помню поучительный случай. На меня наскочил парень, который был крупнее меня, но я его все же отдубасил – во мне злости было больше. В этом возрасте злость часто важнее, чем физическая сила. Дело было на перемене, и после того, как я его отколотил, он отбежал подальше и закричал: «Буржуй! Буржуй!» На что я ему ответил польской пословицей: «Gde byla woda, tam woda będzie» («Где была вода, там она потечет опять»). На следующий день моего отца вызвали в школу, и директор сказал ему: «Мы с уважением относимся к вашей семье, но то, что вытворяет ваш сын, – совершенно невозможно. Вы сядете, и он сядет, а школу могут закрыть: он ведь угрожал концом современной власти». Отец прочитал мне тогда первую в моей жизни лекцию о классовом мышлении и политическом понимании действительности. Дальше я говорил меньше, но бил жестче.
Как бывшего «буржуя», отца не принимали ни на какую профессиональную работу. Работать было надо, и биржей труда его послали в местную бригаду каменщиков. После того как он проработал там неделю, его бригадир сказал ему: «Слушай, каменщик из тебя все равно не получится, а я не очень умею писать отчеты. Пиши за меня – и будем считать тебя каменщиком». Мама пошла на курсы кройки и шитья – надо было готовиться к новой жизни. Так продолжалось до 14 июня 1941 года – даты, которая запомнилась мне четко.
Утром меня разбудила мама, за ее спиной маячил силуэт высокого человека с винтовкой. Это было странно – штык винтовки был чужим: у польской армии штык выглядел как нож, а у советской это был трехгранник. Это и был первый знак того, что все изменилось. Мама сказала: «Нас высылают. Одевайся быстро». В доме было четверо чужих: двое солдат, двое в штатском. Я спросил, куда мы все едем. Она ответила: «Не все. Отца высылают в другое место».
Много лет спустя я встретился в Лондоне со знакомым нашей семьи. В свое время его жена и моя мама учились вместе в Виленском университете. Под польской властью муж ее был подпольным комсомольцем. С приходом в город Красной армии он оказался среди тех, кто составлял списки для высылки «буржуазных элементов». После этого он прошел разные пертурбации, оказался в Лондоне, где к моему приезду туда работал журналистом в еврейской газете.
Он рассказал, как составлялись списки на высылку. Это происходило на собрании, где была указана цель: очистить город от враждебных элементов. Телефонные линии отрезали, и была поставлена стража, чтобы никто из присутствующих не мог предупредить знакомых. Моя семья попала в список по двум признакам: как буржуазная и как сионистская. Чтобы быть высланным, хватало, конечно, и одной такой причины. Третью, и наиболее ужасную, характеристику отца новые власти не открыли, иначе это стало бы расстрельным делом. В 1917 году отец был членом молодежной организации эсеров Петербургского университета и даже одним из тех, кто во время Февральской революции ходил со своей группой в армейские полки уговаривать их «перейти на сторону народа». Новые власти понимали, что в мире еврейских семейных связей у каждого комсомольца могли найтись родственники или друзья, которых он может предупредить. Поэтому всех держали под замком до утра, когда начались аресты. Руководители групп НКВД, арестовывавшие нас, были присланы из России.
Нам дали время до конца дня на сборы. Я помогал матери – принеси то, помоги с другим. Под ногами кружила моя сестра Алинка (Алия – имя и одновременно основная идея сионизма: возвращение евреев в Палестину). Ей было четыре, и она явно радовалась новому развлечению – солдатам. Она была лучезарным ребенком, очень любила нравиться. Арестовывавшие в штатском явно скучали и развлекались общением с ней: красивый ребенок, голубые глаза, светлые волосы и яркая улыбка. Решили ее спасти. Добрые намерения, которыми, как известно, выстлана дорога в ад.
Я помню, как мать и отец принимали решение. Отец рассказал, что его отозвали господа в штатском и сказали ему: «Вы уезжаете далеко. Мы вам не скажем куда, но место будет трудное, погибнет ваша девчонка. Если у вас есть на кого ее оставить – мы этого не заметим. Ее нет в списках, в них только взрослые». Отец говорил, что надо оставить Алинку, мама не соглашалась. Это был единственный случай из припоминаемых мной, когда мой отец пересилил мать – она была самым сильным человеком в семье. Отец сказал, что для ребенка это вопрос жизни и смерти, – и этот аргумент решил дело.
Меня послали за дедушкой, отцом моей матери. Что-то странное происходило в городе: по улицам сновали грузовики с вооруженной стражей. Деда не было дома, но я его нашел у Тани – старшей сестры матери. Их высылали тоже, хотя ее муж был всего-навсего главбухом фирмы. Я привел деда с собой в наш дом. Алинке объяснили, что пока она поживет с ним. Это ей очень понравилось, деда она любила. Веселая, смеясь, она отправилась с ним на его квартиру. Помню, как они уходили вдоль улицы. Она держала деда за руку, подтанцовывала и, болтая, смотрела на него снизу вверх. Это был последний раз, когда я их обоих видел.
После этого посадили отца и нас в отдельные грузовики и отправили в разные эшелоны, которые немедленно двинулись в путь. В этом эшелоне мы ехали около трех недель. Примерно через неделю мы увидели через решетки окошка лозунг: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Это была война. Эшелон шел на север, но его развернули, и он пошел на восток. Первоначально нас явно высылали в Коми – тогдашнее главное направление ссылок, – но сменили планы, так как война начиналась также с Финляндией. Я помню, как взрослые спорили несколько дней, с кем война – с японцами или с немцами. Наконец мы увидели в окошко лозунг: «Смерть немецким оккупантам», и все стало ясно. Все мы сильно испугались, ведь теперь Вильно был в двух шагах от границы. Наши опасения оказались верными. Когда мы прибыли на место, прошли еще две недели, а немцы, заняв Вильно и Минск, двигались по дороге к Смоленску.
4. Советский мир
Тюремный эшелон привез нас, маму и меня, в Алтайский край, на гористый Дальний Восток, где встречаются Россия, Монголия, Казахстан и Китай. Поезд состоял из вагонов-теплушек для армейских перевозок, названных еще в Первую мировую войну «40 людей – 8 лошадей». Для человеческого «карго» закладывались четыре полки – две с каждой стороны центральных дверей, на каждой спали плечом к плечу до десяти человек. В пути нас «опекала» четко сорганизованная полицейская структура. Чувствовалась отработанность тюремных перевозок годами практики – этим путем возили арестантов на Восток и на Север. На станциях были спеццентры, где выдавалась пища арестантам. Когда наш поезд прибывал на такую станцию, солдаты охраны шагали вдоль эшелона, выкрикивая: «Один человек – два ведра! Один человек – два ведра!» Из каждого вагона выпрыгивал мужчина, взять ведро супа и ведро каши или же ведро кипятка и ведро той же каши – мы делили это на всех. В первом случае это был обед, во втором – ужин.
В памяти остались до сих пор монотонные выкрики: «Один человек – два ведра! Один человек – два ведра!» – бесконечно повторяющиеся. В течение трех недель наш вагон превратился во вполне дружелюбное сообщество людей, которые в прошлом мире не встретились бы почти никогда лицом к лицу. Это были еврейские купцы и врачи, польские таможенники и журналисты, семьи польских офицеров. Меня, как самого младшего в вагоне, опекали или даже баловали. Из-за этого я получил место на верхних нарах у зарешеченного окна, где было больше воздуха и можно было видеть станции, которые мы проезжали. Жизнь арестантов продолжалась однообразно, но иногда западали в память единичные явления, как бы «фотокарточки» (snapshots).
Однажды ночью я проснулся, когда передо мной двигалась такая картина. Это был пустой русский полустанок, освещенный одной лампой. Дул холодный ветер. На перроне стояла одинокая женщина в старом полушубке, с покрытой деревенским платком головой и очень усталым лицом. Вагоны очень медленно проходили перед ней, давая возможность хорошо видеть ее лицо, а она широким жестом крестила вагон за вагоном. Она явно знала, куда идут такие эшелоны, и делала для людей в них единственное, что могла, – благословляя их на Голгофу. Я атеист, но ее никогда не забуду. Спасибо! Спаси Бог!
В конечном счете нас выгрузили в Алтайском крае, в городе Рубцовске. Для начала местное начальство не смогло разобраться, что с нами делать. Война, по-видимому, спутала многое в их распорядке. В конце концов разобрались, вследствие чего большой, толстый и в кожанке начальник районного НКВД влез на стол, поставленный прямо на перроне. Вокруг него встали несколько его людей, на удивление схожих с ним лицом и одеждой: очень красные лица, много жира и чувство, что все они только что встали с постели после пьяной ночи. Начальник сказал речь: «Вы, быть может, думаете, что вы здесь на день, на месяц, на год? Ошибаетесь! Вы здесь на всю жизнь и сдохнете здесь!» После этого он неуклюже слез со стола, и нас расфасовали по машинам и разослали по селам. Примерно двадцать пять человек из нашего эшелона, включая маму и меня, попали в село Большая Шелковка Рубцовского района.
Когда советская армия принесла в Вильно новую власть, для нас очень многое изменилось: нас выгнали из квартиры, отец ушел в чернорабочие, мама пошла учиться шить, а я нашел себя в школе, где языком преподавания был идиш, который я только частично понимал. Несмотря на все это, вокруг нас оставался Вильно, определяя ощущение, что мы все же дома. Вильно защищал меня от чувства, что мир распался. Мир не распался, просто в него пришли «Советы» – так мы называли чиновников и солдат НКВД. Мы говорили: «Два Совета пришли вместе с тремя евреями и четырьмя холопами („холоп“ – крестьянин в наших краях)». Это все было странно, но можно было с этим жить и выжить. Вильно давал силы удержать то, что было, а я оставался тем же Теодором, который знал, что «где текла вода, там она потечет опять». В моем Вильно никто не мог мне указывать, кто я. Я такой, какой я есть, – это было моим сокровенным самоощущением.
Новый мир – советский – начался в Сибири. Там все было по-другому. Сама Сибирь была абсолютно иной, чем все то, чем я жил до тех пор. Новый мир начался для меня в минуту, когда мы сошли с поезда. Из-за беспорядка на станции мы обрели на короткий срок относительную свободу. Начальство приказало кормиться самим, и так продолжалось несколько дней. После эшелона и выкриков: «Один человек – два ведра» – я вдруг ощутил себя странно свободным. Нас даже не сторожили – до ближайшей границы были тысячи километров.
Я пошел с матерью в местную столовую, которая осталась в памяти как новая точка отсчета изменений мира. Столовая была типичной для сибирских станций-городков того времени, где женщины в грязной одежде подавали пищу, или, чтобы быть точнее, бросали ее в нашу сторону. В центре столовой висело огромное объявление «Не курить», а под ним уселся директор столовой, очень толстый, советского типа чиновника, с папироской в руках, дым от которой поднимался вверх и вверх, к этому объявлению. Все это выражало изменение мира и в этом смысле было не менее важным, чем начальник местного НКВД, влезший на стол, чтобы сказать нам, что мы «сдохнем здесь».
Дальше нас перевезли грузовиками в село Большая Шелковка. Нас поселили, хотя и это слишком сильно сказано – просто приказали нам самим найти место, где жить, и договариваться о плате с хозяевами местных домов. В селе жили примерно четыреста человек. Половина из нас сняла в складчину два пустующих дома – один принадлежал в прошлом мужику, убитому во время коллективизации, второй был имуществом пары ярых комсомольцев, работавших на телеграфе Рубцовска. Они прибыли в то же время, что и мы, чтобы продать дом, так как оба уходили на фронт добровольцами. Наших мужчин послали работать на лесоповале в десятке километров от нас.
Маму назначили закройщицей в женскую артель – пригодились виленские курсы и то, что мама говорила по-русски. Она стала теперь практически руководителем пошивочной артели. Зато она совсем не умела готовить. Мы жили на вареной картошке, которую сдабривали грибами и «закваской», которая оставалась от обезжиренного молока, сквашенного на местном молочном заводе (масло шло в спецмагазины куда-то в город или дальше). Мама хотела, чтобы я пошел в школу, в особенности чтобы подучить русский, но, как спецпереселенца, меня в школу не пустили. Мой русский все же начал улучшаться, когда я подружился с местными мальчишками – хотя мама шутила, что вместо этого все мальчишки села заговорили бегло по-польски. У меня появился близкий друг Стасик, сын бухгалтера местного колхоза. В наших играх мы часто становились капитанами морских кораблей. За тысячи километров от ближайшего моря я стал, таким образом, моряком и капитаном.
От села в памяти остались широкие, еще не распаханные сибирские степи. Это было и впрямь море – море травы без конца и края, необыкновенно пахучее. Настоящего моря я, конечно, никогда не видел, но знал по литературе, что оно прекрасно. Я думал об этом и часто уходил сам в степь помечтать. Мечтал о том, как, повзрослев, убегу. Планировал это по-взрослому, с картой в руках. Понимал уже тогда, что уходить надо будет не к железнодорожной станции, на которую пошлют сообщение о побеге, но к китайской границе, где поймать меня будет труднее. И для этого надо подождать лет до 16, когда окрепну и смогу справиться с этой задачей.
Моим главным наставником по жизни стал дед Фрол (я позже узнал, что это было не имя, а укороченная фамилия Фролов). Это был крепкий старик, которого в селе побаивались, всегда помня, что у него четыре сына: один в армии, один во флоте, один в милиции и один – в тюрьме. Дед Фрол хорошо знал, что не все можно говорить свободно, так как «донесут». Со мной, как с чужаком и ребенком, он мог говорить о многом. Рассказывал, что «все науки прошел, служа в армиях четырех войн» (до сих пор сомневаюсь в этом списке: конечно, японская, мировая и Гражданская, но откуда он взял четвертую? Неужели воевал также в Хиве?). Сокровенной мыслью Фрола было – и я запомнил это дословно, хотя не все понял, – что «две революции прошли, третья нужна, чтобы всю эту трудовую интеллигенцию – под ноготь»). До сих пор твердо помню из его поучений правильное определение титулов офицеров имперской армии: «Ваше благородие – лейтенант, ваше высокоблагородие – майор, ваше высокопревосходительство – генерал, ваша светлость – князь». И что, когда появляются люди в мундирах, надо помалкивать и смотреть в оба.
Ответственным за спецпереселенцев был некий Овсянников. Он был «доверенным лицом» НКВД и членом местной ячейки коммунистической партии, состоявшей из него самого, председателя колхоза и директора школы. Он смотрел всегда вниз, из-под фуражки с козырьком, прикрывавшей глаза. Соседи уверяли, что он был членом Комбеда (Комитет бедноты – орган советской власти, созданный в 1918 году для управления крестьянством), а позже, во время раскулачивания, застрелил хозяина дома, в котором мы жили. Село его боялось и ненавидело. Первая шутка, которую мы услышали там, была о том, что Овсянников ежедневно получает газету «Правда» и читает ее вверх ногами, так как остался полуграмотным, но считает важным показывать «образованность». Шутки шутками, но он явно издевался над многими из соседей, хотя нас, «поляков», предпочитал обходить стороной, нюхом чуя, что иностранцы могут отплатить за обиду.
Мы все чувствовали, что что-то происходит в большом мире, но никто не знал, что в точности. Радио в центре села передавало о потере разных городов советской армией, немцы явно двигались вперед. Раз за разом доходили названия новых фронтов, где шли бои. Каждый раз это было ближе к Москве. К времени, когда мы сошли с эшелона, появился Смоленский фронт, а позже, когда мы были уже в Большой Шелковке, Можайский фронт – предместье Москвы. Тогда я услышал от местной бабы: «А Сталин теперь сидит и плачет, сидит и плачет», – помню до сих пор злую улыбку на ее лице.
В начале войны советское правительство спешно предложило договор о дружбе и взаимопомощи с Великобританией. Черчилль ответил «да», но с условием, что Советский Союз признает правительство в изгнании, возглавляемое Сикорским, и договор о дружбе и взаимопомощи между советским и польским правительствами будет вскоре подписан. В Англии еще не забыли, что война с Германией была объявлена ими в 1939 году из‑за немецкой атаки на Польшу. Правительство Сикорского заявило, что готово подписать этот договор при условии, что все «бывшие польские» граждане будут освобождены из советского заключения. Этот договор был подписан 30 июля 1941 года.
Вскоре к нам заявился чин районного НКВД и официально сообщил, что нас освобождают из спецпоселения. Для оформления документов мы должны были сказать, куда хотим ехать. Мы не имели права въезжать в столичные города СССР, то есть «города первой категории», но в остальном должны были выбрать сами место нашего будущего пребывания.
«Бывшие польские», то есть спецпереселенцы нашего села, собрались, чтобы решать вопрос, куда ехать. В своем выборе мы разделились на две этнические, примерно равные части. Почти что все поляки решили остаться на месте: зачем двигаться в неизвестность? Все евреи решили уходить в теплые края, потому что близилась зима, а у нас не было теплой одежды, как и своей посаженной картошки, на которой местное население планировало выживать зимой. Меня командировали найти у местных мальчишек учебник по географии Советского Союза, и все уселись с ним, чтобы найти название города, куда мы собираемся ехать. Остановились на Самарканде, в основном потому, что в свое время на польском языке вышла книга о Гражданской войне в СССР, в которой герой ездил за хлебом в Ташкент («Ташкент – город хлебный»). Самого Ташкента мы не могли выбрать – это была республиканская столица. В списке узбекских городов следующим по величине стоял Самарканд.
Уезжавшим выдали соответствующие документы. Мы продали остатки вещей, привезенных из дома, и сняли вагон у начальства рубцовской железнодорожной станции. Наш вагон прицепили к поезду, который шел по Турксибу на юг. На наше место в Большую Шелковку начали прибывать немцы, которых массово выселяли в Сибирь после нескольких столетий жизни на Волге. Во многих сибирских селах их появление оказалось позже спасительным – они были привычны к самоорганизации и систематическому труду, не жалели себя, когда стоял вопрос существования их семейств. Десятилетиями позже я вернулся в этот район посмотреть на места своего спецпереселения и нашел прямую корреляцию «густоты» немецких фамилий в населении с эффективностью развития сел и районов.
На юг нас поехало семнадцать человек. Мы ехали в пустоту – никого в Самарканде не знали. В Чимкенте к нашему поезду подошли двое мужчин. Это были «наши», то есть евреи и виленчане, они спросили, сможем ли мы их забрать с собой до Самарканда, откуда они ездили, чтобы обменять вещи на продукты. Мы сказали «да», и они поднялись в наш вагон. Под стук колес начались взаимные расспросы: кто вы, где были арестованы и т. д. Дойдя наконец до моей матери, они опознали ее по фамилии: «Вы мадам Зайдшнур, бывшая Юшуньская?» Когда мы доехали до Самарканда, они сказали: «Мы уходим в город, но пришлем к вам знакомых виленчан» – и с этим ушли. К концу дня появились члены семьи Сидлиных, которые знали нашу семью, пусть только «шапочно». Они предложили с ходу: «Идите к нам, сможете у нас переночевать», и мы прошли с ними от железнодорожной станции до Старого города Самарканда. Переночевали у них на полу, а утром они предложили помочь нам найти жилье и объяснили также, что такое есть самаркандская жизнь: чтобы выжить, надо заниматься чем-то доходным, то есть торговать, потому что подходящей оплачиваемой работы нет, а продажей оставшихся вещей долго не протянешь. Они рассказали также, чем занимались сами, и предложили присоединиться к ним. Занимались они перепродажей хлеба, который крали заведующие тремя хлебными магазинами города. Чтобы быть введенным в это доверительное дело, нужно было быть рекомендованным кем-то известным. С рекомендацией Сидлиных мы начали новую жизнь.
Мы осели в Самарканде. Мои глаза увидели необыкновенно красивый и экзотичный город и глубоко впечатлились им. Люди старше меня – включая мою мать, а позже и отца – не очень-то видели все это. Им было не до того: они метались, стараясь добыть минимум еды, их мысли и чувства были завязаны на то, чтобы выжить. Я участвовал в этих усилиях, честно неся свою меру нагрузки, но мир вокруг нас виделся мне по-другому. Помогала выработанная способность отрываться от внешнего мира и уходить в себя. Поэтому я и увидел и запомнил красоту Самарканда. Помню величие Регистана – площади и мечети времен Тамерлана и его наследников. (Тимур, часто именуемый по-русски Тамерланом, был тюрко-монгольским завоевателем и в XIV веке основал империю на территории современного Афганистана, Ирана, Месопотамии, северной Индии и Центральной Азии, столицей которой был Самарканд.) В памяти осталось глубокое чувство интересного и многоцветного, хотя население Старого города, то есть местные узбеки и таджики, были для меня чужими и в основном объектом бесконечных драк.
Коренное население Самарканда объяснялось тогда на таджикском, представляющем собой вариант персидского языка. В городе все более употреблялся узбекский – язык с тюркскими корнями эпохи правления Тамерлана, который приносили с собой выходцы из сел. По-русски говорили в основном работники бюрократических структур, среди которых был очень высок процент этнических русских и татар. Это разделение повторялось территориально: «местное» население жило в Старом городе, там находились таджики, узбеки, а также приехавшие из‑за войны, то есть «эвакуированные». Новый город был русскоговорящим и чиновным, продолжая этим традиции, определившиеся еще в царское время.
В моей личной жизни и среди людей, которые меня окружали, существовали два «мира». Первый был сфокусирован на выживании, в него я входил как будто бы краем – как умный мальчик, на которого можно положиться. Вторым был мир книг, которые я читал, и дум, которые меня одолевали. У меня не было знакомых моего возраста. Существовало также резкое разделение между «нашими», то есть прибывшими из Европы, и «местными». Мир «местных» жил вне связи с «нами», но постепенно у меня начало складываться понимание самих фактов его существования – во многом через рассказы и «байки», которые я слышал в чайханах города.
Примером здесь может послужить оставшаяся в памяти легенда о Биби-ханум. В ней говорилось, что как знак особого доверия эта главная жена Тамерлана перенимала власть над страной всякий раз, когда тот уходил в поход. Они оба соревновались в постройке мечетей – чья получится красивее. Когда Тамерлан ушел в поход на Индию, началась постройка его новой мечети, и параллельно строилась новая мечеть Биби-ханум. Ее мечеть строилась медленно, и она поняла, что здание еще не будет готовым к возвращению мужа. Тогда она попросила персидского архитектора, который руководил работами, закончить спешно, обещая за это «все, чего он захочет». Когда пришли вести о том, что войска Тамерлана возвращаются, как всегда, с победой, архитектор закончил стройку и как плату потребовал право поцеловать Биби-ханум. Жена Тимура не могла разрешить чужому целовать себя – но важнее оказалось то, что ханша не могла не сдержать слова. Архитектор ее поцеловал, и от жара его губ остался ожог на ее лице.
Владетельная пара встретилась, и первый вопрос Тамерлана был об этом ожоге. А так как Биби-ханум не могла лгать, она рассказала, что произошло. Тамерлан немедленно приказал найти и убить архитектора, а тот убежал в мечеть Биби-ханум и начал подниматься все выше и выше по лестнице главной башни. Когда его уже настигала стража, он расправил крылья и улетел в Иран. Потому что все великие архитекторы – дивы и обладают способностью преображения. Развалины этой башни стоят и теперь у ворот главного рынка Старого города.
В реальной жизни, вне легенд, хлеб выдавали «по карточкам», по 300 граммов в одни руки на иждивенцев, по 400 – на служащих и по 500 – на работников тяжелого физического труда. На черном рынке хлеб был в большой цене. Сидлины, наши новые знакомые, ввели нас в сеть, в которой три брата, бывшие спецпереселенцы, были теперь директорами трех магазинов, через которые власти выдавали хлеб. Горожане приносили карточки в магазин, и им выдавали положенное, отрезая каждый раз талон из карточки. Проверки приходили неожиданно и сверяли, сколько хлеба было выдано магазину, сколько передано населению и соответствует ли это все количеству талонов на руках у директора магазина. По правилам отрезанные талоны сжигались, писался протокол, и комиссия переходила к следующей проверке. Но талонов, конечно, не сжигали: их продавали обратно тем, кто их сдал, для дальнейшей перепродажи в тот магазин, в котором проверка еще не прошла.
Задачей, мамы и моей, то есть нашим звеном в цепочке, обеспечивающим наше проживание, было вынести ворованный хлеб из магазина, не попав в руки милиции. Мы входили в магазин, клали карточки на стол и громко заявляли: «Нам столько и столько хлеба на пять дней». Обслуживавшие нас делали движения, будто бы обрезали наши карточки, и выдавали нам хлеб. Далее я брал его и уходил в большой парк по соседству. Там появлялся молодой человек, который начинал шагать рядом со мной. Мы продолжали идти, беседуя, но уже он с хлебом, а я – без. Как результат, мы не голодали. Милицейские патрули гонялись за спекулянтами хлебом, но мы хорошо освоили правила игры. Секрет удачи был в уверенном и спокойном взгляде прямо в глаза милиционеров. Они отбирали потенциальных «клиентов» по испуганным глазам и неуверенному поведению. Ценой работы было, конечно, то, что те, кто попался, перенося нелегальный хлеб, получали стандартные семь лет исправительных лагерей, а их дети могли попасть в государственный детдом для детей преступников.
Мы, то есть мама и я, принимали это все как обычный профессиональный риск. Что это значило, напоминала иногда сама жизнь. В отдельных случаях мы вначале относили вынесенный хлеб домой, чтобы переждать до темноты. Мы подружились в то время с прекрасным парнем из «наших», то есть евреев и виленчан, которого звали, кажется, Шломо и который замечательно пел. С ним мы провели много хороших вечеров в темноте (электричества не было, а свечей не хватало). Мы сидели, ели картошку, сваренную мамой, и слушали его пение. В перерывах Шломо рассказывал о своей любимой – они собирались пожениться в ближайшее время, и он особенно старался заработать побольше, чтобы собрать денег для празднества. Однажды с приходом ночи он поднял на спину мешок хлеба, обменялся с нами шутками и, смеясь, ушел. По пути его взяла милиция. Шломо получил семь лет лагеря строгого режима. У этого рассказа был все же хеппи-энд. Через два года он вышел из тюрьмы по амнистии и смог жениться на своей любимой, которая его дождалась. Мы встретились с ними годами позже в Польше.
Эти игры с милицией давались мне легче, чем взрослым: я выглядел учеником с сумкой учебников на плече, возвращающимся домой из школы. Но в сумке был хлеб. Так продолжалось более года, а наша жизнь шла чередом. Мы продолжали искать отца, но людей из его эшелона нигде не было. Все больше казалось, что все они попали в руки немцев и погибли. Мы еще не столкнулись в то время с фактами массовых убийств тысяч заключенных – катынским вариантом решения социальных и политических вопросов. Думаю, что, если бы даже появились слухи о том, что «наши» расстреливают безоружных людей, мы сочли бы это за грубую антисоветскую пропаганду. Но даже таких слухов не было.
Моя ежедневная деятельность определялась «работой» с хлебом, чтением отчетов Информбюро, которые вывешивались на стенах нашего района и которые я пересказывал всему окружению (все приемники были к этому времени отобраны властями), жизнью, бьющей ключом во дворе дома Иргаша, в котором мы жили, и книгами, которые я читал. Три года я не учился в школе, но все это время читал запоем все, что мог найти: газеты, которые клеили на стенах горсовета, и те немногие книги, которые нашел в районной библиотеке (они были посвящены в основном советскому марксизму и военному делу – все остальное было раскрадено и продано с рук на местных рынках). Знакомые посмеивались, что я мальчик ответственный, но мне нельзя поручить спешную посылку – их в то время упаковывали в старые газеты. Я сдавал их только после того, как «обчитал» досконально всю обертку.
Генеральские споры продолжались на мировом уровне. В Самарканде мало знали про генерала Сикорского. Но местный НКВД начал пристально присматриваться к самаркандским «полякам» всех мастей. Началась организация Союза польских патриотов под советской эгидой. Поэтапно они перехватывали функции «делегатуры» польского правительства в Лондоне и стали в России одним из инструментов создания альтернативной польской армии и новой власти.
Определилась двойственность правительственных и военных структур, считавших себя властями Польши. Армия, созданная в России лондонским правительством на базе договора с Сикорским, была эвакуирована из Советского Союза на Ближний Восток. Новая армия была создана Союзом польских патриотов под командованием «предвоенного» полковника Берлинга и при политическом руководстве Ванды Василевской. Они вскоре отправились на советский Западный фронт, где оказались куда ближе к родине, чем «лондонцы». Со временем они вошли в Польшу как часть советской армии и создали в Люблине основу будущего просоветского правительства, в котором доминировала Польская Рабочая партия (PPR). Она заняла место предвоенной Коммунистической партии Польши, руководство которой было вызвано в Москву и перестреляно советскими карательными органами как «троцкистское» (решение это было признано ошибочным только в 1956 году).
(«Троцкистами» назывались сторонники левой оппозиции Коммунистической партии Советского Союза. В 1924 году, после смерти Ленина, борьба между Сталиным и Львом Троцким за власть привела к бегству последнего из Москвы. После этого все сторонники Троцкого были расстреляны или сосланы в колымские или воркутинские лагеря, где погибли на тяжелых работах. Клеймо «троцкист» стало орудием расправы, потому что вело к партийному и далее физическому преследованию любого неугодного человека. Сам Троцкий по приказу Сталина был убит в Мексике в 1940 году, но оказаться названным троцкистом оставалось опасным до смерти Сталина в 1953 году. И только в 1956‑м, после разоблачения сталинизма Хрущевым, было признано ошибочным решение об уничтожении лидеров и репрессиях возможных сторонников Польской Коммунистической партии, поддержавших Троцкого в 1923 году.)
С уходом из России польской армии Андерса в Самарканде возросло давление НКВД на польских эмигрантов. Началась проверка прописки, то есть формального права на пребывание в Самарканде. Неясным стал статус моей мамы и мой – прописки у нас не было. Чтобы не попасть под удар, надо было спешно убраться с места нашего проживания. Город Самарканд делился на русский и чиновный: Новый город и Старый город, в котором жили «местные», то есть в основном таджики и узбеки, а также многие приезжие, эвакуированные или бежавшие из Европейской России. Там жили и мы. Но была еще и третья часть города, которая не определялась ни как Новый, ни как Старый город. Там в основном оседали новоприбывавшие из местных сел. Чтобы найти место для проживания и притом не засветиться, а, наоборот, оказаться подальше от чиновных глаз, мама и я направились туда. Как и в Старом городе, местом, в котором встречались нерусские жители, – «клубом» и центром посиделок мужчин, – были чайханы. Хозяин одной из них направил нас к Иргашу Каримову, с которым мы с ходу договорились, что сможем снять у него жилье, в той части Самарканда, которая не считалась ни Старым, ни Новым городом. Иргаш забрал нас «домой», где была, кроме его квартиры, маленькая «курная» комната, то есть комната с печью без трубы – дым выходил через окно. Документы наши не интересовали Каримова, что было особенно ценно.
До возвращения отца из лагеря мы жили под защитой Иргаша Каримова и потому несколько лучше других эмигрантов. Иргаш был высокий, усатый, мощный мужчина лет около пятидесяти. Он оказался вожаком криминальной банды, в прошлом басмачом, то есть участником вооруженной борьбы против советской власти. Его банда контролировала наш район.
Теперь частью нашей жизни стали милицейские облавы раз в несколько недель. Это происходило по повторяющемуся сценарию. Сначала мы слышали с крыши свист «смотрящего» банды, и около окон мелькали люди, быстро взбирающиеся на нашу плоскую крышу. С нее был проход на соседские крыши и дальше вдоль всего квартала. В следующие минуты милиционер перескакивал через ворота, открывал их изнутри, и во двор врывалась группа вооруженных людей. Их руководитель стучал к нам и спрашивал, где хозяин, и мы отвечали, что не знаем. Он выражал сильное удивление, так как в комнатах Иргаша горел свет, стояли горячий чай и остатки плова, лежали только что снятые мужские туфли. Мы тоже выражали изумление, и милиционеры с большим шумом удалялись. Через четверть часа являлся сам Иргаш с широкой улыбкой, чтобы спросить, «чего они хотели» и не обидели ли кого-либо из нас. Мы отвечали, что все в порядке, и этим спектакль завершался, чтобы повториться опять через несколько недель. Мы узнали далее, что наша соседка, родственница Иргаша, была замужем за командиром местной милиции, что объясняло все сказанное выше.
Однажды в дверь резко постучали – очередной полицейский рейд, но на этот раз без предупреждения.
Я открыл дверь со своим обычным выражением нахального неповиновения властям – и там стоял мой отец. Растрепанный, костлявый и одетый в лохмотья, но с широкой улыбкой на лице. За этим последовал поток поцелуев и крепких объятий, а также слезы моей обычно стойкой матери. Когда все мы оказались в комнате, отец рухнул в кресло, задыхаясь от эмоций и пытаясь произнести несколько слов объяснения.
Потребовались два дня еды, отдыха, купания в корыте, которое Каримов раскопал для нас, и немного новой одежды, предоставленной им же, чтобы к отцу вернулось некоторое подобие его прежнего облика.
Тогда я пошел с ним показать ему район. Очень скоро какой-то неряшливый тип засунул руку отцу в карман, но, когда я предостерегающе свистнул, отошел от нас. Он же вошел вечером в наш двор и, увидев отца, долго извинялся, повторяя, что не мог знать, что мы живем у Иргаша. Он не отстал, пока отец не согласился выпить с ним в знак примирения. Наше место проживания оказалось прекрасной охранной грамотой.
В течение примерно года дверь в дверь с нами шла жизнь Иргаша и его банды. В его части дома жили около 20 мужчин и несколько молодых женщин, которые готовили пищу и были в коллективном, так сказать, сексуальном пользовании ведущих членов группы. Банда собирала «оброк» с многих в нашем районе.
Я многому научился у Иргаша и его людей. Для начала я бегло заговорил на русском блатном языке, что пригодилось позже. Я сильно расширил свой кругозор, увидев и оценив иерархию и взаимопомощь, действовавшие в банде и определявшие благополучие ее членов. Когда пришла повестка для Иргаша зарегистрироваться для службы в Трудармии (система принудительной трудовой повинности во время войны), он пошел в военкомат и спросил, хотят ли они в своих рядах бывшего басмача (в то время это было, конечно, расстрельным делом). От удивления его отпустили восвояси. После еще нескольких повесток он просто ушел в села высокогорья, где родственники вполне могли защитить его от «неудобств». К этому времени и мы выехали из «курной» избушки Иргаша.
После сильно запоздавшего освобождения из лагеря отец искал нас, как и мы его.
Когда Гитлер нарушил пакт со Сталиным, напав на Советский Союз в июне 1941 года, масса польских заключенных в советских лагерях внезапно превратилась из потенциальных противников в советских союзников. Были открыты лагеря и тюрьмы, что привело к волне освобождений поляков. Среди них оказался и отец, который, как и многие другие, отправился на поиски своей семьи. Он знал, что нас депортировали в Советский Союз, – но куда?
В результате этих поисков он «докатился» в конце концов до города Джалал-Абада в Киргизии. Там он ежедневно ходил к «стене». В центрах польских мигрантов всегда была тогда такая «стена», на которой вывешивались телеграммы вроде: «ищем такого-то…», «находимся в городе таком-то…». Мы часто, но безрезультатно ходили к нашей «стене» в Самарканде. Отец так же подходил к джалал-абадской «стене» ежедневно, но каждый раз там ничего для него не было. В конце концов он отчаялся, так как голодал жестоко, и решил уходить в более хлебные и далекие места, быть может, в колхоз – где нам еще долго не удалось бы его отыскать. Подойдя к «стене» в последний раз, он увидел на ней нашу телеграмму.
Отец спешно выехал в Самарканд и нашел нас в нашей комнатушке. Он приехал полумертвым – его убивала цинга. Это была нехватка витамина С, от которой умирали европейские моряки в долгих плаваниях XVII века, также и в лагерях люди погибали в основном не от голода, а от цинги. Было начало лета, и мы начали интенсивно откармливать отца фруктами.
В этот период мы жили сравнительно неплохо по сравнению с большинством приезжих. Пока мы работали при хлебе, мы не голодали. Отца мы постепенно выходили. Начав приходить в себя, он сообразил, как и на что мы живем, и панически испугался. Сама мысль, что его могут вернуть в лагерь, практически парализовала его. Для меня эта работа с хлебом была в немалой мере игрой, в которой я должен был перехитрить милицию. Но теперь страх отца начал заражать и нас c мамой. Так продолжать дальше было нельзя. Мы прекратили «работу с хлебом» и начали постепенно умирать голодной смертью. Этот процесс начался с меня, так как мне было всего 12 и я быстро рос. Лето кончилось, кончались и фрукты, а к этому времени оказалось, что я страдаю аллергией на лук – традиционное местное средство от цинги: меня рвало, как только в доме появлялся его запах. Как результат, у меня самого начала быстро развиваться жесткая цинга.
Я хорошо помню это время. Я сильно опух (на определенном этапе от голода не худеют, а пухнут), у меня сильно болели ноги. Я часто шагал по улице и вдруг падал. Никто не обращал особого внимания: голодающих в то время было много, а голодный обморок посредине улицы был чем-то обычным. Я падал после сотни-другой шагов, своими силами поднимался и продолжал идти. Я начал покрываться цинготными язвами. Отец выглядел все более как человек недоедающий, но не умирающий, а сам я быстро приближался к тому, как выглядел он, когда прибыл к нам. Глубокие шрамы как памятка этого периода оставались у меня еще много лет.
В разгар моей цинги появилась еще одна неожиданная и спасительная благодать: оказалось, что в драматические времена Самарканда в далекой Индии проходил энергичный сбор ресурсов «в помощь героической Красной армии». Собранные деньги были употреблены для покупки лекарств. Эшелон этих лекарств остановился в Самарканде на пути к фронту. Мама случайно встретила одного говорившего по-польски врача из сопровождавших эшелон, рассказала ему, что у нее сын поражен цингой, на что его ответом было: «Да что вы – какая мелочь!» И врач передал ей двадцать таблеток витамина С, которые я начал принимать ежедневно. На десятый день цинга начала отступать.
Тогда родители решились на радикальный план. Это был deus ex machina в духе древнегреческого театра – действие, меняющее нормальную причинность событий, неожиданное вмешательство богов в ход жизни. Мама с отцом бросили на стол последнюю карту, остававшуюся в их руках. Нашим deus ex machina стал портсигар.
Жизнь Советской России была полна парадоксов. Во время нашего ареста в Вильно те, кто проводил его, забрали и «приобщили к делу» найденный ими массивный золотой портсигар отца. Когда отца освободили из лагеря в Свердловской области, к его величайшему удивлению, ему выдали этот портсигар, который НКВД забрал еще в Вильно. Умирающий от голода и цинги человек довез это богатство до нас. Показать его кому-либо могло стать смертным приговором для владельца – что от милиции, что от бандитов. Родители рискнули и обменяли портсигар на две взятки. Целью первой было получить отцу работу заведующего снабжением на крупном кирпичном заводе. Заведовать снабжением значило тогда, что ты должен был воровать для себя и для директора завода. Вторая взятка, поменьше, пошла на то, чтобы обеспечить мне место в польском детдоме, в котором содержались также дети многих бойцов создающейся под советским началом польской армии. Этот детдом снабжался бесперебойно – самаркандские «власти» понимали, как потенциально опасна была бы ситуация, в которой до фронта начали бы доходить сведения о том, что дети фронтовиков голодают.
Детдомовцы получали ежедневный хлебный паек, к которому в моем случае прибавлялось то, что мне еженедельно приносили из дома. В смысле пищи жить стало легче, но я до сих пор помню тяжелое чувство, что мои родители «сдали» меня в детдом. Я хорошо понимал, что они это сделали, чтобы спасти меня от голода, но это все же было горько.
На новом повороте жизни я не голодал, только сильно недоедал. Цинга остановилась и начала отступать, и я почувствовал себя лучше. В детдоме не хватало многого необходимого, в особенности не было книг. Одним из результатов оказалось то, что я неожиданно открыл в себе способность рассказчика. Это определило для меня новый статус. Вечерами при свете коптилки круг моих товарищей завороженно слушал, как я пересказывал книги, прочитанные в Вильно. Я впервые тогда начал понимать силу слова, заметив, что даже ребята старше меня завидуют моей способности удерживать внимание окружающих. Меня начали выделять также другим способом. Ежедневно детдом получал очень плохо выпеченный хлеб из расчета 300 граммов на каждого из нас. Хлеб приходил буханками, которые надо было «расфасовать». Это создало особую позицию «раздающего». Для этой задачи детдомовцы выбирали ребят, пользующихся особым доверием. Я стал одним из них и относился к этому как к знаку уважения и признанию моей «взрослости» и честности.
Еще один «эксперимент с самим собой», память которого осталась с тех времен. Пустоту детдомовской жизни мы «заполняли» иногда тем, что делились на «армии» и уходили в низкие горы вокруг детдома, где «воевали» группами, то есть дрались на кулаках. То, что мы жили в чисто мальчишеском обществе, в немалой мере определяло характер этих сражений. Вожаков «армий» выбирали, и все чаще я оказывался одним из них. Во время одной из «проверок боем» случилось, что я оказался на узкой полоске меж двух скал – слева стена, справа пропасть, – за мной гналась «враждебная армия». Все замерло, как в театральной драме. Я увидел ухмылки на лицах моих «врагов»: поймать в плен генерала вражеской армии было бы великой победой. Самые крепкие из них придвигались ко мне с обеих сторон. И я прыгнул в пропасть. Как ни странно, не погиб и не сломал ног, так как на лету ударился о выступ, который снизил скорость падения. Заработал почетное прозвище «сумасшедший» и уважение товарищей по детдому. И узнал что-то про себя.
Прошел год невеселой пустоты. Мы не жили, а выживали. В конце этого периода я заболел коклюшем, которого не распознал детдомовский врач. Придя домой с визитом, я сказал маме, что простужен, у меня горло болит, на что не стоит обращать внимания. Но мама спешно повела меня к врачу местной поликлиники, откуда меня уже не выпустили – положили на носилки и отнесли в местную детскую больницу, где только через несколько недель я очухался.
После этого родители решили, что в детдом я не вернусь. Отец к этому времени перешел на работу на крупной стройке Талигулянской ГЭС. Мама создала партнерство с латвийской подругой, которая побывала в молодости в ремесленном училище. Та подучила маму, и они начали производить на дому папиросы, а позже – босоножки. Наше благополучие выросло. В городе создалась тем временем польская школа, в которую меня определили, как только я вернулся из больницы. Я попал в мир, невероятный тем, что были в нем элементы возвращения к предвоенной «нормальности».
Я жил дома и после бесшкольных лет вставал каждое утро, чтобы идти в школу. Меня даже иногда корили за слабые отметки, что после периода «игр» с милицией, дружб с бандитами, краденого хлеба и пустых дней в сиротском доме казалось странным до смешного.
Какими же были, говоря языком Горького, «мои университеты» тех времен? Что я принес-донес с тех времен в школу, возвращение в которую ощущал как чудо?
Я потерял три года учебы, которые теперь надо было наверстывать. Но эти три года не были просто пустыми: я думал, читал и мечтал. Думал, медленно осваивая то бесконечно странное и чужое, что пришлось изведать. Мечтал и строил планы, как вырваться из беды, которая окружала нас. В Сибири я уходил глубоко в степь, где вперемежку с воспоминаниями прошлого и прочитанных книг просчитывал, сколько дней ходьбы отделяет нас от китайской границы. Местом, куда надо добраться, была, конечно, Палестина, где все ужасы моего окружения, все враждебное вокруг меня исчезнут. Эти картины я заимствовал, конечно, из книг и собственных размышлений.
Для начала я перечитал все, что удалось найти. Это были неразворованные книги по военному делу и марксизму-ленинизму в местной библиотеке. Они были непригодны к продаже на рынке. Я прочел их, и, как ни странно, со временем они пригодились. Далее со схожими фанатами чтения мы создали своеобразную «биржу» книг, даваемых на прочтение: то есть за «хорошую» книжку давались две или три менее интересные. Книги солидно возвращались владельцу, без этого вся цепочка не срабатывала бы. Особо запали в память три из них. Это была книга академика Опарина о происхождении жизни на Земле, которая стояла одиноко на полке публичной библиотеки – продать ее не удавалось, была слишком умна. Я прочел ее от корки до корки несколько раз и запомнил те места, через которые «прыгал», когда не мог понять биохимических формул. Я все же понял немало главного. Как результат, я сказал маме, что из моего чтения приходится заключить, что нужно делать выбор меж наукой и религией. Ее это рассмешило: мне было 12 и, разговаривая, мне приходилось еще задирать голову, чтобы посмотреть ей в лицо. Отсмеявшись, она спросила: «А что ты лично собираешься делать с разрешением этого вопроса?» Я ответил, что решил избрать науку, – и с того дня перестал молиться.
Второй многократно перечитанной книгой, определившей для меня то время, была «Крыша мира» Сергея Мстиславского, которая заняла в моей молодости то место, которое занимали для многих из моих «западных» сверстников Джек Лондон, Джозеф Конрад и Генрих Сенкевич. Этой книги не было, конечно, в общем пользовании, но я нашел ее в частной библиотеке наших самаркандских знакомых. Это был мой вход в романтизм в духе XIX века – «приключенчество» и представление о том, каким должен быть «настоящий мужчина».
Третьей из книг, которые были тогда в центре моего внимания, стала «Иудейская война» Лиона Фейхтвангера. В какой-то мере она заняла место учебника по ранней истории еврейского народа и стала дополнением к моему общему политическому образованию. Взгляды писателя я, конечно, проинтерпретировал по-своему, то есть враждебно. Для меня Иосиф Флавий, как и сам Фейхтвангер, представляли типаж характерного предательства «интеллигентами» – ассимилянтами еврейского народа. Я отказывался тогда видеть и разрешать какую-либо двойственность позиций. Эту бескомпромиссность я выразил со всей четкостью в эссе, написанном немного позже в моей польской школе Самарканда на тему «Моя любимая книга». Я резко осудил Иосифа Флавия и «воспел» соревновавшегося с ним Юстаса из Тивериады – человека с меньшим писательским даром, но «несгибаемого», который жестоко поплатился за свои убеждения. Госпожа Гликсманова – наша блестящая учительница литературы и польского языка, еврейка, глубоко ассимилированная в польскую культуру, – невзлюбила мой еврейский националистический «запал» и вызов. В письменном разборе моего сочинения она похвалила слог и поставила самую низкую, невероятную в польской школьной системе оценку: «единицу» – за содержание. Это дало мне возможность показать ранние ростки чувства юмора – вместо того, чтобы обидеться, я рассмеялся от всей души.
5. Школа номер 2
Польская школа была создана в Самарканде Городским отделом народного образования (Гороно) и по инициативе некоторых польскоговорящих «беженцев». Гороно было обязано по закону обеспечить всеобщее и бесплатное образование населению города, оказывая особое внимание «новоэвакуированным», которые должны были (по мере возможности) обучаться на родном языке. Задача была не из простых, и было ясно, что и сами чиновники Гороно не очень верили в ее полное осуществление. Поэтому многое зависело от самих заинтересованных групп. Особенно активными оказались «поляки», то есть бывшие польские граждане, которые прибыли в Самарканд после освобождения из заключения или специальной переселенческой программы, принятой после нападения Германии на Советский Союз в июне 1941 года, а также те, кто бежал с территорий, занятых германскими войсками в 1939 году. Элементом общности этой группы был польский язык, что определило упорное усилие создать польскую школу для обучения молодого поколения и установить важнейший фокус взаимодействия и единства этой группы.
В целях удовлетворения материальных нужд, необходимых для выполнения такого проекта, Гороно нашло и передало группе активистов полуразрушенное здание бывшей узбекской школы № 2 – этот номер и перешел к новосозданной польской школе. Гороно также утвердило смету для покрытия расходов на оплату преподавательского состава школы. Нашлись три профессиональные учительницы-лингвистки: две по польскому языку и одна по русскому. Обучение всему остальному (включая английский язык) переняли «любители», то есть люди без какой-либо педагогической подготовки или доказанного знания дисциплины. Они приходили из смежных профессий, предложив себя на роли преподавателей. Причины этого самоотбора были разными, но в основном это был результат тяжелых условий, как экономических, так и общечеловеческих, в которые попало большинство из них. Физику и математику преподавали инженеры, химию – аптекарь, биологию – медсестра, историю – адвокат с особо широким кругозором и т. д. Со временем нашелся также учитель, готовый преподавать английский язык, который обрел знание его главным образом как турист, в предвоенное время путешествовавший по англосаксонским странам.
Профессиональное педагогическое образование заменяли у наших учителей общая интеллигентность и необыкновенно высокий уровень преданности школе. Преподавателей удерживала в школе не только и не в главном зарплата. Трудности жизни превратили школу для многих учителей и учеников в «точку света» и цивилизованных человеческих отношений, которых так не хватало людям, вырванным войной из привычной им среды образованных средних классов. Вокруг них царило общее недоедание, неуверенность в будущем и предчувствие, что «возможно, будет еще хуже», что нечто страшное может произойти ежеминутно с тобой и твоей семьей. Как учителя, так и ученики жили во враждебном мире чужих людей, чужих цветов, чужих запахов, чужих языков, чужих лиц и чужих одежд. Школа была тем единственным местом, которое они понимали, где они были «своими» и которое были готовы защищать как могли.
Первым делом мы – как ученики, так и учителя – накинулись на полуразрушенное здание. Общими усилиями покрыли крышу, исправили двери и окна, нашли мебель. Мне хорошо помнятся дни, которые я провел перекрывая крышу под порывами ветра и дождем. Через окна здания летели камни и кирпичи: местное население не очень-то жаловало чужаков. Когда становилось невмоготу, парни по команде выбегали из здания и кидались на обидчиков – наши кулаки были последней линией обороны территории. Также мы приносили в школу все, что удавалось найти и чего недоставало: предметы мебели, книги, столярные материалы и даже деньги. Отопления не было, а в Самарканде зимы холодные, и каждую четверть часа учителя поднимали свои классы – мы стучали ногами об пол, чтобы разогреться. Но приходили все и всегда, даже больные.
Внутри классов были четко распределены дополнительные обязанности «консультантов» по математике, физике и т. д. Лучшие ученики помогали доучиваться тем, кто был слабее или же пропустил особенно длинный период учебы. Наши спортсмены вкладывали также много сил в то, чтобы подтянуть отстающих, и, когда на обязательном первомайском параде всех школ мы медленно чеканили шаг под дробь наших барабанов под красным советским, но также польским красно-белым знаменами, нас провожал вдоль улиц уважительный шепот: «Поляки идут!» Школа № 2 стала для нас не просто местом обучения, а школой жизни и самоорганизации, линией обороны того, что было «нашим» в чуждом нам мире.
Во второй год моего пребывания в школе, в седьмом классе нашей десятилетки, меня избрали старостой класса. Я принял «пост» с угрюмым чувством осознания этой ответственности и очень по-взрослому сорганизовал моих одноклассников на действия, нужные школьному коллективу. Это были не только процессы обучения «академическим» дисциплинам. Мы помогали семьям учеников, которым было особенно трудно экономически и психологически. Преподавание происходило на польском языке, что создавало добавочные трудности, так как учебников на нем не было: приходилось на ходу переводить с русского. Мы помогали учителям решать нескончаемые проблемы в условиях нехватки всего и вся – программ, книг, тетрадей и даже ручек. Нашей ведущей учительницей польского языка был наш завуч, пани Гликсманова, которая сыграла особую роль в усилиях справиться с нехваткой учебников. Она была блестящим педагогом, особо ценным в условиях, где учителям часто приходилось излагать устно материал, которого не было в письменном виде и которого негде было достать. Особенностью школы была не только фанатическая преданность учебе большинства из нас, но также «чувство хозяина», с которым мы жили, осознавая особые условия. Это приводило к изменениям отношений внутри коллектива, примером чего была моя стычка с нашей необыкновенной, но ведьмоватой пани Гликсмановой. На одном из уроков она взорвалась из‑за глупости ответа одного из нас и обозвала всех «классом идиотов». Я резко встал, хлопнув крышкой парты, и сказал: «Мы не привыкли, чтобы к нашему классу так обращались. Как староста класса, я прошу вас извиниться». И – незабываемо – наша пани Гликсманова извинилась.
В существующих условиях многие преподаватели создавали свои оригинальные курсы, а в них немало нового – как в тематике, так и в формах обучения. Как результат, такие лекции часто казались свежими и увлекательными. Были учителя, которые с удовольствием экспериментировали, что нас вдохновляло. Нам задавали много работы на дом, и эти задания выполнялись с особо сильной отдачей, часто в полутьме, при нефтяных лампах-коптилках: в большинстве домов Старого города не было электричества. В случае необходимости наши консультанты – лучшие ученики по определенной дисциплине – ходили на дом к тем, кому была нужна репетиторская помощь, подтягивая тех, у кого возникли трудности. Я сам был консультантом по географии и истории, а на следующий год – по алгебре и физике. (Мой личный интерес колебался в то время между физикой и историей.) Хотя это был ранний этап познания, наше консультирование было не только выполнением обязанностей, но иногда реально определяло судьбу. Среди немногих биографий моих соучеников, которые я отследил годами позже, многие продолжили во «взрослой жизни» путь, начатый в школе № 2. Многие также начали читать «серьезную», то есть классическую, литературу, что давало как познание языков (польского и русского), так и немало в общем образовании. В результате трудных переговоров пани Гликсмановой мы уже с седьмого класса (и с особого разрешения) начали посещать областную библиотеку-читальню, открытую только для взрослых и чиновных. Там удержали «предвоенный» состав книг, так как их не выдавали на руки и этим спасли от грабежа.
Мы взрослели еще в одном смысле. Наши девочки становились девушками, в то время как мальчики отставали. Кое у кого из наших одноклассниц появились ухажеры, чаще всего из старших классов. В некоторых случаях (особенно среди воспитанников нового польского детдома, которые приходили к нам учиться) это были первые неуклюжие любовные отношения. Другие одноклассники, еще не вошедшие в пору серьезных сексуальных отношений, присматривались как будто бы со стороны и с удивлением к этому новому цветению подруг по классу.
«Трудности» с «местным населением» продолжались до конца нашего пребывания в Самарканде. Жесткостью отпора мы приучили местных хулиганов не нападать на школу, но все знали, что к концу дня учебы мы пойдем домой, то есть окажемся вне защитных стен нашего здания. Поэтому мы выработали методы самообороны. Когда на пути из школы на нас нападали, мы мигом становились в каре – девочки в середину, мальчики вокруг – и кулаками пробивались к центру города, где было больше света, а также иногда встречались милиционеры, которые могли прекратить драку. Понятие «каре» я усвоил из описания в книге Евгения Тарле о старой гвардии Наполеона, пробивающейся через российские отряды во время знаменитого отступления из Москвы в 1812 году.
В те дни я начал все более определяться «политически». В нашей школе большинство учеников были польскими евреями. Я сам определил себя тогда сионистом («как мой отец»). Эта позиция поддерживала мечты о прекрасной Палестине, где все будет хорошо и мы будем свободны. Это будет наша страна, хотя есть там некоторая проблема – англичане. Их надо будет выбить оттуда, но мы это сделаем, конечно, как только вырвемся из России. О палестинских арабах мы просто не знали – они не вписывались в наше видение Палестины (легко не видеть то, что неудобно видеть). Надо просто держаться в каре и пробиваться через противников к необыкновенной Палестине, где все будет «не так, как здесь».
К чести моего отца надо сказать, что в своем мышлении он был настоящим либералом и пробовал меня довоспитать в этом духе через уроки прикладного реализма. В ответ на мои злые замечания о том, как ужасно все вокруг нас, он говорил такие вещи, как: «А знаешь, у них здесь есть бесплатное медицинское обслуживание». На это я удивлялся: «Почему – здесь?» Он парировал: «В Польше бедные люди не имели бесплатной для них медицины». Он не раз заставлял меня видеть, что Советский Союз не сплошная чернота, и серьезно подходить к предмету размышления. Надо не кричать громкие слова, которые лишь частично понимаешь, а думать, думать, думать – и действовать, как только появится возможность.
Шел 1943 год, мне было почти 13. Приближался Йом-Кипур – самый святой день поста и покаяния для религиозных евреев. В моем классе были дети нескольких глубоко религиозных еврейских семейств. Как староста, я пошел к директрисе школы с просьбой разрешить троим ребятам из моего класса не приходить в школу в праздник. Я объяснил, что, как и большинство моих товарищей-евреев, мы не религиозны и собираемся присутствовать в школе в этот день. Но есть среди нас верующие, которые будут соблюдать пост и хотели бы провести этот день в синагоге. В условиях всеобщего недоедания это особенно трудно, и им лучше быть со своей семьей. На это директриса ответила, что нельзя допустить ситуацию, в которой только некоторые ученики не приходят в школу, – и отказала. Я заспорил: «3 мая, в праздник первой польской Конституции, мы все не учимся, потому что относимся с уважением к польской истории и культуре. Надо также уважать верование евреев». Она осталась тверда: «Мы исключим из школы всех, кто не придет в этот день» (исключат из нашей школы, которую мы своими руками отстроили!). Тогда я сорганизовал забастовку. Бастовали все, не только евреи – я переговорил с вожаком польских учеников, объясняя ему, в чем дело. «Конечно, ты прав, Теодор, – сказал Болек, – в таких делах солидарность обязательна».
В день праздника в наш класс не пришел никто, кроме одного «хорошего мальчика». Он не смог перебороть в себе то, чему его учили дома, – быть послушным ребенком приличных родителей и делать то, что приказано начальством. Разразился скандал. Директриса хотела наказать бунтовщиков, то есть весь наш класс, но в особенности меня, как символ «беспорядка». Но в конце побоялась, что если все это дойдет до Гороно, то руководительнице школы влетит за то, что не справилась с наведением порядка. Тем временем я уговорил класс не избивать «послушного ребенка», подрывавшего забастовку, напомнив, что мальчишка страдает гемофилией, а мы должны вести себя ответственно. Взамен избиения мы проголосовали за то, чтобы пропечатать все его учебники печатью «Предатель», вырезанной одним из нас из резиновой автомобильной покрышки. Скандал вырос до невероятных высот.
На педсовете, который рассматривал дело, наша советская учительница русской литературы – единственная русская среди учителей – заявила, что мы прекрасно сделали: предателей надо наказывать, и из нас вырастут хорошие люди. Учителя раскололись: кто за «порядок», а кто за «надо видеть картину в целом». Победил компромисс, и, так как надо было все же кого-нибудь наказать, меня исключили из школы. Но тогда в Гороно решили, что нельзя исключать ученика в преддверии экзаменов. В конце концов мне просто снизили отметку по поведению. Я принял это как награду: единственная тройка по поведению в истории польской школы № 2! Ученики моего класса хлопали меня по плечу – и переизбрали старостой на следующий год.
Тому, что сегодня зовут «гражданским действием», надо, по-видимому, учиться на практике. Просто объяснить это не дает результатов. Наша забастовка не прошла даром. Несколькими месяцами позже представители старших классов школы просили руководство освободить всех нас за две недели до экзаменов от изучения неэкзаменационных дисциплин. Мы хотели сконцентрировать все силы на подготовке к экзаменам. Это был рациональный запрос, который, несомненно, показывал серьезность нашего отношения к учебе. Ясно, что можно было договориться, но реакцией директрисы было опять жесткое «нет», что превратило спор в конфронтацию. Ответом стала вторая забастовка, на этот раз всей школы. В крупном скандале участвовали педсовет и общее собрание родителей старших классов. Вмешалось опять Гороно, добиваясь «успокоения». Что до меня – я был исключен как «заводила», но мне разрешили сдать экстерном все экзамены за седьмой класс. Это освободило много времени, и я успел поработать как надо, сдав почти все экзамены на «отлично» (кроме троек по поведению и по биологии).
Война была тогда фоном всего и вся. Одним из выражений этого было то, что я ежедневно отправлялся к «стене», где налепливали газеты, и прислушивался к громкоговорителям, чтобы узнать новости с фронта (личные радиоприемники были к этому времени изъяты у всех, у кого нашли). В нашей семье я стал главным читателем и носителем новостей о том, что происходит в мире. В началах войны это были сообщения об отступлениях советской армии. Далее началось движение назад, то есть вперед, к старым границам страны. После Сталинграда немецкую армию выбивали шаг за шагом из оккупированных территорий. Победы четко отмечались публичными приказами Сталина и салютами в Москве.
Многие семьи жили напряженным ожиданием новостей с фронта, в которых главным было личное – новости шли вперемежку с сообщениями о смерти родных, находившихся в рядах армии. Потери были огромными: к концу войны было мало семей, в которых хоть кто-нибудь не погиб бы, а бывали такие, где были убиты все мужчины до одного. Казалось, что череда похоронок – сообщений о смерти на фронте – никогда не кончится. Бедность росла, надежды на скорую победу таяли.
Военные победы не облегчили жизнь населения. Люди нищали, слабели надежды на быструю победу. Ходил анекдот о шофере генерала Жукова – тогда высшего координатора советской армии. По этому рассказу, все окружающие спрашивали шофера, что говорит Жуков о конце войны, и однажды водитель собрался с силами задать этот вопрос вышедшему с ночного заседания Жукову, небритому и усталому. Но перед тем как шофер раскрыл рот, Жуков потянулся и полусонно сказал: «Ох, черт подери, когда же кончится эта война?»
Население недоедало, что было заметно по иссохшим и безжизненным лицам прохожих. Были те, кто умирал с голоду, в особенности в период боев за Сталинград. Люди падали прямо на улицах и часто оставались лежать надолго. На обочинах сидели женщины, а перед ними лежали кучки личных вещей, выставленных на продажу, – домашний скарб, часто вещи тех, на кого пришла похоронка. По улицам двигались группы беспризорников и преступные банды, против которых милиция была явно бессильна. В то же время в городе оставались островки относительного благополучия: это были в основном семьи высоких чинов, офицеров действующей армии и внутренней полиции, партийных бонз, как и другие избранные, в особенности некоторые ученые, имевшие бронь – право не уходить на фронт и получать посылки спецпотребления. Были, конечно, и спекулянты, которых обогащала война.
Те, кто выживал, часто являли собой картину действия неформальной экономики: она в который раз спасала Россию в тяжелые времена. Частью этого были бартер, случайные заработки во многих местах, пайки разного вида, разносторонняя преступная деятельность и семейные сельские связи в колхозах. Без всего этого многим не удалось бы дотянуть.
Странным манером и я в то время обогатился. В дни, когда хлеб по карточкам не доходил до районного магазина и мне нельзя было дать с собой в школу обычного бутерброда, мама давала мне 10 рублей, чтобы купить по пути пшеничную лепешку. Эти деньги я сберегал на покупку книг по дешевке у женщин, сидевших вдоль улиц. Книги эти я старательно отбирал. Таким образом, я потихоньку собрал небольшую, но интересную личную библиотечку. Когда пришло время уезжать из Самарканда, мама распорядилась бросить все эти книги, чтобы оставить в чемоданах место для нашей зимней одежды. Годами позже, уже в Польше, она извинилась передо мной, сказав, что ошиблась, – оказалось, что единственной ценной вещью в доме были мои книги. Так во время переезда пропала моя первая библиотека. После это повторялось не раз.
Советская армия продолжала сражаться и, дойдя до границ, начала движение вовне, на территории, в прошлом не принадлежавшие Советскому Союзу. Американская и британская авиация наносили все более жесткие удары по Германии. Далее появился второй фронт, западные союзники высадились во Франции и, переборов немецкое сопротивление, двинулись вперед, к границам самой Германии. Тем временем усилия немецких элит убить Гитлера кончились неудачей и жестокой расправой гестапо. Время шло, а немецкая армия продолжала сражаться. Мы ждали конца войны, когда советские войска и войска западных союзников вошли с разных сторон в оккупированную немцами Европу, – но немцы продолжали сражаться. Мы ждали этого, когда антинацистские силы подошли к границам Германии, – но немцы продолжали сражаться. Мы ждали этого, когда советская армия ворвалась в Берлин, – но немцы продолжали сражаться. Было чувство, что это никогда не кончится.
1 мая 1945 года я был в Самарканде, по радио объявили о самоубийстве Гитлера накануне. Далее объявили дату подписания безоговорочной капитуляции немецкой армии. 8 мая 1945 года, когда это произошло, я стоял на площади в толпе, слушавшей громкоговорители, которые сообщали о подписании документа о капитуляции Германии маршалами Жуковым и Кейтелем. Молчание толпы было осязаемым. Оно длилось и длилось, пока какая-то женщина не закричала: «Чего вы не радуетесь? Ведь война кончилась!» Толпа продолжала молчать, и она повернулась к соседу: «Ты, старик, почему не радуешься?» – а он громко и горько расплакался.
Так для меня кончилась Вторая мировая война.
Вскоре после возвращения отца и по мере окончания войны жизнь нашей семьи нормализовалась. Драматические для меня события в школе успокоились. Отец и мама работали, и мы не голодали более, только недоедали. Но в один из дней отец вернулся домой с работы с лицом, которое напомнило мне дни его прибытия из лагеря, изможденным и загнанным. После долгого молчания он рассказал, что произошло ужасное: его вызвали в НКВД! Всполошилась вся контора Талигулянской ГЭС, где он работал. Реакция на телефонный звонок «оттуда» была схожей у всех – это был страх и глубокое чувство беззащитности. Директором стройки отца был тогда Абрамов, который сам в свое время отсидел несколько лет, но, как говорили, был освобожден из тюрьмы, когда на одном из партийных съездов Сталин спросил узбекскую делегацию: «А где тот маленький еврей, с которым я говорил в последний раз?» – и им пришлось признать, что «маленький еврей» в тюрьме за «контрреволюционную деятельность». Сталин буркнул: «Чепуха!» – после чего Абрамова спешно выпустили, «отмыли», вернули партийный билет и прибавили зарплату – такие были времена. Абрамов доказал тогда свое бесстрашие, защищая работников Талигулянской ГЭС, в особенности татар, которых в то время массово сослали из Крыма в наш район (депортация целых народов была характерна для 1930‑х и 1940‑х). Отец рассказывал, что татары массово вымирали, по всей видимости от шока, несмотря на то что Абрамов сделал все, чтобы облегчить их участь. Абрамов ходил в старых штанах и порванных ботинках, но упрямо продолжал защищать своих работников от властей всякого рода. Звонок «оттуда» был очевидной причиной для беспокойства.
Оказалось, что отец был вызван не по личному делу, а для дачи свидетельских показаний по «делу» его знакомого. Это был Меир Гроссман – когда-то известный варшавский журналист, считавшийся там крайне левым, близким к подпольной коммунистической партии. От наступления немцев на Польшу 1939 года он бежал на восток, был арестован советской властью, вошедшей в Польшу согласно пакту Молотова–Риббентропа, разделившему Польшу между СССР и нацистской Германией и уничтожившему польское государство, и был сослан на север, в спецпоселение в Коми. После своего освобождения как «бывшего польского» он приехал в Самарканд. К тому времени он вполне перековался из друга коммунистов в очень гневного антикоммуниста. Следователь, вызвавший отца, сказал ему, что НКВД известно о подпольной организации «поляков», включавшей Гроссмана, который находится теперь под арестом. С отца потребовали сообщить НКВД об его контрреволюционной деятельности.
Отец и впрямь встречался с Гроссманом, чтобы поиграть в шахматы и поговорить о разном. Бывало, что и я ходил с отцом на эти встречи послушать умный разговор старших и посмотреть на игру. По рассказу отца, он вначале ответил следователю, что не помнит никаких контрреволюционных высказываний со стороны Гроссмана. После безрезультатной для следователя встречи тот выдал отцу пропуск на выход из здания НКВД, но на прощание добавил: «Ну что ж, на этот раз мы вас отпускаем, но подумайте серьезно о будущем вашем и вашей семьи и возвращайтесь через неделю. На всякий случай принесите с собой постельное белье». Эти встречи повторялись, и наконец следователь спросил опять: «Вы все еще не припомнили никаких контрреволюционных высказываний Гроссмана?» И скомандовал: «Ввести заключенного Гроссмана». Появился Гроссман, исхудалый, небритый и с бегающим взглядом. Следователь рявкнул на него: «Подтверждаете ли вы протокол, подписанный вами, о вашей контрреволюционной деятельности?» – и Гроссман промямлил: «Подтверждаю». Тогда следователь повернулся к отцу и спросил: «А теперь вспомнили?» – на что получил нужный ему ответ.
Стало ясно как отцу, так и нам, что в НКВД «шьют дело» о заговоре бывших польских граждан против советской власти. Это явно пригодилось бы для «карьерного роста» следователей. В семье Гроссмана мы также узнали, что все началось с ареста его свояка за кражу кожи на местном заводе, где тот работал. Ему предложили выбор: сесть на несколько лет или же назвать других виновных в контрреволюционной пропаганде среди выходцев из Польши. Он выбрал второе и начал называть все имена, которые помнил, включая даже нескольких из его собственных родственников – также моего отца.
Была объявлена дата процесса, в котором отцу была отведена роль свидетеля, а Гроссману – роль виновного. Процесс проходил в закрытом режиме. Я сидел на лестнице у входа в суд, ожидая отца или же (что было вполне возможно) объявления об его аресте в зале суда. Когда отец вышел, его рассказ из первых рук прозвучал почти что невероятно. Адвокатом Гроссмана была назначена молодая женщина, которую отец называл в наших разговорах «комсомолкой». Этим он подчеркивал ее молодость, а также явную преданность делу коммунистической партии и горячую веру в советский строй. Когда показания Гроссмана были прочитаны и судья приказал ему подтвердить их устно («Подпись ваша?!»), она встала, повернулась к Гроссману и резко сказала: «А теперь говорите вы». Он молчал. Тогда она стукнула перед его лицом кулаком по столу: «Я вам говорю, говорите!» – и он сказал: «Все ложь. Меня били». Начался невероятный бедлам. Прокурор орал во всю глотку: «Я требую не вносить этого в протокол!» Адвокат отвечала на высоких тонах: «Я требую внести это в протокол! Вы не сможете этого не включить! Вы что, законов не знаете?» Судьи чуть ли не спрятались под стол, испугавшись происходящего – ведь и им могло влететь за такой поворот процесса. Кончилось тем, что председатель суда промямлил, что они откладывают продолжение суда до новой даты, а до тех пор арестованный остается под стражей. Свидетелей, как и моего отца, отпустили, и он вышел, потрясенный увиденным и услышанным.
Суд был отложен, но Гроссмана все же не выпустили. Как говорилось тогда в СССР: «Человек есть – дело будет». Его осудили вне судебной процедуры решением «тройки» (органы для оперативного уничтожения «антисоветских элементов», действовавшие в СССР с августа 1937 по ноябрь 1938 года и состоявшие из трех человек – начальника, секретаря обкома и прокурора: отсюда и название «тройка») на три года тюрьмы за то, что двумя годами раньше он пробовал бежать из спецпоселения. Его освободили по амнистии годами позже.
Нам было ясно, что отца надо немедленно убрать из Самарканда: он слишком много слышал и видел на этом процессе. К этому времени, в начале 1945 года, Вильно был уже опять в советских руках, и мы знали, что оттуда свободный выезд в Польшу для его уроженцев. Для поездки в Вильно из Самарканда требовалось особое разрешение, но тут помогли неформальные связи матери. К этому времени, после производства сигарет и сандалий, она перешла на пошив платьев дамам «высшего света». Это были в основном жены профессоров медицины Ленинградского университета, которых эвакуировали в Самарканд. Мама им явно очень нравилась. Я часто видел этих клиенток и удивлялся не раз как красоте их русского языка и обходительности, так и их необыкновенной избалованности, несмотря на тяжелые условия, в которых жили почти все. Это была моя первая встреча с женщинами элиты страны, как и первый взгляд на их быт.
Среди клиенток мамы была дама, не принадлежавшая к ленинградской медицинской элите, но относившаяся к местным властным структурам – чиновничеству самаркандского НКВД. Ее фамилия была Хрущева, и нам намекали, что она сестра Никиты Хрущева – в то время первого секретаря украинской компартии, а после смерти Сталина неограниченного властителя Советской России (до сих пор не знаю, было ли это правдой). Когда мама попросила ее раздобыть для отца разрешение уехать в Вильно, она получила ответ: «Рада буду помочь». Мы еще раз собрали или одолжили все возможные деньги, чтобы отправить отца подальше – в Вильно. Он уехал и на многие месяцы исчез – ни слуху ни духу. Мы опасались худшего.
Далее мы переехали жить в Новый город, что дало нам важное преимущество в виде наличия постоянного электрического света, который очень помогал мне в учебе.
В один из дней я за столом делал уроки, когда в нашу дверь на первом этаже вошел советский солдат. Он выглядел до того стереотипно, что было трудно даже запомнить его с ходу. Гимнастерка, ушанка со звездой, вещмешок, бритое лицо, а в руках деревянный ящик, который в те времена носили многие солдаты. Он внимательно осмотрел комнату, а далее перевел взгляд на меня. Спросил на очень хорошем русском языке: «Могу ли видеть мадам Зайдшнур?» Я вздрогнул от слова «мадам» от советского солдата. Ответил: «Мамы нет, но вскоре она придет. Хотите ее подождать?» Он сказал «да», я предложил ему чай, и он уселся с газеткой ждать. Когда мама пришла, он начал с вопроса: «Знаете ли вы почерк вашего мужа?» Она ответила «да», и он вытащил из сапога отцовское письмо. Коротко вдохнув, мама села читать. В письме ей предлагалось довериться подателю этого послания и тому, что он расскажет. Солдат назвался Иегудой и рассказал, что отец находится в Польше, в городе Лодзь, куда доехал через Вильно. Он также сказал, что отец предлагает и нам ехать в Вильно, а оттуда продолжить путь к нему в Польшу. Иегуда просил разрешения переночевать у нас, «если это вам не помешает», и мать разрешила ему занять угол на полу, принесла одеяла.
Назавтра наш гость сказал нам, что ему нужно будет остаться в Самарканде на несколько дней, и попросился ночевать у нас это время. Он продолжил: «Вы мне не доверяете, конечно, письмо отца могло писаться под диктовку НКВД. Но без готовности к риску ничего нельзя делать». Позже, в день перед отъездом, он рассказал, что приехал, чтобы освободить «нескольких товарищей», которые находятся в тюрьме. Иегуда мне очень понравился, он был человеком, быстро вызывающим доверие. Очень спокойные лицо и глаза, немногословность при явной быстроте мышления и особая улыбка, по которой я его помнил и распознавал позже. Эта улыбка появлялась в особенности тогда, когда он отмалчивался от вопросов, на которые не собирался отвечать. На более позднем этапе он сказал, что покажет что-то, что может смягчить наше недоверие. Попросил топорик и легко, одним ударом выбил дно своего чемодана. Вытащил льняной мешок с золотыми десятирублевками царской чеканки, сказал, что за освобождение товарищей из тюрьмы придется расплачиваться золотом.
Иегуда оставался у нас и впрямь несколько дней, в течение которых выезжал раза два из города. Я помогал ему по мелочам, разносил сообщения в духе: «Тот-то и тот-то передают, что дети выросли» или же «Такой-то заболел». В конце своего пребывания Иегуда сказал, что, когда приедем в Вильно, мы должны найти местного раввина и тот направит нас далее. Он также взял из нашего альбома небольшую семейную фотографию и нарисовал на ее обороте что-то непонятное, велев передать это раввину. Он дал нам также денежную сумму, достаточную для того, чтобы оплатить нашу поездку в Вильно. Мы распрощались, он улыбнулся этой своей особой улыбкой и исчез.
Мы получили разрешение на поездку, собрались и выехали. В Москве мы задержались на несколько часов в ожидании следующего поезда. В эти часы я видел военную Москву. Город выглядел спокойно, но в течение полусуток наши документы проверяли трижды. Поскользнувшись на льду мостовой, я упал и заполучил трещину кисти руки. Об этой трещине я сам узнал только позже, когда доехали до Вильно и до рентгена. Было очень больно, но я продержался, сильно сжав зубы. Боль в этой кисти возвращается и теперь в холодные дни как воспоминание о дороге в Вильно.
Мы приехали в Вильно и с ходу начали поиски раввина, который должен был дать нам дальнейшую «связь», но не смогли его найти. Нам говорили, что он уехал, но скоро вернется, и т. д. После пары недель мы начали понимать, что что-то тут не так – нам просто не хотят ответить. Мы сами искали Иегуду, но не смогли найти и его. Далее прошел слух (слухами жил весь город), что при переходе через границу взяли более ста человек литовских сионистов и их уже осудили на стандартный срок в семь лет. (В то время польским евреям было проще уехать, чем литовским: Советский Союз аннексировал Литву, и литовским евреям была закрыта дорога за границу.) Связь этого события с исчезновением раввина стала ясной, и мы прекратили все контакты. К тому времени мама нашла в уцелевшем архиве Вильнюсского университета документы, где было указано, что она польская гражданка. Это оказалось достаточно, и ей, как и мне, были выданы бумаги для репатриации в Польшу.
В Вильно мы сняли комнату в еврейской семье, которая создалась после того, как город был взят советской армией и польскими партизанами. Они недавно поженились, и их истории были страшны, но типичны.
Они не знали друг друга перед освобождением города от немцев. Муж долго прятался после уничтожения виленского гетто. Когда советская армия и партизаны ворвались в город, а на улицах шел бой, его случайно поймали немецкие солдаты. Трое из них отвели его на площадь перед ратушей и приказали рыть себе могилу. Потом дали ему сигарету, и он уселся с ногами в свою могилу и закурил. Они стояли над ним, болтая по-немецки. Он вдруг увидел или ему показалось, что двое из них смотрят в другую сторону, а третий подмигнул ему. Он решил: «Что же я теряю?» – вскочил и побежал к воротам. В старом Вильно было немало добавочных ворот вокруг площадей, за которыми были огороды и проходы на следующую улицу, – такими задворками можно было далеко пройти. Он пробежал через ворота, и минутой позже очереди автоматов разбили их вдребезги. Но в него не попали.
Далее он нашел один из штабов советских войск, атаковавших город. На него смотрели с удивлением и недоверием: «Кто ты?» Он сказал: «Я еврей» – и на это получил ответ: «Если так, почему ты жив?» – и далее: «Не мешай!» Его оттеснили. Какое-то время он стоял там, не зная, что делать. Потом к нему подошел один из офицеров штаба и сказал ему на хорошем литвацком идиш: «Убирайся отсюда к черту, а то тебя пристрелят». Он ушел и прятался еще несколько дней, пока не кончился бой.
У жены была своя история. В гетто она была с первым мужем и тремя детьми. Их взяли и погнали на Понары – в пригород, где проходили массовые расстрелы, всего там погибли около 75 тысяч жертв, большей частью евреев, но также поляков и пленных русских. Семью расстреляли, но женщина упала в глубокий ров с легким ранением. После обморока открыла глаза. Около нее лежали убитые дети и муж – тем, кто достреливали раненых, показалось, что и она мертва. Ночью она вылезла из коллективного гроба и, как была в одной ночной рубашке, испачканной кровью своих близких, пошла обратно в виленское гетто. Услышав это, я сказал: «Ты с ума сошла? Вернуться в гетто во время расстрелов?» На это она мне холодно ответила: «А куда мне было идти? Что еще мне было делать?» При окончательной ликвидации гетто, которая произошла вскоре, она попала в женский лагерь в Латвии, где шили униформы для немецкой армии. После освобождения опять вернулась в свой город. Встретилась с новым мужем. Они поженились. Когда я с ними познакомился, их главный семейный доход шел от продажи подержанной мебели – ее много осталось после погибших. Мне было 15, и мне тем более сложно было понять, как сохраняются здравый ум и воля к жизни после того, как много часов пролежишь в могиле со своей семьей.
От мужа этой пары я получил урок немалой важности – о том, что раньше не было для меня очевидным. Меня окружали руины любимого мною города, могилы большой части моей семьи и всего, что я годами хранил в душе как «родной дом». Я был сионистом, и у меня не было никаких сомнений в том, что все евреи должны делать, переживая Холокост. В этом духе я и спросил мужа из приютившей и нас пары: «Когда вы уезжаете в Польшу?» Он ответил: «А что мне делать в Польше?» Моей реакцией было: «В Польше-то делать нечего, но из Польши можно ехать дальше». – «А куда мне ехать дальше?» На что я резко ответил: «В Палестину!» На это он сказал: «Еврей, который побывал под еврейским начальством в гетто, не захочет никогда жить снова под евреями». Для сиониста услышать такое от человека, вернувшегося из ада, казалось невероятным. Это был урок, которого не забывают. При всей моей «предвзятости» я, по-видимому, уже тогда умел прислушиваться к вещам, не вписывающимся в мою картину мира. Это помогло в будущем.
Мама не была готова двигаться далее, не узнав, что произошло с дедом и Алинкой. Все последние годы ссылки в Сибири и потом в Самарканде вопрос судьбы ее дочери и отца незримо присутствовал в нашем доме. Никто не смел говорить об этом вслух. Никто не мог забыть о нем. У матери теплилась надежда, что блондинистую, голубоглазую, хорошо говорящую по-польски Алинку спасли. Это было возможным, были бы добрая воля, добрые люди и удача. Их не оказалось.
Мы нашли информацию о семье у прислуги деда, что они переходили в конце 1941 года в глубь гетто. Там терялись следы и деда, и Алинки. В доме бывшей дедовой служанки была «малина» – особо обустроенное место, где во время массовых арестов прятались евреи. Немцы и их еврейская полиция («юденполицаи») поэтапно «выкуривали» людей из таких мест. В результате дальнейших поисков мы нашли людей, которые видели, как группу пойманных евреев гнали от дома служанки деда в сторону Понар – места расстрелов. Те, кто нам об этом рассказывал, среди этих людей распознали деда. С тяжелым сердцем, исчерпав варианты поиска, мы решили двигаться дальше и на базе документов материнского университета выехали в Лодзь.
Добавочным неоконченным делом был Иегуда. Мы были сильно обеспокоены тем, что произошло с ним. Выехав из Самарканда, он исчез, и мы думали, что он может нуждаться в помощи. Добравшись до Лодзи, мы немедленно вышли при помощи отца на политическую организацию, к которой Иегуда принадлежал. К нам явились двое мужчин, очень молчаливых и спокойных, как он сам, и расспросили нас досконально обо всем, что мы знали про его планы. Мы, конечно, ничего не знали. В конце разговора они сказали, что в ближайшие дни их люди выедут на поиски.
После нескольких дней раздался стук в дверь нашей квартиры в Лодзи. Вошел Иегуда, улыбнулся этой своей теплой непроницаемой улыбкой и рассказал, что он демобилизовался из советской армии и, услышав об арестах на границах, залег на дно, прервал все связи. Далее на оставшиеся золотые монеты купил документы на другую фамилию и стал, согласно им, цыганом, который спешит в Польшу, чтобы догнать свой табор. Таким образом он только что добрался до Лодзи.
Мы так и не узнали, кем на самом деле был Иегуда, откуда он пришел, было ли то, что он нам рассказал, правдой или нет и что в конечном счете с ним стало. Но в истории Иегуды заложен опыт миллионов перемещенных лиц, которым пришлось прибегнуть к перемене личности – и, возможно, преступности – в поисках новой жизни и семейных связей, реальных или вымышленных, посреди руин старой Европы.
6. Польша в гражданской войне
Мы прибыли с мамой в Лодзь в феврале 1946 года. Многое там было еще «довоенным» – улицы, дома, еда, люди. Во время войны Лодзь была мощным центром текстильных заводов, принадлежавших немцам и работавших на армию. Город остался относительно не тронутым бомбежками союзных войск. Одно изменилось: исчезло все еврейское население. Варшава, предвоенная столица Польши, была разгромлена во время антинемецкого восстания, и в 1945 году Лодзь превратилась во временную столицу польского государства.
Отец встретил нас у поезда из Вильно, и мы с ходу попали в очень дорогой фешенебельный ресторан, явно слишком прекрасный для моих тогдашних предпочтений. Я недоедал четыре года, а это значило постоянное чувство нехватки еды, даже когда желудок полон. Теперь за каждым стулом стоял официант. Когда я положил на минуту нож и вилку, чтобы передохнуть – я не мог есть так много и так быстро, – чужая лапа протянулась над моим плечом и убрала мою тарелку. Мне инстинктивно захотелось его ударить, я реагировал как собака, у которой отбирают кость. А официант просто поставил передо мной следующую тарелку, наполненную прекрасной едой.
Родители говорили беспрерывно о том, что происходило с ними в течение последнего года. Вспомнив обо мне, отец повернулся и сказал: «Тодик (это было мое семейное имя), мы опять живем нормально. Если чего-нибудь хочешь, ты скажи». Прозвучало как: «Хочешь мотоцикл? Или другую дорогую игрушку?» Я явно удивил его, спросив: «Движение легально?» Он ответил: «Да, легально». «Если так, хорошо, своди меня туда». Он сказал: «Передохни и освойся, через несколько дней я тебя возьму в местное отделение Движения». Я ответил: «Нет, завтра!» – «Ну, хорошо, завтра».
Так я оказался в местном отделении Ха-Ноар Ха-Циони («Сионистская молодежь» на иврите) – молодежном движении, воссозданном сионистской партией, в которой состоял мой отец, действовавшей под названием Ха-Ихуд («Объединенные» на иврите). Клуб, где проходили партийные встречи, размещался в подвале крупного здания. На стенах висели фотографии Палестины, а в зале прыгали и танцевали ребята, распевая песни на иврите. Позже мои новые друзья описали мне, как я виделся им в то время. Я стоял в защитной позе спиной к стене в маминой шубе и ушанке, чуб на глаза, и молча смотрел вокруг. Очень угрюмо. Меня не трогали: было, по-видимому, всем ясно, что ко мне не надо подходить. Ребята не понимали одного: как для меня невероятно все это было и что я набычился, потому что мне очень хотелось плакать. А мальчикам не разрешается плакать.
Это был четверг. А днем позже был Кабалат Шабат – праздник встречи субботы, который в сионистских молодежных движениях отмечали особо, собираясь вместе и веселясь. Мне сказали, где эта встреча произойдет завтра. Я прибыл туда в указанное время. Войдя в типичный для Лодзи узкий проход меж высоких домов, я услышал: «Руки вверх!» – и пара винтовочных дул уткнулась мне в лицо. Пришлось поднять руки. Они ощупали меня, и кто-то бросил: «Не вооружен». Меня спросили: «Кто ты?» – я ответил: «Меня пригласили на „Кабалат Шабат“». – «Откуда взялся? Мы тебя не знаем». – «Я новый член Движения». – «Кого из нас знаешь?» Я назвал имя Луцека, которого встретил днем раньше. Его вызвали, и он подтвердил, что я «свой». Я спросил: «Кто вы? Почему вы так „на взводе“?» – и получил ответ: «Мы – самооборона, поднимайся на следующий этаж, там поймешь».
Я поднялся на следующий этаж. Там стояли четыре открытых гроба – трое мальчишек примерно моего возраста, быть может, немного старше, и девушка. Я спросил: «Что произошло?» Мне рассказали, что они ехали к чешской границе (это был один из наших путей: через Чехословакию в Германию, дальше в Италию или Францию – и наконец подпольно в Палестину). В лесу их автобус задержали члены NSZ (Национальные вооруженные силы). Потребовали всем сойти с автобуса, там были девять человек, и приказали: «Коммунисты и евреи – шаг вперед». Там было четверо «наших». Сионистские чувства не позволили им не шагнуть вперед – ведь для наших активистов тех дней важнейшим казалось не скрывать, наконец, своего еврейства. Их расстреляли. Тела только что привезли.
В воскресенье с ними прощались – хоронили на местном еврейском кладбище. Там собрались около двух тысяч человек, евреев и неевреев – по тем временам очень много. Говорили по-польски. Первым выступил полковник польской политической полиции (UB): «Это враги ваши, как и наши. Этих бандитов мы со временем уничтожим. Продолжается борьба». После этого выступил председатель Еврейской общины и плаксивым голосом объяснил, какие мы несчастные, нас столько погибло, но нас продолжают убивать и после ухода немцев, какая это несправедливость, мы просим государственной защиты и т. д. Мне очень хотелось ударить его по лицу хотя бы для того, чтобы прекратить звук его голоса, который выводил меня из себя. После этого шагнул вперед один из товарищей тех, кто погиб. Он сказал: «Вы слышали только что, что мы просим пощады и защиты правительства. Это ложь! Мы не просим никакой защиты у польского правительства. Мы не хотим иметь ничего общего с польским правительством. Ничего общего с польским народом. Мы хотим одного – уйти из этой проклятой страны. А уходя из нее, мы ей желаем, чтобы она горела так, как горели наши люди, и чтобы ее жены и дети гибли так, как гибли наши жены и дети. Это единственная вещь, которой мы ей желаем». Его немедленно спрятали за спины друзей, ведь по польским законам это было криминально наказуемое преступление против чести республики. На следующий день его перебросили через границу – подальше.
