Вышивка по ворованной ткани бесплатное чтение
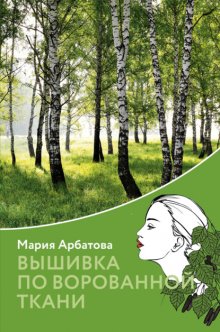
Посвящается Олегу Вите
Никогда не жалуйся на время, ибо ты для того и рождён, чтобы сделать его лучше.
Иван Ильин
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Арбатова М., текст, 2021
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2021
Часть первая
Вышивка по ворованной ткани
Перед 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 7 ноября и Новым годом мать покрывала клеёнку на столе льняной скатертью, расшитой райскими птицами, и выводила на открытках дефицитной шариковой ручкой: «Паздравляю от всего сердца и всей нашей дружнай семьи». Скатерть была из ворованной с фабрики ткани, но вышивала мать так, что вся Каменоломная улица умирала от зависти.
Это было единственным предназначением скатерти, поскольку гостей у Алексеевых не бывало. Но маленькой Вале казалось, что, когда мать пишет открытки, мрачная комната наполняется светящимся воздухом праздника, смехом и звоном тарелок, а райские птицы со скатерти разносят открытки адресатам в своих маленьких алых клювах.
Когда исполнилось одиннадцать, Валя спросила:
– Ма, зачем ты им пишешь? Ты ж их на работе видишь!
– Так у нас, кроме них, никого, – ответила мать.
– А бабушка Поля?
– Буду я на неграмотную свекруху открытку тратить? – буркнула мать.
И Валя подумала, больно ты грамотная, за такую открытку в школе бы влепили двойку. Мать приехала из дальней деревни Прялкино, где родни не осталось. В первый класс пошла после войны, и больше времени проводила на огороде и скотном дворе, чем за учебниками.
Отец родился в ближней деревне Берёзовая Роща, где в большом доме с резными наличниками жила бабушка Поля. Учился хорошо, писал грамотно, знал наизусть стихи Есенина, но это ему вовсе не помогло.
Значимыми объектами городка, где встретились мать с отцом и появилась на свет Валя Алексеева, были ткацкая фабрика и щебёночный завод. На щебёночном заводе с адским грохотом размалывали грубые камни, а на ткацкой фабрике в мягком монотонном гуле собирали из ниток ткани с богатым рисунком.
Эти единство и борьба противоположностей городка настойчиво подсказывали маленькой Вале, что мужчины в принципе связаны с разрушением, грязью и насилием, а женщины с созиданием, чистотой и порядком.
Валина мать работала на фабрике в сказочном старинном здании из красного кирпича, а отца давно погнали с завода за пьянку, и он подтаскивал ящики к магазинчику, подсоблял в мелких конторках, возвращался пьяным и безобразничал.
Алексеевы жили в бараке на двенадцать комнат, матери как ткачихе-ударнице обещали квартиру, но очередь топталась на месте, а квартиры давали по блату. В барак на улице Каменоломная, по-местному «на Каменоломке», вело покосившееся крыльцо, за ним сени с тусклой лампочкой, от сеней в обе стороны коридорчики – каждый на шесть комнат. В каждой комнате по семье.
В четырнадцати метрах, принадлежащих Алексеевым, тесно стояли печечка с чугунной плитой сверху, буфет с цветными стёклышками в дверцах, никелированная кровать с горкой подушек, маленький Валин диванчик, шифоньер, круглый стол и старинный сундук из материного приданого. У двери железный умывальник, под ним тумбочка с ведром.
Пока отец и Валя спали, мать успевала растопить печечку и приготовить завтрак: жареную картоху, залитую яйцами, кашу с сосисками или тонкие кружевные блины. А в выходные чистила печечку, намочив золу, так, чтоб в комнате не осело ни одной угольной пылинки.
Уборная находилась во дворе, туда стояла очередь, зато она была «полутёплой» – одной стеной примыкала к дому. По дороге к ней зимой надо было отбиваться от закостеневших на морозе постиранных вещей и постельного белья.
Рубашки нападали на детей вместе с ветром, лупили по лицу рукавами, хрустящие простыни и пододеяльники сбивали с ног. Но всё равно это было легче, чем в школе, где уличная уборная обмерзала так, что приходилось терпеть все уроки.
На гвоздик домашней полутёплой уборной были нанизаны аккуратно нарезанные газетные прямоугольники. Газеты родители не читали, но фабричный профком заставлял их выписывать. И в выходные мать с хрустом нарезала и раскладывала их в стопки: на сортир, на обёртки и на синяки.
Туалетную бумагу Валя впервые увидела восемнадцатилетней девушкой и тогда же осознала прямое назначение газет. Позже услышала по телевизору, что в СССР много рака прямой кишки, потому что люди экономят на туалетной бумаге. Но туалетной бумаги в городке не было ни в магазинах, ни у спекулянтов.
А намыленными хозяйственным мылом газетами «на синяки» Валя оклеивала материно тело, излупцованное отцом, – так бабы с Каменоломки лечили синяки и гематомы. А потом, как учила бабушка Поля, клала на травмированное место руки, пропускала через них солнечный свет, и боль уходила.
– Вся в бабку Полю, чистая колдовка! – восхищалась мать, а утром перед работой приговаривала: – Баба не квашня, встала да пошла.
– Ма, зачем он нам нужен? – спрашивала Валя, когда они с матерью волокли на кровать отвратительно храпящего отца, погромившего комнату и надававшего им тумаков.
– Без мужа жена кругом сирота, – машинально отвечала мать, ловко подстилая под мужа оранжевую аптечную клеёнку.
Под утро он начинал к ней лезть, и Валя с омерзением наблюдала это советское порно в щёлочку из-под одеяла.
– Зачем ты опять ему дала? – строго спрашивала она мать днём.
– Сыночку рожу, заступником вырастет, да на четверых квартиру дадут. Бабы показывали в журнале квартиру с кухней. Шкафы белые, как в больнице, плита на газу! Расти, доча, в Москву поедешь, будет у тебя такая кухня!
– Не надо нам сыночку, – мотала головой Валя. – Вырасту, сама заступлюсь.
Перспектива появления братика означала, что она, как соседские девчонки, станет нянькой вместо делания уроков и прогулок.
– Ма, а давай сбежим от него к бабе Поле в Берёзовую Рощу! – предлагала Валя.
– У свекрухи не спрячешься. Она ж болтает, что из-за меня пьёт.
– А сядем в поезд, уедем и спрячемся, чтоб не нашёл, – настаивала Валя и представляла, как они заживут вдвоём в маленьком домике, посадят возле него берёзки и заведут лохматую собаку.
– Так он без нас пропадёт, – откликалась мать, потирая ушибленное мужем плечо.
После отцовых дебошей Валя не могла уснуть, сидела на уроках угрюмая, отсутствующая, словно спала с открытыми глазами, и учительница окликала её:
– Алексеева, проснись! Ты ночами что делаешь? На метле летаешь?
И класс хохотал, потому что Валю звали ведьмой с Каменоломки, хотя уважали и боялись. Ведь она умела снять руками хоть головную боль, хоть боль в животе при месячных. Не понимала, как это делает, но и не понимала, почему этого не умеют другие.
Бабушка Поля учила её на каникулах:
– Гляди, Валюшка, внутрь человека, где болит, там тёмное пятно. Как пятно нашла, покрестись, да пропускай сквозь него луч, пока не посветлеет да не позолотится!
Валя, конечно, не крестилась, но луч пропускала запросто.
Тумбочку, шифоньер и табуретки в барачной комнате Алексеевых по трезвому делу смастерил отец. А необыкновенные занавески, скатерти и покрывала вышила мать, но как ни старалась приукрасить комнату, всё здесь казалось серым и больным.
– Плохо живёте, Валюшку губите! Отдай в Берёзовую Рощу, сама выращу, – просила бабушка Поля.
– Куда ж её от родных родителев? – качала головой мать.
И Валя понимала, матери просто страшно с отцом одной и нужен «живой укор». Утром за завтраком отец боялся смотреть в Валину сторону, но вечером всё повторялось по новой.
Бабы выносили с фабрики ткань, а мужики щебёнку, которой латали жалобный фундамент барака. Кучи щебёнки высились по дворам Каменоломки, мальчишки кидались ею, а девчонки выкладывали из неё на утоптанной глине узоры. Валя в этом не участвовала, щебёнка казалась ей грязной и похоронной, ею была выложена насыпь у старого кладбища.
Валя была равнодушна и к школьной эстетике: не заплетала косу цветными атласными лентами, не носила после уроков самодельные колечки из цветной проволоки, не просила побыстрее проколоть уши, не надевала яркие пластмассовые заколки и ободки. И никогда не кокетничала с мальчишками.
Зимой вода в трубах уличной колонки замерзала «на кость», и мужики оттаивали её, ставили рядом вёдра и разводили в них костры. Дети радовались и скакали вокруг огня, ведь им было строго-настрого запрещено прикасаться к спичкам – пожар считался самой страшной бедой.
Печки топились зимой так, что стены высыхали до звона, и бараки вспыхивали от любой искры. Люди едва успевали выпрыгнуть и выбросить в окна что-то из пожитков. Соседка, продавщица Клавка, твердила, коли собака воет книзу – к покойнику, кверху – к пожару. И Валя изо всех сил прислушивалась по ночам к собакам.
Бабушка Поля считала, что, если вокруг пожара стать по углам с иконами, огонь остановится, но мать на это смеялась. А документы на случай пожара держала в старой сумке поближе к двери и инструктировала Валю, как хватать со стены фотографии в фанерных рамочках, с которых смотрели суровые лица её покойной родни.
– Мор, доча, по нашей линии, – вздыхала мать. – В Прялкино церкву ломали, батя опоры уволок, сарай справил. И как пошло, как поехало… Сам на вилы напоролся, маманя от жабы померла, брат Витюша спился, младшая Катя утопла. Одна я от смерти в город сбежала!
Курить в бараках Каменоломки запрещалось, мужики выходили для этого на крылечко, а заодно спорили, перекрикивая друг друга, о каких-то нерудных ископаемых, бутовом камне, фракциях щебня и вскрышных отходах.
Иногда дальний сосед, бывший моряк Наумыч, садился в коридоре поиграть на балалайке, жильцы подтягивались с табуретками и пели хором. Потом другой сосед, заводской мастер Кузейкин, привёз из города проигрыватель и две большие чёрные пластинки – Муслима Магомаева и Майи Кристалинской.
А когда у продавщицы Клавки появился телевизор «КВН» с линзой, началась новая эра. Телевизор стал для Вали окном в красивую справедливую жизнь. И ей ужасно хотелось разбить линзу и экран, нырнуть в «КВН» и вынырнуть на «Голубом огоньке» среди улыбающихся нарядных мужчин и женщин за столиками, оставив за собой дырку и ошмётки стекла.
Правда, там, среди абсолютно счастливых людей, она бы скучала по бабушке Поле и её большому надёжному дому в Берёзовой Роще. Скучала бы по огромному саду, по лохматой дворняге Дашке, по козе Правде, по кошке Василисе и даже по гусям.
Бабушка Поля была неграмотной, а партийный сосед, фронтовик Ефим, выписывал газету «Правда». Он заходил, скрипя костылём, хлюпая галошами и хрустя свежей газетой, садился на крылечке и «делал политинформацию».
– Брехать не цепом мотать, – отмахивалась бабушка Поля.
– Брехней много, «Правда» одна, – обижался Ефим. – Слушай сюда про Хрущёва.
– Больно надо, твой Хрущёв мне все яблони погубил, – она не могла простить хрущёвского указа, увеличившего сталинский налог на плодовые деревья. – Какая была грушовка, антоновка, белый налив, жёлтый аркад? Жри теперь, Фимка, пироги не с яблоками, а с правдой своей!
– Сельскохозяйственной политики страны, Полина, не понимаешь, – оборонялся Ефим. – Тебе Никита Сергеич пачпорт скоро выдаст!
– И чё теперь с им делать? Поди, и без пачпорта на кладбище снесут!
Она вставала руки в боки и голосила частушку:
- – Вышла б замуж за Хрущёва,
- да боюся одного,
- говорят, что вместо…
- кукуруза у него!
– Не ори, дура! Тебя посодят и меня за недоносительство! – стращал Ефим.
– А мамка Хрущёва любит, – сказала как-то подросшая Валя бабушке. – Он ей два выходных дал.
– То в городе выходные-проходные, у нас-то всегда работа, – напомнила бабушка. – В моё-то время матеря на третий день опосля родов хлеба месили, да печь топили. А коли лето, в поле с дитём, потом им живот срывало, да золотник опускался!
– Где у них золотник?
– Кузовок, где дитя в животе.
– Бабушка, это называется матка, – поправляла образованная соседскими девчонками Валя.
– Да хоть матка, хоть батька! Все ко мне шли!
Лечиться к ней ходили со всех окрестных деревень. Сосед Ефим вернулся с войны доходягой, боролись с его чахоткой грамотные врачи в госпитале, да без толку. Таял на глазах так, что жена договорилась втихаря с колхозным плотником про гроб. Но бабушка Поля упрямо топила на печке берёзовые почки в свином несолёном сале и заставляла Ефима мазать это на хлеб. И ведь выправился!
По праздникам накрывали стол в горнице или у Ефима, шутили, смеялись, выпивали. И бабушка Поля после пары рюмок облепиховой настойки затягивала красивым низким голосом любимую песню:
- Напилася я пьяна,
- Не дойду я до дому…
- Довела меня тропка дальняя
- До вишнёвого сада.
- Там кукушка кукует,
- Моё сердце волнует.
- Ты скажи-ка мне, расскажи-ка мне,
- Где мой милый ночует…
Бабушка была высокая, статная, одевалась строго, но умела выглядеть нарядной. В праздники белый воротничок её блузки перекликался с седой косой, заколотой на затылке, а в будни коса пряталась под платком. Козу Белку бабушка, подсмеиваясь над Ефимом, перекрестила в Правду. И стоило ему зайти с политинформацией, демонстративно звала козу:
– Правда, Правда, Правда! Где ж ты, окаянная? Все-то коз на мясо порубали, а я за Правду Никитке налог плачу!
На самом деле козу она не зарубила, чтоб поить Валю козьим молоком. Ведь у бабушки Поли тоже не было никого, кроме внучки и её непутёвого отца. Кто на войне погиб, кто ушёл по болезни.
Валина мать так и не родила сыночку, беременела каждые полгода, но скидывала и скидывала, теряя уйму крови и сил. А через много лет Валя услышала, что работницы ткацких цехов и стюардессы из-за вибрации рабочего помещения страдают невынашиваемостью. О том, что к этому добавлялись побои отца, она не задумывалась.
Отдельную квартиру дали, когда Валя училась в седьмом классе. Мать была броская, красивая, фигуристая, и маленький жирный чиновник из городского начальства не давал ей проходу. Мать воспитали в деревенской строгости, но соседка, продавщица Клавка, давила ей на совесть.
Валя слышала, как Клавка хвастала, что достала матери для этого дела иностранный лифчик и трусы с кружавчиками, а потом стояла на стрёме в ответственные часы и минуты. И не прогадала.
Когда Валина семья выехала из Каменоломки в хрущёвку с двумя отдельными комнатами, Клавка прибрала освободившуюся комнату в бараке для свёкра и свекрови, потому что жить впятером в одной комнате было невыносимо, а на её прелести городское начальство не зарилось.
Отдельная квартира означала переход в другой слой общества, и мать тут же записалась в месткоме на холодильник и телевизор. Раньше их и ставить было некуда. А после этого деловито подала заявление в кассу взаимопомощи и подсчитала, что расплатится за несколько лет.
С холодильником началась царская жизнь, ведь раньше даже сливочное масло стояло в буфете в банке с подсоленной водой, а почти всё, что мать приносила из магазина, полагалось в тот же день съесть или выбросить. Не было смысла и вывешивать в холода еду за окно, потому что там умело орудовали вороны.
Бабы в цеху завистливо прозвали мать Галкой-подстилкой, хотя ни одна из них и сама бы не упустила такой возможности. Ведь квартиры от фабрики давали только родне начальства и сексоткам, стучавшим, кто, сколько ткани вынес с фабрики.
Все выносили примерно одинаково, но задабривали сексоток гостинчиками, хотя только слепой не видел, во что одеты, на чём спят и чем занавешивают окна работницы ткацкой фабрики, как, впрочем, и их родня по всему Советскому Союзу.
Мать, как все, выносила с работы под платьем и ткань, и нитки, чтобы создавать из них дома прекрасные параллельные миры. В этих мирах овечки паслись возле причудливых замков, медведи встречали утро в сосновом бору, а счастливые девушки танцевали на Красной площади в юбках солнце-клеш.
– Золотые руки! – ахали соседки.
А Валин прекрасный параллельный мир находился в деревне Берёзовая Роща, где бабушка Поля копалась в огороде, крутилась у печки, принимала больных или бродила с Валей по лесу, собирая грибы и целебные травы.
Берёзовая Роща была неперспективной деревней – сельпо, колхозная контора и школа находились в перспективной деревне в пяти километрах. Там в клубе крутили кино, устраивали танцы, а в побелённой комнате сельсовета посреди стеклянных шкафов сидел фельдшер в очках.
Но его вызывали, только если телилась корова, а у ветеринара запой, лечиться всё равно ходили к бабушке Поле.
– Потому ко мне ходют, что в Берёзовой Роще вся сила, – объясняла бабушка Поля. – Как листики на берёзе распустются, собирай серёжки. Две трети серёжек на одну треть водки, да на две недели в погреб. Через тряпочку цедишь и по чайной ложке три раза в день до еды – сердце вылечишь! А когда желтуха или тоска, суши листочки, как распустились. По две чайные ложечки кипятком завариваешь и кажный день полтора месяца подряд! А коли суставы пухлые, набей листьями наволочку и на два часа туда руки-ноги. Но тока до половины лета, потом из листьев сила уходит… Берёза, что корыто, любую хворь отстирает.
– Откуда всё знаешь?
– Мне бабка рассказала, бабке её бабка, а ты внучке расскажешь. Раньше-то в Семик дома убирали берёзками, посыпали пол травою. Праздновали в роще у реки. Пирогов, куличиков напечём, мёду, квасу, варёных яиц в роще под берёзой сложим, ветки ей лентами заплетём, а потом две берёзки макушками свяжем!
– Зачем?
– А под связанными берёзками сила. Под ними через венки кумовались да целовались, говорили «здравствуй, кум, здравствуй, кума»! Хороводы водили, в горелки бегали. Венки на берёзу вешали, по ним на женихов гадали.
– А как на женихов гадали? – спрашивала Валя.
– В Троицын день смотрели венки, что на Семик на берёзе завили. Как венок высох, бросали в речку. Где пристанет, с той стороны и жених. Чей венок водою первый прибьёт, та первой замуж пойдёт. А потонет – то к смерти, – говорила бабушка Поля, прищурившись, и вокруг её синих глаз набегало кружево чудесных морщинок.
В восьмом классе Валя резко вытянулась, а фигура стала красивой, как у матери. Мальчишки из класса начали приставать, а взрослые парни нагло свистели вслед. Мать это беспокоило, и она наставляла:
– Запомни, доча, мужики – скоты! Блюди себя для мужа, не то всю жизнь будет попрекать, что порченая! Поедешь в Москву, ищи богатого, доброго, в очках, и чтоб бил не сильно. Примерно, как артист Баталов… Будет и мне заступник.
Но ситуация с «заступником», к сожалению, решилась раньше. Перед последней четвертью восьмого Валя побежала за контурными картами в домашнем платье и тапках к однокласснице Ленке, живущей через подъезд.
Открыл отец Ленки, местный участковый дядя Коля, безликий мужик шириной и высотой с полутораспальный матрас, одетый в майку и линялые треники.
– Заходи, – как всегда, сказал он бесцветным голосом.
Валя разула тапки и босиком пошла в большую комнату, где орал телевизор, и Ленка, видимо, не могла от него оторваться. Но ни Ленки, ни её матери там не было. Был только зашедший сзади дядя Коля, швырнувший Валю на разложенную софу, предупредив тем же бесцветным голосом:
– Заорёшь, убью!
Но она и так не могла орать, словно голос украли, и задыхалась под потной тушей, буквально размазывающей её по софе. Валя видела, как это бывает у матери с отцом, но от боли, бессилия и унижения не могла даже плакать, только искусала в кровь губы.
Мать сто раз предупреждала, но не предупреждала, что это может быть отец подруги. Да ещё и милиционер. И когда он отвалился, как пиявка, насосавшаяся крови, Валя спрыгнула с софы, хотя до этого казалось, что не может встать.
На жирной туше дяди Коли над спущенными трениками краснел причудливый шрам от вырезанного аппендицита. Девчонки показывали друг другу на физкультуре подобный шов, но у них была аккуратная полосочка. А у него – длинный шрам, причудливо загибающийся на конце. Валя уставилась на этот шрам, как загипнотизированная, и не могла сдвинуться с места.
– Что смотришь, подстилкина дочка? Понравилось? – бесцветно спросил дядя Коля.
От его слов Валя очнулась, подняла с пола и натянула трусики с застиранными узорчиками. Она была уничтожена и раздавлена каждой клеточкой тела и каждой частичкой души. Подумалось, что, видимо, хирург, вырезавший аппендицит, испытывал такое отвращение к этой туше, что никак не мог вынуть из неё нож.
И ей бы сейчас этот нож. Или любой другой. Она бы нашла силы! Но неожиданно для себя самой посмотрела на дядю Колю тяжёлым взглядом и произнесла:
– Теперь, если моего папашу на перевоспитанье не возьмёте, директору школы расскажу!
Дядя Коля мгновенно сел, натянул треники и закурил:
– Да кто тебе поверит?
– Директор со мной в милицию пойдёт, а я им нарисую, какой у вас шов на животе!
Дядя Коля словно протрезвел, хотя и до этого был трезвым, и Валя впервые увидела в его глазах хоть какую-то эмоцию. Он посмотрел растерянными глазами и зачем-то добавил:
– А Ленка с матерью… это… к тётке поехали…
Валя доплелась до дома на ватных ногах, несколько часов отмывала себя под душем и беззвучно плакала. Болело не только внизу живота, но всё тело. Она несколько раз постирала одежду, в которой была, и поняла, что не может остановиться, хочет продолжать её стирать и стирать до дыр.
Крови было немного, но трусы всё равно потихоньку выбросила. Жаловаться было некому, хотелось зарыться, закопаться под одеяло и больше никогда оттуда не вылезать. Сто раз прокрутила в голове, что, если бы не зашла в квартиру, а попросила позвать Ленку, ничего бы не было…
Но ведь она всегда заходила за Ленкой и сто раз слышала его бесцветное «Заходи!». Может, она виновата за мать, получившую квартиру и прозвище «Галка-подстилка»? Или не так одета? Но платье домашнее, не короткое, почти мешком, и она не красит глаза, как девчонки, которые уже обжимаются с парнями в кустах.
Совсем не хотелось жить, и она знала, как самоубийцы вешаются в заброшенных сараях на краю города, а потом их через полгода случайно находят. Но как же мать? А главное, бабушка Поля? Валя не понимала, что теперь делать с собой, но чувствовала, как её сжигает ненависть ко всем мужикам планеты, и она готова мстить.
Назавтра отец снова напился, начал драться, и Валя побежала в отделение милиции, а насильник дядя Коля как миленький приехал на мотоцикле с коляской. Они с напарником технично дали Валиному отцу в морду и забрали на ночь в отделение, приговаривая про моральный облик советского человека.
Мать рыдала и билась на такую несправедливость, порывалась вызволять мужа за взятку, но Валя сурово предупредила:
– Вытащишь его из милиции – повешусь!
Мать притихла и прошептала:
– Ну, вся в бабку характером!
Утром отец вернулся с разбухшим от побоев лицом и без переднего зуба. Ночь в милиции произвела на него глубокое впечатление.
– Я ж не вор, не убийца! – орал он неслушающимся разбитым ртом. – Я ж работяга!
– Прости меня, Володенька… – бросилась ему в ноги мать, словно была виновата.
– Ах ты, подстилка недобитая! Теперь под Кольку легла? – и он врезал матери изо всех оставшихся сил по лицу.
Та упала, плача и размазывая кровь по губам, но Валя встала перед ним и тем же голосом, что ставила условия насильнику, сказала:
– Ещё раз тронешь, дядя Коля тебя в тюрьму посадит!
– Доча, ты что, доча? – залепетал отец. – Я ж тебя маленькую… Я ж тебе… Ты что, всё забыла?
– Ничего не забыла! Ни как мы с матерью по снегу в ночнушках от тебя бегали! Ни как ты мне руку сломал! Ни как у соседей до утра прятались! Всё помню! – вдруг закричала Валя и долго кричала, будто выплёвывая из горла с этим криком накопленный жестяной налёт.
И не могла остановиться, всё припоминала и припоминала, пока мать не утащила её в кухню, приговаривая про траву пустырник и про то, что надо ей успокоиться у бабушки Поли в деревне.
После этого всё изменилось. Отец не бросил пить, но когда пытался поднять руку, осмелевшая мать скручивала его и зашвыривала в Валину комнату на диванчик, заранее покрытый оранжевой аптечной клеёнкой. Оттуда отец не вякал до утра.
А Валя укладывалась на его место в кровати, и они в двух одинаковых, расшитых матерью ночнушках поворачивались друг к другу спиной, потому что им нечего было сказать друг другу даже перед сном.
Во сне Валю теперь преследовали не побои отца, а изнасилование. Домашний страх, в клейком месиве которого она росла, словно потускнел и съёжился на этом фоне. Ведь Валя взрослела, постоянно придумывая вместе с матерью, как заговаривать пьяному зубы, как отбиваться, куда прятаться…
Росла не как человек, а как дичь в сезон охоты. Но теперь почувствовала себя дичью новых охотников, дичью, которой надо быстрее отсюда бежать. Стала бояться выходить вечером, долго находиться среди людей, страдала даже в школе.
Она всегда была замкнутой, но теперь, казалось, все видят, что она «такая», и девчонки презирают, а парни считают, что с ней теперь можно всем. Постоянно хотелось плакать, она еле сдерживалась. И в конце концов договорилась с собой, что она как мать. Та пожертвовала собой за квартиру, а она, став заступницей матери.
Валя была талантливым ребёнком, но никто в её окружении, кроме бабушки Поли, не мыслил такими категориями. Бабушка, любуясь внучкой, сияла, цокала языком и приговаривала:
– Ну что у меня за девка? Ну, всем взяла!
Валя лучше всех в классе могла перечислить пионеров-героев и в чём-то благодаря им решилась на защиту матери. Она ярче всех пела «Бухенвальдский набат»: «…это закалилась и окрепла в нашем сердце пламенная кровь… и восстали, и восстали, и восстали вновь!»
Лучше её в школьной самодеятельности никто не исполнял литературные монтажи из произведений советских писателей. Ей не было равных на физкультуре, в классиках, резиночке и вышибалах. Но главное, телевизор!
Валя научилась шить вручную из принесённой матерью ткани блузки, как у дикторш. Читала в них перед зеркалом в ванной программу передач по газете и видела себя телеведущей – честной, сильной, правдивой и готовой защищать слабых.
К концу восьмого класса мать, мечтательно повторявшая слово «Москва», объявила, что обо всём договорилась – Валя пойдёт ученицей к ней в цех. Это было такое же привычное предательство, каким прежде было ежедневное прощение бесчинств отца «ради семьи».
– Что, доча, так смотришь? – оправдывалась мать. – Терешкова тоже была ткачихой, а потом раз – и в небо! Бабы в цеху сразу сказали, Валька ударницей будет в мать!
Она при любом удобном случае подчёркивала никчёмность отца, гордилась званием «Ударницы коммунистического труда». И тёмно-красный значок с этой надписью прикалывала на платье, идя на фабрику, а потом не ленилась перестёгивать на рабочий халат.
Валя ответила ледяным «нет», собрала сумку и поехала на «скотовозе» к бабушке Поле. «Скотовозами» называли полуразвалившиеся грязные вонючие автобусы, в них из деревни возили на рынок городка не только домашнюю птицу, но свиней и баранов.
В деревне был двойной праздник. С одной стороны Кирилл – самый длинный день, самая короткая ночь, с Кириллина дня – что солнышко даёт, то у мужика в амбаре. С другой стороны, именно на Кирилла провели электричество.
– Гляди, Валюшка, какой мне Лёнька Брежнев подарочек сделал! – щёлкала грубым выключателем бабушка Поля, любуясь на голую лампочку в центре избы.
Она побежала к Ефиму и вернулась со стеклянной банкой, завёрнутой для тепла в кофту. В банке был горячий куриный бульон с кусками курицы.
– Фимка под праздник куру забил. Ешь, пока не простыло, – скомандовала бабушка, выливая бульон из банки в мисочку. – Что стряслось-то? Сама не своя! Говори как есть, грустить-то вместе веселее.
Бабушка чувствовала Валю, видела всё, чего не видела мать, но Валя не решилась открыться.
– Мать меня ученицей на фабрику вписала. У меня отметки хорошие, зачем на фабрике гнить?
Пёстрая кошка Василиса пристроилась к Валиной ноге, стала умильно трогать её лапой в надежде на кусочек курицы, но бабушка отогнала:
– Пошла отседова! Твой обед в погребе бегает! На твою красоту, Валюшка, жених только в большом городе есть. А правнуков мне вези, не Гальке!
Ох, и не любила бабушка Поля невестку.
– Больше не могу, доедай, – отодвинула Валя мисочку к бабушке, и та стала доедать остатки бульона. – Ой, я ж, свинья, куру сожрала, тебе одну воду оставила!
– Старым мясо-то вредно, а ты растёшь. Да и зубы мои куру не возьмут.
– Заработаю в городе, зубы тебе вставлю!
– Уж я со своими доживу. Запомни, Валюшка, в курином бульоне вся сила. Куриный бульон – жидовский пенициллин. От всех простуд и кашлей.
– Ты хоть знаешь, что такое пенициллин? – спросила продвинутая Валя.
– Лекарство от всего. Что у нас берёза от всех болезней, то у жидов куриный суп. Они богатые, что им по лесу-то шастать?
– Бабушка, ты их хоть видела? – упорствовала Валя, чтоб показать, до чего она взрослая и умная. – Ты ж из Берёзовой Рощи не выезжала!
– Видела одного. Вежливый. В костюме весь. Стучит в калитку: «Не подскажете, Алексеевы здесь живут?» – ответила бабушка Поля, внимательно глядя на Валю. – С дедом твоим сидел.
– Где сидел?
– А где сидел, там и помер…
– Так дед же на войне погиб!
– До войны, Валюшка… Я тогда отца твоего носила. Сильно была брюхата. Ты уж большая, знать должна. Вдруг не свидимся…
– Как это не свидимся? – возмутилась Валя.
– Враг народа был дед! Шпиён!
– Какого ещё народа? – опешила Валя.
– Горячий был, правду искал. Председатель-то колхоза ворюга бесстыдный, написал на него, что шпиён. Забрали Алёшку в город, а потом меня забрали. Пугали, что на север сошлют. Били. К стулу привязали да палкой по рукам, ногам да грудям. По животу-то не били, боялись, там рожу! Груди потом были сплошь синяк. Один бил, другой спрашивал, да записывал. Потому молока-то у меня и не было, на тот конец деревни к одной ходила, она Володьку сиськой чуток покормила. А коли сиськой сразу не кормить, вырастет вор да пьяница. Еврей-то сидел с ним. Через пятнадцать лет, как выпустили, приехал сказать…
– Ничего не понимаю! – Валя растерянно повернулась к фотокарточке деда Алексея Алексеева, пытаясь достать из неё подтверждение. – Били-то за что?
– Думали, секреты выбьют… А какие у нас секреты-то? – вздохнула бабушка.
– Раньше чего молчала?
– Чтоб не болтала. Теперь-то выросла.
– И в деревне знают? – Валя никак не могла справиться с услышанным.
– Как не знать-то? У всех на глазах жили. Приехал-то мой Алёшка Алексеев сюда со Стешкиным дедом на побывку, они ж в кавалерии служили, – бабушка Поля доела бульон, вытерла рот специальной тряпочкой, и глаза её потеплели. – Ох, я на него заглядываться стала! На лужку зверобой собирала, подошёл, говорит, за тобой всю неделю смотрю. Коли замуж за меня пойдёшь, вернусь скоро! Высокий, глаза синие. Точь-в-точь как у тебя! А мне девки такого и нагадали. Свадьбу сыграли по-новому, без икон. Жили ладно, да вот недолго…
– Шпион-то почему? – всё казалось, что бабушка её разыгрывает.
– А кто ж его знает? На конюшне работал, небось за жеребцами да кобылами шпиёнил! Забрали его, осталась одна, а брюхатым нельзя воду тянуть из колодца. Вода попортится, да дитя родится несчастное. Так мне Фимка кажный день воду тянул.
Валя не знала, что на это ответить, особенно ударило слово «шпион», и спряталась за фразу:
– В областной центр поеду. Учиться.
Обсуждать не стала, просто объявила, не могла признаться, что всё выталкивает её из городка. И сосед дядя Коля, встречающийся на улице, и материно прозвище «Галка-подстилка», и неутихающее пьянство отца.
– Знаю. Сон видела. Трав тебе наготовила. Перво-наперво мешок с крапивой, – ответила бабушка Поля буднично, словно разговор про деда закончен. – Крапива мочу гонит, лёгкие чистит, рану заживляет, желудок лечит, угри да фурункулы вытягивает, кожу шёлком делает.
– Да там лекарства в аптеке! – возмутилась Валя.
– Горсть сухой крапивы на литр кипятка да ложку мёда. Час настаиваешь, цедишь, – будто не слышала бабушка. – Волосы мыть будешь.
– Там мыло как духи пахнет!
– Не живое оно, не на лугу, на заводе росло. А волосы, Валюшка, большую силу имеют.
– Косу отрежу, возни с ней.
– Раньше косу-бесчисленницу плели в девяносто прядей. Пряди мочили в соли и квасе, да перекладывали жемчугом, – бабушка показала на себе, как плели. – Замужние исподнизу плели, да шею закрывали. Нельзя было шею казать замужним!
– А жемчуг где брали? – заинтересовалась Валя.
– В реке ловили. А невесте косу путали, чтоб жених распускал. Распустил косу, значит взял замуж. Острижешь косу – замуж не выйдешь! – бабушка подошла к печке, полезла вниз, вытащила старый горшок, достала что-то завёрнутое в красивый платочек, протянула Вале. – В областном-то центре деньги нужны. Да смотри, глупостев не наделай!
– Спасибо! Ой, я ж тебе подарок привезла, чтоб руки не грубели, – вспомнила Валя и достала из сумки три круглые зелёные баночки душистого крема «Земляничный».
– Ты ж моя, ластонька! – растрогалась бабушка. – Помажу, а баночки-то на память оставлю.
Через три дня отоспавшаяся и отъевшаяся Валя уезжала с сумкой, нагруженной ранними ягодами и мешочками с травами. Они стояли у калитки, в компании гусей, пёстрой кошки Василисы и лохматой дворняги Дашки.
– Бабушка, чего отец с матерью не ладят?
– Роду она проклятого. Да и не любит Володьку, – покачала головой бабушка. – Никогда не любила.
– Почему у тебя на стенках ни одной материной вышивки?
– Буду я дом ворованной тканью пачкать…
– Так все ткань выносят.
– Все убивать начнут, с ними убивать пойдёшь? – строго посмотрела она на Валю, и та смутилась.
– А почему ты замуж больше не вышла?
– Так Алёшку любила. Он и сейчас во сне приходит, молодой, весёлый, шутит, обнимает!
Она крепко прижала к себе Валю, и та почувствовала родной запах её кожи, волос и наглаженного платка.
– Слушай моё слово: на фершала иди учиться, талант у тебя в меня. В люди выйдешь. Езжай, лебедь белая. Чистоту свою береги, молиться за тебя буду! – трижды поцеловала в щёки. – Открытки пиши, Фимка прочтёт!
– Скоро тебя навещу! – кричала Валя, шагая в сторону автобуса-скотовоза. – Из города красивый выключатель привезу! И банки с крышками для варенья!
А бабушка Поля – высокая, стройная, с прямой спиной, в белом платке – стояла в проёме резной калитки в окружении кошки Василисы и лохматой дворняги Дашки, как картина в раме, и крестила в воздухе Валину удаляющуюся фигурку.
Вернувшись домой, Валя долго разглядывала себя в зеркало и согласилась с бабушкиным советом, решила, что к её большим синим глазам и пшеничным волосам пойдёт белый халат. И если она «внутри грязная», пусть хоть внешне кажется чистой.
Потом узнала у знакомой фельдшерицы адрес и сроки приёма экзаменов в медучилище, собрала вещи и положила в чемодан расшитый матерью коврик с девушками, танцующими на Красной площади в юбках солнце-клёш. Отец хотел проводить, но напился. А мать ругалась на вокзале:
– Пятнадцать с половиной всего, без отца с матерью в городе любой обидит!
Валя на это только криво усмехнулась.
– Не по рту, доча, кусок берёшь! Жила б как все!
– Как ты? Не хочу! – выпалила Валя.
Тридцатитрёхлетняя мать выглядела на перроне обиженной и потерянной, даже не обняла Валю на прощание, показывая, что считает отъезд предательством. Как все матери-эгоистки, растила дочь в качестве оправдания жизни в аду и как палочку-выручалочку, смягчающую ад.
Областной центр напугал, здесь иначе ходили и одевались, короче и резче разговаривали и больше спешили. А мужчины смотрели так нагло, что Валя терялась, замыкалась и одевалась всё скромнее и скромнее. Смотрели так, словно знали, что с ней случилось, и считают её доступной.
В общежитии поселили с двумя разбитными девицами, но Валя не была ни в пионерлагере, ни в больнице и стеснялась при них переодеваться. И ещё больше стеснялась, когда они ходили по комнате голышом.
Девицы прозвали её «монашкой» и объяснили, что те, кто сдал документы на медсестёр, это дуры, как они сами. Зарплата маленькая, в деревню распределят, и кукуй там. А те, кто на массажисток, те б… Работа тяжёлая, но всегда при деньгах.
И если в нужных местах помассировать старого кобеля, можно прилично устроиться. Валя только усмехнулась, она ведь пошла на массажистку не только из-за белого халата, но и потому, что у матери от работы на ткацкой фабрике постоянно болели спина и плечи. И потому что умела лечить руками.
Комендантша общежития Вилена Васильевна по кличке Гестапо, делившая с первого взгляда жиличек на тех, кто «ставит уколы», и тех, кто «массирует яйца», определила Валю во вторую категорию. Гестапо была смурной тёткой с железными зубами, зачёсанными назад жидкими волосами, и носила один и тот же тёмно-синий костюм, похожий на форму.
Лицо у неё было словно стёртое ластиком, а глаза выцветшими, словно так много плакала, что выплакала из них весь цвет. Валю Гестапо прозвала «тихушницей» и пыталась подловить на нарушениях распорядка, но придраться было не к чему.
Вскоре одна из соседок заболела ангиной, Валя вылечила её руками, как учила бабушка, и по общежитию поползли слухи о редких способностях первокурсницы. А тут ещё очередной шибздик увязался за Валей от училища и пытался облапать у входа в общежитие.
И она отделала его своими сильными руками так, что Гестапо, прибежав на крик, вынуждена была оказывать первую помощь. А после этого объявила всему общежитию, что Алексеева «не тихушница, а целка». Но Вале было совершенно всё равно, считают её «монашкой, тихушницей или целкой».
Мужчины были для неё врагами, от которых надо постоянно держать оборону. И потому она планировала окончить после техникума мединститут, выучиться на врача, родить себе ребёнка и никогда ни от кого не зависеть.
Как-то Гестапо зашла в комнату, пошмонать по тумбочкам в поисках сигарет и бутылок. После истории с шибздиком она смотрела на Валю новыми глазами и даже одобрила прикнопленный к стене над кроватью коврик с девушками, танцующими на Красной площади в юбках солнце-клёш.
– У меня в тюрьме бабы тоже рукодельничали. Дёргали из простыни нитку, кружева вязали на спичках. Спички ж у них не отымешь, – начала она. – Спина у меня болит, Алексеева… Говорят, массаж хорошо делаешь.
Они спустились в комендантшину комнату, которая оказалась уютнейшей бонбоньеркой. Там стояла импортная мебель, на окнах висел дефицитный тюль, лежал дорогой ковёр, а сервант ломился от хрусталя и фарфоровых балеринок. В такой комнате, по Валиным представлениям, должна была жить артистка или известная врачиха, но никак не обшарпанная Гестапо.
– Шик, блеск, красота! – постанывала комендантша во время массажа. – Золотые руки! А эти шмары только у мужиков между ног массировать умеют. Я в медицину, Алексеева, не верю, только в массаж и сухую горчицу в носки. Всех в тюрьме горчицей лечила, в хозблоке килограммами брала.
– Надо вам, Вилена Васильевна, в мае нарвать берёзовых листьев в полиэтиленовый пакет, плотно закрыть, чтоб спарились, вечером высыпать в кровать и сразу лечь на них спиной, – посоветовала Валя. – Три раза сделаете, боли в спине как рукой снимет.
– Где ж ты этого набралась, Алексеева? – недоверчиво спросила комендантша.
– Бабушка моя секреты трав и деревьев знает, руками лечит, к ней из всех окрестных деревень ездят!
– Ты, Алексеева, травой и массажем лечи, а руками не смей. За это срок дают, как за цыганский гипноз! – пояснила Вилена Васильевна. – Уж я знаю, у меня такие сидели.
Всё общежитие боялось эту нескладную сухощавую тётку, излагавшую мысли исключительно командами. А она и не скрывала, что прежде служила охранницей в женской тюрьме и априори считает каждую из жиличек общежития преступницей.
На десятый сеанс массажа Гестапо вдруг налила Вале чаю, поставила вазочку с вишнёвым вареньем и пропела:
– Ешь, Алексеева, варенье! Спина у меня как новая! Шик, блеск, красота! Забыла про неё. Одна ты из всех массажек чистая девка. Эти ж лярвы крашеные к диплому по пять абортов через меня делают. И ладно б от кого, а от пьяни, рвани, фраеров да солдатни. Я тебя замуж толком пристрою.
– Замужем, Вилена Васильевна, чего хорошего? – заметила Валя, вылавливая вишенки из хрустальной розетки.
Глаз у Гестапо был хоть выцветший, но точный, она секла не только девичьи грехи, но и секунду, в которую всыпанная в сироп вишня, застывала свежей как жук в янтаре, а не превращалась в круглую тёмную мочалку.
– Не спешить тоже плохо. Я на Витюшу своего похоронку с войны получила, потом не спешила, одна и осталася, – ответила Гестапо. – Кобели крутились, пьющие да бездельники. Им слаще мёду к самостоятельной бабе присосаться.
Валя расчувствовалась от откровенности комендантши и призналась:
– Я, Вилена Васильевна, во сне вижу, что живу в Москве и пешком мне до Красной площади.
И покраснела. А Гестапо усмехнулась:
– Ты, Алексеева, девка красивая, трудовая, скромная. Таких в Москве не делают.
– Бабушка говорила, не родись красивой, а родись счастливой. Она и мать красавицы пуще меня, а счастья не видели!
– Вот за них и увидишь. Была я в Москве проездом, еле ноги унесла. Никто не ходит, все бегут. С вокзала вышел, сразу из человека стал козявкой.
– А мне нравится, когда все бегут, – сказала Валя, – Пусть лучше все бегут. Здесь же все спят, потом проснутся и мучают друг друга. Устанут и опять засыпают.
– Добрее народ в провинции, – возразила Гестапо. – Добрее!
– Да где ж добрее? – возмутилась Валя. – У меня перед дождём рука ноет, отец пьяный о косяк швырнул! На матери живого места нет! Хоть бы кто из соседей заступился, когда мы орали.
– Всех бьют! Без этого как? Одни инвалиды жён не бьют, – развела руками комендантша. – Значит, так: будут к тебе больные ходить в эту комнату. За три рубля. Рубль с каждого мне. Поняла?
– Спасибо! – выдохнула Валя.
Она и мечтать не могла о таком счастье.
– И чтоб до первой грозы лягушка не квакала. А то этих проституток пускаю массаж делать, они на второй раз ноги раздвигают! Потом ко мне, мол, вены порежу… Им в этой комнате моя кума аборты делает, а я рукой рот зажимаю, чтоб не орали на весь город. Я ж своим местом дорожу!
Валя переспросила у девчонок про аборты в комнате комендантши и услышала такие подробности, что неделю не могла спать. Добавили, что комендантшу боится даже директор училища. Видно, тоже рыло в пушку, и не один аборт от него. Стало понятно, откуда у Гестапо не только кличка, но и деньги на мебель и фарфоровых балеринок.
Валя зажила с этого дня как королевишна. Откладывала эти два рубля, и скопила на зимние сапоги. Стала шиковать, покупать на ужин помимо столовской еды треугольный пакет молока, пирожки с повидлом за пять копеек, бублики с маком за шесть копеек и пакеты с хрустящей картошкой за десять копеек. А ещё розовое фруктовое мороженое за семь копеек и пломбир в вафельном стаканчике с розочкой из крема за девятнадцать копеек.
Купила и послала матери красивое платье, а бабушке цветастую шаль, тёплую кофту и дорогих шоколадных конфет. Пациенты были в основном тётки из торговли в дутых золотых серёжках и брюхастые мужичонки с модными портфелями-дипломатами, обязательно в первый раз прощупывающие почву.
– Шуток не понимаю, у меня от работы руки сильные. Отмахнусь – что-нибудь сломаю, – сурово отвечала Валя.
Соседки казались Вале примитивными, к тому же считали её приближенной к Гестапо стукачкой и держали дистанцию. По ночам, думая, что Валя спит, они шёпотом обсуждали свои любовные истории, и Валя чувствовала себя так же, как когда маленькой девочкой подсматривала за родителями.
У одной из соседок была любовь на природе с младшим лейтенантом из ближайшей воинской части, а хахаль второй был женатый таксист, и всё происходило прямо в машине. Из этих рассказов Валя получила полное представление о местной «камасутре».
В библиотеке техникума она прочитала всё, что касалось беременности и венерических заболеваний, и с ужасом осознала, что могла получить от отца подруги не только букет заболеваний, но и забеременеть! И что тогда? Тогда только вешаться в сарае…
А теперь видела, что её соседки – активные кандидатки на аборт в уютной комнате Гестапо, где та будет зажимать им рукой рот, чтоб не орали. И если они ещё не поняли этого из учебной программы, то останавливать их бессмысленно. Тем более что с гораздо большим жаром, чем возлюбленных, соседки обсуждали, как достать водолазку, кофту-лапшу, расклёшенные брюки и сапоги-чулки.
Валя выросла в обносках от соседских детей и в платьях, сшитых матерью из ворованной ткани. Она не видела в моде ни пользы, ни смысла. Как, впрочем, и в интерьере. Мать вылизывала новую квартиру, заполняла её вышитыми цветочками и рюшечками, словно пытаясь отмыть и отстирать помеченную синяками и пятнами крови прошлую жизнь.
Но воздух квартиры всё равно казался Вале мёртвым, а материна эстетика выглядела кладбищенским порядком с ровненько разложенными на могилах бумажными цветами. Ведь все трое жили по отдельности, каждый в обнимку со своим одиночеством, и пересекались только по быту.
А в доме бабушки Поли с потолка свисали пучки трав, кошка Василиса ходила по обеденному столу и спала на бабушкиной подушке, но при этом пахло чистотой и уютом. Каждый глиняный горшок имел своё лицо, сверчки цокотали за печкой, мотыльки шуршали на окнах, на дворе переговаривались гуси, и казалось, что одинокая бабушка Поля живёт в большой любящей семье.
К общежитию Валя относилась как к службе в армии или сроку в тюрьме. Казённые крашеные стены, тусклые лампочки, железные кровати с продавленными сетками, ужасные, сто лет не ремонтированные места общего пользования.
Глаз отдыхал только в комнате Гестапо, и Валя была единственной, кто сумел сблизиться с комендантшей. С Гестапо ей было легче и интересней, чем с соседками, ведь главной её подругой была бабушка, а Гестапо была моложе бабушки всего на десять лет.
Валя старалась, оценки были важны для поступления в мединститут. Вечерами она либо массировала пациентов, либо писала открытки матери и бабушке, либо смотрела телевизор в холле общежития. Сплетничать с девчонками и ходить на танцы, кончающиеся лапаньем, ей было неинтересно.
Ближе к диплому Гестапо выкопала через знакомых на ближайшем заводе худого носатого инженера, приехавшего из Москвы по распределению. А разузнав о его детской травме позвоночника, напела про «золотые руки» и даже снизила цену на рубль.
Когда малахольный носатый Юрик Соломкин увидел Валю, он онемел, а после массажа практически впал в ступор и первые сеансы молчал как глухонемой. Потом освоил: «Здравствуйте, спасибо, извините», а после десятого, заключительного, пригласил Валю в кино.
– Он, конечно, образованный, но уж такой плюгавенький, – жаловалась Валя комендантше под чай с вишнёвым вареньем. – Ручки тоненькие, спинка кривенькая. Как говорила бабушка, ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса. Кого от него родить можно?
– Ты, Алексеева, на дуру-то не похожа, – ответила на это Гестапо. – Прописку московскую сделаешь, да и найдёшь от кого родить. Получится шик, блеск, красота.
– Но это нечестно!
– А то он не видит, с чего ему свалилась такая клубника со сливками? С него прописка, с тебя терпение. Ты ж совестливая, квадратные метры потом не оттяпаешь. Потерпишь, потошнишь, да дёру дашь, – резюмировала Гестапо. – Полюбила я тебя, Алексеева! Плохого не посоветую!
– В Москву хочу, но замуж боязно, – Валя словно попросила об отсрочке.
– Такой лотерейный билет раз в жисть попадает! – Гестапо подошла к шифоньеру, открыла ящик, показала Вале стопку открыток и кивнула на дверь, подразумевая женское население общежития. – Эти сучки меня Гестапой зовут, а я всех трудовых девок, хоть отсюда, хоть из тюрьмы, в хорошую жизнь вытолкнула!
И её выцветшие глаза потеплели:
– Вон сколько открыток написали! И ты напишешь! В Москве на ноги встанешь, мать заберёшь, дашь ей под старость пожить по-людски. Она ж тебя вырастила, выкормила вон какую. Тока до свадьбы ему не давай!
Комендантша словно посадила Валю с Юриком под свою ответственность в лодку и оттолкнула от берега. Валя ходила с ним гулять, слушала его рассказы о прекрасной Москве и его прекрасной семье, но при мысли о сексе паниковала. Успокаивало только то, что физически она сильней Юрика.
По распределению оставалось оттрубить ещё полгода, но Юрик спешил со свадьбой. И правильно делал, ведь все, кто видел Валю рядом с ним, пожимали плечами. Она была «девушка с веслом» и косой до пояса, строго глядящая огромными синими глазами из-под натуральной льняной чёлки. Да ещё строгих правил и с золотыми руками.
У парней при виде Вали появлялась охотничья кошачья пластика, а мужики постарше с тоской цокали языком. И тщедушный Юрик исступлённо целовал Валину шею и руки, смирившись с твёрдым: «Не знаю, как у вас в Москве, а у нас остальное после свадьбы!»
Валя защитила диплом «на отлично», хотела навестить бабушку и мать, но Гестапо велела начать со свадьбы и московской прописки. И пока Юрик хвастал на заводе фотографией невесты, Валя вкалывала за массажным столом детской поликлиники.
Надо было заработать на свадебный наряд, чтоб мать увезла в родной город пачку фотографий, иллюстрирующих Валино счастье. Она ведь специально слала матери и бабушке открытки, а не письма.
И их содержание по дороге к адресату успевал прочитать и оценить весь любопытный околоток и вся любопытная Берёзовая Роща. И чтоб то, что дочка «Володьки-пьяницы и Галки-подстилки» выходит замуж в Москву за инженера, завистливо обсуждалось всем миром.
Ведь если субтильного Юрика одеть в костюм с плечами, самой обуть туфли без каблука и прижаться к нему, ссутулившись, получится сносное фото, а слово «Москва» заслонит землякам всё остальное.
Работа в детской поликлинике была тяжеленная. Валя чуть не плакала, каких сложных деток приводили. Сплошные родовые травмы, словно акушеры-гинекологи круглосуточно спали на дежурствах. Детки были с повышенным тонусом, с повышенным внутричерепным давлением, парезами и даже с ДЦП.
Валя изо всех сил старалась поставить их на ноги. Учила мамаш пользоваться травами, рассказывала, что помнила из бабушкиных заветов, как носить, рожать и растить малыша.
Делая массаж, диктовала мамашам, что до шести недель малыша нельзя никому показывать, чтобы не сглазили. Что он быстрей заговорит, если помыть в стакане серебряную ложку, да напоить этой водой. Что вечером его нельзя поднимать выше своей головы. Что, если целовать в пяточки, поздно пойдёт, а если щекотать пятки, будет заикаться. Что до года нельзя стричь. Что нельзя перешагивать через ребёнка, играющего или ползающего на полу и ставить его на стол, будет плохо расти. Что для притяжения здоровья и богатства ему в первые годы жизни надо класть в ванночку серебряное украшение или ложечку, подаренную «на первый зуб». Что счастлив будет мальчик, похожий на маму, и девочка, похожая на папу, а родившиеся вперёд ногами станут обладателями магических способностей.
Работа в детской поликлинике подтвердила, что Валя не зря выбрала профессию. Видя улучшения у малышей, она чувствовала себя ценным членом общества. Ведь кем она была до училища? Порченной милиционером девчонкой из плохой семьи, а теперь её руки спасали детей.
Уезжая с Юриком в Москву, Валя подарила Гестапо большую хрустальную вазу, та даже поцеловала её на пороге узкими сухими губами и добавила:
– Открытку оттудова напиши!
В купе Юрик, не веря своему счастью, держал невесту за руку, словно сбежит. На площади трёх вокзалов Валя остолбенела – никогда не видала таких великолепных зданий, а мраморные станции метро показались дворцами.
Однако всё, что Юрик рассказывал о семье, надо было делить на десять. Жил он в двухкомнатной квартире кирпичного дома неподалёку от «Автозаводской» с родителями и младшей сестрёнкой Леночкой. Будущий свёкор, старший Соломкин, такой же носатый и малахольный, как Юрик, всю жизнь подбивавший ботинки в соседней мастерской, при виде Вали издал свистящее:
– Ух ты! Руса коса до пояса!
Подросток Леночка онемела от счастья, что будет общаться с такой красавицей. Только будущая свекровь, полжизни мывшая полы на ЗИЛе, глянула на Валю зверем и сказала сыну:
– Куда ж ты, пень, смотрел? На хрен ты этой стату́е? На ней буквами горит, что она за пропиской.
Свекровь была тоже маленькая, сухонькая, носатая, и главными её жизненными достижениями являлись квартира, полученная от ЗИЛа, и высшее образование Юрика, первого в роду, выбившегося в люди. Появление Вали обесценивало и первое, и второе.
Да ещё чёртова лимитчица заявила, что до свадьбы не ляжет с Юриком, пришлось её класть на диван в маленькой комнате с Леночкой, а Юрику ставить раскладушку в большую комнату к родителям. Леночка была на седьмом небе и рассказала Вале все свои школьные секреты.
Юрик заранее взял справку, что как специалист по распределению не может отлучиться на большой срок с производства, и бракосочетание назначили на конец недели – первые числа июля.
Получили в ЗАГСе талоны на дефициты: кольца, платье, фату, обувь, костюм, рубашку. Стали бегать по спецмагазинам, в обычных же магазинах было шаром покати, а хотелось, чтоб всё как у людей.
От Валиной родни приехала только мать и с трудом удержала лицо, увидев Юрика. Не меньше её поразили квартира Соломкиных и заношенный халат будущей свекрови. Она шепнула Вале, мол, не думала, что в Москве так грязно живут. Москва же!
Бабушку Полю Валя на свадьбу не звала, намекнула матери, что негде положить. С одной стороны, это было правдой, с другой, стыдилась перед бабушкой и Юрика, и его семейки, и самого факта такого замужества.
Мать достала из чемодана шуршащий свёрток, оттуда выпала ткань, невероятно расшитая васильками величиной с яблоко, и все Соломкины ахнули.
– Вышивала доче занавески. Мужики, вешайте, – смущённо объяснила мать.
– Прям Третьяковская галерея! – выдохнула будущая свекровь, будто когда-то там была.
А Юрик полез на стремянку, чуть с неё не свалился, и они с отцом как-то водрузили занавески в большой комнате своими корявыми и растущими не оттуда руками. И бессовестная красота васильков подсветила, что всё в квартире потёрто, засалено и заскорузло, как и вся устраивающая Соломкиных жизнь.
Потом обе матери считали деньги на угощение, фотографа, машину с куклой на бампере, записывая цифры в столбик в школьной тетрадке, взятой у сестрёнки Леночки. Всю ночь перед свадьбой шинковали салаты и мариновали мясо, вместе с Валей и Леночкой.
Свёкор с Юриком выносили из большой комнаты мебель, сдвигали столы, носили от соседей стулья, тарелки, вилки, стопки и спорили, хватит ли водки. Рукастая мать сделала Леночке модные у школьниц банты-розы, отчего та прыгала до потолка. А обряжая Валю в роскошное платье из салона для новобрачных, шепнула:
– Ну, доча, принцесса! Любишь этого задохлика?
– Люблю, – отрезала Валя.
Под такое платье хотелось бы жениха пошикарней, но это не материно дело, пусть лучше посмотрит на свой выбор.
Процедура в ЗАГСе показалась ужасно унизительной, раздражённая тётка цедила сквозь зубы:
– Дорогие Юрий и Валентина, в этот торжественный день…
Да и свидетельницу Вале выдали по разнарядке из Юриковой родни. Потом за столами в большой комнате собралась куча орущих и жрущих дружков и родственничков Юрика. Водки оказалось более чем достаточно.
Это привело к батальной драке гостей на лестничной площадке с выбиванием окна в лестничном пролёте и визитом «Скорой помощи» для перевязки порезавшихся. Валя бы перевязала сама, но мать боялась, что кровь запачкает роскошное платье. За «Скорой помощью» приехала милиция, но, получив денег, легко отказалась от претензий.
В меру омерзительную первую брачную ночь, подгаданную на последний день месячных, Валя перенесла терпеливо.
– Чудеса в решете! – только и вымолвила свекровь, обнаружив на простыне кровь.
Самым приятным событием из этого меню стал отъезд Юрика для дорабатывания распределения, а до его отъезда Валю прописали в Москву, иначе бы не приняли на работу.
Как искать работу, Валя не понимала, но зашла в ближайшую поликлинику посоветоваться с массажистками, и ей дали телефончик. По нему дали другой телефончик, а по третьему телефончику оказалось вакантное место. Валя пришла в кабинет главврачихи престижной поликлиники на Ленинском проспекте, показала прописку, красный диплом и сделала ей массаж.
Главврачиха удивилась, как хорошо учат в провинции, и взяла Валю на испытательный срок. Это стало новым шоком для свекрови, она не верила, что лимитчицу могут взять работать с артистами и начальством. И превратилась в один большой глаз и одно большое ухо.
Копалась в Валиной сумке, обследовала её нижнее бельё, подслушивала телефонные разговоры, расспрашивала Леночку, но безуспешно. Валя по-прежнему не пользовалась косметикой, носила самые скромные юбки и блузки, хотя это не помогало, мужчины липли на работе, в метро и на улице.
Поликлиника была не такая, как детская провинциальная. Рабочее помещение разделялось ширмами на отдельные кабинки, массажные топчаны покрывали крахмальные простыни, в зоне ожидания и отдыха стояли кожаные кресла, а пациенты обращались на «вы».
– Кто тут Соломкина? – спрашивал новенький пациент, заходя, и Валя вздрагивала.
Какая она Соломкина? Она же Алексеева! Домой возвращалась по часам, убирала, мыла, чистила, тёрла, готовила. Прежде постельное бельё и мужские рубашки носили в прачечную, теперь Валя стирала, кипятила, крахмалила и гладила всё сама.
В свободное время крутила плоскогубцами сломанный переключатель телевизора. Ведь сапожник свёкор и инженер Юрик не задумывались над тем, чтобы починить переключатель четырёх телепрограмм.
А ещё Валя гуляла с Леночкой по Москве, погружаясь и осваиваясь в её контурах, звуках и запахах. Её потрясли Кремль, Большой театр, ГУМ и старый центр. Мавзолей показался маленьким и задрипанным, картину спасли только рослые часовые. Вот бы за такого замуж, подумала Валя, а с другой стороны, такой врежет, так врежет.
Прежде она ненавидела москвичей, как все в её городке, подозревая, что именно они жестоко обманули её и миллионы людей, утопивших жизнь во всепоглощающем свинстве глубинки. Но теперь увидела, что они маются ровно теми же проблемами, помноженными на сложное устройство столицы.
Валя училась быть москвичкой, подслушивала словечки и интонации, растягивала слова, акала и передвигалась танцующей походкой. Заставляла себя заходить в выпендрёжные магазины и просить:
– Девушка, покажите вон ту кофточку. Вы что, заснули? Давайте, напишу вам что-нибудь подбадривающее в книгу жалоб!
Когда «выкидывали дефицит», она стояла с Леночкой в очередях. И так осмелела, что стала, как все, ходить с рулонами туалетной бумаги, нанизанной на верёвку, отчего в своём городке умерла бы со стыда. А здесь в столице «выбрасывали» не только туалетную бумагу, но даже вату для месячных за свою цену, а не в десять раз дороже у спекулянтов, как дома.
Валя как-то спросила про это бабушку, та долго мялась, а потом рассказала. В её молодости кипячёные тряпки были на вес золота, бабы в деревне собирали специальный густой мох, убивающий заразу, мыли, сушили на печке и делали из него подушечки. Да богу молились, чтоб быстрей постареть и жить без месячных.
Леночка была забитым подростком с угреватой кожей. Валя научила её по бабушкиному рецепту выбирать весной берёзу, налаживать с ней контакт, получать берёзовый сок и умывать лицо. Леночка сперва фыркала, но, увидев в зеркало своё очистившееся личико, бросилась обниматься.
Валя учила Леночку всему, чему сама научилась у девчонок в общежитии. Пересыпать мукой и вычёсывать волосы, когда нет возможности помыть. Шить из трикотажных ползунков обтягивающие кофточки, как в журналах мод. Штопать ежедневные простые и выходные капроновые чулки, пристёгивающиеся резинками к специальному поясу.
И даже делать ажурные колготки, отрезая от детскомировских хэбэшных колготок ступню, хитро выдёргивая нитки, а потом пришивая ступню обратно. Леночка стала с ней куколкой, расправилась, осмелела. И в благодарность подарила Вале для наклеивания на сумку самое ценное, что у неё было: ГДРовские переводные картинки с Микки-Маусом.
Всё это произошло благодаря Гестапо, и Валя купила в киоске открытку с красивым красным попугаем, каких не продавали в их городке, и написала на адрес общежития: «Здравствуйте, уважаемая Вилена Васильевна! Как ваше здоровье? Я живу хорошо. Была на Красной площади. Юрик добрый, но свекровка лютая. Как встану на ноги, уйду отсюда и найду большую любовь. У меня будет хорошая квартира, научный муж в очках и сын с дочкой. И люстра будет хрустальная. Спасибо вам за всё. Не болейте. До свидания. Ваша Валя»
Ответа не пришло. Да Валя и не рассчитывала. Много чести, чтоб Гестапо переписывалась с облагодетельствованными жиличками общежития. А вечером услышала, как свекровь жалуется свёкру:
– Юрик – инженер, не х… собачий! Мог бы образованную взять!
– На что тебе образованная? Валька дом вычистила, с углов теперь чай пить можно. Ты ж никогда толком не убиралась…
– Дурак, я на работе так тряпкой намахиваюсь, что мне одни кафельные полы да унитазы снятся!
Когда Юрик вернулся, компромата на молодую жену не было. Умирая от стыда, Валя купила в аптеке «резиновое изделие № 2». Десять штук в серой бумаге с надписью «проверено электроникой».
– Не для того штамп ставил, чтобы резинки натягивать! – выступил было Юрик.
– Надо сперва на работе закрепиться, чтоб декретные были, – строго ответила Валя.
Компромата на Валю, как ни вынюхивала свекровь, по-прежнему не было, и она запуталась, как относиться к невестке. Валя вылечила ей массажем радикулит, а берёзовыми почками воспаление печени у свёкра. Благодарные пациенты тащили то конфеты, то фрукты, то импортное мыло, и Валя сдавала это свекрови в общий котёл вместе с зарплатой, только чаевые тайком откладывала под газетку в коробку со старыми туфлями.
Старшая Соломкина так расслабилась, что даже начала подкармливать Валю фрагментами продуктового заказа, гордо носимого с работы. Свёрток с ежемесячной советской роскошью состоял из пакета гречки, батона сухой копчёной колбасы, банок лосося, шпрот, тресковой печени, растворимого кофе и «чая со слоном».
В Валином городке деревенские весь год возили на рыночек недорогое свежее мясо, кур, фрукты, овощи. А в Москве хозяйки хвастали, что летом варят варенье из арбузных корок, а зимой из апельсиновых. И Валя хмыкала, мол, в Берёзовой Роще очистками кормят только свиней.
Её мать отлично готовила, а свекровь кормила всех полуфабрикатами из ЗИЛовской кулинарии. Дома было сытней, но дефициты только по блату, а здесь всё время что-то «выкидывали» в продажу. И Валя посылала матери и бабушке то импортную клеёнку, то модный шампунь, то конфеты в красивой коробке.
Юрик нашёл работу в Москве и сиял от счастья. Сидя на кухне с «примой» в зубах, жонглировал перед отцом словами «перевыполнение плана, прорабатывать, партактив, чёрная суббота, штурмовщина». Валю тошнило от его позёрства, как, впрочем, и от него самого, но она держала лицо.
По утрам Юрик точно так же, как её отец, пил прямо из носика холодного эмалированного чайника, и Валя с трудом сдерживалась, чтобы не выскочить из кухни. А потом брезгливо отмывала этот носик чайника перед кипячением, хотя знала, как медик, что 100 градусов убьют любую микрофлору.
Но самым жутким звеном этой цепи были ночи с молодым супругом. Валя заметила, что если Юрик выпил с отцом за ужином, есть повод отказаться от супружеских обязанностей, и стала покупать вино, выдавая его за подношение пациентов.
Началась осень, в Москве стало очень красиво от порыжевших деревьев. Валя стеснялась своего старого пальто, но не решалась завести речь о новом, хотя отдавала свекрови всю зарплату. Старалась набрасывать на плечи большой павловопосадский платок, понимая, что скоро его придётся заматывать на голову.
А зимнего пальто у неё нет, и модной меховой шапки, как у Нади из «Иронии судьбы», тоже нет. И как намекнуть об этом свекрови?
Но однажды дверь массажного кабинета отворилась, и красивый откуда-то знакомый голос спросил:
– Могу я видеть Соломкину?
Валя вышла из своей кабинки, но обладателя голоса уже окружили её коллеги, умоляя дать автограф.
– Я – Соломкина, – ответила Валя, поправляя белую шапочку на заколотой косе, и увидела обаятельного длинноволосого бородатого дядьку, показавшегося знакомым.
– Господи! – воскликнул он, разглядывая Валю. – Это ж Голливуд! Чистый Голливуд! Где вы её взяли?
– Заходите, раздевайтесь, – смутившись, предложила Валя.
А надевая после массажа модные джинсы и свитер, он фамильярно взял её за подбородок:
– Что за глаза? Что за грудь? Я буду снимать тебя, беби! Повернись к свету. А теперь сними этот дурацкий колпак! Боже, какие волосы! Я тебя нашёл! У меня для тебя роль! Едем в Дом кино!
– В Доме кино снимают кино? – пролепетала Валя.
– Господи, так не бывает. Инопланетянка! Экологически чистый продукт! – восхитился он. – В Доме кино не снимают кино, а пьют на эту тему водку.
– У меня рабочий день, – напомнила Валя, понимая, что их диалог, замерев, слушают остальные девять кабинок.
– Сегодня прощаю, – сказал он великодушно. – Но завтрашний вечер мой! Сколько тебе лет?
– Скоро девятнадцать.
– Совсем большая девочка, и должна понимать, что такое шанс! – усмехнулся он, нежно погладил Валины волосы и вышел.
Когда за ним закрылась дверь, из девяти кабинок, бросив пациентов, выпрыгнули все девять массажисток и завопили:
– Вот повезло! Ты, Валька, потом не зазнавайся! На премьеру в Дом кино позови! А чё бы её не снимать, вон каких мымр в главных ролях снимают!
– Да хоть кто это? – недоумевала Валя.
– Валь, ты дура? Это же Лошадин! Ты что, не смотрела ни одного его фильма?
Валя поняла, что видела его по телевизору в передаче «Кинопанорама» и смотрела его фильмы.
– Смотрела, но всё равно наглый, – покачала она головой.
– Не вздумай его послать! Режиссёры всегда так находят главных актрис! Пойдёшь с ним в Дом кино! Нам туда пригласительные дают на фильмы, но ресторан только для артистов и режиссёров! Хоть расскажешь, чем там кормят!
– А муж?
– Ну, ты дремучая! Скажешь, вечеринка на работе!
Юрик отнёсся к идее вечеринки спокойно, но свекровь взвилась к потолку:
– Что это за вечеринки без мужей?
И тут свёкра осенило, что жена ни разу не взяла его на заводские выпивоны, боясь, что нажрётся и будет орать, какой при Сталине был порядок, а Брежнев не воевал ни на какой Малой Земле.
– На работе пашет, дом вылизала! Даже крепостных пускали погулять раз в год! – вступился он.
Валя еле дожила до следующего дня, надела лучшее бельё, хотя не собиралась его никому демонстрировать, и выходное шерстяное платье, в котором получала диплом. Девчонки-массажистки заставили её вытащить шпильки из причёски, и волосы рухнули золотистой волной до пояса.
Ей накрасили глаза ленинградской тушью, напудрили щёки и надушили дефицитными духами «Быть может». Потом завистливо проследили в окно, как Валя выходит в своём скромном пальтишке, набросив на него яркий павловопосадский платок.
Как Лошадин в модном импортном плаще распахивает перед ней дверцу белых «Жигулей», как жёлтые листья окутывают пару с порывом ветра, а Пугачёва поёт из радиоприёмника машины «Всё могут короли».
– Пойми, беби, здесь никто не знает, что такое настоящее кино. Я человек голливудского масштаба, а меня рубят с хвоста! – устало исповедовался Лошадин за рулём. – Мы сделаем с тобой фильм об Алтайских горах. Закат солнца над бирюзовой Катунью и крупный план твоих пшеничных волос… Это Канны, беби! Мы оторвём Канны! Кстати, как тебя зовут?
Валю никто не предупреждал, что подобный набор слов означает то же самое, что парни в её городишке произносили как:
– Падлой буду! Ща прямо на твоих глазах жру бутылку водки залпом и любого завалю ударом в репу!
И потому у Вали защекотало в носу и защемило в груди. Она словно услышала бой часов, означавший начало настоящего, ради которого столько времени массировала разнообразные части человеческих тел, выносила унижения свекрови и липкие прикосновения Юрика. Подумала, что на носу 1977 год, две семёрки непременно принесут ей счастье, и собралась как перед прыжком в воду.
Лошадин провёл её в дверь какого-то учреждения, они разделись в гардеробе, поднялись сперва по лестнице, потом на лифте и попали в ресторан. Валя никогда не посещала ресторанов, только кафе-мороженое с Леночкой. Тем более это был не простой ресторан – за столиками сидели, жевали, чокались, кричали и хохотали живые артисты.
И стало ясно, что естественно и внезапно осуществилось её заветное детское желание разбить линзу и экран, нырнуть в телевизор «КВН» и вынырнуть на «Голубом огоньке», оставив за собой дырку и ошмётки стекла.
Валя оглохла от грохота собственного сердца. Села посреди компании, куда показал Лошадин, покорно пила и ела всё, что наливали и накладывали, пожимала плечами в ответ на вопросы и едва сдерживалась, чтоб не разрыдаться от нервного перенапряжения.
По возрасту Лошадин годился ей в отцы, но выглядел совсем не так, как его ровесники в Валином городке. И тем более не так себя вёл. То галантно целовал ей руку, перебирая пальцы, то нежно поправлял волосы, то обнимал за плечи так умело и осторожно, что она переставала соображать.
Выпив несколько бокалов вина, пришла в себя только в подъезде дома на Садовом кольце, поймав недружелюбный взгляд консьержки, и зачем-то спросила Лошадина:
– Ты женат?
– На этот раз ни капельки!
Валя никогда не видела таких огромных квартир с медвежьими шкурами на полу, странными картинами и низкой неудобной мебелью. И то, что Лошадин делал с ней в спальне, было приятно. Она перестала «терпеть», как с Юриком, и радовалась каждому прикосновению.
Заснула на волосатой груди Лошадина и увидела Алтайские горы, по которым едет на белой машине навстречу бабушке Поле, протягивающей большой пирог с черникой. А утром проснулась оттого, что Лошадин водил по её щеке непонятно откуда взявшейся розой. В глазах у него были искорки, и на тумбочке стоял поднос с завтраком.
– Чай, кофе, беби? – спросил он как в иностранном фильме.
Валя вспомнила, что даже не позвонила Юрику, и прошептала:
– Что же я скажу там?
– Где? – удивился Лошадин.
– Там… где я замужем…
Обручального кольца на Вале не было, ведь массажистки не носят кольца.
– Беби, я не силён в мелодраме, – поморщился Лошадин. – Ты можешь навсегда остаться здесь, можешь вернуться туда. Но имей в виду, через полчаса я должен выехать на студию, хочешь, возьму с собой, хочешь, подвезу к метро.
Валя подумала, что завидует его дочери, хотела бы иметь такого отца. И её ненависть к мужчинам дала расползающуюся трещину, ведь Лошадин был не такой, как все. Она уже умела рубить сплеча и двумя телефонными звонками поставила точки, как на замужестве, так и на работе, сорвав в первом случае заслуженное: «Сучка грязная!», а во втором завистливое: «Ну, поздравляю!».
И это оказалось даже проще, чем ехать поступать в медучилище в чужой город, и логичней, чем выходить за Юрика. Ведь её будущий муж Лошадин был добрым, нежным, известным и гениальным. А главное, они полюбили друг друга с первого взгляда!
Валя ходила за Лошадиным хвостиком, не понимала правил игры, но пыталась подстроиться под них, и сбивчиво врала матери, приходя на телефонные переговоры. В квартире Юрика остался даже её паспорт, о чём было неловко напоминать Лошадину. А он не замечал, что на Вале одно платье, что дома носит его рубашку, а в тонком демисезонном пальтишке ей уже холодно.
Так же, как не обращал внимания на то, что она находится в ситуации полной беспомощности и абсолютной материальной зависимости. Если Лошадин не предлагал поесть, сидела голодной, если начинал говорить, покорно слушала, если ложился на живот, начинала делать массаж.
А когда он развлекался до утра без неё, Валя вылизывала огромную квартиру, готовила, стирала, гладила и штопала, напевая бабушкину любимую:
- Там кукушка кукует,
- Моё сердце волнует.
- Ты скажи-ка мне, расскажи-ка мне,
- Где мой милый ночует.
- Если он при дороге,
- Помоги ему, Боже,
- Если с Любушкой на постелюшке,
- Накажи его, Боже…
Однажды хмельной Лошадин застал её за глажкой и пением в шесть утра и усмехнулся:
– Этнично! А ты правда из деревни?
– На каникулах жила у бабушки, – сдержанно ответила Валя вместо «где ты шлялся?»
– А что там всё лето делать? – зевнул Лошадин.
– Как что? Второго июня Фалалей Огуречник, надо огурцы сажать. Коли на елях много шишек, будет много огурцов. Третьего июня – Олёна Леносейка. Сеют лён. Если на Олёну ненастье, осень будет злой и ветреной, – загибала Валя пальцы. – Седьмое июня, Иванов день. С него идут росы медвяные. Лечебные травы надо класть под Иванову росу…
– Всё, всё, всё! – замахал он руками. – Вот что, пейзанка, завтра придёт фарца, хоть приоденешься. А то тебя неловко показывать.
Слово «фарца» было знакомо. В поликлинику на Ленинском приходила вульгарная тётка и продавала всё от французских духов до лифчика «анжелика», на которые у Вали даже близко не было денег.
А «фарцой» Лошадина оказался суетливый парень с чемоданом, он вытряхнул содержимое и стал трындеть на непонятном языке. Знакомыми словами были «страус», «берёзка» и «чеки». Но «страус» оказался джинсами, «чеки» – бумажками, похожими на игрушечные деньги, а «берёзка» – магазином, куда пускали избранных.
Приговаривая, что у него последние деньги и завтра он возьмёт в долг, Лошадин купил несколько вещей себе, а Вале две модных обтягивающих кофточки, короткую джинсовую юбку и красивую тёплую куртку. Его не занимало, что бельё и колготки у неё были только те, в которых пришла.
– Видела, какие на нём штаны? – восхищённо спросил Лошадин после ухода фарцы.
– Ткань простая, да и светлые. Маркие очень, – пожала плечами Валя.
В тканях она благодаря матери разбиралась. И вместо того, чтобы сказать «спасибо», ведь это был первый в её жизни подарок, сделанный мужчиной, добавила:
– У нас в городке тоже спекулянты ходят, вещи носят. А в бабушкину деревню цыгане наезжают с золотыми серёжками и коврами.
– Фрося Бурлакова! – расхохотался Лошадин.
Валя любила фильм «Приходите завтра» и сейчас, как никогда, понимала главную героиню, но сравнение казалось обидным, уж больно Фрося была страшная.
– Зачем покупаешь, если в долг берёшь?
– Так все в кино живут. Получаешь за фильм, раздаёшь долги, детям подкидываешь. Потом несколько лет опять берёшь в долг.
– Каким детям?
– Ну, у меня есть разные дети… – ответил он тоном, означающим «тебя это не касается».
– А зарплату не платят? – спросила Валя, прикусив язык на тему детей.
– Кто? – захохотал Лошадин. – Короче, кофты, чтоб ты прилично выглядела в Доме кино на Новый год. Будем его там встречать.
И у Вали снова сладко забилось сердце. На Новый год мать делала салат оливье, пекла пирог с мясом, покупала Вале что-то из одежды, а отцу четвертинку, и получала от него в финале по лицу.
А в Берёзовой Роще бабушка Поля наряжала для Вали ёлку. Фабричных игрушек не было, и они вместе мастерили из пластилина и тряпочек куколок, вырезали из бумаги снежинки, плели гирлянды. Бабушка варила холодец, покупала карамельки «подушечки» и соевый «шоколад», а утром Валя обнаруживала под подушкой пряники или сахарного петушка на палочке.
Да и дети у Лошадина, конечно, должны быть. Он ведь такой взрослый. Странно, что не висит никаких фотографий, и он о них не рассказал. Но конечно, потом познакомит, и она с ними подружится. А Нового года в Доме кино Валя боялась, потому что запоминала все реплики знакомых Лошадина, произнесённые прямо при ней:
– Что именно она тебе массирует, что хочешь её на главную роль? Думаешь, мы будем финансировать фильм под каждую твою эрекцию? Зачем тебе Алтайские горы? Возьми жену Михайлова на главную роль и завтра же запускайся на Домбае! В этой молодой кобыле ты разглядел Бриджит Бардо?
Валя толковала каждую из этих фраз на все лады, ведь Лошадин бьётся за настоящее искусство и у него много врагов. Но она всё равно станет его женой, знаменитой артисткой и будет со смехом рассказывать журналистам, какой несчастной казалась себе тогда, то есть теперь…
На самом деле в артистки не хотелось, скучала по работе. Но Лошадину нужна не жена-массажистка, а жена-артистка, и Валя отправила главврачихе по почте заявление с просьбой уволить её в связи с замужеством. Главврачиха могла заставить отработать две недели или уволить за прогулы, но решила не связываться с Лошадиным.
Отдельной проблемой стала Дарья Леонидовна, пожилая, на Валин взгляд, властная женщина с опрятной стрижкой и орлиным носом. Она следила за чистотой множества квартир в «киношном» доме Лошадина, была безупречно честна, и ключи для уборки ей оставляли прямо у консьержки.
Зайдя в вылизанную Валей квартиру Лошадина, она презрительно фыркнула, мол, «много я вас тут таких повидала», и стала делать вид, что убирает и без того стерильное пространство.
– За что ты ей платишь? – возмутилась Валя первый раз. – Да ещё и оставляешь ключи!
– Привык к ней, – лениво ответил Лошадин.
– Но ведь я убираю лучше!
– Меня не слишком волнует, убрано или нет. Моя голова загружена другими вещами.
И Вале пришлось молча подписать с Дарьей Леонидовной пакт о ненападении. Она продолжала вылизывать квартиру, а Дарья Леонидовна продолжала получать деньги, которых у Вали не было даже на метро.
Как-то днём подъехали к дому во время жуткого снегопада, Лошадин заторопился, и они почему-то побежали по лестнице, не дожидаясь лифта. В квартире он открыл окно, посадил Валю на скользкий от тающего снега подоконник, содрал с неё куртку, блузку, бюстгальтер и стал бешено ласкать и целовать Валины плечи и грудь.
Было ужасно холодно, на голую спину падал снег, казалось, Лошадин случайно подтолкнёт, и она полетит с пятого этажа вниз. А главное, непонятно, что всё это значит?
– Какая линия, беби, боже мой! А-а-а! И Москва под снегом! О-о-о! Это будет последний кадр! Обстоятельства жестоко развели их… Он уже не мальчик… Снег прошёл по его волосам… С ней тоже случилось многое… Она ждёт его, сидя на подоконнике… Она ждала его девять лет… – урчал Лошадин, фантазируя о будущем фильме и тиская Валю в опасной для жизни позе. – Он входит в заснеженном пальто… Им так много надо сказать друг другу, что приходится молчать… Он подходит, начинает целовать её, срывает с неё ночную рубашку… А сзади странный парк в штрихах снега… И музыка… Такой тёплый медляк… Ну как?
– Красиво, – кивнула Валя, стуча зубами от холода. – Но разве, когда ждут, сидят спиной к окну?
– Это кино, беби! В нём должно быть немного вымысла ради правдоподобия.
– Боязно так сидеть, кажется, выпадешь вниз, – призналась она.
– Потому что внутри должен быть огонь, – бросил он. – Этим артистка и отличается от массажистки!
Валя не успела понять, когда его тон из шутливо-ласкового превратился в раздражённо-командный. Думала, это субординация, ведь Лошадин настолько старше её. Старалась ещё лучше готовить, стирать и гладить, но он этого не замечал. Да и ситуация с фильмом про Алтайские горы повисла в воздухе.
Лошадин всё больше и больше раздражался, всё чаще ездил выпивать в Дом кино один, и Валя волновалась, что, сев за руль, он попадёт в аварию. Однажды после возвращения Лошадина с очередной попойки в Доме кино Валя стояла под душем и почувствовала, как у неё горят щёки. Бабушка говорила, щёки горят к слезам.
Валя на цыпочках вышла из ванной, чтобы неслышно добраться до постели и весело броситься в объятия Лошадина, но застыла от тона его нетрезвого голоса в телефонную трубку.
– Нет, старик, я сломался. Это неподнятая целина! Может, она к сорока годам и станет бабой, но я тогда буду лежать не на ней, а на Новодевичьем кладбище. Я тоже не верил во фригидных! Какое снимать? Она тяжёлая, как Царь-колокол! Как выпереть, пока не придумал, она ж строит из себя бесплатную домработницу, жду случая, чтоб прицепиться… Завтра к Игорю не могу, у Надьки до утра зависну. Надька заводная, её рогоносца в Мурманск послали. Решил взять её на главную роль!
Внутри у Вали задрожало и всхлипнуло детское «как же так?», как в минуты, когда пьяный отец начинал крушить комнату. Казалось, из-под неё выдернули пол, и она летит в глубокую чёрную бездну. Валя чувствовала, что не оправдывает ожиданий Лошадина в постели, но не знала, как об этом спросить.
Значит, всё это время он изменял ей со старой развязной Надеждой Куклиной. Куклиной, которая хрипло хохотала, ярко красилась, не вынимала сигареты изо рта и прижималась к мужикам так, что их спутницы чувствовали себя оскорбленными. Куклиной, которая была замужем за важным военным, много снималась в эпизодах и претендовала на Валино место в предстоящем фильме.
Валю трясло, когда Куклина подмигивала Лошадину, когда подсаживаясь за столик в Доме кино, бесцеремонно съедала что-то его вилкой с его тарелки. А проходя мимо, обдавала запахом пота, смешанного с духами «Красная Москва». Подражая, Валя как-то облилась ландышевыми духами.
– Беби, почему от тебя пахнет банным мылом? – поморщился Лошадин.
– Это духи, – потупилась Валя.
– Духи бывают или дорогими, или лишними. У тебя двадцать минут, чтобы принять душ. Я не могу идти с девушкой, пахнущей, как доярка.
– От Куклиной вообще пахнет «Красной Москвой»! – парировала Валя. – Как от старухи!
– «Красная Москва» – это переименованный аромат, созданный для императрицы Марии Фёдоровны к 300-летию дома Романовых! Если за двадцать минут не вымоешься, иду один.
И теперь, подслушав самое страшное, Валя вернулась к огромному зеркалу в ванной, и слёзы поползли с персиковых щёк, пытаясь добраться до нежных сосков и прочего великолепия её свежей плоти, отвергнутой старым Лошадиным из-за загадочного изъяна.
Она поняла, что ни в каком кино он её не снимет и не возьмёт замуж. Что надо быть гордой и уйти… но куда? Вернуться к матери – позор, да и денег на билет одолжить не у кого. Прошлая работа исключена. Девчонки в поликлинике намекали на подобный финал, и нельзя доставлять им такое удовольствие.
Показаться на глаза Соломкиным невозможно. И поделом ей, ведь Лошадин попользовался ей так же, как она попользовалась Юриком. Но Валя бы не выжила, если б не умела отделять эмоциональное от рационального. Она знала, что будет плакать ночами по Лошадину, но отодвинула это «на потом».
Как говорила бабушка, коли ты спроста, и я спроста, коли ты с хитрости, так и я с хитрости. Валя решила переиграть Лошадина и, взяв себя в руки, отправилась из ванной в постель под его дежурные торопливые поцелуи. А про себя думала: «Сволочи! Какие же вы тут все сволочи! Точно такие же, как там дома!»
И имела в виду всю стилистику киносреды, в которую входили постоянные приставания старых похотливых котов. Из тех, кого в газетах называют живой легендой, а они, сидя рядом за столом, засовывают тебе под скатертью руку в трусы.
Первый раз Валя чуть не хлопнулась от ужаса в обморок, выскочила вон, стояла у дверей ресторана Дома кино, пока Лошадин не пошёл искать её. А на объяснение пожал плечами: «Что я могу сделать? Классик…»
Домкиношные коты даже здоровались с ней, облапав при Лошадине. Писали при нём свои телефончики на салфетке и шептали в Валино краснеющее ушко: «Позвони, дурочка, получишь эпизод!» И Валя брезгливо выбрасывала эти салфетки.
Пока Лошадин отсыпался у Куклиной, подавленная Валя собирала вещи и бродила по квартире, которую столько раз вылизывала. Собственно, и вещей у неё не было, купленная Лошадиным зубная щётка, две кофточки, юбка, куртка и чуть-чуть косметики.
Но тут раздался звонок, и на пороге нарисовался артист Кирилл Лебедев. Консьержка, каждый раз мрачно зыркающая на Валю, пустила его без вопросов, потому что тридцатилетний красавец Лебедев сыграл нескольких богатырей в популярных фильмах-сказках, и женщины всех возрастов были от него без ума.
Именно он и прошёл кинопробы на главного героя, который в старящем гриме срывает с дождавшейся его на заснеженном подоконнике жены ночную рубашку. Валя вежливо предложила Лебедеву чаю, хотя уже не чувствовала себя здесь «хозяйкой», просто он ей нравился. Да и кому он мог не нравиться?
– Водка есть? – раздражённо спросил Лебедев.
И Валя самовольно достала из холодильника початую бутылку и две стопки.
– За тебя, Валентина! – поднял Лебедев рюмку.
Валя пригубила, Лебедев опрокинул в себя ещё рюмку и заметил:
– Пропадёшь с Лошадиным за пять копеек!
– Почему?
– Мы с тобой деревенские, в городе ни два, ни полтора, – Лебедев влил в себя ещё рюмку. – Нам ничего даром не достанется. Я раньше начал, а ты ещё как слепой котёнок в стены тыкаешься.
– И что делать? – Лебедев всегда казался Вале своим и никогда над ней не подтрунивал, как остальные.
В фантазиях она даже примеряла, как такой красавец будет срывать с неё ночную рубашку, целовать её перед кинокамерой. Краснела и стеснялась спросить у Лошадина, по правде ли на съёмках целуются?
– Пришёл рыло твоему начистить! На пробах утвердил, а теперь спихнул с главной роли, – он выпил ещё рюмку. – Я ж на возрастную роль согласился, потому что у меня главные только в сказках! Мне до зарезу надо в большом кино сняться, а твой взял Волжанина! Видела Волжанина? Чистый пидарас! Они ему ватные мускулы под рубашку наклеят? А знаешь, кто ему Волжанина сунул? Куклина! Она теперь парад принимает!
– Так он её вместо меня будет снимать! – опустила Валя глаза, зачем-то допила водку, хотя не завтракала, горячая волна упала в голодный желудок, покатилась по телу и развязала язык. – От мужа меня выдернул, увёз, в чём была, всю жизнь переломал! Теперь идти некуда, даже паспорта нет на работу устроиться.
Валя казалась себе непоправимо несчастной, и потому сумела забыть, что нырнуть в телевизор «КВН» и оставить после себя дырку было её собственным выбором и её детской мечтой.
– Сукин сын! – глаза Лебедева после водки показались ещё более огромными и нежными.
– Ему со мной в постели скучно, я ж не развратная, как Куклина… – у Вали перехватило дыхание, потому что по трезвому делу не смогла бы обсуждать такое даже с подругой.
– Вот что, Валентина, – резко сказал Лебедев. – У тебя вещей много?
– То, что он у фарцы купил. Иначе ему со мной ходить стыдно.
– Оставишь здесь, пусть подавится! – скомандовал Лебедев. – Бери сумку, пошли, я хорошую комнату снимаю. Лошадин у меня главную роль отнял, а я у него бабу уведу! Давно на тебя глаз положил.
И это «глаз положил» прозвучало маслом по сердцу, ведь так говорили в их городке.
– Он сказал, со мной в постели скучно, – честно предупредила Валя.
– А мне не б… нужна, а жена! – неожиданно подмигнул Лебедев, щеки у него румянились от выпитого, а глаза блестели. – Тут таких, как ты, больше нет. Мы ж с тобой лимита, будем отбиваться спина к спине. Представляешь, какие у нас дети получатся красивые?
Лебедев рухнул перед ней на колени и начал совсем уж не по-деревенски целовать Валины ладони, запястья и шею. Она перестала соображать, примерно, как первый раз в ресторане Дома кино. И было от чего, к ней впервые прикасался молодой, невероятно красивый и нравящийся ей мужчина.
И в Валиной тактильной памяти жуткие прикосновения насильника-милиционера мгновенно обвалились в одну братскую могилу вместе с цыплячьей суетой Юрика и командами Лошадина: «А теперь сделай мне так, беби!»
Лебедев словно играл на её теле чудесную мелодию, и, закрыв глаза в его объятиях, Валя вдруг увидела себя танцующей в белом платье на Красной площади. Ей стало легко, спокойно и совсем наплевать на то, что в двери может повернуться ключ Лошадина.
– Тебе было хорошо? – нежно спросил потом Кирилл.
И у Вали брызнули слёзы, ведь она не подозревала, что бывают мужчины, которых это интересует, и ответила:
– Не знаю…
Её разрывало от благодарности, и она чувствовала себя вознаграждённой за тяготы и унижения замаячившим маршем Мендельсона с красавцем Лебедевым. Ведь, в отличие от Юрика и Лошадина, он был ей парой. И можно было подсмеиваться над Валиной жаждой фаты, но всю сознательную жизнь ей толкали в голову, что она живёт ради того, чтобы выйти замуж и нарожать стране здоровых детей.
– Честно скажу, в ЗАГС не могу, – признался Лебедев. – Мы с тобой два сапога пара, и оба левые! Самому нужна московская прописка.
– Так у меня она есть, – обрадовалась Валя. – Я и тебя пропишу!
– Тогда всё сходится!
И они, обнявшись, ушли из шикарной квартиры Лошадина, даже не помыв за собой рюмок. Валя оставила кофточки, юбку, которые купил Лошадин. Оставила своё старенькое пальто, в нём было уже холодно. И ушла в подаренной тёплой куртке.
Они бродили по ночной предновогодней Москве и под утро оказались в десятиметровой комнатёнке, заваленной пустыми бутылками и журналами о кино. Кроме дивана, там умещались платяной шкаф, журнальный столик и два стула, но больше ничего и не было нужно для счастья.
И эта съёмная комнатёнка была уютней, чем огромная модно обставленная квартира Лошадина, ведь здесь из-за тесноты они каждую секунду касались друг друга со всей вспыхнувшей страстью и нежностью.
Квартирная хозяйка Никитична когда-то молодухой приехала в Москву работать на стройке, вышла замуж, вырастила сына, похоронила мужа, души не чаяла в своём квартиранте и приняла Валю как родную.
Жила она с дорогим телевизором и бедным гардеробом. С давно не стиранными выгоревшими занавесками, с кастрюлями с отбитой эмалью и замызганной плитой, зато стены на кухне были увешаны расписанными разделочными досками, напоминавшими Никитичне родную деревню.
А главными действующими лицами в квартире были три сибирские кошки: Вера, Надежда, Любовь. Никитична рассказала, что была у них и мать Софья, но сдохла от чумки. И счастье, что родила трёх девок, потому что котиков пришлось бы топить, чтоб не было дурного запаху.
Но запаха всё равно было достаточно, Никитична мазала Веру, Надежду и Любовь от блох керосином. После этого мыла их детским шампунем «Солнышко», потом они несколько дней вылизывали себя, и их рвало.
Кроме запаха был и звук, когда все три красавицы садились под входную дверь и истошно орали, требуя женихов. Сначала Валя не могла под это уснуть, а потом привыкла. Даже стало казаться, что она в деревне у бабушки, где ночами перегавкиваются собаки, а вопли кошачьих свадеб сплетаются с разборками ворон.
Вскоре сестричка Юрика Леночка тайно принесла Вале паспорт с дипломом, деньги в коробке со старыми туфлями и коврик с девушками, танцующими на Красной площади в юбках солнце-клёш. Кирилл подал Вале с Леночкой чай с печеньем и тактично вышел на кухню.
Валя обнимала плачущую Леночку и оправдывалась:
– Я же не виновата, что разлюбила Юрика и полюбила Кирилла!
Она деликатно пропустила звено с Лошадиным, Леночка не справилась бы с таким сложным сюжетом. Тем более что Вера, Надежда и Любовь в это время, мяуча, боролись за право на Леночкины колени.
– Конечно, Лебедев вон какой! Я б тоже в него втрескалась! Юрика жалко, начал пить, безобразить, – хлюпала носом Леночка, прижимая к себе сразу трёх кошек, а Валя подумала, как вовремя убежала от Соломкиных.
Во второй приход Леночка принесла Вале свадебное платье и другие вещи. Правда, обручальное кольцо забрала старшая Соломкина, да и бог с ним.
Новый год отмечали дома. Хотели пойти назло Лошадину в Дом кино, но поняли, что им никто не нужен. На деньги из обувной коробки Валя накупила еды, шампанского, подарки Кириллу, Никитичне и даже пачку сосисок кошкам.
А Кирилл принёс тяжёлый букет замороженных роз. И хоть в тепле они быстро завяли, Валя заплакала от умиления. Ей впервые дарили розы просто так. До этого только на свадьбу с Юриком, и то исключительно для богатой фотографии.
В первый рабочий день после Нового года Валя пришла забирать в поликлинике трудовую книжку, и на вопросы отвечала с загадочной джокондовской улыбкой, обещая, что скоро всё расскажет.
Она щеголяла купленной Лошадиным курткой от фарцы и сияла так, что массажистки пожелали ей побольше главных ролей в кино. А ещё взволнованным шёпотом рассказали, что слышали от пациента из начальства про взрыв поезда между станциями метро «Измайловская» и «Первомайская», а кроме него взорвали два продуктовых в центре.
Валя решила, что у них массовое помешательство, ведь об этом не говорили по телевизору. И так и не узнала о трёх терактах в Москве 8 января 1977 года, в которых погибло семь человек и было ранено 37. И ей было спокойней оттого, что террористы, считавшие, что русских надо взрывать за угнетение армянского народа, прошли мимо её и без того непростой жизни.
Потом был позорный развод с Юриком. Свекровь тряслась и кричала, что брак фиктивный, а Валю надо выслать на сто первый километр. Но судью интересовало не это, а возможность взять для внучки автограф у красавца Лебедева. В финале свекровь бросилась на Валю с кулаками, нелепо подпрыгивая, и судья велела приставам её вывести.
Леночка рыдала в коридоре. Юрик с ненавистью разглядывал расслабленного роскошного Лебедева в дымчатых очках. А после решения о расторжении брака Валя подошла в коридоре к поникшей свекрови и сказала:
– Простите меня! Я не претендую на площадь. Пропишу к вам через суд Кирилла, у вас не будет хватать метров, от завода дадут ещё квартиру. И Юрик там нормально женится.
– Я ж тебя, аферистку, с порога распознала, далеко пойдёшь! – процедила свекровь, но в глазах у неё зажёгся огонёк «квартирного конструктива».
Валя с Кириллом подали заявление в ЗАГС, наврали, что ему срочно на съёмки, и им тоже назначили бракосочетание через неделю, а не как всем. Валя вызвала мать на переговорный пункт, коротко сказала:
– Ушла от Юрика, приезжай на свадьбу!
– Что ж ты, доча, делаешь? Юрик-то как-никак инженер! – заголосила мать.
– Записывай адрес. Дашь телеграмму, встретим, – Валя не хотела произносить фамилию жениха, боялась сглазить.
Когда вальяжный Лебедев в дымчатых очках подхватил на перроне её чемодан, мать потеряла дар речи. Ей стало не важно, что у Юрика была какая-никакая квартира, а Лебедев ютился в съёмной комнатушке, она предвкушала потрясение, которое испытают в городке от свадебных фотографий.
Никитична поселила мать на неделю в своей комнате на кушетке, и мать возмущалась, что Вера, Надежда, Любовь лезут к ней на постель ночью и мурчат, как работающие трактора. А Никитична уверяла в ответ, что это лечебные кошки и ложатся они только на больные места.
Ещё мать осуждала ящик с песком в туалете и уговаривала Никитичну выгонять кошек гадить на улицу и лупить по морде, когда когтят диван.
– На улицу никак нельзя, – пояснила Никитична. – Они ж не привитые!
Услышав, что кошкам в Москве делают прививки, мать онемела от возмущения.
Никитичне стало неудобно за подобный столичный разврат, она стала оправдываться:
– Вон Сонька, покойница, на улицу два раза сходила, сперва этих трёх принесла, а потом чумку!
– Так ведь небось орут, когда кота хотят?
– Не то слово, орут! Хор Пятницкого!
А потом мать проявила неожиданную для себя инициативность, пробежалась по соседям, одолжила ручную швейную машинку подольского завода и гладильную доску. Просто звонила в чужую дверь и говорила:
– Помогите, люди добрые, свадьба у нас, артист Кирилл Лебедев женится!
Валя никогда не видела её такой раскованной и предприимчивой. Мать нашила на машинке молодым и Никитичне постельного белья из дорогой ворованной с фабрики ткани с рисунком, как в импортных журналах.
А потом стала реанимировать на гладильной доске Валино свадебное платье. Любовно протирала каждую оборку снизу губкой, опущенной в подкисленную уксусом воду, набирала в рот обычную воду, брызгала ею на оборку изо рта тонкими нитками, ставила сверху утюг и на секунду торжественно замирала, шепча:
– Бог не Тимошка – видит немножко!
С Никитичной они жили душа в душу. Из-за вражды с невесткой Никитична ездила в гости к сыну только на праздники и скучала по внукам. Её пенсионная жизнь была наполнена обследованием ближайших магазинов, где знали про Веру, Надежду, Любовь и оставляли мясные обрезки, потому что кто-то прочитал в журнале «Наука и жизнь», что, если кормить кошек минтаем, у них будет мочекаменная болезнь.
Никитична была тихая трогательная старушка и враждовала с невесткой, поскольку та хотела съехаться, дескать, помрёт Никитична и оставит квадратные метры государству. Но Никитична вовсе не собиралась помирать, потому что долгие годы ухаживала за внуками и парализованным мужем, и вознамерилась пожить для себя и кошек.
Когда Лебедев объявил, что Никитична будет представлять на свадьбе его родню, потому что родне дорого лететь с другого конца страны, Никитичне стало плохо с сердцем. Валя привела сердце Никитичны в порядок, а ночью ей на грудь рядком улеглись Вера, Надежда и Любовь.
Валя понимала, Кирилл не зовёт родню на свадьбу, потому что не хочет показывать, что скитается по углам и живёт от роли до роли. Она по той же причине второй раз не позвала бабушку. Но ничего страшного, они заработают, вступят в кооператив и примут у себя и бабушку Полю, и его родню.
Мать обследовала гардероб Никитичны и обнаружила выходное платье, в котором та тридцать лет назад ходила на свадьбу сына. Моль простегала его за эти годы многочисленными аккуратными дырками, и мать за ночь вышила вокруг дырок такие узоры, что хоть сдавай в художественный салон.
Чтобы не посрамить на свадьбе род Лебедевых, Никитична даже пошла в парикмахерскую, где седым куделькам организовали шестимесячную завивку, отчего стала похожа на комическую старуху на сцене МХАТа.
А Кирилл договорился в костюмерной студии Горького о дорогом костюме и упросил Валю не говорить матери, что это не его костюм. Валя в ответ упросила не рассказывать матери о Лошадине. И после этого перекрёстного опыления они стали парой, сплетённой ещё и тайнами, то есть настоящей парой.
В прошлосвадебном платье, прокатном костюме и без колец, на которые не было денег, поехали в ЗАГС, и всё оказалось не так, как с Юриком. Валя с Кириллом сияли, и женщина, ведущая церемонию, под конец выдохнула:
– До чего ж красивая пара! Дорогие Лебедевы, можно с вами сфотографироваться?
И пока Валя соображала, что из Соломкиной превратилась в Лебедеву, другие брачующиеся пары тоже попросили совместной фотографии. А потом все вместе пили в холле шампанское и уверяли, что брак, зарегистрированный одновременно с артистом Лебедевым, будет счастливым.
В свидетельницы Вале снова выдали незнакомую женщину, снимавшуюся с Кириллом в очередной сказке. А мать и Никитична от волнения всё время лезли на первый план, и приходилось их мягко оттеснять. Из ЗАГСа поехали на двух такси в ресторан Дома кино, где на Валины сбережения был заказан «загон» в несколько столиков.
Конечно, это было провокацией. Одни артисты осуждали Лошадина, что выкинул Лебедева и Валю с намеченных ролей, подходили поздравить и поднять рюмку за молодых. Другие сочувствовали Лошадину, потому что рассчитывали у него сниматься, и с отвращением отворачивались от свадебной гулянки.
Незнакомый Вале немолодой артист, сидевший возле матери, начал яростно за ней ухаживать. И неизвестно, чем бы это кончилось, если б к Кириллу из другого конца ресторана не подлетел не менее пьяный, чем он, актёр и громко назвал Иудой. Лебедев ярким жестом сбросил костюмерный пиджак и швырнул его в руки Вале.
Они сцепились с обидчиком, покатились по полу клубком, и Лебедев разбил ему голову. Мать с Никитичной только во время драки пришли в себя, до этого сидели посреди артистов примерно, как Валя, впервые приведённая в этот зал Лошадиным, стеснялись есть и пытались собрать грязные тарелки и отнести их на кухню вместо официанток.
Приехала «Скорая помощь», уборщица стала замывать кровь на полу. Милицию в Дом кино не вызывали, к дракам среди национального достояния привыкли. Валя расстроилась, что вторая свадьба кончается дракой и «Скорой», но Лебедев упал к её ногам и начал читать Шиллера. Из роли в курсовом спектакле.
Ресторан Дома кино зааплодировал и завопил: «Горько!» А мать некстати зашептала на ухо:
– Доча, а скоро ему квартиру от кино дадут?
Она никак не могла расслабиться в таком высоком обществе, и снова стала дёргать Валю:
– Фотографию бабке Поле в Берёзовую Рощу отвезу.
– Сама с посылкой отправлю, – шепнула Валя.
Не хотелось, что мать, с её длинным языком, расскажет бабушке всё про развод с Юриком, про съёмную квартиру. Лучше положит фотографии в посылку вместе с конфетами, другими подарками и письмом, которое прочитает сосед Ефим.
Бабушка гордилась Валей, радовалась подаркам, но поскольку телефона в деревне не было, общалась с внучкой, только послушав её письма или во сне. Да и Вале она часто снилась, и всегда было ясно, что хочет сказать. Не потому что обеих называли колдовками, а просто у них была тесная связь, протянутая золотой ниткой через города и веси.
Валя с Кириллом жили на одном дыхании, ходили, держась за руки, не видели ничего вокруг и были по-настоящему счастливы. Он даже отхватил на этой волне удачу, пригласили сняться летом ещё в одной детской сказке под названием «Лесной богатырь».
В отличие от Юрика, Кирилл был чуткий, тонко организованный, всё видел и замечал. А Юрик ничего не видел, ни про себя, ни про других. Его не научили. И так мало говорил, что Валя даже не поняла, умный он или дурак.
Никитична гордилась знаменитым жильцом, выписывала для него «Советский экран». Валя читала журнал запоем, и киношная жизнь затягивала её в свою пёструю воронку. Была на таком подъёме, что не обратила внимания на фразу Никитичны:
– Любит тебя! Даже пить бросил!
А потом Леночка принесла добрую весть, бывшая свекровь передала, пусть богатыря своего прописывает, она в профком с конфетами пошла, пожаловалась на брачную аферистку, но про артиста Лебедева ей не поверили, сказали, врёт, а как принесёт справку про Лебедева, сразу на очередь поставят.
И снова был суд с разделением лицевого счёта и прописыванием Лебедева к Соломкиным. И свекровь снова кричала про брачную аферистку и сто первый километр, но теперь уже для проформы, а за дверями судебного зала подмигнула Вале и сказала:
– Ладно уж, живи! Юрика в старой оставим, Ленку – с собой в новую возьмём.
Валя устроилась работать в поликлинику поблизости от снятой комнаты, а летом взяла неоплачиваемый отпуск и, не веря своему счастью, поехала с Кириллом на настоящие киносъёмки. В глухой деревушке построили и топорно расписали дворец, к которому ездили на автобусе из убогой райцентровской гостиницы.
Жителей деревни наряжали в дурацкие костюмы, сшитые из самых дешёвых тканей, платили им за массовку копейки, и те были на седьмом небе. Арендовали двух колхозных жеребцов, но они не знали ни одной команды, и снимать на них героев можно было только в статике.
Валя гордилась Кириллом, а он «звездил» и капризничал на всю катушку. Чтобы ему было комфортней, Валя старалась понравиться хамоватому старому режиссёру, делала ему массаж от остеохондроза. А когда у него загноился палец, прибинтовала на больное место, как учила бабушка, верхнюю плёнку свежей бересты, и к утру палец стал как новый.
Режиссёр отблагодарил эпизодом. Валю нарядили в сарафан и кокошник, заплели косу и заставили поднимать вёдра воды из глубокого колодца. Режиссёр орал:
– Светиться! Ты должна не зубы скалить, как кобыла, а изнутри, мать твою, светиться! Такая тупость при такой фактуре! Органику, органику из себя дави! Ещё дубль!
От этого унизительного занятия на экране остались секунды три.
Никто не понимал про что сказка, сценарий меняли в зависимости от режиссёрского настроения пять раз на дню. Снимали по крохотному эпизоду и бодро пили. В последние три дня кое-как досняли остальной материал, и киногруппа напилась так, что разгромила на глазах у деревенских всю декорацию.
На премьере Валя умирала со стыда, но режиссёр был известный, и «Лесной богатырь» отметили на фестивалях и многократно показали детям по телевизору. На съёмках Валя с ужасом поняла, что Лебедев не просто пьёт всё, что журчит, а спивается. Он клялся, что в Москве завяжет, но Валя помнила, сколько раз обещал бросить пить отец.
После съёмок всё изменилось, днём Валя вкалывала на работе, а вечером ехала разыскивать Кирилла по дружкам и волокла домой, стесняясь, что его узнают прохожие. И, по сути, оказалась ровно в той жизни, от которой бежала из своего городка. Слушала ночью неровный пьяный храп мужа, он захлёбывался и боролся за воздух, и Валя гладила его по голове и переворачивала на бок.
Она любила его, готова была на всё, лишь бы бросил пить и стал таким, как в первые месяцы после свадьбы, но богатырское тело Кирилла, казавшееся прежде таким желанным, постепенно перестало её волновать. И Валя, точно как с Юриком, стала придумывать предлоги, чтоб отказаться от секса. Думала, это потому, что фригидная, как сказал Лошадин.
С Кириллом она впервые узнала не только, что такое наслаждение, но и что такое семья. Когда был трезвым, они всё время разговаривали, называли друг друга ласковыми именами, вместе принимали решения, рассказывали друг другу о прошлом и строили планы на будущее.
Валя писала маме и бабушке Поле, что всё хорошо, но её зарплаты и халтуры хватало только на жизнь и комнату, и было не на что навестить их с подарками. Кирилла больше не снимали, денег на алкоголь не было, но он находил киношные банкеты, дружков и поклонников. Валя пыталась вспомнить хоть одну траву, хоть один заговор от пьянства, но ничего не получалось.
Близился Новый год, 1978-й. Валя решила подзаработать на подарки матери и бабушке, пахала так, что не помнила себя, и не сразу сосчитала по календарю, что забеременела, хотя тщательно предохранялась. Поделилась утром с Кириллом, он обрадовался, всю её обцеловал. Признался, что давно хочет стать настоящим отцом, а не гастрольным осеменителем, к которому в номер гостиницы ломятся девушки с просьбой «хочу от вас ребёнка».
Весь день Валя считала, прикидывала траты на ребёнка, советовалась с девчонками на работе про декретные, но результаты вернули её с неба на землю. Выпасть с работы до ясель? Вернуться к матери с малышом? Та сама жила на зарплату и кормила на неё отца. Уехать в Берёзовую Рощу, сесть бабушке на шею?
Вечером она не поехала искать Кирилла, сидела в раздумьях. Он вернулся не очень поздно, но очень пьяный. Театрально рухнул к её ногам, начал целовать её колени и шептать:
– Золотая моя, любимая! Сына хочу! Владимира! Владимира Кирилловича!
Вале давно приелись его руханья к ногам и другие театральные наработки, так поразившие в начале отношений, и она развела руками:
– Кириллушка, где мы будем его растить?
– Здесь! – пьяно кивнул Кирилл.
– А жить будем на что?
– Ребёнка не хочешь? – вскочил он на ноги и заорал.
– Хочу! Очень хочу! – Валя инстинктивно встала напротив него. – Но сделаю аборт!
– Моего сына хочешь убить, сука? Забыла, как я тебя с панели подобрал!? Забыла, что на тебе, шлюхе, женился!? – дико заорал Кирилл и швырнул её так, что у Вали потемнело в глазах.
Она оглушённо поднялась, села на диван и закрыла лицо руками. Показалось, что летит с горы, а вокруг рушатся другие горы, и все они превращаются в равнину, под которой засыпано всё, что ей важно и дорого. Ведь Валя рассказывала ему о детстве, об отце, а он отвечал:
– Пью, потому что артист, но ни одну бабу пальцем не тронул!
Кирилл протрезвел, испугался, отрепетированно бросился к её ногам, начал отнимать её руки от лица и целовать каждый пальчик, шепча:
– Дорогая моя, золотая, единственная!
Но Валя его уже не слышала, сходила на автопилоте на кухню, принесла на подносе ужин и молча легла спать. Кирилл плюхнулся рядом, обнял её и захрапел. Тогда она освободилась от его рук и сняла со стены мамин коврик с девушками, танцующими на Красной площади в юбках солнце-клёш.
Собрала вещи в сумку и в две продуктовые авоськи. Оделась, выложила на столик ключи, тихонько вышла из дома и захлопнула за собой дверь. Её провожали только недоумевающие Вера, Надежда и Любовь.
На улице жутко мело, Валя приехала в поликлинику, где работала, прокралась через пункт неотложной помощи в вестибюль своего этажа и заснула в коридоре на сдвинутых стульях. Утром пришли массажистки, стали поить её чаем и выражать сочувствие.
Вскоре припёрся протрезвевший Лебедев, Валя спряталась, а массажистки ответили на его вопросы по Валиной просьбе:
– Прибежала как сумасшедшая, уволилась сегодняшним числом! Сказала, уезжает из Москвы!
Аборт делала в захудалой больничке по месту прописки у Юрика. Вкололи новокаин, который не дал эффекта, то ли вкололи меньшую дозу, то ли так реагировал организм. Руки и ноги были пристёгнуты ремнями, и Вале казалось, что она зверь, попавший в капкан, которого долго и жестоко расстреливает охотник. Она и кричала, как зверь, а мужиковатая врачиха ругалась, перекрикивая её низким поставленным голосом:
– Чего орёшь? Под мужиком небось орала от счастья?
После аборта вернулась в поликлинику и отлёживалась ночь в массажном кабинете. Но поднялась температура, а кровь хлестала так, что пришлось подложить полотенце. Валя запретила себе думать об этом, думала только о том, что убила ребёнка.
В полусне-полубреду увидела бабушку Полю, стоящую как картина в раме калитки в окружении гусей, козы Правды, кошки Василисы и лохматой дворняги Дашки. Бабушка посмотрела на Валю, покачала головой и запела любимую:
- Чем же я не такая,
- Чем чужая другая?
- Я хорошая, я пригожая,
- Только доля такая…
- Если б раньше я знала,
- Что так замужем плохо,
- Расплела бы я русу косыньку,
- Да сидела б я дома…
Потом бабушка Поля вышла из калитки и побрела спиной к Вале по центральной улице Берёзовой Рощи прямо к лесу, в сторону деревенского кладбища. А гуси, Правда, Василиса и Дашка послушно потянулись за ней. Валя вскочила, бабушке заранее снилось, что случится с Валей, а теперь приснилось Вале. Значит, заболела, надо завтра звонить матери, может, у неё весточка из Берёзовой Рощи.
Утром Валя умылась, выпила крепкого чаю и, несмотря на слабость, встала к массажному столу. Массажистки привели к ней дежурного врача, Валя что-то горячечно твердила ему про тысячелистник, крапиву и кровохлёбку, но он посчитал пульс, велел срочно сделать анализ крови на гемоглобин и показаться гинекологу.
Валя отложила анализ и гинеколога на завтра, было важно доработать и пойти на переговорный пункт. Материному соседу по лестничной площадке поставили телефон как герою войны, и весь дом, включая мать, бегал теперь к нему на переговоры. Но во время работы Валя упала в обморок, её увезли на «Скорой помощи» и сделали повторную чистку. И тоже практически без обезболивания.
Массажистки навещали Валю в больнице, носили тёртую морковку со свёклой и жареную печёнку для поднятия гемоглобина после большой потери крови. А когда ей стало лучше, отдали телеграммы, что принёс в поликлинику Кирилл Лебедев. В первой мать писала: «Послезавтра похороны бабки Поли». Во второй: «Бабку похоронили куда ты делась от Кирилла фокусы твои надоели».
От боли Валя перестала соображать. А тут её осмотрел пожилой картавящий завотделением и сказал:
– Первый аборт, голубушка, всегда огромный риск. Да ещё какой мясник вам его делал? Такой агрессивный эндометриоз практически всегда кончается бесплодием! Но не надо расстраиваться, миллионы женщин воспитывают усыновлённых детей и любят их как своих.
Показалось, что на палату резко опустилась ночь, но по какой-то причине не зажигают электричество. И в этой темноте стало отчётливо видно, что жизнь закончена. К двадцати она попала в Москву, дважды побывала замужем, снялась в кино, потеряла возможность стать матерью и самого дорогого человека – бабушку.
Мир без бабушки, жившей за сотни километров, единственного человека, который Валю действительно любил, показался пустым и бессмысленным. Она вспомнила, что бабушка Поля говорила, волосы с гребешка нельзя бросать на ветер, а отрезанные – «отведут беду», беда останется в них. Попросила у медсестры ножницы, закрылась в кабинке туалета, полчаса резала волосы ослабевшими руками по одной пряди и заполнила мусорную корзину их пшеничным великолепием.
Но ни боль, ни темнота не отступили, зато в голове запульсировали строчки из школьной программы: «Валя, Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь…» Ночью, когда лежала и смотрела в темноту, вдруг ясно увидела в пространстве щель, в которую можно сбежать из этого искромсанного тела и этой искромсанной жизни. И вместо того чтобы залатать её, потихоньку раздвигала и обживала контуры этой адской щели.
А на рассвете украла в процедурной большую ампулу магнезии, умело отколола от неё горлышко, услышала бабушкин крик: «Не смей, говорю! Не смеееей!» И на последнем слоге полоснула по венам на левом запястье…
В этом не было истерики, а был холодный расчёт, которым, казалось, кто-то руководит за неё, помогая догнать бабушку Полю, идущую по центральной дороге в сторону деревенского кладбища, вместе с гусями, козой Правдой, кошкой Василисой и дворнягой Дашкой.
Кровь брызнула фонтаном на ночнушку, на пол, на постель соседки. Валя испугалась, пришла в себя, стала инстинктивно заматывать руку полотенцем, неловко опрокинула чашку. Соседка проснулась от звука разбитой чашки под окровавленным пододеяльником и заорала так, что все повскакивали. Прибежали медсёстры, вызвали дежурного врача и дежурного хирурга, чтоб квалифицированно наложил на руку жгут. Вкололи успокоительное, но Валя и без того выглядела совершенно спокойно и безучастно, словно всё это не про неё.
Подстриженные клоками волосы пугали не меньше, чем остановившийся взгляд и перевязанная рука, и соседкам по палате велели присматривать за Валей, чтоб ещё чего не выкинула. Соседки сложили ей на тумбочку все конфеты и шоколадки из своих передач, но она этого не заметила. Как и не заметила того, что все пытаются разговорить её и утешить.
Медсёстры шептались, что после этого Валю должны отправить в отделение, где под наблюдением психиатров лежат самоубийцы. Так бы и сделали, кабы не пожилой картавящий завотделением. Он переселил Валю в изолятор, сел напротив и долго разговаривал с ней:
– Бабушке было под семьдесят?
– Шестьдесят семь… – прошептала Валя сухими, словно обветренными губами.
– А ты о маме подумала? Представила её лицо, когда она читает телеграмму, что тебя больше нет? Считаешь, что человек должен жить, только если может размножаться? Да ты подойди к зеркалу! Погляди, какую красоту хотела уничтожить! На тебя ж только смотреть праздник!
И как-то он уболтал её, убаюкал. А потом заходил каждый день по нескольку раз, приносил книжки. И она ждала его картавых наставлений и утешений, как витаминов. И благодарила за книжки, хотя читать не могла, словно ослепла. Она вообще ничего не могла, только лежать, уставившись в потолок, и считать на нём трещинки.
Выписали нескоро, после Нового года, когда прочно встала на ноги, пожилой завотделением проследил, чтоб Вале прокололи все витамины. В первую очередь поехала на работу, сдала в бухгалтерию больничный лист, получила там немного денег.
По глазам сотрудниц поняла, насколько ужасно выглядит, зеркало не показывало этого в полном объёме. Дело было не в том, что похудевшая и стриженая, а в том, что в огромных синих глазах написано, что ей совсем неинтересно жить.
Всё Валино имущество в сумке и двух авоськах аккуратно лежало в шкафчике массажного отделения, Валя достала оттуда свадебное платье, туфли, купленные по талонам ЗАГСа, которые в шутку называла прежде «многоразовыми», и продала их прямо в поликлинике.
Роскошное платье улетело сразу, а туфли взяли за полцены, ведь у Вали был большой размер ноги. Потом отправилась на переговорный пункт, а мать прибежала к соседскому телефону с криком:
– Что ж ты, доча, с нами делаешь?
– В больницу забрали, – тихо ответила Валя.
– А Кирюшка почему не знает?
– Ушла от Кирилла. Пьёт, начал драться.
– Так ведь артист! Или, доча, пока всех мужиков в Москве не попробуешь, не успокоишься? – спросила мать вместо того, чтобы спросить, с чем попала в больницу.
– Как бабушка умерла?
– Дай бог каждому так помереть. Легла спать, да не проснулась! Похоронили богато, я хорошей колбасы да рыбы на поминки достала.
Валя повесила трубку, просто не могла слышать, как мать об этом говорит. Бабушка Поля умерла в день, когда Валя попала в больницу. Видимо, пыталась взять её боль на себя и надорвалась. Так бывает в сказках, но сказки написаны с жизни.
Больше Валю никто нигде не ждал. А главное, никто не ждал в Берёзовой Роще. И предстояло учиться жить без бабушки, как люди учатся жить без ампутированной ноги или руки.
По совету массажисток она поехала в Банный переулок искать комнату. Стоял мороз, люди топтались на пятачке, постукивая ногами от холода. Липли мужичонки, предлагали пустить жить «за так», но отступали от её ледяного взгляда. Бабки в оренбургских платках и тёплых шубах задавали вопросы, как сотрудницы райкома комсомола:
– Где работаешь? Сколько получаешь? Почему не замужем? Какой у тебя моральный облик?
И вдруг подошла богато одетая дамочка в норковой шубе и выбивающихся из-под норковой шапки тугих кудряшках. Весело посмотрела на Валю и спросила:
– Ну что, рыбонька, никто не пускает? Хорошенькая, как два пирожных сразу, только мордочка побитая! Улыбайся, и пусть все они сдохнут!
Валю напугали темперамент и благополучный вид дамочки, она отшатнулась, но словно услышала бабушкин шёпот: «Иди с ней, не бойся!» Дамочку звали Соня, и Валя возблагодарила день и час, когда они встретились в Банном переулке.
Соня была черноглазая обаяшка и жила в помпезном доме на Крымском Валу. Роскошная двухкомнатная квартира досталась ей от покойных родителей: высокопоставленного военного папы и модницы мамы, норковую шубу и шапку которой она донашивала.
Папа когда-то работал за границей, и квартира была обставлена добротной классической мебелью, а не плебейскими стенками, как у всех. Сервант и горка сияли коллекцией хрусталя и фарфора, а с высоченных потолков свисали диковинные люстры.
Накрывая на стол, Соня клала возле тарелки дорогие нож и вилку, а томатный сок из трёхлитровой банки наливала в необыкновенные бокалы. Она была наполовину еврейкой, окончила торговый техникум, работала в универмаге и, казалось, комнату сдавала не столько для денег, сколько для компании.
В первые два дня Валя отлёживалась после работы в своей комнате и выходила на кухню только сварить очередную пачку пельменей. На остальное меню не было ни сил, ни денег. К тому же у неё никогда не было своей комнаты, и то, что теперь она могла побыть одна, было само по себе терапией.
Валя никогда не жила в такой квартире, у Лошадина было модно, крикливо и бездушно, а здесь царили уют, покой и тепло. На третий день Соня насильно усадила Валю ужинать, запекла в духовке мясо, сделала салат и открыла бутылку красного вина. Для Вали это было некомфортно, она не могла ответить тем же.
– Ты у меня живёшь, рыбонька, а не в тюрьме сидишь, – начала Соня. – Здесь до тебя три года студентка жила, сучка возвышенная, диплом писала про Возрождение, а как съехала, я трёх колечек недосчиталась!
– Спасибо, не голодна, – Валя обиженно отодвинула тарелку.
– Ты меня не поняла, – засмеялась Соня и разлила вино по хрустальным бокалам. – Мамочка говорила, ты, Соня, дурочка, поэтому тебя всегда обманывают. А я не дурочка, просто люблю праздник! И давай выпьем за то, что у нас с тобой будет не жизнь, а праздник, что бы с тобой до этого ни случилось!
Валя глотнула вина, увидела перед собой ожидающие искренние Сонины глаза и рассказала про Юрика, Лошадина, Лебедева, бабушку и аборт. И пока они пили-ели, обе чуть не разревелись над этим рассказом.
– Ты на один аборт сходила, а я на четыре, – вздохнула Соня. – Давай, рыбонька, радоваться, что отмучились, а девки два раза в год на аборт пилят! Этот фарш уже не провернуть обратно в мясорубку, так что сосредотачиваемся на твоём гемоглобине и мире во всём мире!
Соня была старше Вали на двадцать лет и могла бы иметь такую дочь, но вела себя с затравленной Валей не как мать, а как обожающая старшая сестра. Сперва кормила её на убой, чтоб поднять гемоглобин. Запекала специально для неё утку с гречневой кашей, делала винегрет.
Принесла с работы банку чёрной икры, каждое утро насильно впихивала в Валю бутерброд, а себе такого бутерброда не делала. Валя пробовала икру только в ресторане с Лошадиным и занервничала, не понимая, что за это придётся делать. Спросила Соню, а та захохотала:
– Ты, рыбонька, жила с Юриком, и у тебя была Леночка! Ты её баловала и учила быть девушкой. А теперь ты моя Леночка, и я тебя буду учить быть женщиной! От меня ж не убудет!
Сонина энергия брызгала во все стороны, её хватало на всё и на всех.
– Жизнь, рыбонька, устроена несправедливо. Первую половину делаешь мужиков импотентами, потому что иначе они тебя трахают, как свиньи. Ведь, если у него сомнения, что встанет, он с тобой как с хрустальной вазой, а нет сомнений, вроде бы осчастливил, – объясняла Соня. – А вторую половину жизни, когда у них уже на полшестого, начинаешь покупать эрекцию за деньги, за карьеру да за подарки. Согласись, несправедливо!?
В свои сорок она ни разу не регистрировала брак, мухлевала с дефицитом, рассказывала похабные анекдоты и бесконечно крутила короткие бурные романы, именуя себя «сексуальной одноночкой». Цитировала свою мамочку, считавшую, что главное в женщине дорогая обувь, и ходила вечером в туфлях на шпильке возле французского посольства прогуливать пожилую болонку Мишель.
Навязчивая идея выйти замуж за иностранца заменила Соне идею получить высшее образование, чего совершенно не понимали её покойные родители. И Соня подробно рассказывала недоумевающей Вале, какая у неё «там» будет квартира, какая вилла, какой автомобиль.
А в выходные мазала лицо смесью мёда с творогом, обкладывала колёсиками огурца, смотрела в зеркало и горевала:
– Порчусь я, порчусь! Не пройду техосмотр как предмет экспорта! Кто такую вывезет?
Соня повезла Валю к троюродным сёстрам отца, таким же заводным и шустрым, как она, несмотря на солидный возраст. Тётя Роза и тётя Хая были погодками, похоронившими мужей и вырастившими детей. Они распекали Соню за то, что не замужем, и предлагали очередного еврейского жениха «из хорошей семьи».
На ужин тётя Роза и тётя Хая сделали своими сухонькими ручками шикарный стол. Валю поразили на нём три блюда: фаршированная щука, форшмак и еврейский торт «Чёрный бархат» из печенья, орехов, масла и тёртого шоколада. Правда, она так и не поняла, зачем мучить селёдку мясорубкой, вместо того, чтоб разделать и подать с картошкой?
Жизнь до Сони казалась Вале чёрно-белым кино, а с Соней оно стало цветным. Ей нравилось считать себя младшей Сониной сестрой, но она хорошо помнила, что всё в жизни обрывается в один миг.
Соня учила Валю одеваться, краситься, делать маски на лицо и принимать ванну. Вале это было стыдно, она привыкла к бане и душу. В её городке считали, что в ванне валяются только жены партийного начальства и проститутки. И рассказывали, что во время войны, когда дети пухли от голода, жены начальства принимали ванны из молока.
Соня родилась в год ареста Валиного деда, пережила в детстве эвакуацию в Ташкент, была слабенькая здоровьем, простужалась от любого сквозняка и болела ангиной от любого стресса. И тогда у Вали появлялась возможность отблагодарить её.
Как учила бабушка Поля, готовила Соне «куриный бульон – еврейский пенициллин». Бабушка никогда не держала кур, предпочитая гусей, а живых кур ей приносили в кудахчущем мешке благодарные больные. Валя с ужасом наблюдала, как спокойно бабушка рубит курице голову и окровавленная голова катится на землю, глядя осуждающим глазом.
Потом Дашка и кошка Василиса воюют за эту голову, а бабушка ощипывает казнённую курицу, подвешивает за ноги на дерево и посылает Валю за газетой к Ефиму. Натирает тушку мукой, заворачивает в газету, поджигает и курица лишается последних волосков.
В бараке на Каменоломке курицу «оголяли» с помощью паяльной лампы, имевшейся у соседа в хозяйстве. А в новой квартире мать обжигала ощипанную тушку на газу, и на весь дом воняло жжёной кожей. В общежитии Валя питалась в столовке, и не могла есть, когда на второе давали гребешки с лапшой – всё время вспоминалась отрубленная куриная голова.
Так и не постигнув процесса оголения и расчленёнки, она никогда не покупала в Москве жёстких синюшных кур с головами и лапами по рубль семьдесят пять копеек, отработавших свой срок на производстве яиц и прозванных в народе «синяя птица». А охотилась за разделанными импортными, в брюхе которых уже была сложена в пакетик съедобная требуха.
Помимо бульона Валя готовила больной Соне отвары аптечных трав и заставляла полоскать ими горло. Та покорялась, хотя предпочитала таблетки, от которых потом болел желудок. И категорически отказывалась от массажа, считая его стариковским развлечением.
– А ты знаешь, что в листьях крапивы аскорбинки в четыре раза больше, чем в лимоне? А ещё каротин, витамины К и В2 и пантотеновая кислота! Наши предки прекрасно жили без лимонов, – пыталась достучаться Валя.
Она устроилась на работу возле Сониной квартиры. И, обжив «свою» комнату, стала вырезать из газет и журналов рецепты народной медицины и наклеивать в специально купленный альбом – казалось, что это продолжение разговоров с бабушкой Полей.
– Надо тебе, рыбонька, в мединститут поступать, – повторяла Соня, а болонка Мишель помахивала на каждую её фразу облезлым хвостом.
Вскоре участились тайные от Соломкиных визиты Леночки. Она повзрослела, стала похожа на мать и поступила в техникум. Валя с Соней выслушивали её проблемы, давали советы, задаривали красивыми вещами, учили подкрашиваться и гадали на женихов.
Вдруг позвонила мать, сказала, что приедет посмотреть, как там Валя. Это было некстати, но как отказать? Мать ужаснулась, увидев Валю коротко стриженной. Пришлось рассказать про Лебедева, аборт, повторную чистку и бесплодие. Сидели втроём на кухне и плакали, а Соня подливала и подливала в три бокала красное вино.
– Говорила ж, доча, это по нашей линии. Отец опоры от церкви уволок, сарай справил. Потом на вилы напоролся, маманя от жабы померла, брат Витюша спился, сестрёнка Лида утопла. Я в город сбежала, ты в саму Москву. А проклятие-то догнало, вот и конец нашей линии! – причитала мать.
– Сто раз это слышала, – покачала головой Валя.
– Кручиной моря не переедешь, домой, доча, собирайся. Ничё, кроме аборта, в Москве не нажила, а там и квартира своя, и бабка на тебя дом отписала, заместо дачи будет, – стала уговаривать мать. – Берёзовая Роща-то вымирает. Ребёночка возьмём – детдом пухнет. Бабы возили туда лоскутки на рукоделье, говорят, детки пригожие, один другого лучше. Я пока в силе, одного-двух подниму!
Валя даже отвечать на это не стала.
– Кудри бигудями крутишь? – спросила мать у Сони.
– За меня их мама с папой сделали, – засмеялась Соня. – Папа у меня еврей.
– Так ты жидовка? – не поверила своим ушам мать.
– Еврейка! – терпеливо поправила Соня. – Для русских, а для евреев наоборот, русская! Они своих по матери считают!
– Значит, евреечка? – уточнила мать.
– Не евреечка, а еврейка, – снова поправила Соня.
– Сонь, у нас в городке евреев в глаза не видали, но вешают на них все грехи. Не обращай внимания, – объяснила Валя, готовая провалиться сквозь землю от стыда за мать. – У неё в башке такая каша, что крестит таблетку от головной боли!
Но Соня не обиделась, а только посмеялась.
Мать положили в Сониной комнате на двуспальной арабской кровати, а Соня легла на диван с Валей и храпела так, что Валя промучилась всю ночь, вертелась до рассвета, выходила в кухню пить воду.
Храп генерировал в ней жуткий страх. Сначала в её жизни был отцовский храп вперемешку с сонным матом. Потом гнусавый храп Юрика, потом низкий храп Лошадина и, наконец, судорожный храп пьяного Лебедева.
– Знаешь, рыбонька, – наставительно сказала Соня за завтраком, – в Японии женщин учат, как красиво спать. Я проснулась – у тебя на голове одеяло и подушка, а жопа в ночнушке торчит на улицу. Надо за собой следить, конкуренция высокая. Вражий голос сказал, что принц Чарльз собирается жениться, значит, у нас с тобой на одного жениха меньше!
– Сонь, ты храпишь, – ответила на это Валя. – А храп может привести к инфаркту и инсульту!
– За границей его лечат, найду заморского принца и вылечусь, – отмахнулась Соня, взяла на колени Мишель и начала расчёсывать её специальной щёткой.
В кухню вошла мать и неодобрительно спросила:
– Пёс-то в городе на что?
А Соня расхохоталась:
– Для счастья!
– Для счастья деток рожают, а не банты собакам вяжут!
– Уж ты у нас главный специалист по счастью, – оборвала её Валя.
– Подошвы у меня чешутся, знать, к дороге, – обиженно намекнула мать.
А уезжая, сказала:
– Сонька твоя – тёртый калач! Спекулянтка, да ещё и жидовка! Поживёшь с ней, сама такой станешь!
А Соня удивилась:
– На два года меня моложе, а бабку из себя лепит. Моя мамочка до старости кокетничала. Такая красота вам, Лебедевым, досталась, а вы ей не пользуетесь!
– Не Лебедевы мы, а Алексеевы! – зачем-то поправила Валя.
– Хватит, рыбонька, дурака валять, – сказала вдруг Соня. – Пора деньги на хату заколачивать, да мать в Москву перетаскивать, папаша-ханурик пусть там гниёт. Руки у тебя золотые, а клиентов я найду. Накрасим глаза, рыбонька, проживём и эту пятилетку!
– Так кооператив от организаций дают.
– Кооператива ждать долго. Мы тебя замуж отдадим фиктивно, а он потом деньги возьмёт и элементарно выпишется. Все так делают.
И Валя обрадовалась этой идее, потому что мать произвела на неё грустное впечатление, отяжелела, не только весом. В тридцать девять у неё появился старушечий взгляд, словно всё уже прошло, и ничего хорошего больше не будет. Соня права, надо забрать её в Москву.
Проводив мать, переключились на вечерний чёс в эдаком массажном салоне с кофе. Разложили обеденный стол в Сониной комнате, сшили на него матрасик. Стол был ниже массажной кушетки в поликлинике, Валя со своим ростом работала, ссутулившись, и дико уставала.
Под её пальцы Соня загоняла всё больше и больше людей, одетых от фарцы. Эти люди жили в параллельной реальности, пахли нездешней парфюмерией. Обсуждали, не в каком магазине выкинули дефицит, а закрытые просмотры кинофильмов и прогоны спектаклей со странными названиями. А ещё, что Тарковский улетел в Италию.
Она слышала эту фамилию от Лошадина, но стеснялась спросить, кто это. Обсуждали, что «Комсомолка» ругает «Машину времени», и Валя удивлялась, что уже создали Машину времени, с помощью которой можно перемещаться, но почему-то не говорят об этом по телевизору.
Соня перешла из универмага в отдел сувениров художественного салона рядом с домом и вербовала клиентов именно там. Однажды ей даже удалось затащить пожилого немца, но при слове «массаж» и виде лысеющей болонки Мишель с красным бантом он сбежал, приняв их за проституток.
Деньги Валя складывала под диван в ту же старую картонную коробку от обуви, что Леночка принесла от Соломкиных. Думала, только коробка наполнится, хватит на квартиру. Ну, хотя бы на комнату. Но коробка казалась бездонной.
В конце августа Соня прибежала с работы в странном состоянии, она рыдала, выла и кричала, как страшно в СССР, что больше не может здесь жить, а иностранца всё нет и нет! Уверяла, что где-то в Якутии был ядерный взрыв, и радиоактивное облако накрыло и облучило экспедиционный лагерь.
Повторяла слово «Кратон», словно от него что-то зависело, и уверяла, что радиация скоро дойдёт до Москвы, о чем её предупредил знакомый из верхов. По телевизору об этом не говорили, и Валя испугалась, что Соня сошла с ума, её упекут в дурку и свяжут усмирительной рубашкой.
Так что стала успокаивать Соню, массировать её шею и плечи, и та заснула, не раздевшись, всхлипывая и похрапывая. А Вале, как большинству советских людей, посчастливилось так и не узнать о загрязнении окружающей среды продуктами ядерного деления при якутских взрывах «Кристалл» и «Кратон-3».
На следующий день Соня, слава богу, пришла в себя, и жизнь вошла в прежнюю колею. Это была очень счастливая Валина жизнь: она имела дом, работу и поддержку подруги. Вечерами Соня весело рассказывала о своих любовных приключениях, и обе хохотали. А потом упрекала Валю:
– Рыбонька, сколько можно целибатничать? Пора тебе замуж!
– А я замужем за артистом Лебедевым, – напоминала Валя. – Хочешь, паспорт покажу? И счастлива, что вечером иду сюда, а не ищу его по собутыльникам! Мать у меня простая, но главное поняла – от мужиков надо держаться подальше. Даже от мужиков в красивой обложке. Уж я их в Доме кино повидала.
– В стране застой, и в твоей жизни застой, – вздыхала Соня.
– Какой ещё застой? С поликлиники пришла, поела, чаю попила и опять массировать! Где ж тут застой?
Так они прожили бок о бок несколько лет.
И вот высокий видный сорокапятилетний посетитель домашнего массажа стал проявлять к Вале особенное внимание. Звали его Николай, что само по себе было неприятно, как воспоминание о милиционере дяде Коле. Каждый раз, уходя, он целовал Вале руку и выразительно смотрел в глаза.
Сперва стеснялась, потом смеялась, потом поняла, что он ей симпатичен, и стала улыбаться ответно. Однажды Николай предложил повысить оплату, если Валя будет делать массаж у него дома. Было ясно, что массажем дело не кончится. Не слишком хотела идти, но Соня её буквально вытолкала:
– Домой зовёт, значит, не женатый! Богатый импозантный мужик на дороге не валяется! Видела, как ты ему глазки строишь!
– Он мне нравится, но я его совсем не чувствую, – поделилась Валя. – Как вода сквозь пальцы.
– Хватит монашить. Наденешь мой модный кардиган с плечами и большие клипсы!
Дом Николая был похож на него, такой же высокий, строгий и угрюмый. По вещам в прихожей было понятно, что здесь живёт большая семья с детьми разного возраста. В ванной Николая, где Валя мыла руки перед массажем, стояли те же иностранные одеколоны, что у Лошадина.
С секунды, как помыла руки, общаться он почему-то стал по-барски. В богатой гостиной отовсюду торчал дефицит. Горел очень несоветский торшер, и играл очень несоветский магнитофон. Николай поставил два бокала, разлил шампанское, пригласил Валю танцевать. Танцевал плохо, сосредоточенно думал о чём-то своём.
– Может быть, начнём? – спросила Валя и покраснела, говорила о массаже, но получилось двусмысленно.
– Не спеши, – ответил Николай. – Жену с детьми сбагрил на дачу. Шикую. Музыка, вино, женщина…
– Я про массаж, – отчеканила Валя.
Ухо резануло «музыка, вино, женщина», получалось, на её месте могла быть любая.
– Ну, давай свой, как ты говоришь, массаж, – уступил он и начал расстёгивать рубашку. – Скидывай шмотки! Стриптиз, валяй стриптиз!
Валя удивилась, трезвый ведь руку целовал, в глаза смотрел. Видимо, выпил, потому и ведёт себя не по-людски.
– Я массажистка, а не стриптизёрша, – обиженно ответила Валя.
– А я тебя научу! Только не торопись, тянуть надо, тянуть… Хочешь, на видеомагнитофоне порнуху поставлю?
– А что это?
– Вон под теликом ящичек, в него можно вставить кассету, чтоб смотреть, как люди занимаются сексом.
– Как? – Валю поразило предложение.
– Как кино.
– А зачем?
– Чтобы возбудиться. Знаешь, как в Таиланде девочки раздеваются? Так что у покойника встаёт и стоит до рассвета!
– Вы были в Таиланде? – восхищённо спросила Валя.
Она впервые близко видела человека, смотрящего кино про секс и побывавшего за границей.
– Я везде был, – хмыкнул Николай и впился в неё жадным поцелуем.
Но как-то грубо и торопливо, словно прежде на массаж ходил за него кто-то другой. Потащил её в спальню, в постели вёл себя довольно небрежно, а потом они молча лежали на огромной кровати. Николай курил, глядя в потолок, словно Вали не было не то что рядом, но вообще в квартире.
– А где вы работаете? – спросила Валя, понимая, что надо что-то делать с тишиной.
– В КГБ! – многозначительно ответил Николай.
– Где? – игриво переспросила она в ответ на эту шутку.
– В КГБ! Так что всё о тебе знаю. И про фиктивный брак для прописки, и про режиссёра Лошадина, и про артиста Лебедева. И что вены резала, но не попала на учёт в психдиспансер, кто-то тебя отмазал. Маленькая, а столько успела. Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл… а от меня не уйдёшь!
Валя так растерялась и испугалась, что машинально спрятала руку со шрамом на запястье и не знала, как ответить. Соня, конечно, говорила, что в КГБ есть досье на каждого. Но Валя им зачем?
– Есть предложение по работе.
– Вам массажистки нужны?
– Массажистки нам очень нужны! – кивнул Николай. – Но надо тебя маленько подучить.
– Да мне во всех поликлиниках самых тяжёлых больных дают! – обиделась Валя. – У меня лучшие руки на курсе!
– Нам не лучшие руки нужны, а чистые. Горячее сердце и холодная голова. Выпей ещё. Научу делать эротический массаж.
И когда выпила, объяснил, что это то же самое, только девушка делает его языком, голой грудью и лоном. И обучал пьяную покорную Валю до утра. Даже орал, когда плохо получалось. И была в нём какая-то странная, пугающая власть.
Протрезвев и очухавшись, Валя всерьёз перепугалась. И, когда он пошёл в туалет, зачем-то переписала его телефон с таблички на импортном аппарате на бумажку и спрятала в сумке. Сама не знала зачем, ведь ни возвращаться сюда, ни делать массаж Николаю после всего этого не собиралась. И вообще решила держаться от него подальше.
На завтрак он достал из холодильника подписанные иностранными буквами незнакомые красивые баночки с сырами и дефицитную колбасу:
– Всё из «Берёзки», ешь, не стесняйся. Ты – девочка, сделанная аккуратно для меня. По вторникам буду ходить сам, в другие дни – другие люди. Будешь их массировать, как я тебя учил. А всё, что они расскажут, передавать мне в письменной форме.
– Нет, – тихо ответила Валя и отодвинула от себя тарелку.
– Будешь стараться, сделаю тебе квартиру в Москве.
– Нет, – повторила Валя, это слово она с детства умела говорить отчётливо.
– Начнёшь кобениться, притон твой прикрою, а подружку-проститутку посажу за связь с иностранцами, – спокойно и даже лениво предупредил Николай. – Мне ж только телефонную трубку снять!
– У нас не притон, а массаж, – ответила Валя. – А у Сони нет связей с иностранцами.
– Какая разница, есть связи или нет, чтоб посадить? Завтра еду отдыхать к жене. Две недели на размышления. Не хочешь, поможем, не можешь – заставим! О нашем разговоре, чтоб ни одна душа! Свободна! – и он практически выставил её за дверь.
Валя вышла из его подъезда, как огретая по голове дубиной. Она слышала от Сони истории о стукачах и диссидентах, но это было из жизни богатых с образованием. А она тут при чём?
– Ох, накликали беду, рыбонька! – вздохнула Соня. – Не просто так он тут тёрся. Не горюй, за две недели что-нибудь придумаем.
– У него чёрный ящичек стоит, по которому можно смотреть, как другие это самое… Он мне предлагал!
– Видик, что ли? – сообразила Соня. – Вот ведь сволочи! Живут как за границей!
– Он тебя посадит! – воскликнула Валя.
– Не ори! Не было ещё в жизни такого, чтоб две умные бабы не обхитрили одного самовлюблённого гада, – уверенно ответила Соня. – Приползёт к нам на брюхе с розой в зубах! Главное, ввязаться в драку, а там хоть не рассветай.
Бабушка Поля в трудных ситуациях с точно таким же выражением лица говорила – бог не выдаст, свинья не съест. Соня хорохорилась, но Валя видела её испуг. И теперь они каждый вечер садились сочинять план спасения и отточили его до филигранности.
– Ты ж артистка, в кино снималась, – напомнила Соня.
– Чего я там снималась? Воду из колодца тащила. Лошадин сказал, что я тяжёлая, как Царь-колокол, – возражала Валя.
Через две недели, когда Николай позвонил, Валя замурлыкала в рамках придуманного сценария:
– Коленька, я так по тебе соскучилась!
– Зайду, – безразличным тоном ответил он.
– Коленька, я согласна у тебя в КГБ работать проституткой! – завопила Валя как можно громче. – Я ради тебя на всё согласна!
– Что ты мелешь по телефону, дура? Приду в семь, – зашипел он.
– Ой, поняла. Про это не буду. Про другое скажу, не терпится! У меня задержка! Я так рада, так рада! А ты?
– Куда задержка? – не понял Николай.
– Ну, задержка… Месячные не пришли, а аборт врачи запрещают! – пропела Валя. – Я так рада, так рада!
– Ты соображаешь, что говоришь? – заорал Николай. – Буду в семь!
И швырнул трубку. Ух, как Валя с Соней были довольны – клюнул с полпинка.
– У него полные штаны, пошёл их стирать! – сказала Соня, слушавшая по параллельной трубке. – Теперь строишь из себя дуру в чепчике. Всё время просишь солёненького, и какое бы дерьмо ни выкинул, круглишь глаза по пять копеек и сюсюкаешь: «Я так тебя люблю! Какой ты у меня красивый!» И лобызнешь на дорожку, чтоб вся помада осталась на воротнике. Не чуть-чуть, а в полные губы.
Николай пришёл с менее суровым лицом, чем обычно.
– Что ты там плела? – спросил он, закурив.
– Я так тебя люблю, – сказала Валя, чуть не лопаясь про себя от хохота.
Прямо перед ней для убедительности стояла тарелка с нарезанными солёными огурцами. Николай поморщился, глядя на них, и спросил:
– Может, плохо дни посчитала?
– Нет, Коленька, у меня как часы. Хочешь огурчика?
– Какого ещё огурчика?! – заорал он. – Ты хоть понимаешь, где я работаю?
– Коленька, какой ты красивый, когда сердишься, – выдохнула Валя, прижавшись и отпечатывая на его воротнике накрашенные губы.
– Сделаешь аборт, как миленькая!
– Врачи запретили: истончённая оболочка матки, нельзя вмешиваться. Я так рада! Говорили, не могу забеременеть, и вот счастье!
– Ты правда дура или прикидываешься? – он был раскалён как утюг, но всё-таки помнил, что ей чуть за двадцать.
– Чем же я дура? Тем, что хочу ребёнка от самого умного, самого красивого, самого любимого?! – вполне искренне изумилась Валя. – Я ради тебя готова работать проституткой в КГБ!
Он пошёл к двери, Валя догнала его, стала целовать.
– Не вытирай об меня свои сопли! – заорал он и тише добавил: – Завтра зайду.
Почему завтра, было непонятно. Видимо, как мелкий гэбист, привык разбивать решение сложных задач на несколько этапов. Но дома ждало продолжение. Соня читала самиздат и знала, как в КГБ работает контрастный душ, когда добрый следователь сменяет злого.
Она набрала в телефоне-автомате записанный Валей на бумажку номер и скрипучим старушечьим голосом сообщила жене Николая:
– Здравствуй, доченька, я пожилой человек, не могу больше смотреть на этот разврат, не скажу адрес, где сейчас твой муж, но ты уж обнюхай его, как придёт!
На следующий день Николай позвонил и твёрдым голосом объявил:
– Завтра в пять везу тебя к гинекологу!
И бросил трубку, а Соня снова позвонила его жене из телефона-автомата скрипучим старческим голосом:
– Здравствуй, доченька, мочи нет терпеть, живу над этими потаскухами! Хошь верь, хошь не верь, беременна она от твоего! Они ж, когда на балкон курить выходят, мне все их разговоры проститутские слышны!
– Вы мне адрес, наконец, можете дать? – пронзительно попросила жена Николая. – Я вам заплачу!
– Боюсь я, дочка. По голове стукнут, и помру. Квартиру не скажу, только дом и подъезд. Завтра он в пять заезжает, везёт её к врачу абортному. Возьми такси, да за ними. За руку и поймаешь!
Николай заехал за Валей ровно в пять. Она выглядела лохмато-зарёванно – долго до этого тёрла глаза кулаками – и покорно села в машину.
– Ничего не обсуждается! – рявкнул он.
– Коленька! Сделаю, как скажешь! Но после этого ты меня не бросишь? – кивнула Валя, видя в зеркало, как сзади к ним приклеилось такси с женщиной в большой шляпе и тёмных очках.
Ехать было всего ничего. Вышли у старого торжественного здания с колоннами и табличкой «Институт акушерства и гинекологии». Перед входом высился памятник сидящему пожилому мужчине в халате и шапочке. Видимо, врачу, но прочитать его фамилию на постаменте было некогда. И только поднялись по ступенькам и взялись за ручку двери, как за спиной раздалось требовательное:
– Николай!
Валя обернулась, увидела ухоженную шатенку лет сорока со шляпой и тёмными очками в руках.
– Значит, всё это правда?! – спросила женщина сдавленным голосом.
Вале было жаль её, но сценарий не допускал лирических отступлений.
– Это твоя жена? – воскликнула Валя вполне артистично. – Зачем ты ей рассказал?
Смотреть на Николая было страшно. И наверняка скоро так выглядели бы Валя и Соня, ничего не предприняв. Он хватал воздух, руки тряслись, а губы артикулировали дебильное мужское «я тебе всё объясню», после которого так сладко звучат пощёчины.
– Эта шлюха действительно от тебя беременна? – спросила жена, потирая руку после оплеухи.
– Как вы смеете? – вступила Валя, помня Сонино требование, чтоб Николай успел сказать как можно меньше слов. – Я – дипломированный специалист, делала вашему мужу массаж. Он ухаживал, пригласил домой, я забеременела…
– Вы хоть знаете, что у нас трое детей? – закричала жена так, что прохожие начали оборачиваться.
– Я поняла, что у вас в браке не всё в порядке, – потупилась Валя.
– Оля! – вякнул Николай, и Валя заметила, что он массирует себе область сердца.
– Заткнись! – оборвала жена. – А в прошлом году была артистка из детского театра. А до этого – официантка! И если вы перетянете канат, вы тоже всё это получите!
– Мне ваш канат не нужен, – опустила Валя голову, с жалостью подумав о завербованных артистке и официантке.
– Клянись здоровьем детей, что больше никогда с ней не увидишься! – сурово потребовала жена.
– Клянусь здоровьем детей! – выкрикнул Николай с посветлевшим лицом, всё ещё держась за сердце.
– Пошёл вон! А с вами обсудим, – видимо, у неё был опыт коммуникации с соперницами.
Она затащила Валю в ожидавшую машину такси и отправилась с ней к Соне, встретившей их с Мишелью на руках.
– Да вы посмотрите на неё! Совсем девочка, вчера из провинции! – нависла над гостьей Соня. – Видели б вы, как он за ней красиво ухаживал, как врал, что в разводе…
И всё кончилось бабьими жалобами друг другу. После чего жена Николая заговорила о боли в плече и напросилась на массаж. Ходила пять раз и принесла деньги на платный аборт с обезболиванием. Валя объявила ей, что сделала аборт, и проревела всю ночь. Показалось, что и вправду была беременна, и у неё тянуло и рвало внизу живота.
Николай позвонил через месяц. Спросил, не надо ли денег и что за старушка у них соседка?
– У нас в каждой соседской квартире по пять старух.
– А балкон, на котором вы курите, с какой старушкой рядом? – уточнил Николай.
– Коленька, в нашем доме на втором этаже нет балконов. И мы не курим!
– А кому ты давала мой телефон?
– Откуда у меня твой телефон? Ты ж всегда сам звонил!
– Копают под моё кресло, суки, – вздохнул он. – Наружку приставили!
Массажный салон после этого ликвидировали от греха подальше. А Соня по-прежнему надевала туфли на шпильках и выводила Мишель гулять к французскому посольству, где к ней должен был подойти богатый француз со словами:
– Пардон, мадам!
И протянуть ключи от счастья. При этом ни секунды не задумывалась, на каком языке она ему ответит. А Валиными ключами от счастья по-прежнему была слишком медленно наполняющаяся деньгами старая коробка от обуви.
В октябре, когда выпал первый снег, Соня прибежала с работы в истерике и затараторила:
– Страшно мне, рыбонька! Ухажёр сказал, в Лужниках на футболе куча парней погибла! Наши с голландцами играли и устроили давку. При нём тела выносили, складывали к памятнику Ленина!
– Врёт твой ухажёр, – помотала головой Валя.
– Не врёт, рыбонька, директора Лужников в Бутырку взяли! – накручивала себя Соня. – Почему ж они в газетах правду не напишут? Не могу здесь больше жить! Наколдуй мне француза!
И Валя не поверила, и не верила, пока через семь лет газеты не написали о шестидесяти шести болельщиках, погибших в давке из-за плохой организации выхода с матча.
А потом умер Брежнев, и Соня объявила, что теперь в стране наступит свобода. Но на его место заступил гэбист Андропов с обещанием социально-экономических преобразований, и Соня снова заистерила, услышав в этом намёк на массовые посадки и расстрелы.
Валя внутренне съёжилась, об этом она не знала ничего, кроме истории про деда и про то, как беременную бабушку били палкой по груди. Но вместо массовых посадок начались милицейские облавы прогульщиков в кинотеатрах и универмагах.
Ловили в основном школьников и писали директорам письма на КГБшных бланках, что сделало КГБ в глазах населения карикатурным. И Валя с Соней хихикали про то, как Николай с подчинёнными гоняется на дневных сеансах за двоечниками.
Соне исполнилось сорок пять, и на работе ей подарили диковинную штуку «кубик Рубика», в котором надо было сложить одним цветом все стороны. А Валя предложила складывать не эту пластмассовую ерунду, а саму жизнь и погадать.
– Опять ты, рыбонька, со своим средневековьем? – возразила Соня. – Мы покорили космос, американцы пересадили человеку сердце!
– Бабушка гадать учила, на перекрёстке слушать, с какой стороны собака лает, там и жених, – вспомнила Валя. – А ещё у амбара сказать: «Суженый-ряженый, приходи рожь мерить!» Услышишь, что зерно пересыпают, выйдешь за богатого, а если веником метут – за голь перекатную.
– Рыбонька, а что у нас в меню поближе к научно-техническому прогрессу? – хихикала Соня.
– Можно гребешком на ночь расчесаться, сказать: «Суженый-ряженый, приди мою косу расчеши!» Он и приснится.
Так обе и сделали. Вале ничего не приснилось, а Соня увидела, что выходит замуж в розовом платье, расшитом жемчугом, в розовой шляпе и розовых перчатках. Валя знала, что видеть себя на свадьбе к большому обману, но не стала расстраивать Соню.
Пришла весна, а с ней и молдаванин Гера с медальным профилем и брежневскими бровями. Неудивительно, что он был художником, ведь справа от Сониного дома был Дом художника, а слева – художественный салон, где Гера покупал кисточки.
Членам Союза художников их продавали дешевле, а он был не членом, но Соня всё равно делала ему скидку. В благодарность Гера пригласил Соню с Валей в чужую подвальную мастерскую, где работал. Время было постолимпийское, и на его холстах двигались спортивные советские люди.
Гере удалось продать парочку таких штуковин для дворцов спорта, и он объявил, что это его творческий почерк. Если бывают художники-маринисты, почему не быть спортсменистам? И Герины герои бодро бежали, боролись, подтягивались, прыгали и поднимали штанги, сосредоточенно целясь в сторону госзаказов.
Соня стала пристально опекать Геру, ночевать в мастерской, и даже попросила Валю попозировать ему с резиновым мячиком, изображая метательницу ядра. Тем более обе не подозревали, что натурщицам платят деньги.
– В моих работах уникальный свет и экспрессия! – приговаривал Гера и сдвигал брежневские брови, жадно глядя на Соню со словами: – Коллллдунья моя!!!
И «л» так долго перекатывалась у него во рту, словно рот был полон чего-то сладкого и липкого. Гера был моложе Сони на тринадцать лет, и она начала активно омолаживаться. Стала завязывать волосы в хвост и сварила все свои джинсы. В моде была «варёнка», и Соня завязывала джинсы причудливыми морскими узлами и кипятила в отбеливателе.
– Взяла хорошие штаны и испортила! – сокрушалась Валя.
– Как стильно выглядит Сонечка! – восхищался Гера.
Он заговаривал подругам зубы, поил молдавским домашним вином и угощал присланными из дома пирогами-плациндами. Кто-то из родни боялся, что Гера отощает в Москве, и еженедельно отправлял с проводниками картонную коробку еды и питья.
– Дед учил, привезённое вино, после того, как растряслось в поезде, должно отдыхать полгода до восстановления вкуса, – объяснял Гера. – А мы торопимся, пьём не отдохнувшее.
– Конечно, рыбонька, он моложе меня, но почему обязательно иностранец? И вообще, лучше журавль в небе, чем утка под кроватью, – мурлыкала Соня, возвращаясь от Геры. – И потом, хоть у кого-то в этой стране должно стоять!
– Ты глаза-то разуй! У него стоит на московскую прописку и твою квартиру! Он тебя продаст за стакан семечек, – настойчиво твердила Валя.
– Рыбонька, какая ты неромантичная, – лениво отзывалась Соня. – У него такие глубокие глаза и такие шёлковые брови.
– Брови у него как две сапожные щётки, и он тебя не любит, – настаивала Валя. – Видела, как он пнул Мишель!
Но уставшая ждать француза Соня была уже в угаре подготовки к свадьбе с розовым платьем и розовой шляпой, ведь это был её первый официальный брак. Свадьбу сыграли хоть и в розовом платье, но в скромном кафе. С Сониной стороны была её еврейская мишпуха и подружки из магазина, а с Гериной несколько веселых голодных художников.
После этого Гера, отличавшийся мягкостью и вкрадчивостью, начал мягко и вкрадчиво выталкивать Валю из Сониной жизни. Поставил в её комнату холсты со спортсменами, потом «случайно» перевернул краску на её платья. Писать спортсменов в квартире жены, прибегающей с работы и обхаживающей его, как маленького ребёнка, Гере было значительно удобнее, чем в съёмной подвальной мастерской.
Соня в каком-то смысле заменила Вале бабушку Полю, но с появлением Геры Валя перестала помещаться в Сониной жизни в полный рост. Валя радовалась, что подруга выглядит счастливой, но сердце-вещун подсказывало, что добром это не кончится.
И вскоре Соня виновато протянула Вале бумажку с телефоном, по которому сдавалась комната у метро «Юго-Западная». По сути, отрезала её от своей жизни, и Вале показалось, что она даже слышит хруст огромных ножниц.
– Прости, рыбонька, но ты дважды была замужем, а я в свои годы ни разу! Ты должна меня понять, – почти прокричала сквозь этот хруст Соня. – Мне её рекомендовали, очень приличная женщина, да и муж её отсидел!
– Уголовник??? – спросила Валя из отрезанного куска тёмного воздуха, в котором снова осталась одна.
– Наоборот, диссидент. Представляешь, возила Герочку тёте Розе и тёте Хае, эти старые сионистки возмущены, что он не еврей! А сами все эти годы подсовывали мне неликвидов из синагоги!
Немолодая училка Юлия Измайловна, сдавшая комнату у метро «Юго-Западная», была сдержанной миниатюрной дамой с постным лицом, одетой в белые блузки с чёрными юбками. И Валя чувствовала себя слишком большой и неуклюжей в её пыльной двухкомнатной квартире.
Стены здесь были завешаны полками, забитыми книгами и подшивками толстых литературных журналов. Потолки украшали старинные люстры, и отовсюду подмигивали антикварные мелочи. А отсидевший диссидент давно развёлся с хозяйкой и фигурировал только в качестве фотографии на стене.
Учебный год ещё не начался, и Юлия Измайловна вечно сидела с книгой за резным дубовым письменным столом, утопая в огромном видавшем виды кресле. Занавесок на окнах не было, и когда Валя спросила о них, хозяйка хлопнула себя по лбу и призналась, что сдала их в прошлом году в химчистку, забрала оттуда, но забыла распаковать.
Небольшой телевизор «Радуга» ютился в кухне, но Юлию Измайловну больше интересовал транзисторный приёмник «Алмаз-401», по которому она ловила «вражьи голоса». Валя не понимала этого предпочтения, но не смела обсуждать. Сонина квартира пахла духами и пирожными, а здесь круглый год стояла осень, и многочисленные книги и журналы шуршали страницами, как опавшие листья под ногами. Казалось, квартиру вместе с обитательницами скоро засыплет снегом.
В Валином багаже была всего одна книга – альбом с вырезками о народной медицине. Но она была живой, вмещала в себя лето, цветы, травы, деревья, и Валя поставила её в своей комнате на самое видное место. А коврик с танцующими девушками повесила над своим диваном.
– Прекрасная работа, – похвалила его Юлия Измайловна. – Вы молодой человек и должны развиваться и совершенствоваться. Вы выбрали физический труд, но в силах сделать его интеллектуальным. У вас есть мечта в жизни?
– Коплю на квартиру, чтоб мать забрать, – виновато отвечала Валя.
– Это приземлённо, – качала головой учительница. – Я выпустила много классов и вижу в вас огромный потенциал.
Валя тосковала по весёлой, пританцовывающей Соне и старалась угождать новой хозяйке. Соня давала ощущение праздника, которого Валя сама себе создать не умела, а в новом жилье была строгая монастырская атмосфера.
Валя ходила на работу, бегала по частным клиентам. А вечером, когда гудели ноги, падала на диван и читала толстые хозяйкины журналы от корки до корки. Но половину не понимала.
Раз в неделю Юлия Измайловна брала её с собой в театр, доставая контрамарки. Валя смотрела на происходящее на сцене, плакала во время спектакля, но не понимала, зачем люди тратят столько сил, чтобы поставить спектакль, если можно просто включить телевизор.
Переселившись, Валя устроилась на работу поближе к новому дому и превратилась в стайера, отключающего мозги во время бега. Волосы отросли, зеркало напоминало, насколько она молода и красива, но Валя запретила себе думать об этом.
Сотрудницы по новой поликлинике разговаривали исключительно о мужиках и тряпках, Валю это не занимало. Уйдя от Сони, она словно притушила свет своей жизни, даже сложила в шкаф модные вещи.
Дни были похожи один на другой, но однажды перед началом учебного года Юлия Измайловна постучала в Валину комнату и присела на краешек дивана, как птичка садится на ветку.
– Извините, но я позволю себе дать вам несколько советов, – сказала она нерешительно.
– Да, да, конечно, – ответила Валя, ожидая, что сейчас её будут ругать.
– Вы очень красивая девушка, почему-то запершая себя в тереме, – покачала головой Юлия Измайловна. – Я вот, как говорится, хороша никогда не была, а молода бывала.
– Что вы? – неуклюже возразила Валя. – Вы такая интересная женщина.
– Говорят, пока ты недоволен жизнью, она проходит. Я представляюсь вам гербарием, которому достаточно, чтоб им заложили страницы книги. Но, живя рядом, вы сумели скопировать мои худшие стороны, хотя очень молоды, очень цельны и обязаны любить и быть любимы. Так что, пожалуйста, потратьте на это хоть немного усилий, оторвав их от зарабатывания денег.
– Хорошо, я исправлюсь, – торопливо закивала Валя. – До белых мух исправлюсь!
Она не спала всю ночь. Оказывается, всё это время жила рядом с внимательным и слышащим человеком, которому небезразлична. И этот человек понял о ней всё, вплоть до того, что периодически кто-то должен давать ей команду «пора идти дальше».
Детство готовило Валю к биографии в маленьком городке, где всё за неё решено. А столичная жизнь в свете всех подъёмов и падений осознавалась исключительно как возможность накопить на своё защищённое пространство и карабкаться по бесхитростной триаде совка «квартира, машина и дача в придачу».
После пинка Юлии Измайловны Валя несколько дней красила ресницы ленинградской тушью, а в первых числах сентября отправилась к Соне. Теперь они редко виделись, в основном болтали по телефону. Соня за время брака похудела, что ей совсем не шло. У неё даже распрямились и повисли тугие кудряшки, что показывало, насколько измотана.
Да ещё закурила и начала косить под Герину компанию. Варёные джинсы, серебряные перстни, модная стрижка, новые словечки. Квартира показалась запущенной, вещи разбросаны, и всюду Герина мазня.
– У нас, рыбонька, в ноябре выставка, – сказала Соня скороговоркой, помешивая на плите жаркое и не вынимая сигарету изо рта. – Хотим выйти на хорошие заказы. И с союзом художников двигается. Я сделала шикарные рекомендации и смазала всю приёмную комиссию!
Гера ходил вальяжный, откормленный и притащил такого же кота, обижающего старушку Мишель. А она и без него уже еле ходила, забивалась в угол и пялилась оттуда слезящимися глазами.
– Собакой совсем не занимаешься! – возмутилась Валя.
Налила в стакан воды, положила туда серебряную ложку, велела Соне промывать настоявшейся серебряной водой глаза Мишели. Так бабушка Поля лечила глаза постаревшей дворняге Дашке, опуская в воду на ночь весомую царскую монету с двуглавым орлом с одной стороны и мужским портретом с другой.
– Мне бы кто глаза промывал, – буркнула Соня.
В кухню зашёл Гера, и Валя попробовала поддержать светскую беседу:
– Вот объясните мне про сбитый «Боинг». У Юлии Измайловны всё чёрно-белое: они золотые, мы – ось зла!
– Корейские пилоты были подшофе, а у наших инструкция сбивать всё подряд, – поднял широкую бровь Гера. – И нечего залезать на чужую территорию!
– От тебя особенно интересно слышать про залезание на чужую территорию, – не удержалась Валя. – Но ведь двести шестьдесят девять человек погибли! Они же не воевать с нами летели! Они ж пассажиры!
– Что ты у нас спрашиваешь? Ты у Андропова спроси! – переключила её Соня, прежде внимательная к политике. – Лучше б узнала, как мы с Герочкой крутимся. Сегодня приличная живопись никому не нужна. Продаётся только выжипись, вжопись и лунки!
– Что это?
– Выжипись – это натюрморты, «маленькие голландцы», мать их! – Соня уже резала салат, не вынимая сигареты изо рта, и от этого становилась похожа на бандершу. – Вжопись – это бабы с голыми жопами. А лунки, это когда луна, вода и тра-та-та! Они выдумали писать на фольге, в которой курицу жарят. Натягивают и пишут. Получается, что эта лунка и вода мерцают, иностранцы в оргазме. Думают, у нас под каждым кустом Куинджи, но через месяц она осыпается. А на настоящее искусство нет покупателя!
Соня метала на кухонный стол тарелки и приборы, зазвонил телефон, и она, не переставая курить и накрывать, заговорила в трубку по Гериным делам тоном жены-диспетчерши. А Гера плюхнулся за стол, открыл очередную бутылку домашнего молдавского вина и начал есть, не дожидаясь жены.
– Сама-то как? – спросила Валя, когда Соня наконец взяла вилку и нож.
– Скучаю по тебе, рыбонька! Ноги болят. Вены, узлы полезли, видишь? Стою целый день в художественном салоне, м… улыбаюсь. Что так продам, что из-под прилавка суну, живём на это. Геру же не покупают. Везде своя мафия.
– Ты б курить бросила. А я, пока кусты не опали, листьев сирени нарву. Полбанки листьев залить доверху водкой. Настаивать неделю в тёмном месте, месяц натирать этим ноги по всей длине, – посоветовала Валя. – Будешь делать?
– Рыбонька, о чём ты говоришь? Обещали импортное лекарство достать!
Но тут в дверь позвонили, и на пороге нарисовался высокий плечистый блондин с распахнутыми детскими глазами. Он был отчаянно похож на Незнайку, не хватало только синей шляпы.
– Это – Вася, живёт у нас. Он – авангардист, – пояснила Соня. – Надо его женить на московской прописке.
Вася обволок Валю таким восхищённым взглядом, что она ему улыбнулась. Не потому, что на неё мало восхищённо пялились, а потому, что получила отмашку от Юлии Измайловны. А когда после ужина Гера с Васей ушли в «мастерскую», проще говоря, комнату, из которой Гера выжил Валю и куда теперь заселил Васю, Соня пожаловалась:
– Озверела от этого Васи, ни отдохнуть, ни потрахаться толком! Но лучший друг мужа. Гере проще устроиться, он спортивный художник, а Вася – авангардист. В Сибири был прорабом, потом открылся талант.
– Авангардист – это кто?
– Это пятна, точки, полосочки, квадратики… х…я всякая. Но очень важный этап изобразительного искусства. У нас ведь всё кончилось Малевичем и Кандинским, – озабоченно ответила Соня с сигаретой во рту, отмывая кастрюлю из-под жаркого.
– Кем кончилось? – переспросила Валя.
– Это тебе запоминать необязательно, – махнула рукой Соня. – Важней запомнить, что спать с Васей можно, а замуж никак. Он прописы ищет как ворон крови.
– Да у меня до сих пор Кирилл у Юрика прописан, – напомнила Валя. – Но Вася – красавчик!
Юлия Измайловна приняла Васю как родного, видимо, хотела оздоровить его детской энергией осеннюю интонацию квартиры. Она положила на стол Валиной комнаты все имеющиеся в доме книги по истории искусства и даже повесила на кухне какое-то Васино бордовое пятно в золотистой рамке.
– Юлия Измайловна, так вы – женщина Модильяни! – как-то воскликнул Вася, разглядывая альбомы.
– Конечно, – засмеялась она. – Узкие глаза и татарские скулы. Типичный Модильяни!
– Вы – татарка? – удивилась Валя.
– Дедушка татарин, отца назвал Измаилом. Как говорил классик: «Поскреби русского, найдёшь татарина!»
Юлия Измайловна устроила Васю в соседний детский сад сторожем по чужим документам, без прописки не брали. Он, конечно, ничего не сторожил, а приходил вечером, съедал оставленный поварихой ужин, выкроенный из детской кормёжки, слушал музыку и возвращался к Вале под бок.
А отмечался на службе уже утром, дожидаясь детского завтрака. Да ещё приносил в целлофановом пакете котлеты и запеканки, которыми повариха одаривала его за красоту и добрый нрав. И после этого отправлялся в Сонину квартиру, где созидал под Гериным присмотром миры из точек и палочек невнятных цветов.
Вася был чист как дитя, его зарплаты хватало только на краски и кисточки, но они вместе с Валей делали вид, что это не так. Валя не понимала, что значат его прямоугольники, пятна и точки на холсте, но делала скидку на собственную необразованность. И Вася идеально вписался в их жизнь, даже отремонтировал кухню.
Он был милым, ласковым, прилежным и нежным в постели, но казался Вале настолько пустым, что было неинтересно разговаривать с ним и рассказывать о себе.
– Почему бы не выйти за Васю замуж? – однажды спросила Юлия Измайловна.
– Так он сынок, – пояснила Валя. – Ему до старости надо сопли вытирать.
– И что в этом дурного, когда перед вами чистый человек?
– Больше не хочу отвечать за того, кто за меня не отвечает. Хочу, чтоб по-честному, а здесь всё в одну калитку.
– Оказывается, по-женски вы значительно умнее меня, – удивилась Юлия Измайловна, и Валя вдруг увидела, что она не такая уж старая и вполне привлекательная.
– Потому что вы всё время головой работаете, а я – руками. У меня на работе голова свободна, целый день думаю, почему это так, а то по-другому?
– Жалко возвращать в глубинку такого душевного молодого человека. Давайте его фиктивно женим, – предложила учительница и стала искать кандидатуру.
– Как техникум строительный окончил, отправили в сибирский городок. Поселился в гостинице, там 10 градусов тепла. Встретился с бригадой, все пьют стеклоочиститель, – объяснял Вася Юлии Измайловне. – Он дешевле водки и берёт лучше. В комплект к бутылочке стеклоочистителя пластмассовое блюдечко под закусь и губочка, чтоб утереться. И у входа в здание один курган из блюдечек, другой из губочек. Они говорят: «Если не пьёшь, не приживёшься». Я там как дурак, ни я им, ни они мне. Девушка была, Люда, официантка. Такая породистая лошадка. Молчит, молчит. Что с ней делать? На ней надо жениться… А зачем без любви?
Юлия Измайловна только ахала, Вася был для неё окном в другой мир. Соседка привела Васе для консультации по фиктивному браку девушку Элю из Норильска. Эля три года работала в Москве уборщицей, ночевала, где попало, ела только в гостях, деньги тратила на внешний вид.
– Ты, Вася, как у Христа за пазухой! Я на пакете молока и булке день держусь, – завистливо заметила Эля.
И помогла найти для Васи работницу сберкассы Лену. Лена была таких форм, что еле вошла в кухню Юлии Измайловны. Она жила с мамой, папой и ребёнком, придирчиво оглядела Васю, спросила о заработках и выдохнула:
– Беру. У меня ребёнок подрастает, ему любой папаша нужен.
Когда она ушла, Вася заверещал, что лучше всю жизнь будет мыть у Юлии Измайловны полы, лишь бы его не отдавали Лене.
Тогда Эля предложила Васе симпатичную парикмахершу Аню. Та позвала Васю в гости, при этом всё время стирала, гладила, убирала и крестилась. Потом позвонила Юлии Измайловне:
– Конечно, мне как христианке трудно будет врать, что мы женаты… А больше, чем полторы тысячи, он не может заплатить за штамп? Нет? Тогда пусть женится на мне по-настоящему!
Потом дали телефон Иры, которая бескорыстно сводила людей в счастливые пары по собственной картотеке. Её родители периодически находили и уничтожали картотеку, но Ира упрямо создавала новую. Вася съездил к ней и рассказал, что Ира красавица, но одинока и забита с детства. Оглядела его, покопалась в карточках и предложила:
– Есть трёхкомнатная с дачей, но с двумя детьми. А вот однокомнатная, я вызвонила, там студентка-девственница, жила с бабушкой, та умерла. Идёшь сразу на женитьбу, никаких фиктивных.
Вася чуть не плакал и просил:
– Мне бы семидесятилетнюю в коммуналке!
Так бы и продолжалось, Валя засыпала бы на Васином могучем плече, чувствуя себя не столько счастливой, сколько востребованной, а Юлия Измайловна пекла бы для него по субботам шарлотку с корицей, но однажды в час ночи в дверь зазвонили так, что можно было предположить только пожар.
На пороге, несмотря на густой снег, стояла Соня в домашней кофте, варёных джинсах и тапочках. Она приехала на такси, и Валя всё поняла сразу. Протыренный Соней в Союз художников и пристроенный к комбинату, обещавшему покупать его мазню, Гера сделал важное заявление.
Нахмурил брежневские брови и признался, что разводится с Соней и делит квартиру пополам, потому что у его сына обнаружили порок сердца и лечить его можно только в Москве. А поскольку мальчику нельзя нервничать, Гера вынужден жить с ним и женой, которая посылала ему все эти ящики вина и пирогов.
– Мужики подонки! Законов не существует! – выкрикивала и рыдала Соня.
Её трясло и тошнило, но она всё равно курила одну за одной и запивала успокоительные таблетки водкой, за которой Васю послали к ночным таксистам. А потом заснула, упав лицом на стол, храпя и вздрагивая. Как говорила бабушка Поля, печаль не уморит, а с ног собьёт.
Вася был временно отправлен в Сонину квартиру, а Соня зависла до суда у Вали и Юлии Измайловны. Спать пришлось вдвоём, Валя купила в аптеке беруши и как-то приспособилась к Сониному храпу.
Оплатила деньгами из заветной коробки Сониного адвоката, а Вася потихоньку перетаскал к Юлии Измайловне Сонины вещи из квартиры её родителей. Не успел перенести только болонку Мишель – она умерла через два дня после разлуки с Соней.
Гера выиграл суд, потому что брак не был фиктивным. Судья сочувствующе смотрел на плачущую Соню, но принял решение по закону. А Гера, отвечая судье на вопросы, бил себя в грудь и изображал мученика, страдающего за ребёнка.
Соня полежала в санаторном отделении психиатрической Соловьёвской больницы, пришла в себя и занялась разменом. Переехала в однокомнатную квартиру в Чертаново, а Гера благоустроился с семьёй в Сокольниках. Тёте Розе и тёте Хае сказала, что Гера получил заказ в Кишиневе на оформление монументального Дворца спорта и уехал на полгода. А сама она специально поменялась в зелёный район, чтобы по утрам бегать по лесу.
Теперь Соня чаще бывала у Вали и Юлии Измайловны, её тугие кудряшки снова начали завиваться. Всё стало потихоньку устаканиваться в новой конфигурации, и у неё даже появились новые поклонники.
Как-то в холода Валя вернулась с работы, хотела полежать полчасика – потом надо было бежать на халтуру, но обнаружила, что в доме ни крошки хлеба. И с Соней, и с Юлией Измайловной она строила семейные отношения. Платила за квартиру, но не понимала, как люди могут есть разное в одной кухне, и вела общее хозяйство.
Соня и Юлия Измайловна жили до неё как птички, поклюют чего-то и побегут. Валя приучила их к порядку, никакого бутербродничанья, варила супы, лепила в выходные целую столешницу пельменей. Во-первых, так делала её мать, а во-вторых, у неё была тяжёлая физическая работа, требующая полноценной еды.
Короче, Валя попыталась отправить в булочную Васю, но он отказался в связи со встречей с потенциальным покупателем. Валя усмехнулась, Вася вообще был с ленцой. И за всё это время пристроил только одну работу, странный немецкий журналист обменял её на ношеную джинсовую куртку.
Валя не перенесла мысли, что Юлия Измайловна придёт замёрзшая, усталая после родительского собрания и окажется перед кастрюлей борща с мясом, но без хлеба. Она снова надела непродуваемое кожаное пальто, которое Соня ношеным купила для неё в комиссионке. Замотала голову павловопосадским платком, как бабы в её городке, влезла гудящими ногами в сапоги, отперла дверь и поняла, что кошелёк остался в комнате.
Захлопнула дверь, вылезла из сапог и пошла в носках за кошельком с мыслью посмотреться в зеркало, раз вернулась, а то, как говорила бабушка, «пути не будет». Но не посмотрелась, потому что застыла, бесшумно подойдя по ковровой дорожке к комнате и услышав ласковый Васин голос:
– Катюш, скоро приду. Ключи возьми у медсестры от кабинета. Нет, в подсобке слишком грязно. Ну как это, кушетка сломается? Первый раз, что ли? И приготовь вкусненького, надоел Валькин борщ…
Катюшей звали повариху из детского сада, набивающую Васин целлофановый пакет краденой у детей едой. Валя остановилась как вкопанная, а потом открыла входную дверь и начала, прямо в носках и пальто монотонно выносить на лестницу Васины пожитки: одежду, обувь и то, что он считал картинами.
– Что я такого сделал? – кричал Вася, ища сочувствия у выкатившихся из-за своих дверей соседей. – Сами хотели пристроить меня к московской прописке!
А Вале показалось, что чистенький ясноглазый Вася раздулся в огромный прозрачный мыльный пузырь, отражающий своими стенками лестничную клетку, и с треском лопнул, обдав всё вокруг липкой влагой. Ей даже не было обидно, а только противно и стыдно.
– Ничего не объясняйте, – сказала Юлия Измайловна, вернувшись с родительского собрания. – Пусть это в вас отлежится. Уверена, что вы приняли правильное решение.
Валя была благодарна – никто никогда в жизни не предлагал ей такой схемы общения. Все грубо лезли и требовали подробного отчёта.
– С вами пожить, как институт окончить. Я ж как губка впитываю, – сказала она утром. – С Соней изменилась, а вы меня так отполировали, скоро никто от москвички не отличит. Сюда ехала, думала, москвичи сволочи, сама из-за этого стала сволочью. Думаете, я по Ваське расстроилась? Да он для меня как олимпийский Мишка – прилетел, улетел. Я-то в сто раз хуже Васьки, а ворон ворону глаз не выклюет.
– Чем же вы хуже?
– С Юриковой семьёй как поступила! – призналась Валя. – Бабушка говорила: посадишь добро – маленькие ягодки на нём вырастут, посадишь зло – большие ягоды вырастут, да волчьи. За своё зло теперь плачу, а Сонька за что?
– Тут простой арифметики не бывает, Соня тоже замуж за иностранца не по любви хотела, – напомнила Юлия Измайловна.
Под Новый год Валя отправилась за подарками в магазин «Москва» на троллейбусе по Ленинскому проспекту. Подсела к девушке в очках и шапке с помпоном, та что-то размашисто писала в большую тетрадь.
За окном мело так, что не было видно дороги, казалось, они не едут, а сидят в помещении с белыми кружевными занавесками на окнах. Путь от «Юго-Западной» был долгим, Валя краешком глаза заглянула к девушке в тетрадь и увидела ноты.
– Что ты пишешь? – спросила она.
– Симфонию, – озабоченно сказала девушка. – Надо сессию закрыть, а у меня не получается.
– Симфония – это музыка?
– Ага. Четыре части. Надо первую быструю в сонатной форме, вторую – медленную, третью – скерцо или менуэт, а четвёртую опять в быстром. А у меня вторая не лепится. Вот уже два часа на этом троллейбусе езжу!
– А как ты её пишешь? Про что? – спросила Валя.
– Про конец года, про метель, про троллейбус. Про тебя.
– Про меня?
– От тебя хорошая светлая тема. Ты как Снегурочка.
Вале захотелось помочь:
– Напиши, что холодная зима предвещает большой урожай, а снежная зима даст густую траву летом. А чтоб не заплутать в метель, надо переодеть обувь с правой стороны на левую и обратно. И ещё можно навощённую нитку с узлом на конце положить поверх снега, куда узел покажет, там и дорога…
– Спасибо тебе! – сказала девушка, поправила очки и поцеловала Валю.
Валя вышла за пару остановок от магазина «Москва», шла и думала. Известный режиссёр снял её в эпизоде фильма «Лесной богатырь», Гера нарисовал с неё картину, девушка написала музыку. Что они в ней увидели? Ведь её жизнь, словно пустой чемодан, приехала в Москву за платьями с этим пустым чемоданом. А все платья ей либо длинные, либо короткие, либо слишком пёстрые.
Наготовили к Новому году с Юлией Измайловной и Соней, как сказала бы бабушка, на Маланьину свадьбу. Валя купила ёлку, Юлия Измайловна всплеснула руками, полезла на антресоли, достала старинную металлическую держалку для ёлки и чемодан музейных игрушек из детства своей мамы. У Вали никогда не было в доме ни ёлки, ни игрушек, и она, пока наряжала, погладила каждого ангела с фарфоровым личиком и каждого серебряного снеговичка.
Стол накрыли перед телевизором, напились шампанского и смотрели «Голубой огонёк». Кого там только не было: и Эдита Пьеха, и Алла Пугачёва, и София Ротару, и Анне Вески, и ещё много кого. А когда он закончился, Валя сделала телевизор потише и затянула, как в деревенском застолье бабушкину любимую:
- Напилася я пьяна,
- Не дойду я до дому…
- Довела меня тропка дальняя
- До вишнёвого сада.
- Там кукушка кукует,
- Моё сердце волнует.
- Ты скажи-ка мне, расскажи-ка мне,
- Где мой милый ночует…
Соня уже знала слова и подтягивала, пьяно путая тональность. А Юлия Измайловна заметила:
– Никогда не слышала эту песню до конца, думала, она о женском разгуле, а она – о женском одиночестве. В общем, о нас с вами…
– А я знаю, почему никак не встречу настоящую любовь. Бабушка говорила, какая шла, такой и подошёл. Надо самой измениться, – предположила Валя. – Бабушка всегда у бога просила, а я не знаю, верю ли в бога, прошу у кого-то помельче, у домового, у лесного духа, у городского духа. Бог большое начальство, а я большого начальства боюсь!
Зима была тяжёлая, Валю не интересовало ничего, кроме медленно наполняющейся коробки-копилки, а Юлию Измайловну ничего, кроме школьной реформы, вводящей одиннадцатилетку.
Соня по-прежнему работала в художественном салоне у метро «Октябрьская», и в феврале после похорон Андропова примчалась с тортом, словно у кого-то день рождения. Похвалилась, что бросила курить и уменьшила транквилизаторы.
– Считайте меня дурой, но… – осторожно начала она. – Позвонил гадёныш Герка, то да сё, жена улетела в Кишинёв, ему на выходные ребёнка некуда деть. Ну, если я ему полквартиры отстегнула, то и посидеть-то могу, не рассыплюсь? Чудный мальчишка, и брови, как у Герки!
– Это великодушно, ребёнок не виноват, – ответила Юлия Измайловна, кинув выразительный взгляд на Валю.
– Тебе хоть кол на голове теши, – вздохнула Валя.
– Ему ж из-за сердца бегать нельзя, так мы с ним снежную крепость построили, у меня и депрессия прошла! – стала оправдываться Соня. – Я ж не виновата, что мне надо о ком-то заботиться? А Васька-авангардист как?
– Женился на той поварихе, пытался звонить, но для меня он умер, – ответила Валя.
– На тему умерших, – подмигнула Соня. – Мой новый ухажёр, оттуда сверху, на похоронах Андропова руководил перекрытием улиц. Говорит, холод собачий, солдатне из дивизии Дзержинского выдали ватные штаны и валенки с галошами. Он с этой солдатнёй проводил тренировки по разгону массовых беспорядков!
– Откуда у нас массовые беспорядки? – покачала головой Юлия Измайловна и процитировала:
- «Шагают бараны в ряд,
- Бьют барабаны,
- Кожу для них дают.
- Сами бараны…»
– Зачем беспорядки, ведь люди погибнут? – Валя никогда не понимала их обсуждений информации из «вражьих голосов».
– Ох, рыбонька, ты в этом не понимаешь, – махнула рукой Соня. – Так вот этот поклонник запихнёт тебя мохнатой лапой в министерство!
– Министром? – засмеялась Валя.
– Оформят медсестрой, но будешь массировать кого надо!
– Так моя поликлиника от дома близко.
– Во-первых, рыбонька, пора что-то в жизни менять. Во-вторых, встанешь там на очередь в кооператив.
– Конечно, попробуйте, – поддержала её Юлия Измайловна. – Как говорится, под лежачий камень вода не течёт.
В министерстве Валю отвели в большой светлый кабинет и велели ждать. О таком кабинете она и мечтать не могла. В центре стояла не массажная кушетка как в поликлиниках, а импортный массажный стол, какие Валя видала только на картинках.
А ещё полированный шкафчик с дорогими чистыми простынями, яркая ширма, два удобных кресла у журнального столика, пузатый электрочайник из дюралюминия, дулёвские чашки с розами и хрустальная ваза на подоконнике.
Вошла худощавая дама лет шестидесяти с чем-то змеино-русалочьим в лице, с безупречной осанкой в безупречном костюме и с сигаретой в уголке ярко накрашенного рта. По-хозяйски кивнула Вале и пошла раздеваться за ширму, не вынимая сигареты.
Вышла в одних импортных кружевных трусиках, неопрятно забычарила сигарету в чашку с розами и хрипло скомандовала:
– Массаж лица! Умеешь?
– Я всё умею, – растерянно ответила Валя.
– Тогда спину, лицо и стопы.
– Надо руки помыть. По городу ехала.
– Чистюля. Это радует! Иди налево по коридору и до конца.
– Дверь заприте, вдруг кто зайдёт…
– Не посмеют, – усмехнулась дама.
По лицу ей было все 60, по фигуре – 45, по ногам – 30. И после массажа она томно потянулась:
– Не ожидала. Ставлю тебе пять с двумя плюсами! Покажи трудовую книжку.
Полистав странички, лёжа на массажном столе, поморщилась:
– Скакала с места на место, перерывы в стаже!
– По семейным обстоятельствам.
– Замужем? Дети есть?
– Нет.
– Сюда за декретными пришла? – строго спросила дама.
– Негде рожать, пришла в очередь на кооператив встать, – призналась Валя.
– Будешь хорошо работать, поставлю! Иди в поликлинику оформляйся, зарплату будешь получать там, а массировать здесь!
Валя оформилась на работу, вернулась, и её отправили к начальнику отдела кадров, важному старичку, который с ходу заорал:
– Чё ты ко мне пришла? Я тебя на работу не брал, у нас нет медотдела! Совсем обнаглели, ведомственная поликлиника в двух остановках метро, но барыням массаж надо прямо на работе! Сталина на них нет! Думают, раз папе массажистку из кремлёвки возят, то и им по чину!
– «Папа» это кто? – не поняла Валя.
– Папа – это министр! Виктор Миронович!
Валю рассмешило отчество, у них в бараке на Каменоломке был выживший из ума старик Мироныч, дети дразнили его, «как у нашего Мирона на носу сидит ворона!», а он грозил им клюкой.
– Подчиняться будешь Лютиной, раз она тебя заказала. Третью массажистку за год меняет! Иди на второй этаж.
– Это медицинский отдел? – спросила Валя.
– Самый что ни на есть медицинский! – засмеялся он. – Нас КГБ лучше всех лечит!
– Зачем мне КГБ? – занервничала Валя.
– А куда тебя девать? Лютина на пару с Игоревной устроили себе кабинет массажа, сами пусть и отвечают, когда придёт народный контроль. А моё дело сторона!
В кабинете с табличкой «Лютина» за огромным столом, заваленным бумагами, курила и говорила по телефону та самая дама, что приходила на массаж. Она махнула Вале рукой, мол, садись. И Валя подумала, какой же величины стол у министра, если здесь он в половину кабинета?
Лютина положила трубку и, копаясь в бумагах, приказала:
– Приходить будешь к десяти. Получишь список тех, кто в обязательном порядке массируется, и второго эшелона, если свободное время. После рабочего дня можешь принимать их за деньги, закрою на это глаза. Постоянный пропуск выдадут завтра!
После истории с Николаем Валя панически боялась людей из КГБ, но каждый новый массируемый сотрудник министерства весь сеанс сплетничал об остальных сотрудниках, и быстро выстроилась полная картина. Кабинет незаконно организовали для себя начальница Первого отдела Лютина и секретарша министра Анна Игоревна, выше которых только сам Виктор Мироныч.
Лютина и Игоревна потихоньку управляли министерством, умно конкурируя между собой. Лютину звали за глаза «Лютая» и уверяли, что она только с виду злобная, а в целом нормальная тётка. У неё пьющая дочь и сорокалетний любовник-таксист.
А нелепую страшную секретаршу Игоревну «папа» взял, чтоб не подумали, что у него с секретаршей шуры-муры. Игоревна прикидывается дурой, но вынюхивает своим мясистым носом и видит своими маленькими свиными глазками всё, что делается в министерстве.
Министерство показалось Вале очень странным местом, она так и не поняла, чем все эти люди заняты. Утром они опаздывали, потом пили чай в ожидании обеда, обедали в своей прекрасной столовке, снова пили чай и обсуждали, как сбежать пораньше.
Да ещё постоянно что-то отмечали за госсчёт. То новое назначение, то уход на пенсию, то удачно завершённый бухгалтерский отчёт, то важные переговоры. В зале для приёмов или в большом кабинете накрывались столы. Дамы, забывая табель о рангах, воодушевлённо раскладывали закуски, а кавалеры откупоривали бутылки.
Вале нелегко давались эти сборища, но мысль о кооперативной квартире вынуждала терпеть. Финалом застолий становились всеобщие выяснения отношений и просьбы дать ключ от её кабинета. Других спальных мест в кабинетах не было, а половая жизнь в учреждении проходила бурно и многоукладно.
Когда просили ключи, Вале вспоминался Васин телефонный текст про то, что медицинская кушетка не сломается, и казалось, вся страна занимается любовью именно в медкабинетах. Чтоб отказывать в ключах, Валя пораньше сдавала их охране, как их доставали оттуда, её уже не касалось. Но утром перед началом работы брезгливо протирала всё в кабинете.
В холода нижние должности министерской иерархии посылали на овощную базу. Все отлынивали, а Валя с удовольствием ехала копаться в грудах овощей, потому что засчитывался рабочий день, а спина и руки отдыхали от стандартной нагрузки.
Запах овощей и земли напоминал огород в Берёзовой Роще, но было непонятно, почему здесь всё, связанное с овощами, так отвратительно организовано. Почему такая грязь и вонь? У бабушки в погребе каждый овощ можно было везти на выставку, а здесь Вале выдавали несвежие нитяные перчатки, нож и просили обрезать гниль с кочанов капусты, чтобы отправлять их после этого по магазинам.
Из других учреждений пригоняли научных работников, кандидатов наук, аспирантов. У них с собой всегда были водка и гитара. По дороге с овощной базы в автобусе рассказывали антисоветские анекдоты и пели песни Окуджавы, под них напивались по полной программе и создавали одноразовые парочки.
Но Валю больше интересовало, что с собой разрешалось забрать столько овощей, сколько унесёшь. Она приходила с походным рюкзаком бывшего мужа Юлии Измайловны и, не стесняясь, волокла на себе кочаны капусты, пакеты моркови и картошки.
А дома шинковала капусту, солила её с морковкой, клюквой и яблоками, как бабушка Поля на Сергея Капустника в конце сентября. И заставляла Юлию Измайловну есть квашеную капусту хоть понемногу раз в день, как защиту от всех болезней.
О том, что второй массажный стол есть в комнате за кабинетом министра, Валя узнала в апреле. Её вызвали на самый верх здания, куда ездил специальный охраняемый лифт, и секретарша Игоревна сказала, прищурив свои без того маленькие свиные глазки:
– Один раз сделаешь папе в задней комнате. Завтра из четвёртого управления вызову.
– Что сделать-то?
– У Виктора Мироныча шея болит. Помассируешь. Но только раз! Иначе ты тут больше не работаешь! Поняла?
Валя была напугана, когда приоткрывала тяжёлую дверь. Министр сидел за столом, который действительно был огромным, Валя не представляла, что бывают такие столы. Он смотрел в бумаги и выглядел совсем не так, как министры, которых показывают по телевизору.
И если бы Валя не боялась формулировать хотя бы для себя, то с ходу назвала бы его мужчиной своей мечты, и пожалела, что он министр. Был бы врач, инженер, водитель. А министр – это заоблачно! Куда ей до министра?
– Здравствуйте, – представилась она почтительно. – Я – Валентина Лебедева!
– Здравствуйте! А почему вы в белом халате, со мной что-то не так? – министр поднял усталые глаза, и они потеплели.
– Велели сделать вам массаж воротниковой зоны, – сказала Валя голосом отличницы. – Сказали, есть массажный стол.
– Шея прошла от одного вашего вида. Может, обойдёмся без массажа? Хотите чаю? – ответил он весело и встал, оказавшись выше её ростом.
– Не доверяете мне как специалисту? – покраснела Валя.
– Доверяю. Но сейчас перед вами министр в красивом костюме, а на кушетке окажется стеснительный пятидесятилетний мужчина, – пококетничал он. – Что лучше?
– Лучше, если вы будете меня слушаться и приготовитесь к массажу, – строго ответила Валя, потому что растерялась.
– Ну, если у меня совсем никаких шансов за вами поухаживать, слушаюсь и повинуюсь!
Он провёл Валю в заднюю комнату, снял пиджак, галстук, рубашку, ботинки и покорно лёг на массажный стол. У него было вполне молодое, хотя и слегка оплывшее тело.
Валя коснулась его шеи, и показалось, что руки погружаются во что-то родное. И она даже не специально, а помимо собственной воли затопила его не только профессионализмом, но и нежностью.
– Вы всем так массаж делаете? – удивился он.
– Я квалифицированный специалист! – кивнула Валя, не зная, что ответить.
– Высший пилотаж! Но всё равно не верю, что вы всем так массаж делаете. Не хочу верить.
– Думаете, министру делаю массаж лучше, чем остальным? – спросила Валя надменно, хотя пыталась остановить себя, мол, что ты несёшь. – Для меня все пациенты одинаковые!
– Какой я для вас министр? – улыбнулся он. – Для вас я усталый одинокий человек с остеохондрозом.
– Зачем говорите, что одинокий? – попыталась смягчить интонацию Валя.
– По паспорту я не одинокий, – сказал он, завязывая галстук. – Просто, когда вы делали массаж, понял, что совершенно одинок.
– Совет дам, но вы ж не послушаетесь, – поменяла она тему. – Надо корень сельдерея прокрутить через мясорубку, смешать пополам с мёдом, две недели настаивать в тёмном месте и по ложке три раза в день до еды. Но это очень невкусно!
– Откуда знаете, что невкусно?
– Бабушка соседям делала, а я попробовала. – Вале удалось улыбнуться.
Вышли в кабинет, он достал с полки сувенирную куклу в русском народном костюме, протянул и сказал:
– Это – моя шпионка. Если сразу не выбросите, будет напоминать обо мне. А мне напомнит о вас шея, снова заболит, вас снова вызовут! И вдруг у меня появится шанс.
Валя зарделась, решила, что на следующем сеансе подыщет нормальные слова про то, что ей тоже не хватает человека, который иногда будет обдавать её таким теплом. И про то, что массаж – это единственный язык, на котором она может предложить людям свою любовь, ведь её любовь, конвертированная в другие языки, никому не нужна.
Но Игоревна не была дурой, чтобы ещё раз подпустить к начальнику такую красавицу и разделить с этой красавицей влияние на жизнь министерства. На вопросы Виктора Мироновича она с сожалением отвечала, что массажистку с золотыми руками сманил за океан американец, и всё министерство об этом сокрушается.
– Какая жалость, рыбонька! – воскликнула Соня. – Один коитус в задней комнате, и ты смогла бы забрать маму в Москву!
– Соня, при чём тут квартира? – возмущалась Валя. – Я же не потому, что министр, а просто на душу легло! Ты бы видела, какие у него глаза!
– У Геры тоже были и глаза, и брови! В результате я – фиалка на чертановском ветру!
Образ недосягаемого Виктора Мироновича в золотом ободке скрасил ненавидимое Валей министерство, населённое картонными людьми. Однажды она попыталась подойти к двери, перед которой сидел охранник и открывался тот самый лифт для министра и его замов. На этом лифте они спускались, чтоб выйти в закрытый двор, сесть в машины и никогда не пересекаться с подчинёнными.
Но охранник затормозил её, усмехнувшись:
– Не суетись под клиентом, Игоревна ему другую массажистку вызывает.
Валя понимала, что это проделки Игоревны, а структура министерства не оставляет ни щёлочки для общения рядового сотрудника с министром. Да и кто, собственно, она, чтобы претендовать на внимание Виктора Мироныча? Небось каждой молодухе дарит по кукле.
Зарплата и премия были в министерстве больше, чем в поликлинике, сотрудники давали чаевые, платили за массаж после окончания рабочего дня, и коробка с деньгами набухала так, что Валя с Юлией Измайловной, на случай ограбления квартиры, закопали её на антресоли в стопку «Нового мира».
Перед сном Валя фантазировала на тему вожделенной однокомнатной квартиры, вешала в ней занавесочки и расставляла мебель, а по утрам кивала кукле в русском народном костюме:
– Ну что, шпионка? Забыл нас министр?
Как-то зимой, закончив работу, Валя шла в темноте по бульвару и заметила у газетного стенда дрожащего легко одетого юношу, читающего при свете фонаря статью с крупным заголовком «Создай в себе красоту!». Она остановилась и заплакала, потому что отчётливо увидела, что её жизнь – беспросветный серый тоннель.
Весной зашедшая на массаж Лютина объявила в дверях:
– Вы будете смеяться, но Генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко тоже умер… В народе это назвали гонками на катафалках!
И Валя удивилась, что Лютина шутит, как Соня и Юлия Измайловна. Понятно, когда миллионы таких, как Соня и Юлия Измайловна, ненавидят советскую власть, но чтоб начальница Первого отдела потешалась над смертью генсека? У Вали, можно сказать, был культурный шок.
– Почему в отпуск не ходишь? – как-то спросила Лютина во время массажа.
– Деньги коплю на квартиру! В отпуск куда? Бабушка умерла, дом в деревне заколоченный.
– Сироту из себя не строй, муж твой известный артист. – Валя скрывала это и испугалась, как с гэбистом Николаем.
– Ушла от него давно. Поди, уже спился.
– Красив как бог! – заметила начальница. – Такими не бросаются.
– Мне такие красивые больше не нравятся, – попыталась Валя зацепить её темой. – Мне нравятся такие, как Виктор Миронович.
– Да он 1936 года – в отцы тебе годится. А тебе, Лебедева, рожать давно пора.
– Вот и хорошо иметь такого отца, а с молодыми я уже в любовь наигралась, – Валя сделала вид, что пропустила про «рожать» мимо ушей.
– Наш министр крепкий орешек. Далеко пойдёт, если милиция не остановит. Особенно при Горбачёве!
Больше Валя ничего о нём не узнала, а Горбачёв был ей по душе после старых сухих Андропова и Черненко. Он был свой деревенский, знакомо говорящий слова. И жена его, как ни наряжалась, тоже говорила как бабы в родном городке.
– Просто не представляешь, в каком удачном месте работаешь, – шутили в министерстве. – По всей стране антиалкогольная реформа, а к нам не сунуться! Как пили, так и будем пить!
Шептались о переменах, ругали Горбачёва за вырубку виноградников, а Валя думала, вот молодец! Ещё бы вырубил всё, из чего делается водка, сколько б баб поклонились ему в пояс. Шутили про «ускорение», о котором твердило телевидение, но Валю интересовало только ускорение наполнения коробки от обуви деньгами.
Обсуждали и войну в Афганистане, и сумасшедшего литовца, облившего серной кислотой и порезавшего ножом «Данаю» Рембрандта в Эрмитаже. Юлия Измайловна остро это переживала и носила во все свои классы репродукцию, словно «Даная» волновала старшеклассников больше, чем эротическая картинка.
Валя внимательно рассмотрела эту Данаю. Как массажистка она видела сотни голых тел и считала, что этой Данае носик и живот бы поменьше, а глаза и грудь побольше. Да и ручищи у неё огромные, как у баб на ткацкой фабрике.
После Нового года Горбачёв объявил о программе ликвидации ядерного оружия во всём мире, и Валя полюбила его ещё больше. Она боялась ядерной войны, о которой постоянно твердил телевизор. И знала, что бомбоубежище в подвале затоплено подтекающей канализацией, а противогазы давно сожрали крысы.
В апреле рванул Чернобыль, о котором по телевизору было одно, по «вражьим голосам» другое, по Сониной информации третье. А Лютина рассказала на массаже, что сразу после взрыва в Припяти обрезали междугороднюю связь, отменили «Ракету» до Киева, запретили остановки поездов, а горожанам сообщили о радиации только на следующие сутки.
Валя воспринимала это как личную трагедию и понимала, что никаких перемен в стране нет, а люди по-прежнему должны спасать себя сами. И когда в сберкассах открыли «счёт 904» для пожертвований граждан, понесла туда деньги из заветной коробки.
Юлия Измайловна похвалила её, а Соня сказала по телефону:
– Дура ты, рыбонька! Они на эти деньги построят очередной танк для Афганистана!
В конце мая вышла телепередача «КВН», и Юлия Измайловна чуть не танцевала по этому поводу:
– Вы ведь такая телеманка, разве не помните, что «КВН» закрыли за смелые шутки? Цензура даже запрещала кавээнщикам выходить с большой бородой, считая это насмешкой над Марксом!
– Не помню, – качала головой Валя.
– Её же вели Александр Масляков и Светлана Жильцова. И она начиналась песней «Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш…». А теперь один Масляков и совсем другая песня.
– Про карандаш знакомое, но я такого юмора не понимаю. – Вале нравились простые передачи, когда ведущий спрашивает, а гость отвечает, и никто не кривляется, как в этом «КВН».
А в августе появилась независимая газета «Московские новости» Егора Яковлева, на которую нельзя было оформить подписку даже по блату. И люди стояли толпой возле мест, где её вывешивали, и читали о том, о чём молчали остальные газеты. А потом собирались в кучки и громко обсуждали прочитанное.
Да ещё осенью приняли закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», хотя подпольного бизнеса было полно и до закона. Потихоньку шили, ремонтировали, строили дачи, оказывали медуслуги по квартирам и так далее. Официальный патент на индивидуальную трудовую деятельность стоил теперь копейки, и по Москве пожаром побежали не только кооперативные кафе, рестораны, ларьки, магазинчики, медцентры, видеосалоны, но даже частные туалеты.
А тут и Соня приехала с тортом. И выглядела она необыкновенно, сбросила плащ из космической серебристой ткани, оказалась в комбинезоне с модными брюками-бананами и широченным кожаным ремнём. Вела себя, словно влюбилась, и трещала, как заведённая новым ключиком:
– Полтинник на носу, живу как с чёрного хода, стою за прилавком, слышу, как жизнь уходит! Слышу, рыбонька, как она цокает каблуками! Знакомая за границу съездила, как увидела, сколько там всего продаётся, ей в магазине плохо с сердцем стало.
– А счастье продаётся? – усмехнулась Валя.
– Да что ты всё про счастье? Счастье – это быть себе хозяйкой и ни в чём не нуждаться!
– Соня, вы – духовный человек, а строите из себя Эллочку-людоедку, – одёрнула Юлия Измайловна.
– Видели, как Герка оценил мою духовность? Отрезал полквартиры и помчался к бывшей, высоко вскидывая бёдра! – напомнила Соня. – Бросай, рыбонька, к едрене фене министерство, массажный кооператив сбацаем. Ты будешь массировать, я – их чаем поить!
– Из всех кооперативов меня волнует только жилищный, и очередь в министерстве продвигается, – напомнила Валя.
– Досидишься, рыбонька, как я, до полтоса, потом уж поздно будет, – погрозила Соня пальцем. – Так и состаришься в обносках!
Валя была в очередной Сониной трикотажной кофточке. Соня отдавала ей надоевшие вещи, Вале они были коротковаты, и приходилось придумывать, как это спрятать жилеткой или верхней кофтой.
– И что, что в обносках? – возразила Валя. – Вон везде секонд-хенды открыли, там модницы шарятся, не чета мне!
– Что ж вы мою стрижку не хвалите, я за неё столько деревянных отвалила? – поменяла тему Соня – Устроилась на новую работу! Типа референта. Кооператив занимается безопасностью. Шеф противный, но платит зашибенно.
