Слёзы чёрной вдовы бесплатное чтение
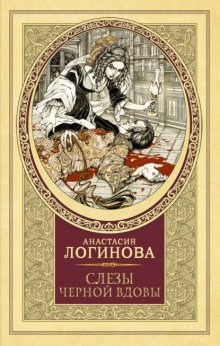
Пролог
1891 год, Российская империя, Выборгская губерния
– Ну, гляди, что ты натворила! Сколько крови! Весь паркет в крови, вся комната! Что теперь станешь делать?!
Отец стоял над нею, заложив, как всегда, руки в карманы, и наблюдал сверху вниз, будто Светлана опять была маленькой неразумной девочкой.
– Я… я не знаю, – простодушно ответила она. Потом еще раз посмотрела на свои руки, перепачканные свежей кровью, и в отчаянии подняла глаза на отца: – Это не я. Это, наверное, не я… Я не могла!
А отец усмехнулся – жестоко, свысока, словно пригвоздив ее этим смешком к полу.
– Себе‑то не лги, милая, – он опустился возле Светланы на корточки, поднял с пола револьвер и вложил в ее руку. – Ты могла. Ты вполне могла.
Потом отец ушел, а Светлана осталась в этой страшной комнате одна – перепачканная в крови и сидящая на полу возле тела своего мертвого мужа.
Глава 1
Надя Шелихова, младшая сестра графини Раскатовой, напряженно вглядывалась за стекло, за поворот поселковой дороги, и в нетерпении своем прикусывала губу чуть не до крови. Оттуда, из‑за поворота, вот‑вот, каждую секунду, могла вынырнуть полицейская карета, и Надя отчего‑то боялась этот момент пропустить.
Сестра ее тоже находилась в столовой, Надя краем глаза видела, как Светлана, натянутая будто струна, сидит и смотрит в противоположную стену. В руках она сжимала дымящуюся чашку с кофе и, время от времени вспоминая о ней, вдруг отпивала с совершенно неуместным удовольствием. Светлана вообще выглядела удивительно спокойной.
– Едут, – воскликнула наконец Надя и разволновалась еще больше. Ее бросало то в жар, то в холод, как при лихорадке. Она порывисто обернулась к сестре: – Светлана, едут! Это полиция, должно быть!
– Быть того не может, чтобы полиция так скоро явилась, – невозмутимо отозвалась сестра и снова отпила кофе. – Это Гриневские, я посылала к ним, едва рассвело.
Впрочем, Надя уже и сама удостоверилась, что сестра права. Как всегда. Темное пятно на дороге приобрело очертания запряженного парой гнедых ландо, в котором обычно объезжала свои владения Гриневская, подруга Надиной сестры и хозяйка всего поселка Горки, где вот уже которое лето подряд снимала дачу графиня. Однако сегодня подле Гриневской сидел и ее супруг.
– И как только ты можешь быть такой спокойной, Светлана! – упрекнула Надя, досадливо отходя от окна. – Твой муж лежит мертвый в библиотеке, а ты пьешь кофе, будто ничего не случилось!
– А что прикажешь мне делать – истерить, как ты? Сядь и не мельтеши, бога ради!
Надя без слов присела на краешек стула, опустила взгляд и принялась теребить кружево на юбке. Вот так всегда: сестра не стеснялась в выражениях в ее адрес. И правда, кто она, Надя, в этом доме? Приживалка, тяжкий крест, который великодушная графиня Раскатова взвалила на себя, обязавшись устроить Надину жизнь. И права голоса она здесь не имеет – Надя давно к этому привыкла.
– Прости, Надюша, сорвалась… – извинилась все же Светлана. – Шла бы ты лучше к себе, право слово.
Надя украдкой подняла на нее глаза и подумала, что, несмотря на внешнее спокойствие, сестра все же крайне вымотана случившимся.
Еще бы, ведь всего несколько часов назад Светлана сама нашла в библиотеке тело мужа. Сестра, стоящая подле него на коленях, была так бледна, что Надя в первый момент подумала, что мертвы они оба. Но потом Светлана прошептала:
– Господи боже… что я наделала…
И посмотрела на свои перепачканные кровью руки.
А теперь эта же самая Светлана спокойно пила кофе и упрекала Надю за истерику.
– Позволь мне все же остаться, не прогоняй, – несмело попросила Надя, потому как сидеть в одиночестве, в доме с мертвецом, ей до ужаса не хотелось. Но и признаваться в своих страхах хотелось не больше. Потому Надя нашлась: – Я люблю тебя и желаю помочь – ведь ты моя сестра!
– Ну как ты можешь помочь, дурочка? – Светлана произнесла это почти ласково, так, что Надя даже не обиделась в этот раз на «дурочку».
Подумав немного и набравшись храбрости, Надя поерзала на месте, чуть развернулась к сестре и, заглядывая ей в глаза, спросила:
– Светлана, а что все‑таки произошло ночью… в библиотеке?
И тотчас, не успев даже договорить, она пожалела о своем вопросе, поскольку взгляд Светланы, только что снисходительно‑ласковый, теперь, как острая спица, пронзил все существо Нади. Она опять сжалась, готовая слушать в свой адрес порцию новых оскорблений.
Однако сестра с обманчивым спокойствием отозвалась лишь:
– Ты разве чего‑то не разглядела в библиотеке, сестрица? Может, за доктором пора посылать да зрение тебе проверить?
После этого в столовой долго висела тишина, которую нарушил только бой напольных часов из библиотеки – било девять. Надя пыталась осмыслить сказанное сестрой и все не решалась поверить. А Светлана, едва часы затихли, с громким звоном поставила чашку на блюдце, резко встала и отвернулась, уронив лицо в ладони.
Надя решила, что она плачет.
– Так, значит, это действительно ты… убила Павла Владимировича, – сказала она едва слышно и судорожно сглотнула.
А сестра, оторвав руки от лица, бросила ей очередной колючий взгляд:
– Да, Надюша, вот полиция приедет – так им и скажешь! Меня тогда сразу на каторгу, а тебя – на улицу, под забор, вышвырнут. Достойное окончание рода Шелиховых, и говорить нечего!
– Так что же нам делать?.. – прошелестела Надя, всерьез обдумывая эту перспективу.
– Что делать, что делать… Уж точно не кудахтать, как курица, и не мямлить. Ничего, в полиции тоже люди служат. И не просто люди, а мужчины – договоримся.
С этими словами Светлана, уже справившись с той минутной слабостью, подошла к настенному зеркалу и начала приводить себя в порядок. Поправила непослушную прядь у виска, дотронулась пальцами до лица, будто проверяя – все так же оно совершенно в своей красоте? И оттянула корсаж платья, у которого был и без того неподходящий для утреннего туалета вырез.
Женщины красивее своей сестры Надя никогда не встречала. Высокая, стройная, со столь царственной посадкой головы, что неуклюжая и нескладная Надя иногда сомневалась: впрямь ли они родные сестры? Нет, схожесть меж ними, конечно, была: обе имели водянисто‑зеленые глаза, «русалочьи», как называл их папенька, и копну пышных, чуть вьющихся волос – темнее у Светланы и светлее у Нади. Вот только если каждая черта лица Светланы была вылеплена с любовью и старанием искусной рукой скульптора, то над лицом Нади этому скульптору трудиться было явно лень, и он, оставив по‑детски пухлые щеки, грубоватый нос и вялый подбородок, решил, должно быть, что довольно и этого.
Повернув кофейник так, чтобы ее лицо не отражалось в серебре, Надя вздохнула. Не то чтобы она была дурнушкой – совсем нет, не будь рядом Светланы, ее, возможно, даже сочли бы хорошенькой. Из‑за глаз хотя бы. Но, будучи в тени Светланы, выделиться ей нет никакой возможности… Это при том, что сестре было уже двадцать восемь, а семнадцатилетней Наденьке эта цифра казалась очень и очень почтенным возрастом. К примеру, Гриневскую, ровесницу Светланы, Надя вполне серьезно считала женщиной в годах.
– Напрасно ты позвала Гриневских, – тотчас, едва о них вспомнила, сказала Надя, – не нравятся они мне. Оба.
– А разве тебе вообще кто‑нибудь нравится, Надюша? – заметила сестра, продолжая поправлять прическу. – Алина моя лучшая подруга, единственная даже, если быть точнее. А Сергей Андреевич… он умный человек и обязательно подскажет, что делать.
Надя же еще раз покосилась на декольте платья сестры и даже фыркнула. Будто она совсем маленькая и не понимает, что эта «лучшая подруга» для Светланы лишь неприятное дополнение к «умному человеку» Сергею Андреевичу.
Словно в ответ на ее мысли, за дверью послышались громкие голоса и шаги, а после, оттесняя экономку, в столовую ворвались Гриневские, чрезвычайно взволнованные.
– Светлана, друг мой, ты так напугала нас своей запиской! – Гриневский, не здороваясь и не обращая внимания на Надю, через всю столовую бросился к ее сестре, с ходу припадая к ручке. – Что стряслось, ma chère?1
Законная же его супруга волнения проявила куда меньше. Кивнула Наде в ответ на ее книксен, после чего молча стала у камина, не торопя никого с расспросами.
Алевтина Денисовна Гриневская, которая предпочитала, чтобы ее называли Алиной, была худой, как жердь, с некрасивым веснушчатым лицом – она и впрямь выглядела отчего‑то куда старше своих лет. Надя не любила эту женщину и почему‑то побаивалась. Она казалась ей ведьмой, сбежавшей с шабаша: слишком странная, слишком догадливая и слишком себе на уме. Сходство с ведьмой дополняли огненно‑рыжие волосы, которые Алина никогда не могла толком прибрать – именно такими изображались ведьмы на иллюстрациях в сказках, которые давным‑давно читал Наде папа.
Муж Гриневской – Сергей Андреевич, – напротив, мужчина был весьма привлекательный. Высокий, статный, с густыми темными волосами. Стариком, под стать жене, он Наде не казался, хотя она и видела, что он всегда надевает очки, когда берет книгу. Но все же она не понимала, что Светлана находит в этом мужчине. Должно быть, она просто смеется над ним, ведь Наде прекрасно было известно, какие достойные молодые люди увивались за ее красавицей сестрой в Петербурге.
Наде Гриневский казался человеком неинтересным и глупым, несмотря на убежденность Светланы в обратном. Она разглядывала гостей, пока те наперебой выспрашивали у Светланы подробности случившегося – на Надю они внимания не обращали: младшая сестра Светланы никогда никого не интересовала.
– Ты уже послала за полицией?! – с оттенком ужаса в голосе переспросил Гриневский и нервно заходил по комнате. – Напрасно, совершенно напрасно…
– Не я, так кто‑нибудь другой бы позвал, – поморщилась сестра, – такого не утаишь.
– Можно было что‑то придумать!
– Что придумать? В погребе его закопать?!
– Все лучше, чем звать сюда полицию!
– Что уж теперь говорить – дело сделано… – разумно заметила Алина. – Надобно думать, как быть дальше. Светлана, ma chère, где все случилось?
– В библиотеке…
– Я взгляну, – не дожидаясь позволения, Гриневский, нервничающий отчего‑то больше всех, бросился вон из столовой.
В доме он бывал достаточно часто, чтобы знать расположение комнат, так что в провожатом не нуждался. Дамы не слишком охотно, но все же двинулись за ним. А Надя осталась.
Она заходила уже в библиотеку, видела все, и у нее не было никакого желания вновь переносить эти ужасы. И без того перед глазами стояла та картина: муж Светланы, граф Павел Владимирович, лежащий на полу с простреленной грудью в луже собственной крови. А над ним Светлана – бледная, растрепанная, с сумасшедшими глазами. Что меж ними произошло? Поссорились? Должно быть, так и есть…
Но стоять в неожиданно опустевшей столовой тоже оказалось неуютно. Поежившись, Надя решилась и тихонько вышла, чтобы, преодолев гостиную и музыкальный салон, притаиться у рояля, откуда и голоса в библиотеке были слышны, и тела несчастного графа не видно.
– Кто‑нибудь еще сюда входил? – сразу услышала Надя вопрос Гриневского.
– Никто, я сразу заперла дверь и ключ никому не отдавала, – уверенно отозвалась сестра.
– А кто еще есть в доме, кроме вас с Надей?
– Никого, – излишне поспешно отозвалась Светлана, – только прислуга, разумеется.
– Прислуга… – повторил Гриневский задумчиво, – Светлана, а в доме ничего не пропало, ты проверяла?
– Ничего я не проверяла! Не до того мне было! – По раздраженному ее тону Надя поняла, что сестра уж сама жалеет, что позвала этого «умного человека».
– Серж, в самом деле, что ты говоришь? – упрекнула мужа и Гриневская, – по‑твоему, слуги ограбили дом, убили хозяина и остались на местах?! Ведь все на местах?
– Да, кажется… – Светлане явно не нравился этот разговор. – Это абсурд, мои слуги здесь ни при чем.
Наде же это абсурдом не казалось, и она начала припоминать, как косо посмотрел на нее Петр давеча, когда она возмутилась, что он неровно правит коляской, пока вез ее в аптеку. Он явно затаил на нее зло тогда… А Василиса, экономка, с такой любовью натирает всегда столовое серебро, будто это ее собственность. К тому же Алена, Надина горничная, рассказывала, как два года назад в соседней деревне вот точно так же один крестьянин убил управляющего имением…
– В столовой‑то убирать прикажете, барышня? – Надя вздрогнула, потому что это спросила Василиса, тихонько подкравшаяся.
– Ах, не до тебя, право… – поморщилась Надя, – убирай, если угодно, мне все равно.
Василиса имела наглость покачать головой, будто еще и осуждала ее, но ушла наконец. А Надя принялась размышлять дальше.
Другой прислуги, кроме Петра, Василисы и Алены, на даче не было – да и эти местные, круглый год живут здесь, присматривают за домом и, должно быть, считают себя хозяевами.
Тем временем Гриневские со Светланой покинули библиотеку: Светлана была бледна, почти как в тот раз, Алина мрачнела и становилась еще некрасивее, а Гриневский глупо хлопал глазами, качал головой и все вздыхал беспрестанно. Однако они не успели даже сесть, как навстречу выбежала с перепуганными глазами Василиса.
– Барыня! – заголосила она, хватаясь за голову. – Барыня, там полиция! На черной большой карете! У ворот уже почти… что делать‑то?
– Скоро они явились… – Светлана сжала губы, будто задумала что‑то. – Не бойся, Василиса, я ведь сама их звала. Иди, встреть по‑хорошему, да веди в гостиную. Скажи Алене, чтоб чай подала.
Экономка как будто успокоилась, видя, что хозяйка ничуть не волнуется, согласно закивала и поспешила прочь. Взгляд же Светланы, скользнув по стенам музыкального салона, остановился на Наде, и она словно не сразу поняла, что младшая сестра вообще здесь делает. Потом нахмурилась и велела:
– Надя, ступай к себе и, пока не позову, не смей спускаться.
– Светлана, позволь… – попыталась было воспротивиться она.
– Не спорь со мною! – повысила голос сестра. – Хоть раз просто сделай то, что я велю!
– Пойдем, Надюша, я провожу, – Алина навязчиво взяла Надю под руку и почти силой повела к дверям. А уже выходя, полуобернулась к Светлане и горячо заверила: – Не бойся, Светланушка, ничего не бойся – мы с тобой!
Едва закрылась дверь за Алиной и Надей, Светлана почувствовала, как рука Сержа властно легла на ее талию, а губы оставили влажный след на шее.
– Алина права, mon cœur2, тебе не о чем волноваться, – горячо прошептал он на ухо. – Если понадобится, то я сам…
– Что – ты сам?! – Светлана раздраженно стряхнула его руку и отвернулась.
Но Серж, слава богу, больше не делал попыток к ней прикоснуться. Вместо этого он сел на банкетку возле рояля и в который уже раз вздохнул.
– Думаешь, я слишком строга была сегодня с Надюшей? – спросила вдруг Светлана.
Серж безразлично пожал плечами:
– Надя невыносима, любой бы сорвался на твоем месте. Думаю, она сама это понимает и знает, что ты все равно ее любишь.
– У меня нет никого, кроме нее, – конечно, люблю! – горячо согласилась Светлана, не оборачиваясь к нему. – Все, что я делаю, все – для нее. – Она снова решительно сжала губы. – Я сама поговорю с полицией, останься пока здесь.
Серж не стал спорить – наверное, понимал, что бесполезно. Он лишь покачал головой еще раз и досадливо молвил:
– Не понимаю, как вообще твой муж оказался здесь? Почему он не в своем имении? Кто его звал? Только вчера утром ведь его еще не было!
– Сама хотела бы знать, зачем он вдруг приехал… – ответила Светлана мрачно. – Я его с прошлой зимы не видела и даже не писала. Откуда он узнал, что я в Горках?
Но, не дождавшись, как объяснил бы это Серж – по правде сказать, она и не нуждалась в его объяснениях, – Светлана решительно направилась к дверям. Задержавшись в столовой, все у того же настенного зеркала, она оттянула корсаж еще ниже. Потом подумала и накинула поверх плеч ажурную полупрозрачную накидку – так было даже эффектнее. Однако Светлана будто бы и не заметила, как хороша сейчас, поморщившись каким‑то своим мыслям. Но все равно горделиво вскинула голову и отправилась встречать полицию.
Глава 2
Полицейский приехал всего один, но зато за версту было видно, что это не местный исправник. Одет он был в штатское и даже немного щеголевато. Темноволосый, с аккуратными усиками и в модной шляпе. Немного манерный – насколько Светлана могла судить, внимательно разглядывая его из окна в гостиной. Сперва ее удивило, что следователь так молод, но потом она подумала, что это определенно ей на руку. И, воодушевившись, принялась ждать, когда Василиса проведет его в дом.
Однако кое‑что Светлану насторожило: слуга, что приехал со следователем, вдруг подозвал Петра, коротко сказал ему что‑то, и вместе они принялись распрягать лошадей из полицейской кареты. Это что же – следователь собирается здесь задержаться?..
Долго раздумывать над этим не пришлось: за дверью послышался голос Василисы, и Светлана поспешила отойти от окна. Напустила на себя облик убитой горем вдовы – однако такой вдовы, которую всякому хотелось бы утешить, – и, поправив ажурную накидку на груди, села в кресло.
Вблизи следователь оказался даже привлекательным и, главное, галантным:
– Михаил Алексеевич Девятов, – отрекомендовался он, припадая к ручке Светланы. – Первым делом позвольте мне, Светлана Дмитриевна, выразить вам соболезнования… от меня и от лица Платона Алексеевича, моего шефа.
Услышав это имя, Светлана почувствовала, как сердце ее пропустило удар. Против воли у нее вырвалось:
– Платон Алексеевич знает? Уже?
Но потом все стало на свои места: ее муж был не последним человеком в Петербурге и, разумеется, друзей нажил много. Платон Алексеевич, граф Шувалов, тоже входил в их число: много лет назад, когда Светлана с Павлом еще выезжали вместе, они часто бывали у Шувалова, а тот навещал их. Служил же Платон Алексеевич в таком ведомстве, которое и упоминать‑то всуе не стоило…
– Да, мой шеф славится тем, что знает в Петербурге и окрестностях о каждом выстреле, – некстати улыбнувшись, объяснил Девятов.
Светлана едва совладала с собою, потому что не сомневалась в этот момент: Шувалов действительно знает о каждом выстреле. Уж его ей точно не удастся обмануть… но все же она совладала и, поймав взгляд следователя и понижая голос, сказала доверительно:
– В таком случае, я уверена, вы непременно найдете того, кто это сделал.
Девятов ответил ей взглядом чуть более долгим, чем позволяли приличия, и отчаяние, уже успевшее охватить Светлану, немного отступило.
– Я думаю, вам лучше побывать на месте, где все случилось. Позвольте, я сама провожу вас, Михаил Алексеевич.
С этими словами Светлана вновь протянула руку, чтобы он помог ей подняться, а после, пройдя мимо него так близко, что коснулась кружевом на рукаве его сюртука, она направилась в библиотеку. Светлана словно бы не замечала, что ажурная накидка соскользнула с ее плеча, оголив тонкую полоску кожи возле ворота платья. Девятов молча шагал позади, но Светлана готова была поклясться, что этот участок ее кожи он изучил вдоль и поперек.
И она убедилась в этом, когда вела следователя через музыкальный салон: Сержа там уже не оказалось, слава богу, зато была дверь со стеклянными вставками, начищенными Василисой до зеркального блеска, где и отразился взгляд Девятова, которым он жадно и масляно скользил по ее шее.
«Мужчины все же примитивны до отвращения…» – подумала она и с трудом поборола порыв закутаться в накидку плотнее.
Павел лежал в библиотеке. Точно так же, как ночью, – раскинув руки и с навеки застывшим на лице немым осуждением. Именно таким Светлана, наверное, его и запомнит на остаток жизни. Жаль, что таким. Жаль, что она уже и не может вспомнить его лицо во время их помолвки, когда он был влюблен, а она смотрела на него как на божество. Или когда родился Ванечка и ей казалось, что в целом мире нет никого, кроме них троих, – им никто и не нужен был.
Теперь Павел лежал в ее доме убитый, а Светлана совсем ничего не чувствовала к нему. Он и правда успел стать ей чужим человеком. То восторженное чувство влюбленности как‑то резко, почти что в один день, сменило безразличие – холодное и бескрайнее, как ледяная пустыня. Вот чего никогда не было между ними, так это ненависти: там, где царствует безразличие, ни для каких других чувств места нет.
Было ли ей жаль Павла? Наверное, да. Он был еще слишком молод, чтобы умирать. Хотя, попытайся Светлана хоть сколько‑нибудь проявить это сострадание, вышло бы фальшиво до омерзения. Ведь в мыслях своих она похоронила мужа уже давно. Оплакала, похоронила и оставила в прошлом.
Единственное, что Светлану по‑настоящему волновало сейчас: что будет с Надей, когда все откроется? И дело даже не в том, что сестра останется без крова над головой, без средств и без покровителей, – дело в несмываемом позоре, который навсегда теперь пристанет к фамилии Шелиховых.
Пока же Светлана, растеряв всю решительность, стояла в дверях, следователь Девятов делал свою работу. Натянув тонкие перчатки, он сноровисто осматривал и даже ощупывал кровавую рану на груди Павла. Потом, тяжело повернув тело на бок, поднял сорочку и, беззвучно шевеля губами, буквально изучал буро‑фиолетовые синяки на спине.
– Вы доктор? – догадалась Светлана.
Пожалуй, только представители этой профессии лишены брезгливости настолько, что считают человека – и живого, и мертвого – материалом для изучения, и не более.
– Что? – переспросил Девятов, кажется, он настолько увлекся, что забыл о ней. Это плохо. Но он тотчас улыбнулся, будто извиняясь: – Ах нет, не доктор, но без основ военно‑полевой медицины в нашем деле никуда. Быть может, вам лучше подождать в гостиной?
– Нет, – быстро и твердо ответила Светлана, – я хочу все видеть.
Впрочем, Девятов уже закончил с телом Павла и теперь, почти распластавшись на полу, с увеличительным стеклом изучал пятна крови, уже высохшие и въевшиеся в паркет. Поколебавшись, Светлана подкрутила масляную лампу, потому как в библиотеке стоял неприятный полумрак, отнюдь не помогающий следователю. И с опаской принялась ждать, что он найдет.
Казалось, кровь в библиотеке была разлита лишь под телом Павла, но следователь ползком и с лупою в руках изучал паркет и в шаге от него, и в двух, все ближе и ближе подбираясь к Светлане… а главное, по его глазам и диковатой улыбке было понятно – он определенно что‑то видит. Когда же Девятов приблизился настолько, что был в прямом смысле у ног Светланы, она не выдержала и поспешно отошла за порог. И сама отметила, что под носком ее туфли оказалось небольшое, но четкое бурое пятно. Было ли оно там прежде, до этой страшной ночи? Бог его знает…
Но следователя наличие пятна необыкновенно обрадовало.
– Интересно‑интересно… – пробормотал он.
И, не отводя лупы, полез во внутренний карман сюртука, откуда извлек металлический несессер, размером чуть крупнее портсигара. Внутри оказался пустой спичечный коробок и лопаточка, не больше пилки для ногтей. Ею Девятов тщательно и ловко выскреб между дощечек паркета немного бурого порошка, в который превратилась высохшая жидкость, и почти любовно ссыпал этот порошок в спичечную коробку.
– Что‑то нашли? – не удержалась Светлана, которая, глядя на это действо, не знала, что и думать.
Но Девятов лишь улыбнулся ей и ничего толком не ответил. Он уложил коробку обратно в несессер, почистил лопаточку о носовой платок и отправил ее туда же. Светлана разглядела, что спичечных коробков у него еще два или три.
А после следователь осмотрелся в библиотеке – теперь выше пола.
– У вас отличная коллекция книг! – не к месту сделал он комплимент. – Должно быть, проводите здесь много времени?
Этот вывод Девятов сделал, судя по всему, когда углядел в дальнем углу библиотеки внушительную стопку книг возле уютного глубокого кресла и почти до основания оплавленную свечу. Это Надюша оставила: сестра любила читать и действительно проводила в библиотеке много времени, но Светлана, почувствовав, что не нужно заострять на сем факте внимание, лишь вымученно улыбнулась и повела плечом.
Но следователь и не стал допытываться.
Его внимание привлекла остекленная дверь, что вела на террасу прямо из библиотеки. Уже стянув перчатки, он отодвинул занавеску и сквозь стекло рассматривал террасу вместе с расстелившимся за ней задним двориком, утопающим в зелени.
Дверь была плотно закрыта и заперта на засов – изнутри. Наверное, поэтому она тотчас перестала интересовать Девятова, и он, отпустив занавеску, снова повернулся к Светлане.
– Очевидно, что ваш муж был застрелен, – сказал он. – В доме есть оружие?
– У Петра, моего сторожа, есть что‑то… – произнесла Светлана и сделала вид, что задумалась.
Это «что‑то» было стареньким пехотным штуцером, с которым, как рассказывал Петр, еще его отец оборонял Бомарзунд в Восточную войну. Но Светлана сомневалась, что этот штуцер вообще способен еще выстрелить – настолько он был видавшим виды. Разумеется, Павел застрелен не из штуцера, а из револьвера. Да, Светлана несколько разбиралась в оружии, но никогда не выказывала этого интереса на людях и тем более сочла неуместным упоминать при полиции.
Девятов же кивнул, наверное, взяв себе на заметку поговорить с Петром.
– А выстрел вы слышали?
– Нет, – подумав, отозвалась Светлана, – я ничего не слышала.
– Странно… – пробормотал следователь. Потом вслед за Светланой вышел из библиотеки и закрыл за собою дверь. – Вы говорили, что сами нашли тело. Расскажете, как все было?
Светлана очень постаралась не выдать, что именно этого вопроса она ждала и боялась уже давно. Но и ответ был у нее готов заранее – еще до того, как она отправила Петра за полицией.
– Это случилось ночью, без четверти час примерно, – заговорила Светлана, когда они вернулись в гостиную и расположились в креслах. – Мне надо было поговорить с мужем, потому, едва я закончила с делами – сверяла счета, спустилась в библиотеку. Было почти темно. Я подкрутила лампу, добавляя света, и увидела на полу…
В этот момент столь сильные эмоции завладели Светланой, что она вдруг встала и отвернулась от следователя, желая хоть как‑то их скрыть. Видимо, не так безразличен был ей Павел, как она привыкла думать… ей было необыкновенно трудно говорить о нем, мыслить, как о мертвом. Все внутри переворачивалось от необходимости говорить о нем так. Это неправильно… это какая‑то ошибка.
– Простите… – ругая себя за эти нервы, Светлана сделала усилие и повернулась к следователю. Вновь продолжила рассказ – сухо, отрывисто, так, как научила себя говорить: – Я подбежала и села рядом, пыталась привести его в чувство – я не сразу сообразила, что он мертв, понимаете?.. – Она всхлипнула – на этот раз вполне осознанно и притворно.
Светлана очень постаралась, и одна‑единственная слезинка скатилась из уголка глаза, повиснув на ресницах.
– Понимаю, – участливо кивнул Девятов и подал ей свежий платок.
– Спасибо. – Она коснулась им кожи возле глаз, так и не тронув драгоценную слезинку. – Спасибо вам за все, я верю, вы действительно мне поможете.
Светлана отлично знала, как хороши вблизи ее русалочьи глаза, становившиеся от слез почти прозрачными. И подняла взгляд на Девятова, лицо которого было сейчас так близко к ней, что она разглядела красные прожилки возле его радужки.
«Сколько же он не спал, бедняга?» – даже с сочувствием подумала она.
Вот только понять, действуют ли все ее уловки, она до сих пор не могла.
– Что вы сделали потом? – задал очередной вопрос Девятов.
– Потом? Потом я все же поняла, что мой муж мертв… хотя я уже вся перепачкалась в его крови, и Надя, моя сестра, вошедшая в этот момент, перепугалась почти до обморока. На ее крик сбежались слуги – я пыталась их успокоить, заперла дверь в библиотеку и… собственно, сразу отправила человека за полицией.
Светлана сама удивлялась, но то, что она рассказала, было правдой. Почти. За исключением нескольких деталей.
– Ведь убийца не мог далеко уйти? – горячо уточнила она. – Вы найдете его, да?
– Разумеется, найдем, Светлана Дмитриевна, не сомневайтесь, – заверил ее следователь не менее горячо. – Вы сказали, вошла ваша сестра… а зачем она направилась в библиотеку ночью?
Сердце Светланы вновь пропустило удар. Надя‑то здесь при чем – неужто он допускает, что девочка имеет к этому хоть какое‑то отношение?
– Взять книгу, – она ответила это как что‑то само собой разумеющееся. – Моя сестра не может уснуть без книги и такая рассеянная, что наверняка не думала застать Павла Владимировича в библиотеке в такой час… – И, понижая голос, попросила: – Она дитя совсем, такая впечатлительная девочка… прошу, не втягивайте ее в это.
– Хорошо, – кивнул Девятов как будто с пониманием, – разумеется, я не думаю, что ваша сестра причастна к этой трагедии. Но побеседовать нам все же придется. Очень мягко, уверяю вас.
«Он действительно ее подозревает…» – Светлана паниковала уже не на шутку.
А следователь заговорил с нею опять:
– Светлана Дмитриевна, позвольте спросить: много ли семей проживает здесь, в округе?
– Нет, сейчас всего три семьи, включая нас с сестрой и Гриневских, хозяев поселка. Едва ли вам стоит посвящать в это наших соседей – они даже знакомы с моим мужем не были.
– Как это? – изумился Девятов.
Светлана, понадеявшись, что, быть может, увлечет его беседой и он забудет о Наде, охотно начала рассказывать. Право, она давно уже была лишена той стыдливости, из‑за которой могла бы молчать об этих подробностях своей жизни.
– Видите ли… – с деланым смущением Светлана отвела глаза, – должно быть, Платон Алексеевич не счел нужным посвящать вас в детали, но у нас с супругом несколько разнится круг интересов. Павлу Владимировичу по душе более теплый климат и уединение… Он никогда не бывал в Горках, а за последние четыре года мы виделись от силы раз пять.
Светлана вновь отыскала глаза Девятова и вымученно улыбнулась.
Если этот следователь хоть сколько‑нибудь сообразителен, то должен догадаться, что Павел просто‑напросто оставил ее. Бросил, если угодно. Правда, она и сама не очень настаивала на своих правах жены. Может быть, даже первая сказала, что не хочет его больше видеть: когда умер Ванечка, все было словно в тумане – Светлана плохо понимала, что говорила и делала тогда. И возможно, что, если бы он не послушался и остался с нею… возможно, та восторженная влюбленность переросла бы во что‑то более глубокое. В настоящее.
Они вполне искренне клялись когда‑то, что не расстанутся ни в горе, ни в радости. Оказалось, что в радости быть вместе не составляет никакого труда… а вот горя они пережить не сумели.
Но что теперь сокрушаться.
– Павел Владимирович большую часть года проводит в родовом имении, под Новгородом, около ста верст отсюда, – продолжила Светлана, – мне же нужно вывозить сестру в свет, потому я осталась в Петербурге. Лишь на летние месяцы снимаю дачу здесь, у Гриневских – они мои друзья с самого детства, мы вместе росли.
– И тем не менее Гриневские не знакомы с графом Раскатовым?
Светлана развела руками, соглашаясь:
– Так вышло. Гриневские поженились прежде, чем я повстречала Павла Владимировича. Они уехали сюда, в Горки – это имение досталось им в приданое. Я и не думала тогда, что увижу их вновь.
Девятов кивнул, кажется, его вполне удовлетворил такой ответ.
– Другие соседи тоже ваши друзья детства?
– Нет, что вы. Вторую дачу снимает Николай Рейнер.
Девятов снова кивнул, не сразу, наверное, сообразив, но тотчас переспросил:
– Тот самый Рейнер?
– Да, знаменитый художник, – улыбнулась Светлана. – Здесь уже Финляндия: сосны, озера, скалы – красивейшие места, очень живописные. Потому он с женой, сыном и братом частый гость в Горках. Рейнеры, бывает, обедают у нас – замечательные люди.
– И Рейнеры тоже не были знакомы с вашим супругом? – подумав, уточнил Девятов.
– Насколько мне известно, нет.
– Зачем же тогда приехал ваш муж? Вероятно, чтобы решить с вами какие‑то дела?
– Возможно. Но я не имею об этом ни малейшего понятия – я и шла сегодня ночью в библиотеку, чтобы поговорить с мужем об этом. Но, как вы понимаете, ничего не выяснила.
Девятов, выслушав это, озабоченно кивнул. Кажется, в итоге он вполне поверил Светлане.
Глава 3
Коротко постучав, Светлана отворила дверь в комнату Нади. Сестра этого даже не услышала, она, сдвинув брови и с выражением капризного упрямства на лице, вынимала из комода целые охапки кружев, лент, оборок и бросала их на кровать. Шкаф и два сундука были уже пусты – одежда падала с кровати, и Надя сама же наступала на нее.
Светлана подозревала, что станет жалеть о своем вопросе, но все же его задала:
– Надюша, что ты делаешь?
Надя, застигнутая врасплох, несколько растерялась:
– Ищу шляпку… темно‑серую, которую мы в Париже у Ланвэн покупали, помнишь? Это моя единственная шляпка, которую можно надеть в траур, мне теперь без нее не обойтись. Ума не приложу, куда Алена ее запрятала! Она все делает мне назло, чтобы вывести из себя!
– Ты попала в ней под дождь на той неделе и сама же поручила Алене высушить и почистить шляпку.
Сестра снова растерялась, видимо, о том случае она напрочь забыла. Но тотчас перешла к излюбленной тактике – обвинению всех и вся:
– И что, она целую неделю чистит одну маленькую шляпку? Она бездельница! Она меня и мои интересы в грош не ставит! Скажи ей, чтобы в первую очередь она выполняла всегда мои поручения!
– Сама скажи, Алена твоя горничная, – вздохнула Светлана. Она и правда уже жалела, что задала тот вопрос.
– Она меня не слушается! – Надя бросила очередную охапку одежды прямо на пол, обхватила себя за плечи и говорила теперь со слезою в голосе: – Меня никто в этом доме не слушается, все только и делают, что хотят меня обидеть побольнее… Все, начиная с тебя!
– Прекрати! – устало поморщилась Светлана. – В этом доме все и всё крутится вокруг тебя, как тебе не стыдно?!
– Как же – крутится… – Надя действительно уже плакала. – Только я этого почему‑то не замечаю! Меня никто из твоих слуг не любит, все за спиной шепчутся и считают приживалкой… Скажи им, чтоб не шептались!
– Сама скажи. Когда своим домом заживешь, тоже будешь меня всякий раз звать, чтобы я твою прислугу приструнила? И хватит об этом, я пришла не для того, чтобы выслушивать про твои шляпки!
Надюша с видом униженной бедной родственницы села и опустила глаза в пол. А Светлана опять почувствовала себя скверно. Сколько раз она сама себе клялась, что не станет повышать голоса на Надю?..
– Тебя хочет видеть полицейский следователь, – уже спокойнее сообщила Светлана, – главное, ничего не бойся, это их извечная бюрократия: ему просто нужно отметить, что он со всеми поговорил. Но, вероятно, он станет спрашивать, что ты видела в библиотеке.
Надя тотчас вскинула испуганный взгляд на Светлану:
– И что мне делать? Что ему сказать?
– Правду, разумеется, – вздохнула Светлана. Поймала взгляд сестры и, цепко его удерживая, пояснила, какую именно правду: – Что ты по рассеянности пошла ночью за книгой, не подумав, что можешь застать там Павла Владимировича. И увидела меня, пытающуюся привести его в чувство.
– Ну да, именно так все и было! – искренне заверила Надя.
Настолько искренне, что Светлана, посмотрев на сестру с сомнением, призадумалась. Может, действительно так все и было? Та ожесточенная ссора в библиотеке и все, что за ней последовало, – может, Светлане и впрямь это почудилось?
– И хорошо, – ответила она сестре и улыбнулась ее понятливости.
Если даже сама Светлана поверила в правдивость слов Нади, следователь поверит тем более. Надя же, помолчав и понижая голос до шепота, спросила снова:
– Светлана, а что мне сказать про Леона?
Та посмотрела на сестру строго и предупреждающе:
– Ничего. Ты его не видела и ничего не знаешь – запомни это. Я сама расскажу то, что посчитаю нужным.
Покинув Надину комнату, Светлана задумчиво и неспешно – ноги сами несли ее – направилась в другое крыло дома, где располагались гостевые комнаты.
«А что, если это Леон сделал?» – спросила она себя и подивилась, отчего не задумывалась об этом прежде. Ведь он уехал как раз ночью. Быть может, именно после того, как убил Павла. Он ведь даже обещал ей в запале, что станет стреляться с ее мужем!..
Найдя дверь комнаты, принадлежавшей эти несколько дней Леону, Светлана толкнула ее и вошла внутрь. Не разобранная с вечера постель, плащ на спинке кресла, галстук на ковре, чемодан с вещами… плащ тот самый, в котором он сюда явился. Уезжал он крайне поспешно, судя по всему. Если и вовсе покинул Горки… больше похоже, что хозяин комнаты просто отлучился куда‑то на пару минут.
Полная смятений, Светлана вышла, подумав, что надо отправить Алену убрать здесь все. В этом доме она ему задержаться более не позволит в любом случае.
Но разыскать Алену оказалось не так просто: ни в людской, ни на кухне ее не было. Светлана уже хотела махнуть рукой и заняться другими делами, более насущными, но вдруг услышала громкий и отчетливый смешок за какой‑то дверью. Потом разобрала два голоса – мужской и женский, определенно принадлежащий Алене. Пошла на звуки и, толкнув дверь в сени, тотчас увидела Надину горничную в компании слуги следователя. Они вели беседу, словно давние знакомые.
– Ой! – сказала Алена, едва ее увидела. Покраснела до корней волос, подхватила тюк с бельем у своих ног и пулей вылетела за дверь – Светлана даже не успела ей ничего сказать.
А слуга остался. Высокий, широкоплечий, со взлохмаченными соломенными волосами и совершенно нелепой бородой – даже для деревенского мужика нелепой. Без бороды он точно казался бы моложе и привлекательней, хотя Алене, кажется, сгодился и таким.
– Простите, барыня… – Он стянул с головы фуражку и изобразил поклон. – Его благородие изволили звать меня к себе, вот ваша девка и вызвалась проводить.
Светлану несколько покоробило, что Алену назвали девкой – все ж таки этот крестьянский говор ей не по душе… Она молча смерила мужчину взглядом, но вроде бы ее ничего не насторожило – слуга как слуга. Аленка девица видная, на нее многие засматриваются.
– Коли сбежала ваша провожатая, придется мне. Идемте…
Закутавшись плотнее в накидку, Светлана повела его к следователю, невольно раздумывая, для чего тот позвал слугу.
– Вы с господином Девятовым к нам надолго ли? – решилась спросить Светлана. – Я видела, как вы с моим сторожем распрягали лошадей.
– Да нет, – как будто извиняясь, улыбнулся тот, – поводья треснули, вот я и попросил вашего Петра помочь.
«Будто сам наладить поводья не мог… и по имени успел уже познакомиться с Петром…» – Светлана вновь насторожилась, ей не нравилось, что полицейский, будь это даже просто слуга следователя, без ее ведома разговаривал о чем‑то с ее слугами. Предупредить их, чтобы держали язык за зубами, она не успела. Просто не подумала об этом. И оставалось только надеяться, что ни Петр, ни Алена ничего лишнего сболтнуть не успели.
Светлана подвела слугу к библиотеке, куда вернулся Девятов после их разговора. Следователь снова на коленях ползал по полу, изучая пятна на паркете.
– А, Стенька, – обрадовался он, поднимаясь. – Как раз вовремя, сейчас помогать будешь. – Он живо стянул сюртук и швырнул слуге – тот едва успел его подхватить на лету. – Вы позволите, Светлана Дмитриевна?..
– Да‑да, конечно, не буду вам мешать. – Светлана неохотно вышла за дверь и закрыла за собою.
Во второй раз Светлана нашла Алену уже скорее – та была в кухне и грела воду для стирки. На хозяйку девушка смотрела с непонятным опасением. Непонятным, потому что строгой барыней Светлана себя вовсе не считала.
– О чем он тебя спрашивал? – смерив ее взглядом, задала вопрос Светлана.
– Н‑ни о чем… – Аленка разволновалась пуще прежнего и дрожащими пальцами принялась переплетать кончик косы, – вовсе ничего не спрашивал, барыня! Так… поздоровался токмо.
Ей было семнадцать или около того – Светлана не знала точно и никогда не интересовалась. Алена была сиротою, из родственников только Петр, который приходился ей, кажется, дядькой. Родных детей у них с Василисой не было, и тот держал девчонку при себе, в помощницах. А с этого лета Надя взяла Аленку в горничные и собиралась осенью увезти в Петербург, потому как прежнюю только‑только выгнала. Горничные у Нади никогда не задерживались надолго.
– Про гостя нашего рассказала? – уже без обиняков спросила Светлана.
– А что – не нужно было? – невинно осведомилась девушка. Светлана едва удержалась, чтобы не сказать ей что‑нибудь резкое. – Светлана Дмитриевна, ну не знаю я, как это вышло… он меня сам спросил, чья, мол, сломанная коляска в сарае стоит, а я уж и сама не рада, что сказала, ну простите…
– Ну, сказала и сказала, – смирилась вдруг Светлана, – я и сама собиралась сказать. Больше гость этот к нам не приедет, так что вещи его собери и оставь где‑нибудь, чтобы по всему дому не искать.
Покинув душное помещение кухни, Светлана распахнула первое же попавшееся окно и подставила лицо порыву ветра, принесшему сырой, пропитанный хвоей воздух. Все‑таки здесь было красиво. Алина выделила ей дом, бывший прежде барским: белокаменное, в античном стиле здание стояло на самом берегу озера, которому даже названия не дали – настолько оно было мало. На том берегу располагались еще дачи и деревня, а за ней – могучие, величественные горы, поросшие соснами.
«Может, это и неплохо, что Аленка уже рассказала про Леона… – подумала Светлана. – Вдруг полиция решит, что это он убил Павла? А может, так оно и есть?..»
Глава 4
Как только дверь библиотеки закрылась за хозяйкой, Кошкин зло швырнул сюртук обратно Девятову:
– Ты, Михал Алексеич, играй, да не заигрывайся.
– Ну, прости, Степан Егорыч, – не обращая внимания на тело несчастного графа, распростертое на полу, Девятов захихикал, как мальчишка, – не могу удержаться, когда вижу тебя с этой дурацкой бородой. Не боишься, что она прямо при хозяйке отклеится? Вот визгу‑то будет. Зачем вообще тебе этот маскарад, не понимаю. Пока ты прохлаждался во дворе и изображал деревенщину, я всю работу сделал. Почти…
– Да я тоже много любопытного узнал.
– От слуг? – фыркнул Девятов. – Да знаю, знаю я твою теорию, что от прислуги гораздо больше полезного можно услышать. Да только они ж наверняка врут половину!
– Людям вообще свойственно врать, – отстраненно заметил Кошкин, – однако, по моему опыту, господа врут куда больше.
– Кстати, о господах… – Девятов быстро соскучился продолжать тему маскировки и тихонько приоткрыл дверь, проверяя, не слушает ли их кто. Удовлетворенно ее закрыл и повернулся к Кошкину: – Ничего так бабенка, да? Я о вдовушке. В самом соку – повезло ему! – Девятов кивнул все на того же покойного графа и разулыбался, довольный двусмысленной шуткой.
– Прекрати, – вяло, скорее для проформы, осадил его Кошкин.
О вдовушке он и сам был невысокого мнения: муж лежит мертвый, а она ходит по дому, разодетая, как стыдно сказать кто, и явно рассчитывает своими прелестями обаять Девятова. Его ведь она посчитала за следователя? Интересно, зачем она это делает?.. Неужто вина за ней какая есть?
Кошкин очень недолго разговаривал с Раскатовой, но ясно для себя понял: ее что‑то очень гнетет, но, кажется, отнюдь не смерть мужа. Кошкин поклясться готов был, что в этом убийстве замешан мужчина Раскатовой, любовник. Нагляделся он на истории с подобным печальным финалом достаточно, чтобы быть в этом уверенным.
Встав на одно колено возле тела графа, он нахмурился и оглядел рану, после чего подозвал Девятова:
– Хорош зубоскалить, рассказывай лучше, что нашел.
Девятов тяжко вздохнул. Разумеется, он куда охотнее пообсуждал бы еще достоинства прекрасной вдовы, и наличие в комнате тела ее покойного мужа его вовсе не смущало. Тела убитых Девятова вообще никогда не смущали, не нарушали размеренности жизни и не тревожили его настроения – подобный цинизм поражал, а порой и выводил Кошкина из себя. Единственная причина, по которой он терпел помощника, заключалась в том, что Девятов был профессионалом в своем деле.
Вот и сейчас, быстро включившись в работу, Девятов натянул перчатки и мизинцем указал на пулевое отверстие в груди убитого:
– Хватило, как видишь, единственного выстрела – оружие боевое, мощное, мелкокалиберное. Револьвер скорее всего. Но стреляли меж тем два раза. – Тот же мизинец Девятов перевел на дверной проем, и Кошкин только теперь отметил, что дерево на резном наличнике выщерблено пулей. А Девятов прокомментировал: – Одна пуля ушла мимо: не самый искусный стрелок наш убийца. Ну а стоял он, судя по всему… – Девятов огляделся и сделал три больших шага назад. – Примерно здесь, возле окна.
Кошкин согласился, что ежели соединить эти три точки: пулю, врезавшуюся в древесину, труп Раскатова и место, где стоит Девятов, то выйдет ровная линия. Стреляли совершенно точно от окна, находясь рядом с массивным дубовым столом.
– А граф стоял у стеллажа, то бишь книгу выбирал, получается, – продолжал рассуждать Девятов. – Тело, судя по крови на полу и расположению трупных пятен, вроде не двигали: как упал он на спину, задев вот эти стулья, так его и оставили.
Кошкин снова согласился: крови вокруг тела было много, в нее неоднократно наступал, пачкая пол в библиотеке, или убийца, или хозяева дома – теперь уж не разберешься, – но тело совершенно точно не двигали.
Однако кое‑что все же обратило на себя внимание Кошкина. На груди графа, совсем рядом с раной, под халатом четко выделялся прямоугольник. Будто что‑то лежало во внутреннем кармане. Не раздумывая, Кошкин отодвинул полу халата и осторожно, двумя пальцами, потянул свернутый пополам бумажный лист, что лежал там.
– Письмо? Как это я умудрился просмотреть… – мигом подскочил и встал за его плечом Девятов. Но тут же разочарованно протянул: – На французском…
Языка он не знал, но все равно попытался перевести вслух:
– «Любимый Павел Владимирович…»
– Любезный Павел Владимирович, не любимый, а любезный, – тотчас поправил Кошкин. – Это дама пишет. Она просит его немедля приехать в Горки для неотложного разговора, дает точный адрес и рассказывает, как добраться… подписи нет. Конверт бы найти.
Это был тонкий, подкрашенный голубым листок из качественной и дорогой бумаги, вырванный, очевидно, из дневника. Что примечательно, кем сия дама приходится убитому графу, из письма было непонятно.
– Может, это сама Раскатова писала? – предположил Девятов. – Вот только она отрицала, что вызывала мужа.
– Ежели отрицала, то первым бы делом забрала письмо. Времени для этого у нее было достаточно.
– Может, она не знала, что граф его в кармане носит?
– На дуру она не похожа: не знала б точно, так проверила бы.
Кошкин вспомнил холодный, изучающий взгляд Раскатовой, коим наградила она его при встрече, и отчего‑то подумал, что ежели графа и правда убила его супруга, то они не вычислят ее никогда. Потому что уж кто‑кто, а она точно подстроила бы все так, что комар носа не подточит.
Вот только это было не рядовое расследование убийства: Кошкин явился сюда по личной просьбе графа Шувалова, человека, которому он был обязан всем. Потому убийцу следовало найти, даже если это невозможно.
– Тоже возьми в лабораторию и узнай все, что сможешь, – Кошкин отдал листок Девятову. – Сколько уже тело здесь лежит?
– Так… – охотно отозвался Девятов, – ежели убили его ровно в полночь, получается… десять с половиной часов.
Кошкин уже хотел было принять сказанное на веру, но сообразил – что‑то тут не так. И настороженно повернулся к Девятову:
– Откуда такая точность – про полночь?
Лицо Девятова сделалось хитрым:
– Так часы остановились. Все знают, что когда в доме кто‑то умирает – часы и останавливаются.
Проследив за взглядом Девятова, Кошкин действительно увидел большие напольные часы слева от входной двери. Стрелки их замерли на пяти минутах первого. Часы стояли.
Кошкин еще раз повернулся к помощнику, оценил взглядом, не шутит ли он, и устало заключил:
– Девятов, ты – идиот.
Тот обиделся:
– Степан Егорыч, ты, конечно, начальник, но обзываться‑то зачем?
– Я не обзываюсь, Девятов, я озвучиваю факт.
Кошкин подошел ближе к часам и внимательно осмотрел: шальная пуля точно в них не попадала, чтобы судить, остановились они именно в момент смерти Раскатова или стоят так уже неделю.
– А во сколько нашли тело?
– Вдова говорит, что в без четверти час ночи. – Девятов, судя по всему, уже забыл обиду и увлеченно высматривал что‑то на полу с лупой.
– Надо бы поинтересоваться у нее, работают ли вообще эти ходики… – отметил для себя Кошкин. – Что ты ищешь там, на полу? – Он подошел ближе.
– Да вот, – отозвался Девятов, – ты на меня идиотом ругаешься, а я кое‑что нашел… графа‑то у стеллажа застрелили, а мазки крови почему‑то дорожкой тянутся через всю залу от самых дверей.
Кошкин, насторожившись, тоже взял лупу и сам начал изучать паркет. Насчет дорожки Девятов, правда, погорячился: бурые мазки – будто по полу что‑то тащили – действительно можно было отыскать на паркете, но располагались они несколько хаотично и были хорошенько растоптаны. Что любопытно, к телу графа они не вели, едва ли это его кровь. В основном следы были уже смазаны, но кое‑где, особенно у дверей, это были вполне различимые обильные пятна.
– Занятно… – согласился Кошкин. – Это точно кровь?
– Соскобы взял, в лаборатории скажу точно. Может, конечно, и соус помидорный, кто его знает… Мое мнение такое, Степан Егорыч, что убийца и сам был ранен. Причем, скорее, первым выстрелил даже его сиятельство граф – пока будущий еще убийца стоял вот здесь, на пороге.
– Зачем же убийца потом по всей библиотеке ходил и лил кровь? – поинтересовался Кошкин. С лупой в руках он глядел, куда ведет дорожка следов. – Мазки ведь даже у стола есть и возле окна…
– Может, искал что‑то в столе? – предположил Девятов. – Ценные бумаги, завещание… Это мы с тобой в ящиках только цидульки служебные храним – век бы их не видеть, – а они, аристократы, наверняка там что‑нибудь ценное прячут.
Кошкин, слушая его, как раз осматривал полки в столе, но вовсе ничего не нашел, кроме карандашей, чернильного набора и чистой бумаги. А потом его вниманием завладело окно с застекленной дверью на террасу. Двери он прежде не видел.
– Я тоже сначала подумал, что убийца вошел и вышел через эту дверь, но потом… – догадался о ходе его мыслей Девятов. Приблизился и откинул занавеску: – Заперто, видишь? Изнутри. Не мог убийца уйти через террасу.
– Еще как мог, – возразил Кошкин и откинул засов, – спокойно вышел, а дверь потом уже кто‑то запер. Нарочно или случайно. Сейчас август, духота стоит всю ночь – с чего бы им эту дверь запертой держать?
– Логично, – подумав, признал Девятов.
– И ежели убийца знал об этой двери, то, выходит, он часто бывал в доме…
А еще через мгновение, когда присел на корточки, Кошкин обнаружил и доказательство своей теории: со стороны улицы на белом крашеном порожке дверного проема красовался небольшой бурый мазок.
– Это что? Дай‑ка сюда лупу…
Направив же увеличительное стекло на мазок, Кошкин вдруг разглядел возле него две синие шерстяные нитки, зацепившиеся за неровности древесины.
– Похоже, что это нам презент от нашего убивца, – хмыкнул Девятов, воодушевляясь. Он тотчас полез за несессером с принадлежностями и сделал немудреный вывод: – Никак в синее он был одет.
Кошкин, не дожидаясь, пока помощник упакует нитки, переступил порог и оказался на террасе. На деревянных ступенях, ведущих в сад, он увидел еще одно пятно – смазанное и едва заметное, но не оставляющее теперь сомнений, что убийца вышел именно через террасу.
Ступал Кошкин крайне осторожно, стараясь не примять траву, но торопился пересечь сад, потому как уже углядел, что заканчивается он низким беленым заборчиком с калиткой, укрытой в смородиновых кустах.
Сад за дачей Раскатовых был небольшим, шагов тридцать в ширину, но зеленым и ароматным. Стелились аккуратные грядки, перемежаясь с плодовыми деревьями, а в траве четко выделялась тропинка, ведущая как раз к калитке. К интересу Кошкина та была не только не заперта, но и широко распахнута, словно покидал кто‑то сад Раскатовых в большой спешке.
Однако на этом успехи в расследовании и закончились, поскольку калитка выходила на широкую песчаную тропку, тянущуюся вдоль всего беленого забора. После тропка соединялась с главной дорогой в Горках и терялась где‑то вдалеке, среди залитых солнцем сосен.
Отсюда убийца мог уйти в любом направлении. Мог сесть в экипаж, уехать в Петербург, и найти его, кажется, вовсе не представляется возможным…
– Здесь всего две семьи, кроме Раскатовых, живет, – пытаясь подбодрить, сказал за спиной Девятов. – За пару дней управимся и всех допросим. Одни соседи – Гриневские, хозяева Горок; а вторые – семейство Николая Рейнера.
И тотчас, должно быть, увидев в глазах Кошкина замешательство, поспешил добавить:
– Рейнер – это знаменитый художник. Что, не слышал про Рейнера? Ты бы хоть в Художественную академию сходил на выставку или еще куда, а то стыдоба…
– Да слышал я про Рейнера, слышал… и картины его видал, – довольно натурально заверил Кошкин.
Картину он, правда, видел всего одну – это была репродукция в каком‑то журнале, изображающая мрачный сосновый бурелом. Но картина точно была подписана Рейнером. Кошкин листал тот журнал в гостиной одного купца, коего следовало допросить как свидетеля.
Кошкин очень болезненно реагировал всякий раз, когда обнаруживал пробелы в собственном образовании, потому тотчас решил для себя в ближайшее время посетить художественную галерею и раздобыть побольше информации про этого Рейнера. За последние несколько лет знаний разного толка – как нужных, так и не очень – он приобрел достаточно, потому как по желанию и протекции своего шефа, графа Шувалова, окончил Академию Генерального штаба, но искусство, художественное в частности, даже в той академии игнорировали.
Молча согласившись, что они с Девятовым и правда сумеют опросить всех немногочисленных дачников за пару дней, Кошкин все же оторвал взгляд от песчаной тропки, по которой мог убраться предполагаемый убийца, и огляделся… а после, поддавшись необъяснимому для себя порыву, вдруг резко сорвался с места и бросился поперек тропы.
Там, на другой обочине дорожки, снова были зеленые кусты и трава по пояс, а пробравшись сквозь них, Кошкин вдруг оказался на берегу озера – прозрачного, гладкого, как стекло, и завораживающе спокойного. Но даже не озеро более всего захватило внимание Кошкина, а аккуратный белокаменный дом, что стоял на другом его берегу. От дома того тянулся причал, к которому была привязана лодка, застывшая в тихой воде.
Глава 5
– Это дом художника, Степан Егорыч, точно тебе говорю, – озвучил свои догадки Девятов. – Вот если б я был художником, то именно такую дачку бы и прикупил. И женился б на Раскатовой… – Он помолчал, словно что‑то решая для себя, а после твердо добавил: – Да!
– Губу закатай, – коварно вторгся в его мечты Кошкин.
Сам он не брался утверждать, что дача на том берегу озера принадлежит именно Рейнеру. Его куда больше интересовало, сколько понадобится времени, чтобы на лодке, что привязана к причалу, добраться до дачи Раскатовой? Едва ли больше четверти часа.
Девятов еще мечтал вслух о том, что бы он сделал, если бы был знаменитым художником, – уж точно не писал бы картины. Но Кошкин вовсе перестал его слушать, потому как увидел, что к берегу, где они стояли, решительно направляется тоненькая светловолосая девушка, одетая в черное, – по всему видно, что барышня.
– Помолчи! – тотчас оборвал он Девятова и начал отклеивать бороду, пока девушка не подошла достаточно близко.
А направлялась она определенно к ним.
– Добрый день, господа, вы ведь из полиции?
Она пыталась держаться с достоинством, но голосок неуверенно дрожал, а глаза метались, не зная, на ком из двух сыщиков остановиться.
– Виноваты, сударыня, – помог ей Девятов, делая шаг вперед. Он галантно поклонился и представился, улыбаясь при этом столь располагающе, что девушка просто не могла не изобразить улыбку в ответ.
Оба сыщика были выходцами из мещанского сословия, хоть сколько‑нибудь знатных родственников не имели, но Кошкина всегда поражало, с какой легкостью и невесть откуда взявшейся светскостью его помощник обращается с аристократами. Особенно с дамами. Сам Кошкин так не умел: его доля – это отчеты, документы, скучное сопоставление фактов. С допросами равных себе он еще справлялся, даже неплохо справлялся, чего уж там, но, когда приходилось общаться с господами, все мысли Кошкина были только о том, достаточно ли начищены его ботинки и хорошо ли отутюжены брюки…
Кошкин чуть приободрился, лишь когда девушка улыбнулась и ему.
– Я – Надежда Шелихова… – совсем неуверенно продолжила она, – меня не учили представляться самой, простите… я сестра графини Раскатовой, хозяйки дома.
– Надежда Дмитриевна, стало быть? – Девятов приблизился к ней еще на шаг и с легким поклоном предложил сесть на стоящую подле скамейку. – Весьма рад знакомству. Мы со Степаном Егоровичем можем вам чем‑то помочь?
– Скорее это я могу вам помочь, – неожиданно заявила девица. – Я знаю, зачем Павел Владимирович приехал в Горки.
Голос ее по‑прежнему был несмелым, но теперь в нем проскользнули какие‑то отчаянные нотки. Словно девушка приняла решение и намеревалась во что бы то ни стало выполнить задуманное.
Кошкин же с Девятовым, заинтригованные поворотом дела, молча ждали продолжения.
– И зачем же? – не дождавшись, хмуро спросил Кошкин.
Барышня поджала губы, набрала побольше воздуха в грудь и выпалила:
– Я сама написала графу и попросила приехать. Я хотела помирить его со Светланой, у них не очень хорошие отношения, и я подумала, что если он приедет и они поговорят, то непременно помирятся. Я же знаю, что они все еще любят друг друга…
Все это барышня произнесла на одном дыхании, почти скороговоркой и опустив в землю глаза.
– Вы так хорошо знали графа Раскатова, чтобы судить о его чувствах? – настороженно уточнил Кошкин.
– Нет. По правде сказать, я его почти совсем не знала… мы виделись лишь пару раз, когда меня отпускали на каникулы из Смольного…
– Так вы окончили Смольный институт благородных девиц? – уточнил Кошкин, насторожившись еще больше.
– Да! То есть не совсем… – глаза барышни снова забегали, – вам не понять… это ужасное место. Семь лет, что я там провела, показались мне вечностью, адом. Меня отдали туда после смерти нашего со Светланой батюшки, и каждый раз, когда мне удавалось увидеть сестру, я умоляла ее забрать меня. Но она никогда этого не понимала: удивлялась, что я так и не обзавелась подругами, и утверждала, что Смольный – это чудесное место. Нет, я не осуждаю Светлану: она была замужем за прекрасным человеком, что ей до меня… Словом, она забрала меня лишь прошлой осенью, перед бальным сезоном, потому как выезжать одной ей, видимо, стало скучно.
Кошкин слушал девушку, глядя исподлобья. Глаза ее то и дело наполнялись слезами, а губы принимались дрожать: кажется, в этом Смольном ей и правда пришлось несладко. Кошкин слышал кое‑что о порядках в этом заведении, которые вполне можно было бы сравнить с казарменными, но, право, не думал, что все так серьезно.
Вероятно, он должен был пожалеть девушку и осудить ее жестокосердную сестру, но отчего‑то с каждой оброненной ею слезинкой Кошкина все больше и больше охватывало недоверие к этой недоучившейся смолянке.
– Надежда Дмитриевна, – опережая Девятова, он решился говорить с нею сам, – расскажите все, что случилось, с момента приезда графа Раскатова. Рассказывайте подробно – ничего не упустите.
Девушка кивнула, оправляясь от своих слез, и начала вспоминать. Было видно, что к своей миссии она отнеслась со всей ответственностью:
– Письмо я написала дня три назад и отчего‑то думала, что Павел Владимирович приедет тотчас. В крайнем случае на следующий день. Я в его имении никогда не бывала, но Светлана рассказывала, что оттуда до Горок сотня верст, не больше. А его все не было и не было… я уже подумала, что он не получил моего письма или проигнорировал просьбу, – но вчера, около шести часов пополудни, он вдруг приехал. Светлане я так и не сказала о письме, все не могу решиться. Ведь выходит, что в смерти Павла Владимировича есть и моя вина… – Глаза ее вновь заблестели от слез. Но она тотчас подняла взгляд, неожиданно решительный, на Кошкина: – Поэтому я сделаю все, чтобы помочь вам.
Услужливый Девятов поспешил ее утешить, а Кошкин, не очень‑то доверяя слезам, продолжил допрос:
– Вы уверены, что никакие другие дела графа здесь не ждали?
– Уверена, – изумилась вопросу девушка, – какие у Павла Владимировича могут быть здесь дела? Он ведь никогда не бывал в Горках раньше и никого здесь не знает.
– Вы успели изложить графу вашу идею помирить его со Светланой Дмитриевной?
– Да… – Девушка снова отвела глаза в беспокойстве. – Но Павел Владимирович, мне показалось, отнесся к моим словам не очень серьезно.
«Еще бы!» – хмыкнул про себя Кошкин.
Он не знал точно, что за размолвка имела место между супругами, но, по‑видимому, значительная, если граф даже никогда не бывал на этой даче. И, раз все‑таки приехал, вероятно, ожидал услышать более вескую причину для своего беспокойства. У графа Раскатова была поразительная выдержка, если он счел просьбу юной родственницы всего лишь несерьезной.
И Кошкин вновь посмотрел на девушку с подозрением: неужели она и правда столь наивна? А та продолжала:
– Поэтому я решила поговорить с графом еще раз, позже… я знала, что он в библиотеке, и ждала, когда дом стихнет, чтобы пойти туда.
– Павел Владимирович находился в библиотеке один?
Девушка пожала плечами:
– Я не знаю… я несколько раз выходила на лестницу и смотрела на дверь библиотеки, пока ждала – там никого не было.
– И как часто вы выходили на лестницу?
– Дважды или трижды за вечер. В последний раз около полуночи, потому что вскоре часы пробили двенадцать. Я в это время была в своей комнате – собиралась с мыслями, чтобы все же пойти и поговорить.
«Значит, часы все‑таки работали…» – отметил Кошкин.
– А выстрелов вы не слышали? – Этот вопрос задал Девятов – задал очень настороженно.
– Нет… – покачала головой барышня и, кажется, только сейчас удивилась, что не слышала.
– И ничего даже отдаленно похожего на выстрел? – не отставал Девятов. – Может, вам показалось, что шампанское где‑то открыли или оконная рама захлопнулась?
– Нет… ничего такого не припомню. Говорю же, все было тихо, все спали.
Барышня уже начинала волноваться, и Кошкин перебил Девятова на полуслове, меняя тему:
– Во сколько вы решились спуститься в библиотеку?
– Не знаю точно… около часа ночи или чуть раньше. Я понимала, что это будет очень ответственный разговор, потому долго собиралась с мыслями.
– И что было, когда вы вошли? – Кошкин чуть посуровел голосом и счел нужным добавить: – Помните, что от ваших слов зависит, найдем ли мы убийцу!
– Я понимаю. Когда я вошла, то первым делом увидела кровь на полу и Павла Владимировича… Светлана сидела на полу, вся перепачканная, и трясла его за плечо.
– Зачем? Разве не очевидно было, что он мертв?
– Что значит зачем?! – нерешительность в голосе барышни опять сменилась отчаянной смелостью. – Он ведь ее муж! Разумеется, она надеялась его спасти! Что же, она должна была хладнокровно глядеть, как он лежит на полу?!
Кошкин под таким напором неожиданно смешался:
– Я просто хотел уточнить, Надежда Дмитриевна… Ее сиятельство никто ни в чем не обвиняет.
– Разумеется, вы не должны ее обвинять! – Барышня вспыхнула еще больше. – Светлана этого не делала, как вы вообще могли подумать, будто она замешана в убийстве!
Кошкин совсем смешался. Будь на месте этой девицы кто попроще – вор, разбойник, проститутка, – он бы давно уже осадил наглеца, но как ему вести себя со знатью, он до сих пор представлял плохо. Но на помощь ему поспешил Девятов.
– У нас работа такая – думать, Надежда Дмитриевна! – любезно, но жестко сказал он. – Мы сюда приехали, чтобы найти убийцу и, разумеется, подозреваем всех. Мы ведь и вас подозреваем, милейшая Надежда Дмитриевна.
Последнее утверждение барышня приняла, кажется, за шутку, потому что губы ее дрогнули в легкой улыбке. И, разумеется, она тотчас оборвала поток обвинений и потупила взгляд.
– Да, я понимаю, что это ваша обязанность… – Теперь она несмело подняла глаза персонально на Кошкина и сказала: – Извините, мне просто стало обидно за сестру. Светлана не заслуживает, чтобы о ней так думали.
«Вот как это у него получается? – подивился Кошкин. – Сказал девчонке, что допускает, будто она человека убила, а та ему улыбается смущенно, словно ей комплимент сделали…»
Девятов временами любил рассказывать, что его бабка согрешила в молодости с неким не то графом, не то князем, так что в его венах, мол, течет благородная кровь – именно этим Девятов объяснял свою непринужденность в общении с господами. Девятов и французского толком не знал, изъяснялся часто с косноязычием, да и отутюживанием брюк не особенно утруждал себя. Но это все не мешало господам частенько принимать его за ровню.
Вот и барышня Шелихова к нему явно расположена куда больше и даже пригласила сесть рядом с собою на скамейку. А тот неспешно продолжил расспрашивать:
– Скажите, Надежда Дмитриевна, а револьвера в комнате что же – не было?
Девушка наморщила лоб, вспоминая, но после решительно покачала головой:
– Кажется, нет. Я не припомню…
Собственно, ничего полезного Надежда Дмитриевна больше не сказала – она обо всем говорила приблизительно и то и дело ссылалась, что крайне взволнована была случившимся и почти ничего не помнит. О двери на террасу – была ли та закрыта – она тоже не помнила. В одном девушка была уверена твердо: графиня Раскатова к убийству своего мужа непричастна.
Любопытны были разве что ее рассуждения о соседях.
– Да, там, за озером, дом художника Рейнера, вы совершенно правы, – охотно кивнула она на вопрос Девятова. – Вы и его подозреваете?
– Отчего вы так решили? – изумился Девятов столь искренне, будто лично был знаком с Рейнерами и знал их как милейших людей.
Несколько секунд девушка боролась с собой, не решаясь выносить сор из избы, и все же не поддалась обаянию Девятова.
– Я неверно выразилась, должно быть. Рейнеры почтенные люди и ничем себя не запятнали, – сдержанно говорила барышня, хотя лицо ее подсказывало, что к семейству художника у нее накопилось достаточно обид. Однако сдержанности ее хватило ненадолго: – Разве что они совершенно не умеют воспитывать детей, их ребенок – это сущее наказание! Он ворует яблоки у нас в саду, как какой‑нибудь уличный мальчишка, и ничуть не уважает взрослых!
Судя по всему, войну с мальчишкой Рейнеров взрослая Надежда Дмитриевна вела уже давно, потому как от волнения раскраснелась до корней волос. Кошкин же с трудом сдержал улыбку и саркастически подумал, что эти Рейнеры и правда страшные люди.
– А что же другие соседи, Гриневские? – продолжил Девятов.
– Да нет, у Гриневских вполне милые девочки – симпатичные и воспитанные… – и снова покраснела, осознав, что ее вовсе не о детях спрашивают. – Ах, простите, вы, наверное, имели в виду их родителей?
– Вы правы, – улыбнулся ей Девятов.
– Ну что о них можно сказать? Сергей Андреевич довольно приятный человек, он часто бывает у нас… – И очень негромко, но многозначительно добавила: – О его супруге я того же сказать не могу.
Услышав это, Девятов бросил незаметный взгляд на Кошкина – обоим следователям все больше и больше хотелось познакомиться с Гриневскими. Но если Девятов решил, что Надежда Дмитриевна уже ничего важного рассказать не может, то Кошин так не считал. Напротив, самый важный вопрос он припас напоследок.
– Скажите, Надежда Дмитриевна, – начал он, стараясь не пропустить ни одного движения глаз барышни, – а гостит ли в доме кто‑то в данный момент?
Глаза девушка забегали, и она снова прелестно раскраснелась:
– Гостит ли кто здесь?.. Насколько мне известно… хотя я могу и ошибаться, ведь Светлана много кого принимает…
– Надежда Дмитриевна, вы должны говорить правду!
Кошкин попытался сказать это мягко, как сказал бы Девятов, но барышня все равно вспыхнула и бросила в его сторону гневный взгляд:
– Вы что – обвиняете меня во лжи? Я никогда не лгу! Что вы себе позволяете!.. – Кошкин снова напрягся, жалея, что вовсе вступил в разговор, но барышня в этот раз быстро утихла и лишь сказала утвердительно: – Вероятно, вы уже говорили со Светланой об этом…
– Разумеется, говорили, – не моргнув глазом, солгал Кошкин.
И юная барышня Шелихова решилась:
– У нас действительно гостил несколько дней Леонид Боровской, сын князя Боровского. Не подумайте ничего дурного: он был представлен нам с сестрой еще зимою, в Петербурге, а дня три назад проезжал мимо Горок, и его экипаж перевернулся. Ужасное происшествие… у нас такие плохие дороги! Леон был очень тяжело ранен, не мог ходить, – глаза барышни вновь начали наполняться слезами, – ужасное происшествие… словом, моя сестра приютила его. Но сегодня рано утром господин Боровской уехал от нас.
«Что‑то господин Боровской очень быстро оправился после столь тяжелой раны… И уехал, оставив починенный экипаж в сарае Раскатовой», – подумал Кошкин, но вслух благоразумно этого не сказал.
Экипаж Боровского он своими глазами видел в сарае, пока с местным конюхом распрягал лошадей сегодня утром, от конюха же узнал и некоторые подробности.
Сейчас, ясно понимая, что барышня лжет, уточнил, давая ей еще один шанс:
– Уехал рано утром или поздно ночью?
– Что вы имеете в виду? – насторожилась та. – Хотите сказать, что и Леона подозреваете? Это нелепость какая‑то… он не мог этого сделать, никак не мог! Вы просто не знаете, сколь благороден и порядочен молодой князь Боровской, поэтому так думаете, – заключила она твердо.
«О да, порядочен, это безусловно…» – снова решил Кошкин не без сарказма.
Дело в том, что некоторое мнение о молодом князе у Кошкина уже сложилось из разговоров с домашними слугами. Те, к примеру, тоже дали понять, что господин, которого обе хозяйки называли чудны́м именем Леон, появился в доме три дня назад в якобы сломанном экипаже. Якобы – потому что два или три раза господин Боровской одаривал конюха щедрыми чаевыми, чтобы тот ремонтировал экипаж подольше, а прихрамывал на свою многострадальную ногу, лишь когда рядом появлялись хозяйки.
Что любопытно, по словам Алены, барыня Раскатова, напротив, конюха все поторапливала и интересовалась, скоро ли починят экипаж.
Сыщики возвращались в дом той же дорогой – барышня Шелихова осталась еще подышать воздухом. Девятов вполголоса и с мечтательной улыбкой говорил что‑то, кажется, бесстыдно сравнивал внешность обеих сестер, но Кошкин даже и не слышал его.
Когда он ехал в Горки сегодня утром, то никак не думал, что в расследовании будет замешано столько громких имен – художник Рейнер, а теперь еще и наследник князя Боровского. Скандал в свете обеспечен. Кошкин отчего‑то остро посочувствовал вдовой графине, имя которой точно станут трепать на все лады, фантазируя о причинах, по которым молодой князь загостился в ее доме.
Но огласки не избежать, ведь, кажется, и сомнений нет, что Боровской причастен к произошедшему: уехал внезапно, ночью, не попрощавшись толком с хозяевами. Рано пока утверждать, будто именно он убил графа, но он непременно видел что‑то.
…Дверь на террасу оказалась распахнутой, хотя Кошкин точно помнил, что они с Девятовым плотно закрыли ее, когда уходили. И пола халата на груди мертвого графа как будто откинута чуть больше, чем оставлял ее Кошкин.
– Любопытно… – сказал разглядывающий ту же картину Девятов. – Кажется, барышня Шелихова, эта нежная фиалка, обшаривала карманы трупа в поисках своего письма. Как думаешь, Степан Егорыч, если бы она нашла его, то побежала бы признаваться во всем добровольно, а?
Глава 6
Полицейские еще не скрылись из виду, когда Надя, не сдержав волнения, сорвала с дерева ближайшую ветку и принялась со злостью обрывать ее листья. Разговор прошел совсем не так, как она рассчитывала. Откуда они узнали про Леона?! Ведь никто, кроме них со Светланой, о нем и не был осведомлен… кажется. Значит, и правда это сестра о нем рассказала, а потом пошла к ней в комнату, чтобы специально выставить ее в глупом виде!
А Надя еще выгораживала ее, лгала полиции, рассказывая им эту сладкую сказку, будто сестра пыталась привести мужа в чувство. Стала бы она спасать Павла Владимировича, как же! Да она наверняка нарадоваться не может, что теперь, наконец, свободна!..
Безусловно, Светлана заслуживала наказания – заслуживала, как никто другой. Надя искренне так полагала, но все же чувствовала, что не следует выносить их семейные ссоры на потеху всему Петербургу. Это их дело, сестер Шелиховых, и полиции в него вмешиваться вовсе не обязательно. Это вообще нелепость какая‑то, что эти двое, совершенно посторонние им люди, ходят по их дому и задают какие‑то вопросы! Наде это казалось дикостью, нелепицей и чем‑то совсем‑совсем неправильным.
– Надин, ma chérie, вы, когда злитесь, становитесь просто очаровательной.
Голос прозвучал совсем над ухом, так неожиданно, что Надя ахнула и выронила ветку. И тотчас набросилась на обладателя сего голоса с упреками:
– Григорий Романович, вы напугали меня до смерти! Никогда так не делайте! – и вдруг еще более возмутилась: – Зачем вы подкрались ко мне?
– Клянусь, Наденька, у меня и в мыслях не было напугать вас…
Господин Рейнер, младший брат художника, и впрямь пытался показать, как он сокрушается. Впрочем веселые искры в его глазах говорили о том, что ему ничуть не жаль.
Натуральный садист!
– И в который раз уже прошу вас, Надин, – продолжил Рейнер, нагнувшись за ее обороненной веточкой и возвращая ее, – не называть меня по имени‑отчеству – не такой уж я старик.
«Как сказать… – мрачно подумала Надя, – он даже старше Сергея Андреевича, в начале лета ему исполнилось тридцать два».
Впрочем, вел себя Рейнер и впрямь как мальчишка. Надя была уверена, что именно он подзуживает восьмилетнего сына художника издеваться над нею и без конца мучить.
Но ответить ему Надя ничего не успела, поскольку услышала вдруг голос своей горничной:
– Надежда Дмитриевна! Барышня! Вы туточки?
Алена звала ее из сада, но, разумеется, скоро будет здесь, на берегу озера.
«Что ей еще нужно?!» – раздраженно подумала Надя.
Григория Романовича она видеть, разумеется, не желала, но Алену не желала видеть тем более. Если в начале дачного сезона эта девица Наде даже понравилась, то теперь она злила ее неимоверно. Алена не замолкала ни на минуту, донимая ее глупыми разговорами, постоянно прятала куда‑то ее книги, вещи и вообще делала все не так, как хотелось бы Наде. Будто назло ей!
Потому она сочла за лучшее поскорее проститься с Рейнером и постараться, чтобы Алена ее не нашла.
– Всего доброго, Григорий Романович, думаю, разговор окончен, – высокомерно заявила Надя, подхватила шлейф платья и спешно направилась вдоль берега.
Рейнер, однако, ей не подчинился, она слышала, как шуршит галька под его ботинками: он шел за ней.
Берег озера представлял собой бухточку, с обеих сторон укрытую скалистым подножием гор. Светлане кто‑то сказал, что горы в Карелии просто кишат змеями, а она до смерти их боялась, потому строго‑настрого запретила и Наде, и всем домашним даже приближаться к камням.
Алена и прочие хозяйку, конечно, слушались, но только не Надя. В доме сестры ей всегда было неуютно – даже в своих комнатах, даже наедине с собой. Все там было против нее! Потому, взяв книгу, она часто уходила сюда, на берег. А иногда и вовсе укрывалась за теми камнями, в облюбованном ею местечке, уютном и поросшем мхом, с великолепнейшим видом на озеро и деревню. Серые, разогретые на солнце валуны надежно защищали ее от ветра и от тех, кто намеревался потревожить Надино одиночество.
Досадно, что об этом местечке теперь знает и Рейнер…
– Надин, вы – сама непосредственность! – хохотал он. – Право, мне в жизни не приходилось прятаться от горничных!
– А я вас не приглашала… впрочем, теперь уже сидите тихо, иначе она нас услышит.
Рейнер, слава богу, замолчал, хотя Надя была уверена, что происходящее до сих пор кажется ему забавным приключением. Надя же, сев на корточки, осторожно выглядывала из‑за камня. Алена действительно уже стояла на берегу: щурясь от солнца, она козырьком прикладывала руку ко лбу и оглядывалась.
– Надежда Дмитриевна!.. – крикнула Алена уже менее решительно.
К валунам она ни за что не приблизилась бы. Надя знала, что горничная вообще не любит берег озера – из‑за мрачной его уединенности и змей, конечно. А Надя ужиков, что грелись среди камней на солнце, давно привыкла не замечать, потому как вычитала в книгах, что они вовсе не ядовиты, а других змей здесь и не водилось.
– Барышня, вас Светлана Дмитриевна кличут! Вы здесь? – Осмотревшись еще раз, Алена, видимо, решила, что на берегу никого нет, потому зло уперла руки в бока, нахмурилась и прошипела громко и отчетливо: – Tyhmä kana!3
– Что она сказала? – тотчас возмутилась Надя. – Вы слышали это, слышали?!
Рейнер над ее ухом неодобрительно хмыкнул:
– Н‑да… Надин, вы не думали о том, что вам следует сменить горничную?
Алена уже ушла, крайне недовольная, поэтому Надя могла устроиться на поросшем мхом валуне поудобней. Она расправила юбку на коленях, выпрямила спину и свысока посмотрела на Рейнера, не понимающего очевидных вещей.
– Чтобы Светлана вновь упрекала меня, будто я меняю горничных как перчатки? – сказала она. – Нет уж, я решила, что, по крайней мере, эту выгонять не буду, что бы она ни сделала. Вот когда Светлана сама застанет ее за кражей столового серебра… вот тогда‑то пожалеет, что не поверила мне сразу.
– Горничная крадет ваше серебро? – не поверил Рейнер.
И Надя посчитала нужным уточнить:
– Пока что у нас ничего не пропадало. Но вы же слышали, как она отзывается обо мне? От такой прислуги всего можно ждать.
Недоверие в глазах Рейнера сменилось веселыми искрами, и он опять рассмеялся:
– Надин, вы неподражаемы! Никогда не угадаешь, шутите вы или говорите серьезно.
Судя по всему, последние слова Нади он счел именно шуткой, что весьма ее разозлило. А она только‑только обрадовалась, что Григорий Романович поддержал ее мнение о прислуге.
Но, не дожидаясь ответа Нади, Рейнер вдруг сощурился, глядя куда‑то на камни, мимо нее.
– Что это? – спросил он.
Надя повернулась и тоже увидела у подола своей юбки аккуратную горку из диковинных камешков. Она таких прежде никогда не видела: жемчужно‑серые, испещренные мелкими трещинами, они казались столь хрупкими, будто вот‑вот рассыплются. Но более всего Надю поразило, как светятся они изнутри голубым сиянием – будто в каждом находился маленький синий фонарь.
– Я не знаю… – как завороженная пролепетала в ответ Надя.
Рейнер же начал разбирать камни, а вскоре и сама Надя догадалась, что так аккуратно их мог сложить только человек. Кто здесь был?..
Когда же Рейнер извлек из‑под камней бумажное полотно, сложенное в несколько раз, Надя и вовсе не знала, что думать, и готова была расплакаться от этого непонимания. Она поклясться могла, что еще вчера днем здесь не было ничего подобного!
Григорий Романович тоже мало что понимал, но, разглядывая бумагу, вдруг хмыкнул:
– Взгляните.
«Карта сокровищъ», – было по‑русски выведено старательным почерком.
На самодельной карте имелись очертания некоего материка и пунктиром была намечена тропка, венчающаяся большим красным крестом. Пока Надя изучала эту карту и пыталась понять хоть что‑то, Рейнер снова прищурился и вдруг сказал:
– Надежда Дмитриевна, позвольте…
Он коснулся ее плеча, настаивая, чтобы она поднялась и отошла. А когда Надя это сделала, то увидела, что прямо за ее спиной на камне была сделана белым мелком надпись:
Сія земля есть собственность пирата Одноглазого Макса.
– Ка… какого Макса?.. – пролепетала Надя, прежде чем сообразила, о каком именно Максе идет речь.
Рядом с нею уже заливался хохотом Рейнер. Совершенно бессовестный человек! Как искренне разыгрывал он удивление, когда увидел камни, хотя, разумеется, отлично знал, что это дело рук его племянника!
«Гадкий, гадкий мальчишка!» – На глазах у Нади от обиды выступили слезы, пока она, до боли царапая ладонь и портя рукав платья, стирала с камня надпись. Он добрался уже и до этого закутка, даже здесь ей теперь не будет покоя! Еще и имел наглость заявить, что это место – его!
Худо‑бедно оттерев надпись, Надя без сожаления побросала те красивые камни в озеро, а Рейнер все продолжал хохотать – от смеха он раскраснелся лицом и выглядел совершенно неприлично.
Надя теперь поднялась в полный рост и, глядя на него с презрением, как можно холоднее сказала:
– Григорий Романович, мне кажется, вы забываетесь.
– Простите, Надин, ни в коей мере не хотел вас обидеть! И клянусь, что я не знал о проделке Максима, я в первый раз это все увидел… – Он пытался справиться со смехом, но не очень получалось.
Надя, разумеется, ни единому слову его не верила.
– Вы, должно быть, к сестре? – еще холоднее осведомилась она, всем сердцем надеясь, что теперь он, наконец, уйдет и оставит ее в покое. – По какому‑то конкретному делу? В этом случае вам совершенно не обязательно было тайком подкрадываться ко мне и пугать. Я пожалуюсь на вас Светлане, так и знайте.
– Уверяю вас, у меня и в мыслях не было к вам подкрадываться, – оправдывался Рейнер, не приняв, разумеется, ее угрозы всерьез, – я лишь увидел издали, что вы беседуете с двумя господами… они ведь не из Горок? Я беспокоился о вас, Надин.
Упоминание полицейских кольнуло Надю, разом вернув ее в реальность, где воровство яблок соседским мальчишкой и ссоры с этим глупцом Рейнером далеко не самые большие из бед.
– Это полицейские, – растеряв остаток сил, ответила она, – вы, возможно, еще не знаете, но вчера вечером к нам приехал Павел Владимирович, супруг Светланы, а ночью… ночью его кто‑то застрелил из револьвера. Убил.
Надя смотрела в землю и не видела выражения лица Рейнера. Но когда все же подняла глаза, оказалось, что он глядит на нее недоверчиво, все еще продолжая кривовато улыбаться.
– Это правда? Вы не шутите, Надин?
Она даже ответить не смогла, вновь опустила глаза и лишь мотнула головой. И почувствовала, как к глазам вновь подступают слезы – кажется, более‑менее спокойной их жизни вовсе пришел конец. Что будет с ними со всеми дальше, Надя и не представляла.
Глава 7
Обычно Гре́гор старался задержаться на том берегу озера подольше – ему и впрямь доставляло удовольствие общество Надин Шелиховой. Однако весть о смерти графа взбудоражила его настолько, что он не помнил толком, как попрощался с Наденькой. И даже едва не забыл, что нужно зайти в дом – выразить соболезнования Светлане Дмитриевне и предложить помощь. Графиня держалась неплохо. Впрочем, это не удивило Грегора – все знали, что отношения между супругами были неважные, потому, должно быть, она не слишком горевала.
Жаль беднягу Раскатова… кажется, тот ведь и не стар еще был. А подсчитав его года, Грегор сделался еще мрачнее, поскольку осознал вдруг, что Раскатов был ему почти ровесником. Он и раньше понимал, что жизнь – штука непредсказуемая, но отчего‑то не думал, что настолько. Что, не спросясь о его планах, она может просто оборваться в любой миг. Да еще и убийством…
Приступы сплина Грегор всегда гнал от себя как мог, да никогда бы и не признал вслух, что временами они одолевают его. Как сейчас. Это творческим натурам вроде его брата не стыдно признаться в подобном, а Грегора все привыкли видеть веселым и бесшабашным – таковым ему и следует оставаться. Потому он совершенно не спешил возвращаться домой, надеясь, что безрадостные мысли вот‑вот отступят. Однако не помогло. Входя в ворота, он как раз размышлял о том, что Раскатов хотя бы успел жениться и, судя по слухам, даже обзавестись детьми. У Грегора же не было никого.
Лишь когда он привычно обернулся, окидывая взглядом озеро и противоположный берег со скамейкой, то на душе его несколько потеплело. Наденька… она и впрямь необыкновенная девушка.
Грегор легко вбежал по ступенькам и потянул на себя дверь.
Дом, что снимал на лето брат, был небольшим: с двумя тесными спальнями, летней кухней в виде пристройки и крохотной гостиной – всякий входящий тотчас оказывался в этой гостиной. Однако Грегор был совершенно не готов к тому, что, захлопнув за собою дверь, оказался нос к носу с двумя не представленными ему мужчинами. Теми самыми, которые пару часов назад разговаривали с Надин.
– Господа Кошкин и Девятов, – запоздало оповестила горничная и подала ему визитные карточки полицейских.
Сами же сыщики живо поднялись при его появлении – тот, что повыше ростом, светловолосый, учтиво поклонился; тот, что пониже и темноволосый, небрежно кивнул.
– Григорий Романович Рейнер, – поздоровался в свою очередь Грегор и, кляня про себя брата Николая, что того опять нет дома, на правах хозяина предложил им сесть. – Чем обязан вашему визиту, господа?
Переведя взгляд с одного сыщика на другого, Грегор остановился все же на светловолосом, Кошкине. Тот, будто желая казаться незаметным, молча сидел в углу дивана, но Грегор все равно знал, что именно он в этой паре старший. Нет, никаких догадок, внезапных озарений и далекоидущих выводов из незначительных деталей: Грегор лишь прочел на визитке Кошкина, что тот был чиновником по особым поручениям Уголовного сыска Санкт‑Петербурга и имел звание коллежского советника, в то время как Девятов числился полицейским надзирателем и был, очевидно, в прямом подчинении у Кошкина.
– Случилась, знаете ли, неприятность у ваших соседей, – вздохнул Девятов, пытаясь выглядеть расстроенным. И тут же уточнил: – Вы, должно быть, еще не слышали?
Кошкин молча и проницательно глядел из своего угла. Грегору под этим чудовищно тяжелым взглядом стало неуютно, и он вполне осознавал сейчас, что делать вид, будто не слышал о графе, бесполезно.
– Я знаю, что графа Раскатова убили этой ночью, – нервно ослабив галстук, ответил он, обращаясь именно к Кошкину. – Я виделся сегодня с Надеждой Дмитриевной, сестрой графини.
– Вот как? – не скрыл изумления Девятов. – Вы большие друзья с Надеждой Дмитриевной, стало быть?
– Мы соседи, – Грегор невольно улыбнулся, заговорив о Наденьке, – разумеется, мы дружим.
Кошкин буравил его взглядом и в разговор все еще не вступал.
– В таком случае вы и с Павлом Владимировичем дружили, наверное? – допытывался Девятов.
– Нет. Не слышал, чтобы Павел Владимирович бывал когда‑либо в Горках. Хотя в Петербурге мы несколько раз встречались у общих знакомых… но это было много лет назад. Последние годы, насколько я знаю, граф жил затворником в своем поместье под Новгородом.
Девятов оглянулся на Кошкина, будто прося совета, но, так и не получив его, сделал неутешительный вывод:
– Значит, и вчера вы с Раскатовым не виделись?
– Я вовсе не знал о его приезде, – покачал головою Грегор.
– Быть может, вы хотя бы видели или слышали что‑то подозрительное этой ночью? Дом Раскатовых не так далеко, вы вполне могли что‑то заметить.
– Нет, думаю, ничего, что можно назвать подозрительным, я не слышал.
Грегор, осознавая ответственность, действительно старался припомнить все, что произошло накануне, и, опуская незначительные детали, подробно описал события следователям.
Вчерашним днем его брат пропадал с мольбертом и красками где‑то в лесу – как, впрочем, и в большинство других дней. Ольга, жена Николая, тоже отсутствовала, но, где именно, он толком не знал: может, ездила в церковь, может, в город. А может, по обыкновению возилась в саду со своими цветами. Ольга была маленькой, тихой и незаметной, как тень, удивительное дело, но Грегор никогда не мог с точностью сказать, где эта женщина в данный момент находится и чем занимается.
Сам Грегор с утра совершил привычную прогулку по окрестностям. Конечно, не обошелся без того, чтобы заглянуть на противоположный берег озера и не побеседовать с Наденькой. Потом помогал Максимке, своему племяннику, в их извечной войне против monsieur Жуппе, его гувернера. Тот опять за что‑то наказал Максимку и запретил ему выходить на улицу в такой чудесный летний день. Мерзкий французишка. Чему он может научить парня? Душиться и пудрить физиономию? Мерзость какая… Уж не говоря о том, что иностранцам с подобной фамилией вовсе следует запретить въезд – это же неприлично, он ведь и дамам так представляется!
Удрав ото всех, они с Максимкой катались на лодке, плавали, загорали и играли в леток4. А потом Грегору доложили, что ему пришло письмо – один его товарищ по университету женился, и Грегору вздумалось сочинить поздравление в виде стишка. Над этим стишком он и сидел, пока не позвали ужинать. А спать в Горках обычно ложились рано, как только пряталось за горизонтом солнце.
Спален в доме имелось только две, так что стелили Грегору в кабинете, совмещенном с библиотекой. Жуппе ночью вроде бы никуда не отлучался… хотя Грегор спал всегда очень крепко и поручиться за это не мог. Нет, конечно, это бред, что Жуппе ночью покинул дом, переплыл озеро и застрелил графа Раскатова… просто единственный, кого Грегор мог представить в роли убийцы, был лишь мерзкий француз.
– Должно быть, я ничем вам не помог, господа, – развел он руками, когда закончил рассказ, – но вчерашний день действительно ничем не отличался от сотни других.
Девятов вновь тайком глянул на начальника. Грегор уж думал, что тот вновь смолчит, но Кошкин неожиданно заговорил, меняя отчего‑то тему:
– Григорий Романович, вам не доводилось слышать, что у графини кое‑кто гостит?
– Князь Боровской? – тотчас вырвалось у него.
Впрочем, заметив переглядывание сыщиков, он понял, что попал в точку. Леон – глупец! Вляпался‑таки в историю! С полминуты еще Грегор осыпал приятеля отборнейшими ругательствами. Впрочем, приятели – это о них слишком громко сказано.
– Мы познакомились с молодым князем Боровским года два назад, в Европе, – неохотно заговорил Грегор, поняв, что теперь надо выкладывать и остальное. – Он учился там, а я путешествовал. По его возвращении в Петербург мы знакомство продолжили, тем более что ужинаем в одном и том же клубе и, разумеется, имеем уйму общих приятелей – так что, можно сказать, дружим…
В Петербурге зимою, когда Грегор едва‑едва познакомился с Наденькой, на одном из приемов он сам представил Леона своим соседкам по даче. Интерес у Леона к сестрам возник сразу: тот стал оказывать им всяческие знаки внимания, а вскоре принялся навещать с завидной регулярностью. Сперва Грегор решил, что увлекла его друга именно Наденька, девица на выданье, и, признаться, в то время не мог взять в толк, что он нашел в ней. В бальный сезон Надя была зауряднейшей из дебютанток, совершенно неинтересной на фоне сестры. Поэтому когда стало очевидно, что Леон увлечен именно Светланой, – все встало на свои места.
Разумеется, ничего этого вслух Грегор не сказал, признав лишь, что познакомил сестер с князем, который после всю зиму навещал их дом в Петербурге.
Но этот Кошкин… он будто читал его мысли.
– Стало быть, графиня охотно поддерживала эту дружбу? – пытливо спросил он.
– Пожалуй, да, поддерживала, – согласился Грегор. – Боровские – это знатная и почтенная семья, и сам Леон исключительно благородный молодой человек. Так что почему бы и нет… впрочем, подробности мне неизвестны.
Относительно благородства Леона он сильно лукавил, потому как о попойках с офицерами, кутежах с актрисами и прочих скандальных выходках, которые всю зиму творил молодой князь, знал, кажется, весь Петербург. Но подробностями его отношений со Светланой Грегор и впрямь никогда не интересовался. Лишь иногда до него доходили слухи – грязные и не красящие ни Светлану, ни Леона.
К концу зимы ухаживания за ней Леона были уже столь явными, что репутация графини – и так, увы, небезупречная – трещала теперь по швам. Потому, должно быть, еще в марте, когда только‑только сошли морозы, она с сестрой так поспешно уехала в Горки.
Хотя бы на это у Светланы хватило благоразумия, а вот Леон… ему вовсе не ведомо чувство меры. И то, какие разговоры ходят о графине в свете в связи с его ухаживаниями, его тоже ничуть не волновало. Грегор и раньше допускал, что с Леона станется явиться в Горки. Поэтому, когда дня три назад Николай поделился за ужином, что видел в поселке незнакомую господскую коляску, – первый, о ком подумал Грегор, был именно Леон.
– Выходит, о том, что князь Боровской гостит в Горках, вы все же знали, – сделал вывод Кошкин даже после того, как Грегор раз пять акцентировал внимание, что лишь предполагал присутствие в Горках Леона.
– Скорее догадывался… – поправил он.
– Вы ведь часто бываете у Раскатовых, – не отставал Кошкин, – так неужели все три дня не видели у них князя?
– Нет, – твердо ответил Грегор.
Не объяснять же ему, что в дом и даже за калитку к Раскатовым, он заходил крайне редко, обычно лишь разговаривал с Наденькой на берегу озера.
Но Кошкин ему, кажется, не верил. Хотя вслух неожиданно согласился и даже улыбнулся:
– Хорошо. Последняя просьба, Григорий Романович: мы бы хотели осмотреть причал и вашу лодку. Можем мы это сделать?
– Разумеется… я сам вас провожу.
Грегор пригласил было покинуть дом через парадные двери, однако Кошкин вдруг остановил его:
– Позвольте, но через веранду разве не ближе?
И снова улыбнулся. Кошкин, наверное, считал, что эту улыбку можно назвать дружелюбной.
Через веранду на причал, разумеется, можно было попасть скорее, но для этого следователей пришлось бы провести через коридор, соединяющий лестницу на второй этаж, гостиную и эту самую веранду. Вероятно, этого Кошкин и добивался: хотел осмотреть дом. Отказать Грегор не смог.
Впрочем, он не сделал и двух шагов в коридор, как замешкался. Здесь имелся ряд служебных помещений, и дверь одной из каморок оказалась раскрытой. Тут уж Грегор сам невольно подогрел их интерес: излишне взволнованно он метнулся к той двери и попытался ее запереть.
– Вы позволите? Мы можем осмотреть? – заинтересовался, конечно же, Кошкин.
– Это мастерская… там лишь краски и кисти. Уверяю вас, ничего интересного вы не найдете.
– И все же, вы позволите? – еще настойчивее спросил Кошкин.
И снова Грегор не сумел отказать.
Вообще‑то мастерская бывала заперта, лишь когда там работал Николай. Грегор и сам не мог понять, что его взволновало в этот раз, ведь там и впрямь не могло быть ничего интересного. Пропустив вперед сыщиков, он принялся убирать портьеру от огромного, во всю стену окна, чтобы осветить крохотное помещение.
Первое, что бросилось здесь ему в глаза, – мольберт с растянутой на нем холстиной и подсыхающей уже масляной краской.
– Мой брат художник, – пояснил Грегор смущенно, – вы и сами знаете, наверное…
Это был портрет. Полностью законченный, в котором свободно узнавалась их соседка‑графиня, в углу имелась даже подпись «Светлана Раскатова», где буква «С» была выполнена в виде мудреного вензеля – все в манере Николая.
От него не укрылось, что оба следователя, даже невозмутимый прежде Кошкин, забыли, казалось, зачем пришли: любовались портретом. А Грегор в очередной раз подумал, что графиня Раскатова все же необыкновенно хороша собой.
– Да… и теперь я вижу, что Николай Романович действительно великий художник, – нашелся что ответить Девятов. – Светлана Дмитриевна вышла здесь лучше, чем в жизни.
– Скажете тоже… – хмыкнул Грегор, – портрет неплох, но до оригинала ему далеко. – И быстро добавил: – При всем моем уважении к мастерству Николая Романовича, разумеется.
С этими словами Грегор шире раскрыл дверь, приглашая сыщиков выйти. И не смог удержаться от насмешливого тона:
– Как видите, господа, Леон здесь не прячется. И револьвера, из которого застрелили беднягу Раскатова, тоже нет.
– А отчего вы решили, что граф был именно застрелен? – живо удивился Девятов. – Разве Надежда Дмитриевна сказала вам и это?
И Кошкин, который, прежде чем выйти, бросил еще один взгляд на портрет, тотчас обернулся к ним.
«Вот так преступники и выдают себя… попался, Григорий Романович», – усмехнулся Грегор про себя.
– Должно быть, и правда Надежда Дмитриевна сказала… – ответил он им неловко.
Слава богу, все трое уже подошли к причалу, и Грегор смог уйти от щекотливого вопроса.
«А они ведь действительно вполне могут теперь подозревать меня в убийстве, – понял он. – А уж Леона‑то точно подозревают».
Грегор подумал, что это и впрямь мог бы сделать его друг… Леон горяч и совершенно безрассуден. У него хватило бы ума затеять дуэль с Раскатовым прямо в доме Светланы. И наверняка не хватило бы храбрости нести за свой поступок ответственность. Леон обязательно сбежал бы, ежели и правда это он убил Раскатова.
Разумнее всего Леону было бы покинуть Горки в той же коляске, в которой он явился сюда, но, раз сыщики заинтересовались лодкой, верно, считают, что убийца ушел озером… Но это невозможно! Вчера, после того, как они с Максимкой наплавались вдоволь, он сам привязал лодку к причалу!
Пока Грегор размышлял об этом, сыщики, спрыгнув в лодку, лазили по ее днищу с увеличительным стеклом.
– Синие шерстяные нитки… – Услышал он от Девятова: тот что‑то нашел и показывал теперь начальнику.
Но Грегор мало их слушал. Он уже бросил взгляд на узел, которым была привязана лодка. И ему мигом сделалось жарко: плохо понимая, что делает, Грегор окончательно сорвал галстук с шеи. Лодка была привязана вовсе не его крепким морским узлом. Кто‑то чужой и впрямь пользовался ею ночью.
Глава 8
Сыщики, повозившись с лодкой еще минут тридцать, наконец ушли. Грегор не посмел утаить от них, что лодкой кто‑то пользовался после него… в самом деле, может, это всего лишь Николай с утра пораньше уже плавал куда‑то? Может, и не нужно паниковать?
Что любопытно, Кошкин и сам допустил эту версию, о чем сказал вслух, а не бросился тотчас обыскивать дом в поисках Леона.
Грегор, щурясь уже шедшему на закат солнцу, глядел, как двое следователей выходят за ворота, когда неожиданно его окликнули с вопросом:
– Кто это был?
Он обернулся, не ожидая, что рядом находится еще кто‑то.
Это оказалась Ольга – она даже двигалась неслышно. Тень, как есть тень! Должно быть, Ольга возилась в теплице, потому они ее не видели – зато она, нужно думать, видела все превосходно.
– Полиция, – ответил ей Грегор. – Мужа Раскатовой застрелили в ее доме.
– У нас, в Горках? – Все удивление Ольги выражалось в том, что она чуть‑чуть приподняла бровь. Она даже интонации не сменила, лишь отвела взгляд и, судя по всему, задумалась. А потом выдала: – Это, конечно же, Светлана Дмитриевна сделала. Право, другого от этой женщины ожидать не следует. А от нас‑то они что хотели?
Грегор поморщился, слушая это; он и раньше знал, что Ольга недолюбливала Светлану и всячески порицала ее за образ жизни. Но как можно делать такие заявления?
– Это тебе все уже ясно, дорогая сестра, а следователи лишь разбираются, что произошло, – упрекнул он.
Обычно «брат» с «сестрой» обменивались еще парочкой полусерьезных колкостей, прежде чем разойтись, но в этот раз Ольга будто этих колкостей и не расслышала. Она вдруг спросила с беспокойством:
– Ты видел сегодня Николая Романовича?
Мужа своего Ольга даже спустя десять лет брака упорно величала на вы и Николаем Романовичем – только так. Она боготворила его, считала гением кисти, и Грегор не исключал, что молится она не на иконы, а на его фотокарточку. Для Грегора подобное трепетное отношение было поводом для бесконечных подколов «любезной сестрицы». Он и в этот раз не сдержался:
– Николай Романыч ни свет ни заря отправились en plein air5. Он ведь понимает, что гениям нельзя много спать, им должно каждую свободную минуту посвящать творчеству. Так что, вероятно, сидит где‑нибудь в болоте, искусанный комарами, и поджидает… – он изобразил мечтательный взгляд, – когда косые лучи заходящего солнца позолотят верхушки вековых елок.
– Здесь повсюду сосны, а не ели, – мрачно напомнила Ольга.
– Хорошо, верхушки вековых сосен, – не менее возвышенно продолжил Грегор, – так даже поэтичнее, ты не находишь?
Ольга покачала головой и вздохнула устало:
– Мне иногда кажется, что у меня не один ребенок, а двое – причем старший куда более несносный.
– Я обещаю исправиться, матушка, – паясничая, Грегор повинно склонил голову перед «матушкой», которая была моложе его на несколько лет.
Расстались «брат» с «сестрой», как обычно, не слишком довольные друг другом: Ольга ушла разыскивать своего гения‑мужа, а Грегор отправился на поиски Максима: дело в том, что у него возникла одна догадка…
«А места здесь и впрямь красивые», – в который раз убедился Грегор, окидывая взглядом панораму леса на горизонте.
Николай, когда впервые побывал в Карелии, твердо заявил, что на лето они будут выезжать сюда, и только сюда. Ольге, помнится, не очень‑то понравилась эта идея, но она, как обычно, смирилась с капризами мужа, и вот уже третий год, едва сходит снег, Николай с женой и сыном спешил в Горки и вознамерился, кажется, запечатлеть здесь каждый аршин леса.
Грегор на лето обычно присоединялся к ним – первый год неохотно, скорее подчиняясь властному старшему брату, а потом он и сам настолько привязался к подросшему племяннику и полюбил их совместные мальчишеские проказы, что и помыслить не мог об отдыхе, отдельном от него. Но прочие месяцы, кроме летних, Грегор мало виделся с семьей брата: слишком разнились их интересы. Он нанимал удобную и недорогую квартиру на Гороховой улице, прошлую зиму почти целиком провел в Москве у университетского приятеля, а несколько предыдущих и вовсе путешествовал по Европе.
С неудовольствием Грегор признавал, что образ жизни, который он вел, можно назвать праздным. Он не числился на службе ни в одном ведомстве, хоть и имел за душой диплом юриста, и военная карьера никогда его не привлекала – а жил Грегор в основном на средства, доставшиеся ему от почивших родителей.
Наверное, Грегор и впрямь ведет себя как мальчишка – Ольга женщина умная, зря говорить не станет. Для него ведь и по сей день самой большой радостью было узнать об этом мире что‑то новое, неизвестное для себя. И эти ежедневные пешие прогулки по окрестностям – Грегор совершал их не для поддержания физического здоровья, как думает Николай, и не для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями, как думает Ольга. Один только Максимка и мог понять истинное положение вещей: Грегору было интересно, что он увидит там – за тем поворотом, за тем камнем, за той деревней… и мир не уставал удивлять его.
Обычно для них с Максимом и дня не проходило, чтобы они не совершили какое‑нибудь грандиозное открытие: то находили невиданные прежде поделочные камни, надежно укрытые в горных породах, то костяные наконечники стрел, то осколки диковинной посуды, принадлежащей явно далеким предкам тех аборигенов, что проживали здесь сейчас.
Населен этот район был по большей части финнами – именно их и нанимали в обслугу господа, останавливающиеся в Горках. А уж сколько легенд, баек и сказок поведало это «коренное население» – не счесть! О Ладожском озере, невдалеке от которого находились Горки, о злобных морских духах и леших, что водились возле него по сей день. О загадочных метелиляйненах – великанах, населявших эти земли задолго до того, как сюда пришли финны и карелы. Об атлантах, что обитали в Карелии еще до метелиляйненов и даже оставили следы в виде таинственных сейдов – валунов, огромных по размеру, но тем не менее сложенных друг на друга в крайне неустойчивую конструкцию. Сейдов в Карелии и впрямь было множество – особенно на севере, близ Белого моря. Даже Грегору удалось увидеть один, от которого он до сих пор пребывал под большим впечатлением.
Максима же более всего заинтересовала легенда о капитане Сигварде и его призрачном корабле «Три шестерки», что и сейчас, говорят, бороздит Ладожское озеро, и о его несметных сокровищах, что спрятаны злобным капитаном в его водах. Слава богу, что до Ладожского озера несколько часов езды, не то Максимка перекопал бы его берег вдоль и поперек…
Зато была еще одна легенда, совсем уж сказочная, которая гласит, что в одном из многочисленных озер Карелии – неизвестно, в каком именно, – обитает ужасное чудовище. Огромных размеров, с длинной шеей и блестящей на солнце чешуей. Как водится, прислуга в Горках клялась и божилась, что чудовище живет именно в озере, что разделяет дачи Николая и графини Раскатовой, а потому Максимка порой часами просиживал на берегу в надежде его увидеть. И после заката тоже, прячась от своего гувернера, он любил посидеть у озера: дворовые угощали его морошкой, ароматной ухой из форели и снабжали заодно все новыми и новыми порциями баек.
А озеро это местные и впрямь недолюбливали и старались обходить стороною, потому как даже рыба здесь не водится – хотя во всей Карелии ох как сложно отыскать водоем, где не было бы рыбы. И хоть на картах это озеро никак не обозначено, но финское население меж собой называет его Перкелинъярви, что переводится, между прочим, как Чертово озеро.
Всякое совместное лето у Рейнеров начиналось с того, что старший брат пенял младшему, что пора, мол, остепеняться: обзаводиться семьей, домом и браться наконец за дело. Под «делом» Николай имел в виду серьезные занятия художественным искусством, поскольку считал, что у Грегора есть к этому способности. И то, что Грегор не желал «заниматься делом», было для Николая как нож по сердцу.
– Остепениться… – задумчиво произнес Грегор любимое словечко своего брата.
А потом осмотрелся – оказывается, он сам не заметил, как ноги привели его на другой берег озера, к даче Раскатовой. Уголок этот, укрытый от всего внешнего мира, был столь тихим и умиротворенным, что Грегор охотно понимал, отчего Надя так любит это место. Правда, самой Наденьки здесь теперь не было – лишь лежала ее книга, забытая на скамейке. Грегор, не удержавшись, подошел и прочел: «Джон Уильям Полидори “Вампир”6».
Хмыкнув, он положил книгу обратно. Отчего‑то Грегор не думал прежде, что Наденьке нравится подобная литература и герои вроде байроновского Чайльд Гарольда7 – сам‑то он подобных героев и их метания считал смешными и глупыми. Но быстро приободрился, решив, что если Надя бросила этого «Вампира» на скамейке, то тоже считает книгу смешной и глупой.
И вспомнил отчего‑то, что приятель его, Леон, как раз любил на досуге изображать из себя Чайльд Гарольда. Особенно при дамах.
– Остепениться… – снова повторил Грегор в задумчивости.
На доводы брата он обычно отшучивался, заявляя, что еще недостаточно зрел для женитьбы. Грегор и в самом деле не понимал, как можно, будучи в здравом уме, выбрать из тысячи женщин всего одну и оставаться верным ей до гробовой доски – а то, что супруге своей (ежели таковая когда‑нибудь появится) Грегор будет верен, было для него само собою разумеющимся.
Однако именно несчастье, приключившееся в семье Раскатовых этой ночью, заставило его взглянуть на слова брата куда серьезней. Жизнь коротка, а на что он тратит ее? Грегор еще раз посмотрел на «Вампира» и неожиданно для самого себя вдруг дал зарок: ежели до конца лета его отношение к Надин Шелиховой не переменится, то он предпримет решительные меры.
До конца лета меж тем оставалось десять дней.
Едва же Грегор остановился на последней своей мысли, словно в ответ на нее, из‑за валуна, облюбованного Наденькой, послышался легкий шорох прибрежной гальки. Грегор тотчас направился туда, уже предвкушая очередную премилую беседу…
Однако вместо Нади он увидел здесь своего племянника. Хмурый, сосредоточенный, с упрямым выражением лица, Максим вынимал из корыта целые охапки жгучей крапивы и толстым слоем раскладывал ее на Надин валун и подле него… Руки его предусмотрительно были одеты в плотные садовые рукавицы, украденные у матушки, должно быть.
– Что ты творишь! – вскричал Грегор и принялся смахивать крапиву с камней. – Убери все немедленно! Она ведь обожжется!
Он почти физически ощущал, как больно будет Наде, когда она своими нежными шелковистыми ладошками станет убирать эту крапиву с камня – а убирать ей придется, иначе она здесь не устроится, Максим верно все рассчитал.
– Ну и пусть! – тот еще более насупился. – Она мою карту изорвала и камни выбросила куда‑то, а я их на целую бескозырку выменял, которую мне с Черного моря привезли.
С камнями и самодельной картой Надя действительно погорячилась: Грегор вспомнил, как они с племянником рисовали эту карту, выверяя с точностью до шага все ориентиры, как Максимка вымачивал ее в чайном растворе, чтобы состарить бумагу, а потом сушил на бельевой веревке… Должно быть, Наденька была задета куда больше, чем он думал, потому так поступила – не из жестокости, а в порыве.
А Максим продолжал, зло хмурясь:
– Никогда ей этого не прощу! Объявляю войну Надьке Шелиховой!
– Она тебе не Надька, а Надежда Дмитриевна! – строго оборвал он племянника. – А выбросила она твои камни, потому что ты без спросу сюда залез. Это Раскатовых участок, пойми, ты сюда разве что в гости прийти можешь… – закончил Грегор уже миролюбивее, пытаясь объяснить мальчику ситуацию.
Но тот хитро прищурился и заявил:
– А вот и не их это участок: их – только до забора. Я в документах батюшкиных читал, что все за забором уже общее! Значит, кто первый занял, тот и хозяин!
– Так она же первая заняла. – Грегор потер висок, потому что у него начала болеть голова.
– А никто не докажет! – высокомерно задрал нос мальчишка и сложил на груди руки. – Это я первый на камне написал, что земля – моя.
Грегор не нашелся что на это ответить. Самое забавное, что формально мальчишка действительно был прав. И вспомнил слова Ольги, которая утверждала, что он дает мальчику слишком много свободы: действительно, в свои восемь лет Грегор и помыслить не мог сделать то, что вытворяет сейчас его племянник. Хотя гувернеры все равно считали его шалуном.
Со вздохом присаживаясь на валун, Грегор лишь сказал удрученно:
– Но она же девушка – уступи. Валунов тебе мало, что ли?
Максим еще более насупился, однако вскоре оставил свое занятие и молча сел на корточки рядом с дядей. Некоторое время они молча сидели так – очень по‑взрослому. Глядя на озеро и думая каждый о своем. По лицу Максимки было видно, что он все еще очень зол на Надю, но борется с этим чувством. Грегору никогда в голову не приходило разговаривать с мальчиком о чести, благородстве, мужском поведении – у них полно было и других, более интересных тем для бесед. Разве что своим собственным поведением и вскользь оброненными фразами он мог подавать пример. И сейчас Грегор был необыкновенно горд тем, что его маленький племянник все же сумел вычленить и усвоить необходимое, чтобы теперь поступить правильно. Словно это достижение было его собственным.
Однако вскоре Грегор подумал: не перехвалил ли он племянника? Потому как тот вдруг посмотрел на него хитро и, прищурившись, спросил:
– А чего это ты, дядюшка Грегор, ее защищаешь?
Смотрел он столь красноречиво, что Грегор неожиданно вспыхнул, словно его застали врасплох. Сбивчиво и излишне пафосно начал рассказывать что‑то о дворянской чести и о том, что, будь на месте Нади другая дама, он бы защищал ее точно так же.
Но племянник его был слишком догадлив и слишком хорошо знал своего дядюшку – он продолжал посмеиваться, поняв, разумеется, все.
А Грегор подумал еще, что Ольга, должно быть, ощущает себя так же, когда он, подобно Максимке, посмеивается над ее чувствами. И, решив быть строгим, поднялся во весь рост, нависнув над Максимкой:
– Да с какой стати я вообще должен перед тобою оправдываться?! Разговор окончен! Убери тут все немедленно, ясно тебе? – И, чуть смягчившись, добавил: – Если уберешь крапиву, я покажу, куда Надежда Дмитриевна выбросила твои камни.
Надя побросала их в озеро, стоя на этом самом месте у валуна, и Грегор хорошо помнил, что они плюхнулись в воду шагах в двух от берега, не дальше. Озеро мелкое, камни крупные и заметные – найти их можно, ежели постараться.
В глазах же Максима мелькнул интерес – похоже, он и не чаял уже отыскать свои сокровища, потому тотчас принялся собирать крапиву обратно.
Уже почти что стемнело, но Грегор – раз пообещал племяннику найти камни, – закатав брюки, все еще стоял по колено в теплой воде озера и высматривал эти диковинные радужные камни. Благо еще, что их хорошо было видно: вода совершенно прозрачная, и камни резко выделялись среди серой гальки своими переливами. Они уже отыскали много, но Максим заявил, что не хватает еще трех, а собрать он намерен все до единого. И все порывался зайти дальше, чтобы обогнуть скалу, утопающую своим подножием в озере, и поглядеть, не попали ли какие из камней в ту часть вод – там тоже был берег, только гораздо менее ухоженный и заросший камышами.
И в один из моментов, когда Грегор отвлекся, Максим все же это сделал.
Только отчего‑то очень быстро вернулся – серьезный, встревоженный и без камней.
– Что там? – без тени беспокойства спросил Грегор. Он устал за день и уже хотел отдохнуть.
– Ничего, – мотнул головой мальчик, но был он задумчив и, вдруг решившись, спросил: – Дядя Грегор, пойдем вместе посмотрим – там, на берегу за скалой, лежит что‑то…
– А один боишься идти? – хмыкнул Грегор. – Свое морское чудовище увидел, никак?
Но Грегор все же закатал брюки еще выше и начал пробираться за выступ скалы. Ему и самому было интересно, что нашел племянник. Может, рыбу какую выбросило на берег?
Но нет, это оказалась не рыба.
Глава 9
Солнце опустилось за горизонт, и небо над Горками неспешно меняло свою расцветку с нежно‑сиреневого до насыщенного лилового. Еще в начале лета Светлана приказала вынести два кресла на веранду с западной стороны дома, думая, что вечерами они с Надюшей будут сидеть здесь, любоваться закатом и беседовать о разных глупостях, как обычно это делают сестры. Наивно и смешно. Рядом со Светланой Надя присаживалась разве что во время трапезы, да и то если соглашалась спуститься в столовую.
Вероятно, Светлана сама была виновата, что упустила в какой‑то момент сестру. Быть может, еще тогда, в детстве, когда маленькая Надюша упрашивала поиграть с нею, а она, семнадцатилетняя ветреная девица, совала ей в руки книжку и убегала к друзьям. Все‑таки одиннадцать лет разницы – это слишком много.
Так что теперь любоваться закатами приходилось в обществе сигареты. Светлана аккуратно стряхнула пепел и вновь затянулась терпким дымом.
…В те годы сестры Шелиховы лето проводили здесь же, в Карелии. Горки были тогда большим и богатым поместьем, принадлежащим господам Халиным, родителям Алины. Матери, ее и Алины, были закадычными подругами, оттого, должно быть, Халины так охотно принимали их на все лето. С Алиной Светлана дружила сколько себя помнила: все детство и юность они провели вместе, делились друг с дружкой самыми сердечными тайнами и мыслями. Потому в каком‑то смысле Алина была ей ближе, чем сестра.
А Серж Гриневский приходился Алине троюродным, кажется, братом и с самого детства его точно так же отправляли к Халиным – загорать и отдыхать после месяцев учебы. Когда им всем было по тринадцать лет, Серж по‑детски искренне признался Светлане в любви и заявил, что, когда они вырастут, он на ней женится. Польщенная – никто из подруг не мог похвастаться подобным – Светлана, разумеется, тотчас согласилась стать его невестой.
У родителей Сержа и Алины, правда, было по этому поводу другое мнение, но в свои юные годы Светлана этого не понимала и безрассудно бегала целоваться с Сержем в укромном уголке сада. Разумеется, подобное времяпрепровождение было для Светланы куда более заманчивым, чем игра в куклы с младшей сестрой.
Из сладких воспоминаний Светлану выдернул едва слышный скрип калитки. Она тотчас обеспокоенно спросила:
– Кто тут?
Было совсем темно, и нежданного гостя, спешащего к ней по тропинке, Светлана разглядеть не могла. Только охватило неприятное волнение при мысли, что это Серж. Он навещал ее, входя обычно через эту калитку, но сейчас Светлана его видеть не хотела – до отвращения не хотела.
– Это я, ma chère. – С облегчением Светлана узнала голос Алины, а вскоре и увидела ее лицо, появившееся из тени. Пышные огненно‑рыжие волосы были убраны под шляпку, а сама она уже успела облачиться в траурный наряд. – Не помешала?
– Что ты! Разумеется, нет, садись, – Светлана указала ей на второе кресло, куда Алина тотчас опустилась.
Светлана действительно была рада ей: сейчас она, как никогда, нуждалась в участии, и никто, кроме Алины, похоже, не мог ей этого участия дать. К тому же Светлана бесконечно преклонялась перед умом Алины, по‑мужски острым. Как же все‑таки хорошо, что она у нее есть.
Но подруги сидели в молчании: Светлана курила, а Алина, должно быть уставшая за день, наслаждалась тишиной и уютом в плетеном кресле. Им не было необходимости заполнять паузы словами.
Только минуты через три Алина повернулась к подруге, еще немного помолчала и спросила:
– Вижу, снова ты с сигаретой?
– Сегодня можно.
– От этого цвет лица, я слышала, портится.
Но цвет лица Алину, видимо, не волновал, потому как она, приметив портсигар подруги, тоже вытянула сигарету. Не найдя спичек и поленившись встать за свечой, она ухватила теплой, чуть шершавой рукой запястье Светланы и приблизила к своим губам, прикуривая от ее огонька.
А глазами в этот момент поймала взгляд Светланы и смотрела так пристально и неотрывно, что Светлана не выдержала и отвернулась.
– Я приехала узнать, когда похороны, – наконец сказала Алина, выпустив струю дыма и устроившись к Светлане вполоборота.
– В пятницу, – ответила та. – Сейчас его отвезли к прозектору… не знаю, что они хотят узнать таким образом. Павла похоронят в его поместье, в Ермолине – там его настоящая семья, я думаю, это будет правильно.
Светлана бросила взгляд на подругу, но та ничего не сказала, будто не слышала ее замечания. Только внимательно смотрела на оранжевый огонек сигареты. А Светлане отчего‑то очень хотелось об этом поговорить.
– Я была там, в Ермолине, лишь однажды – года два назад, – продолжила она. – Понадобилось решить кое‑какие вопросы с моим содержанием, и я поехала, – Светлана вымученно усмехнулась, – и поняла тогда, отчего Павел ни разу не возил меня в свою деревню прежде. Меня там встретила одна особа… красивая, молодая. Моложе меня. Вела себя как хозяйка – нагло и крикливо. Лишь когда догадалась, кто я такая, немного присмирела. И вокруг нее ребятишек человек пять. А один – ровесник моего Ванечки и похож на него так…
Резко оборвав фразу, с усилием отгоняя воспоминания, Светлана снова прильнула к сигарете, докурив ее за один раз. Руки не слушались, мелко тряслись и роняли пепел на юбку.
– Сколько бы сейчас было Ванечке? – спросила Алина.
– Семь, как Лизе, твоей старшей.
Светлана ответила быстро и, как ей показалось, совсем без эмоций. Однако продолжать расхотелось: она не любила говорить ни о своем мальчике, ни о чужих детях. Она не знала большей пытки, чем говорить о маленьких детях или видеть их.
Алине она никогда не признавалась в этом и с несколько фальшивой улыбкой старалась поддерживать разговоры о ее девочках, потому что знала, как много они для Алины значат. Как горячо и самозабвенно она их любит. К счастью, разговоры о детях подруга заводила редко, наверное, догадываясь о чувствах Светланы. Вот и сейчас она сама сменила тему.
– Твой муж не был святым, – пожала она плечами. – Как, впрочем, и ты, ma chère. Да и все мы. Но Бог завещал прощать, так что прости его, прекрати о нем думать и терзаться.
– Я вовсе не терзаюсь, – отозвалась Светлана, желая казаться хоть вполовину такой же стойкой.
– Вот и славно. Подумай лучше о своем будущем. Прости за цинизм, ma chère, но ты теперь свободна и к тому же весьма состоятельна. Признаться, я тебе даже немного завидую. – Она улыбнулась, но, поймав осуждающий взгляд, тотчас подавила улыбку: – Шучу‑шучу. Просто хотела немного развеять тебя.
Алина снова вдохнула и выпустила дым, а потом спросила самым обыденным тоном:
– Так это ты сделала?
Светлана вздрогнула. Разумеется, подруга спрашивала об убийстве Павла. Алина просто не могла этого не спросить когда‑нибудь – увы, но деликатность в число ее достоинств не входила.
– А что, если да?
Алина пожала плечами, не поведя даже бровью.
– Ровным счетом ничего. – Она снова выпустила дым. – Просто в этом случае нужно думать, что нам делать, а не пускать все на самотек.
Это «нам», оброненное вскользь, сказанное без намека на фальшь и показуху, было столь дорого Светлане, что она, обернувшись к подруге, так и не смогла выразить словами глубину своей благодарности. Светлана не надеялась, что Алина и впрямь что‑то придумает – ну что здесь можно придумать, право слово? – но ей и одного участия было достаточно.
А вместе с благодарностью тотчас почувствовала, как недостойна она такого к себе отношения.
– Нам… – горько повторила она и покачала головой, – Алинушка, я в самом деле не заслуживаю твоей доброты. Другая б на твоем месте ненавидела меня – и была бы права.
– За что же мне тебя ненавидеть, ma chère? Не за Сержа ли? – Алина, казалось, действительно была удивлена. На Светлану она глядела сейчас даже с жалостью: – Боюсь, ты все же не вполне понимаешь суть наших с ним отношений, раз допускаешь, что я могу тебя ненавидеть за то, что il te visite la nuit8.
Светлана смутилась и не нашлась что ответить. На веранде повисло молчание, в течение которого Алина курила, а Светлана вновь погрузилась в воспоминания, чтобы в очередной раз решить для себя: не лукавит ли все же Алина?
…Когда родители поставили Сержа перед фактом, обязав его жениться на Алине, тот пытался воспротивиться. Она была ему другом, он уважал ее, был с нею по‑братски нежен, но известие, что его хотят видеть ее мужем, поразило его. Покоряться воле родных он не собирался, о чем и сообщил Светлане, предлагая обвенчаться тайно.
Однако Светлана тогда уже не была столь ветреной, как несколько лет назад. Ей минуло девятнадцать, отмучился после тяжелой болезни отец, и Светлане пришлось многие заботы взвалить на свои плечи, жалея мать. И денег после смерти отца совсем не стало: даже нечем было платить Надиным учителям и гувернантке – сестру пришлось устроить в Смольный. Это были очень трудные времена, заставившие Светлану резко повзрослеть и начать смотреть на многие вещи иначе.
Она отказала Сержу. И убедила его жениться на Алине. Ведь он сам был тогда студентом, не имел за душою ровным счетом ничего, и лишись он помощи родителей, ему даже учебу было бы оплачивать нечем. Что он станет делать и на что жить? А кто позаботился бы со временем о его родителях и младших сестрах?
Видимо, и любила она его не столь сильно, раз уговаривала жениться на другой.
А вскоре после свадьбы друзей Светлана встретила Павла. Именно с ним она поняла, что ее чувства к Сержу были детским увлечением, и только. И оттого ей становилось мучительно стыдно перед Сержем – в те минуты, по крайней мере, когда она о нем вообще вспоминала. Потому она и увиливала всеми возможными способами от встречи с друзьями детства: и без того она считала себя предательницей по отношению к Сержу, а если он еще и увидит, как счастлива она с мужем… нет уж, пусть лучше считает, что ее замужество тоже было вынужденным.
Светлана избегала друзей ровно до того момента, пока счастье не кончилось. Она долго и болезненно приходила в себя после смерти Ванечки. Всю ту зиму, пока она не жила, а существовала в их с Павлом петербургском доме – в одиночестве и почти никуда не выбираясь, – ей приходили письма от Алины. Переписывались они и прежде, но, узнав о ее горе, Алина и вовсе стала писать ей по два раза на неделе, не уставая зазывать в Горки. И однажды Светлана согласилась.
А приехав – оттаяла. Она никогда не задумывалась прежде, сколь дороги ей эти места, где прошло ее детство, и что по‑настоящему счастлива она была только здесь. Когда ее жизнь еще не была омрачена потерей близких и заботами взрослой жизни.
Что до Сержа – она полагала, что прошло достаточно времени, чтобы им обоим забыть о детской любви и обещаниях. У Гриневских росли две прелестные дочери, и со стороны они выглядели на редкость дружной и счастливой семьей. Со стороны. Сблизившись с ними вновь, Светлана поняла, что, несмотря на прошедшие годы, чувства Сержа к ней совершенно не переменились. Точно так же было ясно, что к жене своей он по‑прежнему не испытывает ничего, кроме дружеского уважения. А Алина… когда Светлана, обескураженная своим открытием, сорвалась сбежать прочь из Горок, Алина остановила ее, вызвав на откровенный разговор, в котором описала суть своего замужества.
Когда Алина со свойственными ей прямотой и цинизмом рассказывала, что не пускает Сержа в свою спальню с самого рождения младшей дочери, что страдает она из‑за отсутствия чувств к мужу и что жалеет его, – не поверить ей было невозможно. Однако ежели они не затрагивали эту тему в разговорах достаточно продолжительное время, в душу Светланы вновь начинали закрадываться сомнения: что, если Алина лишь внешне так спокойна? Быть может, она и впрямь не испытывает к мужу ярких чувств, но какая женщина сумеет терпеть рядом с собой ту, которую ей явно предпочли?
Разве что такая необыкновенная, как Алина, и сумеет…
И все же мысль, что она делает больно подруге, приводила Светлану в столь сильное волнение, что она едва удерживалась порой, чтобы не уехать из Горок тотчас – раз и навсегда.
Вот и теперь, задумавшись об этом, Светлана с сомнением, силясь понять, что на душе у этой женщины, тайком ее разглядывала.
– Алина, ты любила Сержа хоть когда‑нибудь? – в этой же задумчивости спросила она.
Та хмыкнула, удивленная таким вопросом. О Серже они разговаривали еще реже, чем о детях.
– Как тебе сказать, ma chère… когда моя маменька поставила меня перед необходимостью замужества, мне был дан выбор: Серж или один старинный приятель батюшки, у которого на тот момент было уже трое внуков от первого брака, лысина во всю голову и гнилые зубы. И тогда я решила, – она подавила смешок, – что лучше буду любить Сержа. Впрочем, я и тогда понимала, что любовь – это такое понятие… эфемерное. Его не пощупаешь, не потрогаешь, не продашь и не купишь. У меня большое подозрение, что людям просто удобнее прикрывать свои низменные порывы книжным словом «любовь».
– Ох, ты ошибаешься! – горячо возразила ей Светлана. – Даст Бог, ты сама поймешь когда‑нибудь, как сильно ошибаешься!
Алина глухо рассмеялась и повернулась в своем кресле к Светлане, подперев голову рукой и снова глядя на нее с жалостью, как на неразумное дитя.
– Едва ли, ma chère. Можешь поверить на слово: меня это не интересует. – Она подалась вперед, с заботою стряхивая с юбки Светланы крошки пепла. – У меня есть мои девочки, мои болонки. Есть ты и есть Серж, который, так или иначе, все равно часть моей жизни. Мне этого вполне хватает.
Светлана слабо улыбнулась, отметив, что мужа она назвала после болонок. Никогда ей не понять Алину.
И тут снова скрипнула калитка. Алина обернулась на звук первой, а вскоре из темноты вышел к ним младший Рейнер, сосед. Точнее, даже выбежал – он тяжело дышал после бега, выглядел крайней взволнованным и сбивчиво пытался что‑то сказать.
– Светлана Дмитриевна… Алина Денисовна… – Он, несмотря на свой вид, все же пытался изображать галантность и почти светски раскланялся с обеими дамами. А после снова заговорил со Светланой: – Разрешите отправить вашего слугу на телеграф – необходимо послать за полицией. Там, на озере, кое‑что произошло…
За его спиной притих племянник Грегора, Максим, и было видно, что мальчик не на шутку напуган.
Глава 10
– Переигрывает Зойка. Тут слезу бы лучше тихонько пустить, а не руки заламывать. Слышишь, Степ?
Сестра Варя пихнула Кошкина локтем, чтобы он взглянул на сцену, и тот вынужден был признать:
– Слышу, слышу.
Давали сегодня «Отелло», а Дездемону играла Зоя Ясенева, светило Александринского театра, которую сестрица Кошкина так запросто назвала Зойкой. Впрочем, Зойка действительно переигрывала.
– А тут, наоборот, амусьен нужно показать, – не унималась Варя.
– Чего показать?
– Эмоцию, говорю, показать! Амусьен!
Кошкин ничего ей не ответил. Он знал, что эту постановку Варя смотрела уже раз пятнадцать, наизусть знала текст, а некоторые особенно любимые сцены вполголоса проговаривала вместе с актерами. Но лучше бы она это время потратила на прилежное выполнение уроков – и по французскому в том числе.
– Нет, плохо сегодня играют, – сдалась Варя и потеряла интерес к происходящему. – Вот меня бы туда, на сцену…
– О да, весь зал аплодировал бы стоя, – поддел Кошкин.
А Варя неожиданно обиделась:
– Злой ты, Степа! Вот сбегу я от вас, подамся в Москву, в театр, а когда мне сам император станет медаль вручать – вот тогда и посмотрим…
– Хворостиной ты пониже спины получишь, а не медаль от императора. Пьесу лучше смотри!
Варя надулась и лишь буркнула:
– Да что там смотреть – ее задушили уже почти…
– Молодые люди, будьте любезны – чуточку потише! Такой драматичный момент… – шикнули на них с задних рядов, и брат с сестрой вынуждены были замолчать.
Подперев рукою голову, Кошкин какое‑то время наблюдал, как душат несчастную Дездемону, но вскоре, поморщившись, отвернулся. Что на службе, что в театре – одно и то же… Всюду какие‑то страсти, какие‑то нелепые принципы и обиды, ради которых люди – вполне вменяемые с виду – находили возможным убивать друг друга. Ломая собственные жизни и жизни своих родных, не говоря уж о жертвах. Кошкин не считал себя великим гуманистом, но глядеть на это еще и в театре ему было тошно.
Мысли плавно перетекли на графиню Раскатову и ее покойного мужа. Все‑таки Шекспир воистину был знатоком человеческих душ и тысячу раз прав: ежели найден труп, то первым делом следует обратить внимание на супруга или супругу покойного. Однако в Горках эта схема, похоже, дала сбой. Графиня и впрямь вела себя странно, но чем более Кошкин думал об этом деле, тем более убеждался, что графа убил князь Боровской. Тот добивался расположения графини – безуспешно скорее всего, потому обманом поселился в ее доме; когда же нежданно‑негаданно туда явился законный муж Раскатовой, то юный князь сам же затеял с ним ссору, в результате которой граф был застрелен. Дело казалось Кошкину до омерзения простым, обыденным и не требующим никаких умственных усилий.
Закончив сегодня в Горках, он тотчас вернулся в Петербург, дождался аудиенции и доложил о ходе следствия лично графу Шувалову. Тот во всем его поддержал и санкционировал допрос юного Боровского, а если понадобится, то и немедленный арест. Проблема была лишь в том, что по постоянным адресам найти Леонида Боровского пока не удалось. Но статус и общественное положение молодого князя были не те, чтобы пуститься в бега по всей Руси. И гордость опять же – аристократов всегда подводит гордость. Наверняка он затаился где‑то неподалеку от места преступления, и не сегодня так завтра его найдут.
Лучше, конечно, чтоб сегодня. Для того Кошкин и оставил в Горках патруль из трех человек: устроившись в укромном месте, те должны были наблюдать за домом художника. Потому что, как бы ни старался младший Рейнер обаять следователей, наиболее вероятным Кошкину все же виделось, что Боровской, убив графа, подался в дом своего приятеля, где и укрылся.
Дездемону благополучно задушили, пьеса кончилась, и Кошкин поспешил присоединиться к бурным аплодисментам. Еще минуту спустя Варя отстала, встретив подругу, Кошкин же начал пробираться за кулисы.
Эти коридоры, где всегда царили суета, толкотня, переполох и неразбериха, Кошкин давно знал как свои пять пальцев. Перед каждым спектаклем, когда переполох и неразбериха достигали своего апогея, казалось, что в этот‑то раз постановка точно с треском провалится, потому как у режиссера истерика, директор глотает сердечные капли, а реквизиторы угрожают уволиться, но все равно дошивают костюм прямо на артистке. А все оттого, что у ведущего актера запой, а ведущая актриса опять хочет сбежать с любовником (иногда, впрочем, бывало наоборот). Удивительное дело, но и при таком раскладе спектакли почти всегда проходили сносно, а иногда и блестяще. Как так получалось? Кошкину никогда не понять…
