Эмиль, или о воспитании бесплатное чтение
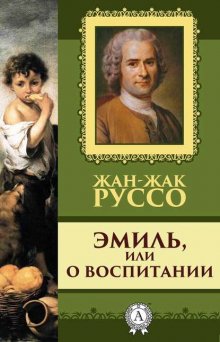
КНИГА ПЕРВАЯ
Все хорошо, выходя из рук Творца мира; все вырождается в руках человека. Он заставляет почву питать несвойственные ей произведения, дерево – приносить несвойственные ему плоды. Он идет наперекор климатам, стихиям, временам года. Он уродует свою собаку, лошадь, своего раба. Он все ставит вверх дном, все искажает. Он любит безобразие, уродов, отворачивается от всего естественного, и даже самого человека надо выдрессировать для него, как манежную лошадь, не коверкать на его лад, подобно садовому дереву.
Иначе все пошло бы еще хуже. При настоящем порядке вещей, человек, с самого рождения предоставленный самому себе, был бы самым уродливым существом среди других людей. Предрассудки, авторитет, нужда, пример, все общественные учреждения, охватившие нас, заглушат в нем природу, и ничего не дадут взамен ее. С природой его было бы тоже, что бывает с деревцом, которое случайно вырастает среди дороги и которое прохожие скоро губят, задевая за него и заставляя гнуться на все стороны.
К тебе обращаюсь я, нежная и заботливая мать, сумевшая уклониться от большой дороги, и защитить молодое деревцо от столкновений с людскими мнениями. Лелей и поливай молодое растение, пока оно не завяло; плоды его будут современен твоею отрадою.
Первоначальное воспитание важнее других, и неоспоримо лежит на женщинах: если бы Творец вселенной желал предоставить его мужчинам, он наделил бы их молоком, для кормления детей. Поэтому в трактатах о воспитании надо обращаться преимущественно к женщинам: кроме того, что им сподручнее наблюдать за воспитанием, чем мужчинам, и что они всегда более влияют на него, но и успех дела им гораздо дороже, так как большинство вдов остаются в зависимости от своих детей, и тогда живо чувствуют хорошие и дурные последствия методы воспитания. Законы, которые всегда так много пекутся об имуществе и так мало о людях, потому что имеют целью спокойствие, а не добродетель, не дают достаточно власти матерям. Между тем, на них можно больше положиться, чем на отцов; обязанности их тяжелее; заботы необходимее для семьи. Впрочем, нужно объяснить, какой смысл я придаю слову мать, что и делается ниже.
Мы родимся слабыми, нам нужны силы; мы родимся лишенными всего, нам нужна помощь; мы родимся бессмысленными, нам нужен рассудок. Все, чего мы не имеем при рождении и в чем нуждаемся впоследствии, дается нам воспитанием.
Это воспитание дается нам или природою, или людьми, или внешними явлениями. Внутреннее развитие наших способностей и органов составляет воспитание природою; уменье пользоваться этим развитием воспитывают в нас люди; а приобретение собственного опыта на основании воспринимаемых впечатлений составляет воспитание внешними явлениями. Следовательно, каждый из нас воспитывается троякого рода учителями. Ученик, в котором различные уроки эти ведут вражду, воспитан дурно и никогда не будет в ладу с самим собою. Тот только, в ком они сходятся и идут к одним общим целям, воспитан хорошо и будет жить последовательно.
Между тем, из этих трех различных воспитаний, воспитание природою вовсе от нас не зависит; а воспитание внешними явлениями зависит только в известной мере. Воспитание людьми – единственное, которое действительно находится в нашей власти; да и тут власть наша сомнительна: кто может надеяться вполне управлять речами и поступками всех людей, окружающих ребенка?
Поэтому, как только воспитание делается искусством, удача его почти невозможна, ибо содействие, необходимое для успеха, не зависит в этом случае от людей. При больших усилиях можно более или менее приблизиться к цели; но для полного достижения ее нужно счастье.
Цель тут природа. Так как содействие трех воспитаний необходимо для совершенства целого, то очевидно, что согласно тому, на которое мы не имеем влияния, надо направлять оба другие. Но, может быть, слово природа имеет слишком неопределенный смысл; нужно попробовать определить его здесь.
Природа, говорят нам, есть не что иное, как привычка. Что это значит? Разве нет привычек, которые приобретаются только благодаря принуждению, и никогда не заглушают природы? Такова, например, привычка растений, которым препятствуют расти прямо. Растение, предоставленное самому себе, сохраняет положение, которое его принудили принять; но растительный сок не переменяет от того своего первоначального направления, и, если растение не перестает жить, продолжение его делается снова вертикальным. То же самое бывает и с людскими наклонностями. Пока мы остаемся в одном положении, мы можем сохранять наклонности, явившиеся вследствие привычки и вовсе несвойственные нам; но как скоро положение изменяется, привычка исчезает и природа берет верх. Воспитание, разумеется, есть не что иное, как привычка. Между тем, разве нет людей, у которых изглаживается и утрачивается воспитание, тогда как у других оно сохраняется? Откуда такое различие? Если название природы нужно ограничить привычками, согласующимися с природою, то не стоило и говорить подобной галиматьи.
Мы родимся чувствительными, и с самого рождения окружающие предметы производят на нас различные впечатления. Как скоро мы начинаем, так сказать, сознавать наши ощущения, является расположение искать или избегать предметов, которые их производят.[1] Эта склонность развивается и укрепляется, по мере того, как мы становимся чувствительнее и просвещеннее; но, стесняемая нашими привычками, она более или менее изменяется, в зависимости от наших мнений. До такого изменения, склонности эти составляют то, что я называю в нас природой.[2]
Следовательно, нужно было бы все сводить к этим первоначальным склонностям, что было бы возможно, если б три рода воспитания нашего были только различны: но что делать, когда они противоположны; когда вместо того, чтобы воспитывать человека для него самого, его хотят воспитывать для других? Тут согласие невозможно. Необходимость бороться или с природою, или с общественными учреждениями, заставляет сделать или человека, или гражданина, – так как того и другого вместе сделать нельзя.
Естественный человек, человек природы, весь заключается в самом себе; он есть численная единица, абсолютное целое, имеющее отношение только к самому себе, или к себе подобному. Гражданский же человек есть только дробная единица, зависящая от знаменателя, и значение которой заключается в ее отношении к целому, т. е. общественному организму. Хорошие общественные учреждения всего лучше изменяют человека, уничтожают в нем абсолютное существование, заменяют его относительным и переносят его Я на общую единицу; так что каждый частный человек не считает себя единицей, а только частью единицы, и чувствителен только в целом. Гражданин Рима не был ни Каем, ни Люцием: он был римлянином. Регул считал себя кареагенянином, и в качестве иностранца отказывался заседать в римском сенате: нужно было для этого приказание кареагенянина. Он негодовал на желание спасти его жизнь. Он победил, и, торжествующий, вернулся умирать в мучениях. Мне кажется, что все это мало похоже на людей, которых мы знаем.
Педеарет является в совет трехсот. Его не выбирают, и он уходит вполне счастливый, что в Спарте нашлось триста человек более достойных, нежели он.
Спартанка, мать пяти сыновей, ждет вестей с поля битвы. Является илот. Трепещущая, она обращается к нему за вестью: ваши пять сыновей убиты. Презренный раб, разве я тебя об этом спрашиваю? Мы выиграли сражение! Мать бежит в храм и приносит благодарение богам.
Это граждане!
Тот, кто при гражданском строе хочет дать первое место природным чувствам, сам не знает, чего хочет. В вечном противоречии с самим собою, в вечном колебании между своими наклонностями и обязанностями, он не будет ни человеком, ни гражданином, он будет негодным и для себя, и для других. Это будет один из людей нашего времени, француз, англичанин, буржуа, – т. е. ничего не будет.
Из этих двух необходимо противоположных целей проистекают два противоположных образа воспитания: один общественный и общий, другой частный и семейный.
Если хотите получить понятие об общественном воспитании, прочитайте «Республику» Платона. Это вовсе не политическое сочинение, как думают люди, судящие о книгах по заглавиям. Это прекраснейший из всех трактатов о воспитании.
Общественное воспитание не существует более, и не может существовать, потому что там, где нет больше отечества, не может быть и граждан. Эти два слова отечество и гражданин должны быть вычеркнуты из новейших языков.
Я не считаю воспитательными заведениями смешные учреждения, называемые colleges. Я не говорю также о светском воспитании, способном производить только людей двуличных, которые, по-видимому, все думают о других, а на деле думают только о себе.
Остается семейное или естественное воспитание; но чем будет для других человек, воспитанный единственно для самого себя? Если б можно было соединить в одно двойную цель, которой мы задаемся, то, уничтожив в человеке противоречия, мы уничтожили бы серьёзное препятствие к его счастью. Для суждения об этом, нужно было бы видеть его вполне развитым; надо было бы проследить его склонности, его успехи, его развитие; словом, нужно было бы ознакомиться с естественным человеком. Я надеюсь, что чтение этой книги несколько облегчит такое исследование.
В общественном строе, где все места определены, каждый должен быть воспитан для своего места. Если человек, воспитанный по своему званию, выходит из него, он становится ни на что негодным. Воспитание полезно настолько, насколько состояние родителей согласуется с их званием; во всех других случаях оно вредно для ученика, уже по одним предрассудкам, которые вселяет в него. В Египте, где сын был обязан наследовать званию отца, воспитание имело, по крайней мере, верную цель; но у нас, где только классы остаются постоянными, а люди в них беспрерывно перемещаются, никто не может знать, что, подготовляя сына к своему званию, он не вредит ему.
При естественном строе, где все люди равны, общее для всех призвание – быть человеком, а кто хорошо воспитан для этого, тот не может дурно выполнять должностей, которые могут ему выпасть на долю. Пусть назначают моего воспитанника в военную службу, в духовное звание, в адвокаты, мне все равно. Природа, прежде всего, призывает его к человеческой жизни. Жить, вот ремесло, которому я хочу его научить. Выйдя из моих рук, он не будет, – сознаюсь в том, – ни судьей, ни солдатом, ни священником; он будет, прежде всего, человеком, но, при случае, сумеет быть не хуже всякого другого всем, чем человек должен быть; и куда ни бросит его судьба, он везде будет на своем месте.
Настоящая наша наука заключается в изучении условий человеческой жизни. Тот из нас, кто лучше всех умеет переносить счастье и несчастье этой жизни, лучше всех воспитан, по-моему; из чего следует, что настоящее воспитание заключается больше в опытах, чем в правилах. Воспитание наше начинается с нашей жизнью; наш первый учитель – кормилица. Самое слово воспитание имело, у древних, иной смысл, которого мы ему больше не придаем; оно значило вскормленные. Следовательно, воспитание, обучение и образование – такие же различные вещи как нянька, наставник и учитель. Но эти различия дурно понимаются, и чтобы хорошо всегда вести ребенка, нужно дать ему одного только руководителя.
Итак, следует обобщить наши взгляды и видеть в воспитаннике отвлеченного человека, человека, подверженного всем случайностям жизни. Если б человек родился с уверенностью никогда не покидать родной страны; если б времена года не менялись; если б состояние его было навсегда обеспечено, настоящий порядок был бы, в известных отношениях, хорош. Но, при изменчивости людских положений, при тревожном и беспокойном духе нашего века, который, при каждом новом поколении, перевертывает все вверх дном, можно ли придумать более безумную методу, как та, благодаря которой воспитывают ребенка так, как будто ему предстоит никогда не выходить из комнаты и вечно быть окруженным прислугою? Если несчастный сделает один шаг, если он опустится одною ступенью ниже, он пропал. Это значит не приучать ребенка переносить горе, а развивать его восприимчивость к горю.
Недостаточно заботиться о сохранении своего ребенка; нужно научить его само сохраняться, переносить удары судьбы, презирать роскошь и нищету, жить, если понадобится, в снегах Исландии и на раскаленных утесах Мальты. Как бы ни предохраняли вы его от смерти, ему все-таки надо умереть; и если заботы ваши не сделаются причиной его смерти, они будут, тем не менее, неуместны. Самое важное – научить жить. Жить же не значит дышать, а действовать; это значит пользоваться органами, чувствами, способностями, всеми частями нашего существа. Не тот человек дольше жил, который может насчитать больше годов жизни, а тот, который больше чувствовал жизнь.
Вся наша житейская мудрость заключается в раболепных предрассудках; все наши обычаи не что иное, как повиновение, стеснение и насилование. Человек родится, живет и умирает в рабстве: при рождении, его затягивают свивальниками; после смерти, заколачивают в гроб; до тех пор, пока он сохраняет человеческий образ, он скован нашими учреждениями.
Говорят, многие повивальные бабки воображают, что, выправляя голову новорожденных детей, могут придать ей лучшую форму: и это терпится! Головы наши, видите ли, дурно устроены Творцом нашим: нужно их переделать с внешней стороны повивальным бабкам, с внутренней – философам.
«Едва только ребенок выходит из чрева матери и едва получает свободу двигать членами, как на него налагают новые оковы. Его упеленывают, кладут с неподвижною головою, вытянутыми ногами и руками. Он завернут в разного рода пеленки и свивальники, которые не позволяют ему переменить положения. Счастлив он, если его не затягивают до того, чтобы прекратить возможность дышать, и положат на бок, дабы мокроты, которые должны выходить ртом, могли стекать сами, собою, так как он не может свободно повернуть голову на бок, чтобы способствовать их стоку».[3]
Новорожденному ребенку необходимо протягивать члены и двигать ими, чтобы вывести их из онемения, в котором они находились так долго, оставаясь согнутыми. Их протягивают, правда, но мешают им двигаться; голову даже окутывают чепчиком: подумаешь, люди боятся, как бы ребенок не подал признака жизни.
Таким образом, полагается непреодолимая преграда движениям тела, стремящегося к росту. Ребенок беспрерывно делает бесполезные усилия, истощающие его силы и задерживающие их рост. Он был менее стеснен и менее сдавлен до появления своего на свет.
Бездействие, принужденное состояние, в котором оставляют члены ребенка, только стесняет обращение крови и отделение слизей, мешает ребенку укрепляться, расти и уродует его телосложение. В тех местностях, где не принимают таких сумасбродных предосторожностей, люди все высоки, сильны, хорошо сложены. Страны, где пеленают детей, кишат горбатыми, хромыми, кривоногими, страждущими английскою болезнью и изуродованными различным образом. Из боязни, чтобы тело не повредилось от свободных движений, спешат изуродовать его, укладывая в тиски.
Может ли такое жестокое принуждение не действовать на нрав, также как и на темперамент? Первое ощущение детей – ощущение боли, страдания: все необходимые движения встречают одни только препятствия. Скованные хуже преступника, дети делают напрасные усилия, раздражаются, кричат. Вы говорите, что первый звук, издаваемый ими, плач? Да имея свободным один только голос, как же не воспользоваться им для жалоб? Они кричат от страдания, которое вы им причиняете: скомканные таким образом, вы бы кричали громче их.
Откуда явился такой безрассудный обычай? от неестественности жизни. С той поры, как матери, пренебрегая своей первой обязанностью, не захотели больше кормить детей, сделалось необходимым поручать их наемным женщинам, которые, очутившись, таким образом, матерями чужих детей, заботятся лишь об облегчении себе труда. За ребенком, оставленным на свободе, нужен беспрерывный надзор: но когда ребенок крепко связан, его можно кинуть в угол, не обращая внимания на его крик. Не было бы только улик в небрежности кормилицы, не сломал бы только себе питомец ни рук, ни ног, а то велика, в самом деле, важность, что он останется уродом на всю жизнь! Между тем милые матери, которые, избавившись от своих детей, весело предаются городским развлечениям, не знают, какому обращению подвергается ребенок у кормилиц.
Говорят, что дети, оставленные на свободе, могут принять неловкое положение и делать движения, могущие повредить правильному развитию членов. Это – пустое умствование, которого опыт никогда не подтверждал. Между множеством детей, выкармливаемых у народов более рассудительных, чем мы, при полной свободе двигать членами, не замечается ни одного, который бы ранил, или искалечил себя: дети не в состоянии придать своим движениям силы, которая могла бы сделать эти движения опасными; а если ребенок принимает неестественное положение, то боль тотчас же заставляет его переменять такое положение.
Мы еще не пеленаем щенят и котят, а заметно ли, чтобы они испытывали какое-нибудь неудобство от этой небрежности? Ребенок тяжелее; согласен: но зато он и слабее. Он едва может двигаться; каким же образом искалечит он себя? Если его положить на спину, он умрет в этом положении, как черепаха, не будучи никогда в состоянии поворотиться.
Женщины, не довольствуясь тем, что перестали сами кормить детей, не хотят и производить их; а вместе с этим является желание делать бесполезную работу, для того, чтобы постоянно начинать ее сызнова. Таким образом стремление к размножению рода человеческого обращается в ущерб этому размножению.
Часто спорят о том, все ли равно для ребенка быть вскормленным молоком матери, или чужим. Я считаю этот вопрос, судьями которого должны быть медики, решенным по желанию женщин, и – что касается лично до меня – тоже думал бы, что лучше ребенку сосать молоко здоровой кормилицы, чем болезненной матери, если б для него могла существовать какая-либо новая опасность от крови, из которой он рожден.
Но разве вопрос должен рассматриваться только с физической стороны? и разве ребенок меньше нуждается в заботах матери, нежели в ее молоке? Другая женщина, даже животное могут дать ему молоко, в котором отказывает ему мать; но заботливость материнская незаменима. Женщина, которая кормит чужого ребенка, вместо своего, дурная мать: как же может она быть хорошею кормилицею? Она могла бы сделаться ею, мало-помалу, но для этого нужно, чтобы привычка изменила природу; а ребенок, за которым дурной уход, успеет сто раз погибнуть прежде, нежели кормилица почувствует к нему материнскую нежность.
Необходимость разделить свои материнские права должна бы одна отнять решимость у всякой чувствительной женщины, дать кормить своего ребенка другой. Можно ли ей спокойно видеть, что ее ребенок любит другую женщину столько же, и даже больше, чем ее; чувствовать, что нежность к родной матери – милость, а нежность к подставной матери – долг?
Чтобы поправить эту беду, ребенку внушают презрение к кормилице, обращаясь с нею как со служанкой. Когда дело кормилицы окончено, ребенка отнимают от нее и стараются отбить у нее охоту навещать питомца. По прошествии нескольких лет, он ее больше не видит, не знает. Мать, надеющаяся заменить ее и жестокостью искупить свое невнимание, ошибается. Вместо того чтобы сделать нежного сына из бесчувственного питомца, она поощряет его к неблагодарности, научает точно так же презирать, со временем, ту, которая произвела его на свет, как и ту, которая выкормила его своим молоком.
Как бы настойчиво поговорил я об этом, если б не так грустно было тщетное доказывание самых понятных вещей. От этого вопроса зависит больше, нежели думают. Если хотите всех подвинуть на исполнение первейших обязанностей, начните с матерей: вас удивят перемены, произведенные вами. Все вытекает, постепенно, из этой основной развращенности: весь нравственный строй нарушается; естественные чувства потухают во всех сердцах; семьи принимают менее оживленный вид; трогательное зрелище возникающей семьи не привлекает более мужей, не внушает более уважения посторонним; привычка не скрепляет уз крови; нет более ни отцов, ни матерей, ни детей, ни братьев, ни сестер; все едва знакомы между собою: могут ли они любить друг друга? Каждый думает только о себе. Когда печальное уединение ждет дома, нужно же пойти повеселиться в другое место.
Но пусть только матери соблаговолят сами кормить детей, нравы изменятся сами собою, природные чувства проснутся во всех сердцах; населенность государства опять начнет увеличиваться. Прелесть семейной жизни – лучшее противоядие дурным нравам. Возня детей, которую считают докучливою, становится приятною. Она делает отца и мать более необходимыми, более дорогими друг другу. Когда семья оживлена, семейные заботы составляют самое дорогое занятие для жены и самое приятное развлечение для мужа. Пусть только женщины снова станут матерями, мужчины снова станут отцами и мужьями.
Напрасные речи! Женщины перестали быть матерями, и не хотят больше быть ими. Если б они даже захотели этого, то едва ли бы смогли; теперь, когда уже установился противный обычай, каждой пришлось бы бороться с противодействием всех остальных.
Иногда встречаются, впрочем, молодые женщины, которые, осмеливаясь презирать владычество обычая, с добродетельною отважностью выполняют сладкий долг, налагаемый на них природою. Дай Бог, чтобы число их увеличивалось, привлекаемое наградою, ожидающею тех, кто выполняет его! Основываясь на выводах, получаемых из самого простого рассуждения, и на наблюдениях, которым я не встречал опровержения, я смею обещать этим достойным матерям прочную и постоянную привязанность со стороны мужей, действительно сыновнюю нежность со стороны детей, уважение и почтение со стороны общества, счастливые роды, прочное и крепкое здоровье и, наконец, удовольствие видеть, со временем, что дочери следуют их примеру.
Нет матери, нет и ребенка. Между ними обязанности взаимные; и если одна сторона дурно выполняет эти обязанности, то другая будет так же ими пренебрегать. Ребенок должен любить мать, прежде чем сознает, что обязан любить ее. Если голос крови не подкрепляется привычкою и заботами, он заглушается в первых же годах, и сердце так сказать умирает прежде, нежели пробудится. Вот уже с первых шагов мы расходимся с природою.
С нею расходятся еще и другим, противоположным путем, когда вместо пренебрежения материнскими заботами, женщина доводит их до крайности; когда она делает из своего ребенка идола; когда она увеличивает и поддерживает в нем слабость, не желая дать ему чувствовать ее, а, надеясь изъять его из-под законов природы, удаляет от него тяжелые впечатления, не помышляя о том, сколько несчастий и опасностей готовит она ему в будущем, взамен некоторых неудобств, от которых избавляет на минуту, и какая варварская предосторожность длить детскую слабость до трудовой норы взрослых людей! Фетида, чтобы сделать своего сына неуязвимым, погрузила его в воды Стикса. Аллегория эта ясна и прекрасна. Но жестокие матери, о которых я говорю, поступают иначе: изнеживая детей своих, они тем самым подготовляют их к страданиям; они раскрывают все их поры к восприятию разного рода болезней, добычею которых дети непременно должны будут сделаться, когда вырастут.
Наблюдайте природу, и следуйте по пути, который она вам указывает. Она постоянно упражняет детей, укрепляет их темперамент испытаниями всякого рода; она рано дает им знать, что такое труд и боль. От зубов делается у них лихорадка; острые колики производят конвульсии; долгие кашли душат их; глисты мучат; различные худосочия бродят и производят опасные сыпи. Весь почти первый возраст проходит в болезнях: половина всех детей умирает до восьмилетнего возраста.
Вот правило природы. Зачем мешаете вы ей действовать? Разве вы не видите, что, думая поправлять природу, вы уничтожаете ее дело. Действовать извне так, как она действует внутри, значит, по-вашему, усилить опасность, а это, напротив того, значит уменьшить ее. Опыт показывает, что изнеженных, детей умирает еще больше, чем других. Если только не превышать меры детских сил, то меньше рискуешь употребляя в дело эти силы, нежели щадя их. Итак, приучайте детей к неудобствам, которые они должны будут, со временем, переносить. Сделайте их тело нечувствительным к переменчивости погоды, климатов, стихий, к голоду, к жажде, к усталости: окуните их в воды Стикса. Пока тело ни к чему не привыкло, его легко приучить к чему угодно, не подвергая опасности; но как только оно сформировалось, всякая перемена становится для него опасною. Фибры ребенка, мягкие и гибкие, без труда привыкают к чему угодно; фибры взрослого человека, более затверделые, могут только насильственно изменить свою привычку. Ребенка можно сделать крепким, не подвергая опасности его жизни и здоровья, а если б даже и был какой-нибудь риск, то все-таки не следует колебаться. Так как риск этот неразлучен с человеческой жизнью, то не лучше ли перенести его на то время жизни, когда он наименее опасен?
Вырастая, ребенок становится дороже. Жалко становится не только его самого, но и тех забот, которых он стоил. Следовательно, заботясь о его сохранении, нужно преимущественно думать о будущем. Если жизнь становится все дороже соразмерно с возрастом человека, то не безумие ли избавлять детство от некоторых зол, накопляя их к зрелой поре?
Участь человека – вечно страдать. Счастливо детство, знающее одни только физические боли! Боли эти несравненно менее жестоки, чем другие, и гораздо реже заставляют нас отказываться от жизни. От боли, производимой подагрою, не отваживаются на самоубийство: душевные боли одни порождают отчаяние. Мы жалеем о судьбе ребенка, а должны бы жалеть о своей судьбе. Мы сами порождаем величайшие бедствия свои.
Ребенок кричит при рождении; первая пора детства его проходит среди плача. Чтобы успокоить его ц заставить замолчать, пускают в ход то качанье и ласки, то угрозы и побои. Мы или делаем то, что нравится ребенку, или требуем от него того, что нам нравится, – средины нет: он должен или приказывать, или повиноваться. Поэтому первыми его идеями являются идеи господства и рабства. Не умея еще говорить, он уже приказывает; не будучи в состоянии действовать, он уже повинуется; а иногда терпит наказание прежде, нежели мог узнать свою вину, и даже прежде, нежели мог провиниться. Этим путем зароняют в молодое сердце страсти, которые потом сваливают на природу, и. постаравшись сделать его злым, сетуют, что ребенок стал зол.
Шесть или семь лет проводит дитя таким образом в руках женщин, постоянно оставаясь жертвою их капризов и своих собственных. Память его обременяется бездною слов, которых он не в состояния понять, и представлений о предметах, которые ему ни на что не годны. Заглушив в нем все природное посредством возбуждения страстей, искусственное создание это вручают воспитателю, доканчивающему развитие искусственных зародышей, которые он находит уже сформированными, и научающему ребенка всему, кроме познания самого себя, уменья извлекать удовлетворение из самого себя, уменья жить и быть счастливым. Наконец, когда этот ребенок, раб и тиран, исполненный знания и лишенный здравого смысла, одинаково расслабленный и телом и душою, является в свет и выказывает свою тупость, свое высокомерие и все свои пороки, люди начинают оплакивать человеческое ничтожество и испорченность. Это ошибка: человек этот создан нашей фантазией; естественный же человек совсем мной.
Если хотите сохранять в нем естественность, берегите ее с той минуты, как ребенок явится на свет; не покидайте его, пока он не вырастет: без того вы никогда не добьетесь успеха. Точно так, как настоящею кормилицей должна быть мать, настоящим воспитателем должен быть отец. Оба они должны условиться в порядке занятий, так же как и в системе. Из рук матери ребенок должен перейти в руки отца. Рассудительный, хотя и ограниченный, отец воспитает ребенка лучше, чем самый искусный наставник в мире: усердие успешнее заменит талант, нежели талант усердие.
А дела, служба, обязанности?.. Ах, да! Обязанности отца должны, вероятно, быть последними из всех обязанностей?
Когда читаешь у Плутарха, что ценсор Катон, с такою славою управлявший Римом, сам воспитывал своего сына с колыбели и постоянно присутствовал, когда кормилица, т. е. мать, обмывала ребенка; когда читаешь у Светония, что Август, властитель вселенной, сам учил своих внуков писать, плавать, сообщал им элементарные научные сведения и беспрерывно был с ними, то невольно смеешься над этими наивными чудаками. Надо полагать, что они занимались этим вздором только потому, что были слишком ограниченны для занятий великими делами великих людей нашего времени.
Нечего дивиться, что мужчина, жена которого не захотела кормить плода их союза, не захочет воспитывать его. Если у матери не достанет здоровья, чтобы быть кормилицею, у отца окажется слишком много дел, чтобы быть воспитателем. Дети, удаленные, рассеянные по пансионам, монастырям и коллегиям, утратят привязанность к родительскому дому или, лучше сказать, приобретут привычку не чувствовать привязанности ни к чему. Братья и сестры будут едва знакомы между собою. Может быть, встретившись впоследствии, они будут весьма вежливы друг с другом; но как скоро нет близости между родными, как скоро общество семьи не составляет больше отрады жизни, так является развлечение развратом. Кто же настолько глуп, чтобы не видеть связи всего этого?
Производя и кормя детей, отец исполняет только треть своего долга. Он должен дать роду человеческому людей; он должен дать обществу надежных членов, он должен дать государству граждан. Всякий человек, который может уплатить этот тройной долг и не делает этого, виновен, и бывает, может быть, еще виновнее, если уплачивает его вполовину. Тот, кто не может выполнить обязанностей отца, не имеет права быть им. Никакая бедность, никакие занятия, никакое человеческое величие не избавляют его от обязанности кормить и самому воспитать своих детей. Я предсказываю всякому, у кого есть сердце и кто пренебрегает этими святыми обязанностями, что он долго и горько будет оплакивать свою вину.
Но, что делает этот богач, этот отец, озабоченный делами и принужденный, но его словам, покинуть детей? Он платит другому, чтобы тот взял на себя заботы, которые самому ему в тягость. Продажная душа, неужели ты думаешь за деньги найти другого отца твоему сыну? Не обманывай себя; ты находишь для него даже не учителя, а только лакея, который скоро образует другого лакея.
Много рассуждают о качествах, необходимых для хорошего воспитателя. Первое, какого я потребовал бы от него, – а оно одно заставляет предполагать в нем множество других, – это не быть продажным. Есть такие благородные занятия, которым нельзя отдаваться за деньги, не выказывая себя, тем самым, недостойным их: таково занятие военного; таково занятие воспитателя. Кто же будет воспитывать моего ребенка? Я тебе уже сказал, что ты сам. Я не могу. Ты не можешь! Ну так приобрети себе друга. Другого средства я не вижу.
Чем больше думаешь о роли воспитателя, тем, больше видишь в ней новых трудностей. Ему следовало бы быть воспитанным для своего ученика, прислуге ребенка следовало бы быть воспитанною для своего господина, всем, кто приходит с ним в соприкосновение, быть исполненным именно тех впечатлений, которые они должны сообщить ему. Нужно было бы, восходя от воспитания к воспитанию, зайти Бог весть куда. Как может хорошо воспитать ребенка тот, кто сам не был хорошо воспитан?
Сыщется ли такой редкий смертный, какой нужен для роли воспитателя? Не знаю. Но предположим, что мы нашли это чудо. Рассмотрев то, что он должен делать, мы увидим, чем он должен быть. Я заранее, однако, предвижу, что отец, который поймет, что такое хороший воспитатель, решится обойтись без него: труднее было бы приобрести его, нежели самому им сделаться.
Не будучи способен выполнить самого полезного труда, я отваживаюсь решить более легкую задачу: по примеру многих других, я возьмусь не за дело, а за перо, и вместо того, чтобы сделать то, что нужно, постараюсь сказать это.
Я знаю, что при попытках, подобных моей, автору легко даются системы, которых он не обязан применять на практике, а потому он без труда выводит множество прекрасных правил, совершенно неприменимых к деду. За недостатком же подробностей и примеров, даже и то, что удобоисполнимо в его предложениях, остается бесполезным, если не показано применения к делу.
Поэтому, я решился заняться воображаемым воспитанником, предположив в себе возраст, здоровье, познания и все таланты нужные для воспитателя, – и вести его с самого рождения до той поры, когда он не будет более нуждаться ни в каком руководителе. Такая система предупреждает, кажется, блуждания в мире призраков: как только автор отступит от обыкновенного порядка, он может тотчас же испытать себя на своем воспитаннике; тут он скоро почувствует, или читатель почувствует за него, идет ли он вместе с развитием ребенка и по естественному, для человеческого сердца, пути.
Это-то я и старался делать при всех затруднительных случаях. Чтобы не увеличивать бесполезно объёма книги, я ограничился одним только изложением, когда дело шло о таких принципах, истина которых должна сознаваться каждым. Но что касается правил, требовавших доказательств, то я их все применил к моему Эмилю, или к другим примерам, и подробно показываю, каким образом то, что я излагаю, может быть применено на практике: по крайней мере, таков план, которым я задался. Об успехе же выполнения его предстоит теперь судить читателю.
Вследствие этого я сначала мало говорю об Эмиле, потому что первые мои правила воспитания, хотя и идут вразрез с теми, которые установились всюду, так ясны, что всякому благоразумному человеку трудно не принять их. Но по мере того, как я подвигаюсь вперед, ученик мой, веденный иначе, чем ваши, отличается от обыкновенных детей; для него нужна особая система. Тогда он чаще является на сцену, а в последнее время я ни на минуту не теряю его из виду, до той поры, пока он уже вовсе не нуждается во мне.
Я не говорю здесь о качестве хорошего воспитателя; я их предполагаю известными, и самого себя предполагаю одаренным всеми этими качествами. Прочитав книгу, читатель увидит, как я щедр к самому себе.
Замечу только, что, вопреки общепринятому мнению, воспитатель ребенка должен быть молод и даже так молод, как только может быть разумный человек. Я желал бы, чтоб он сам был ребенком, чтоб он мог сделаться товарищем своего ученика и вызвать его доверие, разделяя его забавы. Между детством и зрелым возрастом слишком мало общего для того, чтобы при большой разнице в летах, могла когда-либо образоваться прочная привязанность. Дети льстят иногда старикам, но никогда не любят их.
Хотят, чтобы воспитатель уже проделал одно воспитание. Это – слишком большое требование; человек может окончить только одно воспитание. Если б для успеха дела необходимо было проделать два воспитания, по какому праву можно было бы взяться за первое?
Имея больше опытности, воспитатель сумел бы лучше действовать, но у него не хватило бы сил. Ито раз настолько хорошо исполнил эту роль, что почувствовал все ее трудности, тот не отважится вторично взяться за нее; а если он дурно исполнил ее в первый раз, то это дурное предзнаменование для второго.
Я сознаюсь, что следить за молодым человеком в течение четырех лет, или вести его в продолжение двадцати пяти – два дела совершенно различные. Вы поручаете воспитателю вашего сына, когда он уже вполне развит; я же хочу, чтоб он имел воспитателя еще до рождения. Ваш молодец может чрез каждое пятилетие менять воспитанников; мой же во всю жизнь будет иметь только одного. Вы отличаете учителя от воспитателя: новая глупость! Разве вы делаете различие между учеником и воспитанником? Детям нужно преподавать одну науку: науку об обязанностях человека; она неделима. Впрочем, преподавателя этой науки я скорее назвал бы воспитателем, нежели учителем, потому что ему следует больше руководить, нежели учить. Он не должен предписывать правил, а должен вести ребенка так, чтоб он сам находил их.
Если нужна такая заботливость для выбора воспитателя, то и ему должно быть позволено выбирать себе воспитанника, в особенности, когда дело идет об образце. Выбор этот не может касаться ни умственных способностей, ни характера ребенка, так как и то и другое узнается только по окончании дела, а я усыновляю ребенка еще до его рождения. Если б я мог выбирать, то выбрал бы не иначе как ребенка обыкновенного ума, такого, каким я себе представляю моего воспитанника. Воспитывать нужно только дюжинных людей; только их воспитание может служить образцом для воспитания им подобных. Другие же воспитываются помимо всяких образцов.
Географические условия имеют значительное влияние на развитие человечества; люди достигают всего, чего они могут достигнуть, только в умеренных климатах. Невыгодность слишком холодных или жарких климатов очевидна. Человек не растет, подобно дереву, в одной стране, чтобы всегда оставаться в ней; а тот, кто отправляется от одного конца земли к другому, подвергается двойным трудностям сравнительно с тем, кто отправляется к той же цели от средины. Француз живет и в Гвинее и в Лапландии; негр же не может жить даже и в Торнео, ни самоед на Бенинском берегу. Кроме того, кажется, что организация мозга менее совершенна у полюсов. Ни у негров, ни у лапландцев нет такого смысла, как у европейцев.[4] Поэтому, если я хочу, чтобы мой воспитанник был обитателем земли, я выберу его в умеренном поясе; во Франции, например, скорее, нежели в другой стране.
На севере люди иного потребляют на неблагодарной почве; на юге они мало потребляют на плодородной почве. Отсюда прометает новая разница, которая делает одних трудолюбивыми, а других склонными к созерцательной жизни. В общественном устройстве мы встречаем образец этой разницы между бедными и богатыми. Первые живут на неблагодарной почве, вторые – на плодородной.
Бедняк не нуждается в воспитании; ремесловое воспитание свое он получает поневоле, а другого у него быть не может; воспитание же, которым наделяет богатого человека его звание, менее пригодно как для него самого, так и для общества. К тому же, естественное воспитание должно делать человека способным ко всякого рода состояниям; а воспитывать бедняка для богатой жизни менее разумно, нежели воспитывать богача для бедной, потому что численное отношение этих двух состояний показывает, что разорившихся больше, чем обогатившихся. Изберем, следовательно, богатого; мы будем, во всяком случае, уверены, что образуем лишнего человека, между тем как бедняк может сделаться человеком сам собою.
По этой же самой причине, я не прочь, чтобы Эмиль был хорошего рода: все-таки лишняя жертва будет вырвана из рук предрассудков.
Эмиль – сирота. Все равно, есть ли у него отец и мать, или нет. Взяв на себя их обязанности, я наследую и все их права. Он должен уважать своих родителей, но слушаться должен меня одного. Это мое первое или, скорее, мое единственное условие.[5]
Я должен прибавить к нему еще следующее, которое не более как его следствие, – то, что нас никогда не разлучат иначе, как с нашего согласия. Это существенная статья, и я желал бы даже, чтобы воспитанник и воспитатель считал себя столь неразлучными, чтоб и судьба их имела для них всегда общий интерес. Как скоро они станут предвидеть разлуку, они начнут уже делаться чуждыми друг для друга; каждый станет строить свою маленькую систему особняком, и оба, занятые мыслью о времени, когда они расстанутся, будут неохотно оставаться друг с другом. Ученик станет смотреть на учителя как на вывеску и бич детства: учитель станет смотреть на ученика как на тяжелое бремя, от которого он жаждет освободиться; оба будут нетерпеливо ждать минуты избавления друг от друга, и у одного будет недоставать бдительности, а у другого – послушания.
Но когда они рассчитывают провести всю жизнь вместе, у них является потребность взаимной привязанности, они становятся дороги друг другу. Ученик не стыдится повиноваться в детстве другу, который останется с ним, когда он вырастет; воспитателя интересуют попечения, плодами которых он впоследствии воспользуется.
Трактат ваш предполагает непременно счастливые роды, ребенка, хорошо сложенного, крепкого и здорового. Для отца нет выбора, он не должен иметь любимцев в семье, которую ему дал Бог. Все дети – его; всем им обязан он выказывать одинаковую заботливость и одинаковую нежность. Будут ли они калеки или нет, болезненны или крепки, в каждом из них он обязан отдать отчет тому, от кого их получил, так как брак есть столько же договор с природою, сколько и между супругами.
Но тот, кто берет на себя обязанность, которой природа на него не налагала, должен сначала озаботиться о средствах выполнить ее; иначе он будет отвечать даже и за то, чего не в силах был выполнить. Тот, кто берет на свои руки слабого и хворого ребенка, меняет звание воспитателя на звание сиделки; он тратит на охранение бесполезной жизни время, которое назначал на увеличение ее ценности. Я поэтому не взял бы на свои руки болезненного и худосочного ребенка, хотя бы ему предстояло прожить восемьдесят лет. Не надо мне воспитанника, который бесполезен и для себя и для других, озабочен одним только сохранением себя и тело которого мешало бы воспитанию души. Чего достиг бы я, расточая ему свои попеченья? Удвоил бы только потерю общества, отняв у него, вместо одного, двух людей. Пусть другой берет этого ребенка; я буду вполне уважать его человеколюбие. У меня же нет на это способностей; я не умею учить жизни того, кто постоянно думает только, как бы спасти себя от смерти.
Нужно, чтобы тело имело силы повиноваться душе. Чем оно слабее, тем сильнее власть его; чем оно крепче, тем послушнее. Чувственные страсти гнездятся всегда в расслабленных телах; невозможность удовлетворения этих страстей только сильнее раздражает их.
Расслабляя душу, хворое тело устанавливает, вместе с тем и владычество медицины, искусства более вредоносного для людей, чем все болезни, которые оно имеет претензию излечивать. Я не знаю, право, от каких болезней излечивают нас медики, но знаю, что они наделяют нам самыми пагубными болезнями: подлостью, трусостью, легковерием, боязнью смерти. Какое нам дело, что они поднимают на ноги трупы? Нам нужны люди, а их-то никогда и не выходит из рук медиков.
Медицина составляет развлечение для праздных людей, которые, не зная, куда девать время, проводят его в заботах о самосохранении. Имей они несчастье родиться бессмертными, они были бы самыми жалкими существами: жизнь, потеря которой никогда бы им не грозила, не имела бы никакой цены в их глазах. Этому народу нужны медики, которые стращают их и ежедневно доставляют им единственную радость, какую они способны ощущать, радость о том, что они не умерли.
Я вовсе не намерен распространяться здесь о бесполезности медицины. Я имею в виду рассмотреть ее только с нравственной стороны. Не могу, однако, не заметить, что люди в ней оказываются так же точно софистичны, как и в деле изыскания истины. Они всегда предполагают, что лечение больного вылечивает его, а изыскание истины открывает ее. Они не видят, что излечение одного больного перевешивается смертью ста других, убитых медиков, а польза открытия одной истины перевешивается заблуждениями, которые являются вместе с нею. Наука, которая научает, и медицина, которая, вылечивает, без сомнения, очень хороши: но наука, которая обманывает, и медицина, которая убивает, дурны. Научитесь же различать их. В этом вся сущность вопроса. Умей мы игнорировать истину, мы никогда не были бы обмануты ложью; умей мы воздерживаться от желания вылечиваться вопреки природе, мы никогда не умерли бы от рук медика. И в том и в другом случае мы были бы в выигрыше. Я не спорю, следовательно, что медицина полезна некоторым людям, но говорю, что она пагубна для рода человеческого.
Мне скажут, как всегда говорят, что в ошибках виноват медик, но что медицина сама по себе непогрешима. Ну, так и давайте нам ее без медика; потому что пока искусство это является вместе со своим представителем, приходится в сто раз больше страшиться ошибок последнего, нежели надеяться на помощь первого.[6]
Это лживое искусство одинаково бесполезно для всех: оно скорее пугает нас болезнями, нежели излечивает от них, скорее заранее дает нам чувствовать смерть, нежели отдаляет ее. Если ему и удается продлить жизнь, то это делается ко вреду рода человеческого, потому что заботы, предписываемые медициной, отнимают нас у общества, и страх, возбуждаемый ею, отвлекает от обязанностей. Только сознание опасностей заставляет бояться их; тот, кто считал бы себя неуязвимым, ничего не боялся бы. Если хотите видеть действительно мужественных людей, ищите их там, где нет медиков, где неизвестны следствия болезней и где вовсе не думают о смерти. От природы, человек умеет и страдать терпеливо, и умирать спокойно. Только медики со своими рецептами, философы со своими наставлениями, да духовники со своими разглагольствованиями, убивают в нем мужество и отучают его умирать.
Пусть же дают мне воспитанника, который бы не нуждался в этих людях, или я от него отказываюсь. Я не хочу, чтобы другие портили мое дело; я хочу или воспитывать его один, или вовсе не вмешиваться в его воспитание. Локк, который часть жизни своей провел в изучении медицины, настоятельно советует никогда не пичкать лекарствами детей, ни из предосторожности, ни в легких болезненных припадках. Я иду далее, и говорю, что, не обращаясь никогда к медику сам, никогда не позову его и для моего Эмиля, исключая разве случая, когда жизнь его будет в явной опасности: шансы смерти делаются для него тогда одинаковы.
За неуменьем вылечиваться, пусть ребенок научится быть больным: это искусство пополняет первое и часто оказывается гораздо полезнее. Больное животное страдает молча и спокойно: между тем не заметно, чтобы болезненных животных было больше, чем болезненных людей. Скольких людей убило нетерпение, боязнь, беспокойства и в особенности лекарства, – людей, которых бы болезнь пощадила, а время вылечило! Мне скажут, что животные, ведя образ жизни более естественный, должны испытывать меньше страданий, чем мы? Да к этому-то образу жизни я именно и желаю приучить моего воспитанника.
Единственная полезная часть медицины – гигиена; да и та не столько наука, сколько добродетель. Воздержность и труд – лучшие врачи человека; труд возбуждает аппетит, а воздержность удерживает от злоупотребления им.
Чтобы знать, какой образ жизни наиболее пригоден, нужно наблюдать за образом жизни тех народов, которые пользуются лучшим здоровьем, большей силой и большей продолжительностью жизни. Если наблюдения покажут, что медицина не дает людям ни лучшего здоровья, ни более долгой жизни, то искусство это, вследствие бесполезности своей, становится вредным, потому что напрасно занимает время людей. Время, которое тратится на сохранение жизни и, следовательно, потеряно для пользования ею, нужно вычеркнуть из жизни, но если это время проходит для нас в муках, то оно становится уже отрицательной величиной, которую нужно вычесть из остального.
Вот причины, по которым я желаю крепкого и здорового воспитанника, и начала, которым буду следовать для поддержания его в этом состояния. Я не буду долго останавливаться на доказательстве полезности телесных упражнений для укрепления темперамента и здоровья; этого никто не оспаривает. Я не буду также входить в подробности о моих попечениях по этому предмету. Мы увидим, что поведения эти так необходимо связаны с моим делом, что достаточно вникнуть в дух его, чтобы не нуждаться в дальнейших объяснениях.
Вместе с жизнью являются и потребности. Новорожденному нужна кормилица. Если мать согласится исполнять свой долг, прекрасно: ей дадут письменное наставление. Но это имеет и свою невыгодную сторону, в том, что воспитатель несколько удаляется от воспитанника. Надо надеяться, однако, что выгоды ребенка и уважение к тому, кому мать намеревается поручить дорогой залог, сделают ее внимательною к советам наставника; и можно быть уверенным, что все, что она захочет сделать, она сделает лучше всякой другой. Если окажется нужною кормилица, постараемся сделать хороший выбор.
Одно из несчастий богатых людей заключается в том, что их всюду обманывают. Можно ли удивляться, что они дурного мнения о людях? Их портит богатство; и они же первые испытывают дурные стороны этого единственного, знакомого им орудия. Все у них исполняется дурно, кроме того, что они делают сами, а сами они почти ничего не делают. Если нужно найти кормилицу, выбор поручается акушеру. Что же из этого выходит? Что лучшею оказывается та, которая больше заплатила ему. Поэтому, я не отправлюсь к акушеру за советом о кормилице для моего Эмиля, а постараюсь сам выбрать ее. Быть может, я не сумею так речисто рассуждать об этом предмете, как хирург, но буду, наверное, добросовестнее, и усердие мое меньше обманет меня, нежели его жадность.
Выбор этот не имеет ничего таинственного; правила для него известны: но, я не знаю, не лучше ли было бы обращать побольше внимания на молодость молока. Молодое молоко совершенно водянисто; оно должно быть почти слабительным, чтобы прочистить остатки meconium, сгустившегося в кишках новорожденного ребенка. Мало-помалу, молоко становится гуще и доставляет более питательную пищу ребенку, получающему силы переваривать ее. Недаром природа изменяет густоту молока у самок, сообразно возрасту питомца.
Итак, для новорожденного ребенка нужна кормилица с новым молоком. Она должна быть так же здорова душою, как и телом: волнения страстей могут испортить ее молоко; к тому же, заботиться единственно о физических условиях значит видеть только одну сторону дела. Молоко может быть хорошо, но кормилица дурна; хороший характер такая же существенная вещь, как и хороший темперамент. Если взять порочную женщину, то питомец ее, – не говорю, заразится ее недостатками, – но будет страдать от них. Не обязуется ли она вместе с молоком давать ему и уход, требующий усердия, терпения, кротости, опрятности? Если она жадна и невоздержная, то скоро испортит свое молоко; если она нерадива или вспыльчива, то что будет с предоставленным ей ребенком, который не может ни защищаться, ни жаловаться?
Выбор кормилицы тем важнее, что у питомца не должно бы быть другой воспитательницы, как не должно быть другого учителя, кроме воспитателя. Таков был обычай у древних, более мудрых и меньше умствовавших, чем мы. Выкормив девочку, кормилицы не покидали ее больше. Вот почему в древних театральных пьесах большинство наперсниц – кормилицы. Невозможно, чтобы ребенок, переходящий постепенно столько различных рук, был хорошо воспитан. При всякой перемене, он делает втайне сравнения, всегда порождающие в нем уменьшение уважения к его руководителям, а следовательно уменьшение их власти над ним. Если в нем зародится мысль, что есть взрослые, которые так же неразумны, как и дети, весь авторитет лет падает, и воспитание не может быть удачно. У ребенка не должно быть никакого авторитета, кроме авторитета отца и матери, или их кормилицы и воспитателя. Даже и из этих двух лиц одно лишнее; но такое разделение неизбежно и единственный способ помочь делу состоит в том, чтобы оба лица, руководящие ребенком, так сходились во мнениях своих о нем, что составляли бы для него одно лицо.
Кормилице нужна спокойная жизнь и питательная пища, но не следует ей совершенно изменять прежнего образа жизни, потому что всякая быстрая и резкая перемена, даже от худшего к лучшему, всегда опасна для здоровья, а так как прежний образ жизни дал ей и здоровье и хорошее сложение,[7] то к чему же изменять его?
Деревенские женщины едят меньше говядины и больше овощей, нежели городские, и эта растительная пища, кажется, скорее благоприятна, нежели неблагоприятна, и для них, и для детей их. Как скоро такой женщине поручают питомца из высшего сословия, ее начинают кормить говяжьим супом в уверенности, что суп и бульон более питательны и увеличивают количество молока. Я вовсе не согласен с этим, и за меня говорит опыт, показывающий, что дети, которых кормят таким образом, более подвержены коликам и глистам, нежели другие.[8]
Это нисколько не удивительно, ибо животное вещество, когда разлагается, кишит червями, чего не бывает с веществом растительным. Молоко, хотя и вырабатывается в теле животного, есть вещество растительное; анализ доказывает это; оно легко скисается и не только не дает, как животные вещества, никакого следа летучей щелочи, но дает, как растения, нейтральную соль.
Женщины едят хлеб, овощи, молочное; самки собак и кошек едят то же самое; волчицы едят даже траву. Вот растительные соки для их молока. Не исследованным остается только молоко тех пород, которые питаются исключительно одним мясом – если только есть таковые, в чем я сомневаюсь.
Молоко травоядных самок слаще и здоровее, чем молоко плотоядных. Состоя из веществ, однородных с ним, оно лучше сохраняет свой характер и менее способно разлагаться. Касательно же количества, всякий знает, что мучная пища дает больше крови, нежели мясная; она должна, следовательно, давать также и больше молока. Мне не верится, чтобы ребенок, которого не слишком рано отняли от груди, кормили, отняв от груди, только растительною пищей, и кормилица которого точно также питалась только растительною пищей, – чтобы такой ребенок когда-нибудь страдал от глистов.
Возможно, что растительная пища дает молоко, более способное киснуть; но я вовсе не смотрю на кислое молоко как на нездоровую пищу: целые народы, не употребляющие другого, ни мало от него не страдают, а все это пародирование веществами, поглощающими кислоту, кажется мне чистым шарлатанством. Есть натуры, для которых молоко не годится, и никакое поглощающее кислоту вещество не может сделать его сносным; другие переносят его без всяких вспомогательных веществ. Бояться кислого молока глупо, так как известно, что молоко всегда скисается в желудке. Это-то и делает его питательным: если б оно не скисалось, то только проходило бы в желудке, не питая его. Сколько ни разбавляй молоко, и какие ни употребляй поглощающие кислоту вещества, тем не менее тот, кто употребляет в пищу молоко, переваривает творог. Этому нет исключений. Желудок так хорошо способствует скисанию молока, что сывороточная закваска делается помощью телячьего желудка.
Итак, по-моему, следует не изменять обычной пищи кормилицы, а только давать ей эту пищу в большем количестве и лучшего качества. Постная пища горячительная не по своему содержанию, а по приправам своим. Измените правила вашей кухни, не употребляйте больше поджаренного масла; пусть масло, соль и все молочное не проходит чрез огонь; варите овощи в воде и приправляйте их тогда, когда они, горячие, поданы на стол, – постное не только не будет горячить кормилицы, но даст ей молоко в изобилии и самого лучшего качества.[9]
Воздух особенно влияет на сложение детей, в первые года их жизни. В нежную и мягкую кожу, он проникает чрез все поры и сильно действует на молодые организмы. Он производит на них впечатления, которые никогда не изглаживаются. Поэтому, я вовсе не того мнения, чтобы крестьянку брать из деревни и запирать в городскую комнату; по мне гораздо лучше ребенка отправить дышать свежим, деревенским воздухом, вместо испорченного, городского. Он свыкнется с положением своей новой матери, будет жить в ее деревенском жилище, а воспитатель последует за ним. (Читатель помнит, что этот воспитатель не нанят за деньги, а что он друг отца.)
Людям не предназначено скучиваться, как в муравейниках, но быть рассеянными по земле, которую они должны возделывать. Чем больше сбирается людей в одном месте, тем сильнее их порча. Телесные немощи и пороки души составляют неизбежное следствие слишком большого скопления людей в городе. В несколько поколений племя погибает или вырождается; ему нужно постоянное обновление, а обновление это дают села. Посылайте же своих детей обновляться и восстановлять, среди полей, силы, утраченные во вредной атмосфере. Беременные женщины, живущие в деревнях, спешат возвратиться, ко времени родов, в город: они должны были бы поступать наоборот, в особенности те, которые хотят сами кормить своих детей. Им не пришлось бы сожалеть об этом, а при более естественной обстановке жизни удовольствия, связанные с обязанностями, налагаемыми природою, скоро отняли бы охоту к другим удовольствиям.
Тотчас после родов ребенка обмывают теплою водою, к которой обыкновенно примешивают вина. Прибавление вина кажется мне совершенно ненужным: природа ничего не производит в состоянии брожения, и поэтому невероятно, чтобы употребление искусственной жидкости было необходимо для жизни ее созданий. По этой же причине предосторожность нагревания воды вовсе не необходима; и действительно множество народов моет новорожденных детей просто в реке или в море; наши же дети, изнеженные еще до рождения, вялостью отцов и матерей, родятся уже с испорченным темпераментом, которого нельзя сразу подвергать испытаниям. Надо стараться вдоволь возвратить им естественную крепость. Итак, сначала держитесь принятого обычая и уклоняйтесь от него только мало-помалу. Мойте чаще детей; их неопрятность показывает, что это необходимо: простое утирание дерет их кожу. Но по мере увеличения сил ребенка, понижайте постепенно температуру воды, пока не дойдете до холодной и даже до ледяной. Так как, во избежание опасности, охлаждение это должно быть медленно, постепенно и нечувствительно, то для большей точности можно употреблять термометр.
Раз установившаяся привычка мыться не должна нарушаться; я считаю ее важною не только со стороны опрятности и здоровья, но и как полезную меру для развития гибкости фибр и для придания им привычки переносить различные степени жара и холода. С этою целью, следовало бы приучаться мало-помалу к купаньям в теплой воде всех градусов, какие можно перенести, так же как и в холодной воде всех возможных градусов. Таким образом, приучив себя переносить различную температуру воды, которая, как более плотная жидкость, имеет больше точек соприкосновения с нашим телом, можно сделаться почти нечувствительным во всем изменениям температуры воздуха.
Не допускайте, чтобы новорожденного ребенка, только что покинувшего своя оболочки и начавшего дышать, снова завертывали и стесняли. Долой чепчики, долой свивальники; заверните его в широкие пеленки, так чтоб всем его членам было просторно; пеленки не должны быть ни слишком тяжелы и стеснять его движений, ни слишком теплы и препятствовать доступу воздуха. (Воспитатели, кажется, еще не постигли, что холодный воздух не только не вреден, но укрепителен, а теплый расслабляет и производит лихорадку.) Положите, затем, ребенка в просторную колыбель (я употребляю это слово за неимением другого, но убежден, что никогда не следует качать детей), тщательно обитую внутри, так, чтоб он мог свободно и безопасно двигаться. Когда он начнет крепнуть, пустите его ползать по комнате; дайте ему развивать, протягивать свои маленькие члены; вы увидите, что они будут укрепляться с каждым днем.
Надо в этом случае вперед приготовиться к сильному сопротивлению со стороны кормилицы, которой гораздо меньше дела со спеленатым ребенком, нежели с таким, за которым нужен постоянный надзор. К тому же, неопрятность ребенка заметнее в открытой одежде; его нужно чаще обмывать. Наконец, и обычай не всегда можно осилить. Не рассуждайте поэтому с кормилицами; приказывайте, наблюдайте за исполнением и ничего не щадите для облегчения ей забот, предписываемых вами. Воспитатель учится у первого наставника ребенка – у природы, и не допускает препятствий ее попечениям. Он следит за питомцем и бдительно подстерегает первые проблески его слабого понимания.
Мы родимся ничего не зная и ничего не понимая. Душа, скованная несовершенными и наполовину сформированными органами, не имеет еще сознания о своем собственном существовании. Движения, крики новорожденного ребенка, суть чисто-механические проявления, лишенные сознания и воли. Но вместе с рождением начинается и воспитание ребенка; прежде чем начать говорить, прежде чем начать слышать, он уже учится. Опыт предупреждает уроки; в тот момент, когда он узнает свою кормилицу, он уже многому научился. Мы удивились бы обширности познаний самого невежественного человеку, если б следили за его развитием с минуты рождения. Если б все человеческое знание разделить на две части: одну общую всем людям, другую принадлежащую только ученым, последняя показалась бы весьма ничтожною сравнительно с первою. Но мы вовсе не думаем о приобретении общих понятий, потому что оно делается бессознательно и даже прежде достижения разумных лет.
Животные точно так же многое приобретают. У них есть чувства; нужно научиться употреблять в дело эти чувства. У них есть потребности; нужно научиться удовлетворять им; нужно научиться есть, ходить, летать. Четвероногие, становящиеся на ноги с самого рождения, несмотря на то, не умеют ходить; по первым их шагах видно, что это не твердые попытки. Птицы, вылетающие из клетки, не умеют летать, потому что никогда не летали. Все служит наукою живым и чувствующим существам.
Первые ощущения детей чисто страдательные; они замечают только удовольствие или боль. Так как ребенок не в состоянии ни ходить, ни осязать, то ему нужно много времени для приобретения представляющих ощущений, которые показывают ему предметы вне их самих. Но, прежде чем эти предметы начнут так сказать удаляться от глаз и получат размеры и образы, постоянство страдательных ощущений начинает подчинять ребенка владычеству привычки; глаза его беспрестанно ищут света, и если свет падает сбоку, то они нечувствительно принимают это направление, так что нужно стараться всегда держать ребенка лицом к свету, из опасения сделать его косым. Нужно также с ранних пор приучать его к потемкам, иначе он будет постоянно плакать при отсутствии света. Слишком аккуратно распределяемые пища и сон становятся необходимыми ребенку в известные, определенные часы, и позыв к ним рождается скоро уже не от потребности, а от привычки, или скорее привычка прибавляет к естественным потребностям новую. Это необходимо предупреждать.
Единственная привычка, которую надо развить в ребенке, есть отсутствие всяких привычек. Не носите его на одной руке чаще, чем на другой, не приучайте его подавать одну какую-нибудь руку, или чаще употреблять ее в дело, не приучайте его есть, спать и двигаться в одни и те же часы, не уметь переносить одиночества ни днем, ни ночью. Исподоволь подготовляйте его к свободе и к пользованию всеми его силами, приучая его владеть собою и во всем исполнять свою волю, как скоро она у него явится.
Как только ребенок начинает различать предметы, нужно с выбором показывать их ему. Очень естественно, что все новые предметы интересуют человека. Он чувствует себя столь слабым, что боится всего незнакомого: привычка безнаказанно видеть новые предметы уничтожает в нем эту боязнь. Дети, воспитанные в домах, где соблюдается чистота, боятся например пауков, и эта боязнь нередко остается у них на всю жизнь. Но я никогда не видывал, чтобы кто-нибудь из крестьян боялся пауков.
Как же не начинать воспитание ребенка еще прежде, нежели он научится говорить и понимать, если уже от одного выбора предметов, которые ему показывают, зависит развитие в нем боязливости или мужества? Я хочу, чтобы его приучали к незнакомым предметам, некрасивым, отвратительным, к странным животным, – и все это мало-помалу, исподоволь, пока он не привыкнет к ним и, видя как другие берут их в руки, не начнет, наконец, сам брать их. Если в детстве он без боязни глядел на жаб, змей, раков, то впоследствии будет без отвращения смотреть на какое угодно животное. Страшных предметов не существует для того, кто видит их каждый день.
Все дети боятся масок. Я начну с того, что покажу Эмилю красивую маску; затем кто-нибудь при нем наденет эту маску на лицо: я засмеюсь; все станут смеяться, и ребенок засмеется вместе со всеми. Мало-помалу, я приучу его к менее красивым маскам, а, наконец, и к отвратительным. Если я хорошо наблюдал градацию, он не только не испугается последней маски, но будет смеяться над нею, как над первою. После того он уже не испугается маски.
Если нужно приучить Эмиля к звуку огнестрельного оружия, я сначала сжигаю затравочный порох в пистолете. Эта внезапная вспышка веселит его; я повторяю то же самое с большим количеством пороха; мало-помалу я прибавляю в пистолет небольшой заряд без пыжа, затем больший заряд; наконец, приучаю его к выстрелам из ружья, из мортир, из пушек, – к самой сильной пальбе.
Я замечал, что дети редко боятся грома, если только раскаты не совершенно невыносимы для органа слуха; боязнь эта является у них только тогда, когда они узнают, что гром ранит, а иногда и убивает. Когда разум начинает пугать их, устройте так, чтобы привычка ободряла их. Наблюдая медленную и искусную градацию, можно предупредить и в человеке и в ребенке всякую боязнь.
В первые годы жизни, когда память и воображение еще бездействуют, ребёнок обращает внимание только на то, что влияет в данную минуту на его чувства. Так как ощущения являются первым материалом его познаний, то возбуждать в нем ощущения, в приданом порядке значит подготовить его память к напоминанию о них, в таком же порядке, разуму. Но так как ребенок внимателен только к своим ощущениям, то сначала достаточно показать ему связь между этими ощущениями и самыми предметами, которые их производят. Он хочет до всего дотронуться, все взять в руки: не препятствуйте этой пытливости, она многому научает его. Этим путем приучается он ощущать теплоту, холод, твердость, мягкость, тяжесть и легкость тел; судить об их величине, виде и других внешних свойствах; судит он тут посредством зрения, осязания, слуха и, в особенности, посредством поверки зрения осязанием, т. е. посредством определения на взгляд того ощущения, которое предметы произвели бы на его пальцы. Обоняние развивается в детях позже всех других чувств: ранее двух-трех лет они кажутся нечувствительными к хорошему и дурному запаху. Они выказывают в этом отношении то же равнодушие, – или скорее нечувствительность – которое замечается во многих животных.
Мы только чрез движение узнаем, что есть вещи, которые не суть мы, и только чрез наше собственное движение получаем идею о расстоянии. Ребенок, именно потому, что лишен этой идеи, одинаково протягивает руку за близким и за далеким предметом. Усилие, которое он делает, кажется вам повелительным проявлением, приказанием предмету приблизиться, или вам – приблизить его; вовсе нет, оно доказывает только, что предметы кажутся ему под руками, а он не может себе представить недосягаемого расстояния. Поэтому надо чаще носить гулять ребенка, переносить его с одного места на другое, и давать ему чувствовать перемену места, чтобы научить его судить о расстояниях. Как скоро он начнет сознавать их, нужно изменить методу и носить его только тогда, когда вам вздумается, а не тогда, когда он пожелает; потому что, как скоро чувство не обманывает его больше, усилие его происходит уже от другой причины. Эта перемена замечательна и требует пояснения.
Беспокойство от ощущения потребностей, когда, для удовлетворения их, нужна чужая помощь, выражается знаками: отсюда крики детей. Там как все ощущения у них страдательные, то, если эти ощущения приятны, дети наслаждаются ими молча; если же они неприятны, дети выражают это на своем языке и просят облегчения. Во время бодрствования дети почти не бывают в состоянии равнодушия; они или спят, или ощущают.
Все наши языки – произведения искусства. Долго искали, нет ли природного и общего всем людям языка; он, несомненно, есть: это тот язык, который употребляют дети прежде, нежели выучиваются говорить. Это язык без слов, но выразительный, звучный, понятный. Мы его забыли; но станем изучать детей, и около них мы его скоро припомним. Учителями этого языка нам могут быть кормилицы; они понимают все, что говорят их питомцы; они отвечают им, ведут с ними длинные разговоры, и хотя произносят слова, но слова эти совершенно излишни. Дети понимают не смысл слова, а выражение, с которым оно сказано.
К языку голоса присоединяется не менее энергический язык жеста. Этого жеста нужно искать не в слабых руках детей, а на их лицах. Удивительно, как много выражения в этих, еще не вполне сформировавшихся физиономиях: черты их ежеминутно изменяются с непостижимою быстротой: вы видите, как улыбка, желание, страх появляются на их лицах и исчезают, подобно молнии; каждый раз вы как будто видите новое лицо. Мускулы лица у них, несомненно, подвижнее, чем у нас. Но взамен того тусклые глаза их почти ничего не говорят. Таковы и должны быть внешние выражения в возрасте, когда знакомы только телесные нужды; в движениях мускулов лица выражаются ощущения, во взглядах – чувства.
Так как первое состояние человека – состояние беспомощности и слабости, то первыми звуками его бывают жалоба и плач. Ребенок чувствует нужды и не может им удовлетворить, – криками испрашивает он чужой помощи. Из этого плача, который казалось бы так мало заслуживает внимания, возникает первое отношение человека ко всему, что его окружает: здесь куется первое звено длинной цепи, из которой образуется общественный строй.
Когда ребенок плачет, он дает знать, что ему не по себе, что он испытывает какую-нибудь потребность, удовлетворить которой не может: мы разыскиваем, стараемся найти, какого рода эта потребность, и, найдя ее, удовлетворяем ей. Если мы не находим этой потребности или не можем удовлетворить ей, плач продолжается и начинает надоедать: ребенка ласкают, чтобы заставить замолчать, убаюкивают, чтобы заставить заснуть; если он упрямится, является раздражение и ребенку начинают грозить; грубые кормилицы бьют его иногда. Странные наставления на первый путь жизни!
Я никогда не забуду одного из таких беспокойных плакс, прибитого при мне кормилицей. Он тотчас же замолчал: я подумал, что он испугался. Вот будет раболепная душа, от которой, иначе как строгостью, ничего не добьешься, – подумал я. Я ошибся: несчастный задыхался от гнева, у него захватило дыхание; я видел, как он посинел. Чрез минуту послышались пронзительные крики; вся злоба, ярость и отчаяние, на какие способен этот возраст, выражались в этих криках. Я боялся, чтобы он не умер от этого волнения. Если б я даже сомневался, что чувство справедливого и несправедливого прирожденно человеческому сердцу, один этот пример убедил бы меня. Я уверен, что горячий уголь, упавший случайно на руку этого ребенка, был бы ему менее чувствителен, чем удар, довольно слабый, но нанесенный с очевидным намерением оскорбить его.
Это расположение детей к вспыльчивости, досаде, гневу требует чрезвычайной осторожности. Боргаве полагает, что большая часть детских болезней принадлежит к разряду конвульсивных: так как голова пропорционально больше, а нервная система обширнее, чем у взрослых, то и способность раздражения сильнее. Старательно удаляйте от детей прислугу, которая их дразнит, сердит, раздражает; она для них во сто раз вреднее, чем суровость воздуха и погоды. Пока дети будут встречать сопротивление только в вещах, а не в воле, они не сделаются ни своенравными, ни злыми и будут здоровее. В этом заключается одна из причин, почему дети простолюдинов, более свободные, более независимые, вообще не так болезненны, не так изнеженны, гораздо крепче, чем те, которых мечтают лучше воспитать помощью постоянных возражений на их желания. Надо, однако, помнить, что большая разница – повиноваться им и не дразнить их.
Первый плач детей выражает просьбу: при недостатке осторожности, просьбы детей скоро превращаются в приказания; сначала дети просят помощи, а потом заставляют себе повиноваться. Таким образом, слабость, внушающая им сначала чувство зависимости, порождает потом идею власти и господства; но так как не столько их потребности, сколько наши услуги, возбуждают в них эту идею, то тут начинают уже проявляться нравственные действия, непосредственная причина которых лежит не в природе; и вот почему с самого первого возраста следует разбирать тайное намерение, внушающее ребенку жест или крик.
Когда ребенок протягивает руку, молча и с усилием, он думает достать предмет, потому что не оценивает расстояния: он заблуждается в этом случае. Но когда, протягивая руку, он жалуется и кричит, тогда он не обманывается относительно расстояния, а приказывает или предмету приблизиться, или вам принести его. В первом случае медленными шагами поднесите ребенка к предмету; во втором – не показывайте даже вида, что слышите крик: чем сильнее он будет, тем меньше должны вы его слушаться. С ранних пор, следует приучить ребенка не повелевать ни людям, потому что он им не господин, ни вещам, потому что они его не слышат. Таким образом, если ребенок желает какой-нибудь вещи, которую видит и которую хотят ему дать, лучше поднести ребенка к вещи, нежели вещь к ребенку: он извлекает из этого действия вывод, который свойствен его возрасту и которого иначе нет средств внушить ему.
Гоббс назвал злого человека сильным ребенком. Это совершенно ложно. Злость всегда порождается слабостью; ребенок только потому и зол, что слаб; сделайте его сильным, он будет добр: личность, которая могла бы всегда и все сделать, никогда не делала бы зла. Из всех атрибутов всемогущего Божества доброта есть такой атрибут, без которого нельзя себе представить Божество. Все народы, признававшие существование двух начал, всегда считали злое начало слабее доброго.
Один только разум научает нас распознавать добро и зло. Хотя совесть, благодаря которой мы любим одно и ненавидим другое, и не зависит от разума, но не может без него развиваться. До наступления разумных лет, мы делаем добро и зло, сами того не зная. Ребенку хочется взбудоражить все, что он видит; он ломает и бьет все, до чего может достать. Он хватает птицу, как схватил бы камень, и душит ее, не сознавая, что делает. Отчего это? Философия объясняет это врожденными пороками: надменностью, властолюбием, самолюбием, злостью человека; сознание своей слабости, могла бы она прибавить, делает ребенка жаждущим поступков, выражающих силу и доказывающих ему его собственное могущество. Но взгляните на дряхлого и немощного старика, которого круговорот человеческой жизни снова привел к слабости ребяческого возраста: он не только остается неподвижным и спокойным, но хочет еще, чтобы все было спокойно вокруг него. Малейшая перемена тревожит и беспокоит его. Каким же образом тоже бессилие, соединенное с теми же страстями, произвело бы столь различные действия в двух возрастах, если бы первоначальная причина не была различна? А в чем можно искать это различие причин, как не в физической организации двух индивидов? Деятельное начало, свойственное обоим, в одном развивается, а в другом потухает; один стремится к жизни, а другой к смерти. Ослабевающая деятельность сосредоточивается в сердце старика; у ребенка же она изобилует, выходит наружу; он чувствует в себе, так сказать, достаточно жизни, чтобы оживить все, что его окружает. Создает ли он или разрушает, все равно, – лишь бы изменялось состояние предметов: всякое изменение есть действие. Если у ребенка заметна по-видимому большая наклонность к разрушению, так это происходит не от злости, а от того, что действие созидающее всегда медленно, а разрушающее, будучи быстрее, больше подходит к его живости.
Наделяя детей этим деятельным началом, Творец вселенной позаботился, чтобы оно не было слишком вредоносно, и отказал им в силе. Но, как скоро у детей является возможность смотреть на окружающих их людей как на оружие, употребление которого находится в их власти, они пользуются этим оружием для удовлетворения своим наклонностям и возмещения своей слабости. Вот каким образом они становятся неугомонными, тиранами, надменными, злыми, неукротимыми. Свойства эти возбуждаются не прирожденным духом господства, а напротив сами возбуждают этот дух: потому-то не нужно долгого опыта, для того, чтобы почувствовать, как приятно действовать чужими руками и, пошевелив языком, приводить в движение всю вселенную.
Вырастая, приобретаешь силы, становишься менее беспокойным, менее подвижным, углубляешься в самого себя. Душа и тело приходят, так сказать, в равновесие, а природа начинает требовать только то количество движения, какое необходимо для самосохранения. Но желание повелевать не замирает вместе с потребностью, которая его породила; власть будит самолюбие и льстит ему, а привычка подкрепляет его: прихоть сменяет таким образом потребность.
Раз нам известно основное начало, мы должны ясно видеть пункт, где покидается естественный путь: посмотрим же, что нужно сделать, чтобы удержаться на нем.
У детей нет не только избытка в силах, но нет даже достаточно сил для всего, чего от них требует природа; нужно, следовательно, предоставить им пользование всеми силами, которыми она их наделяет и которыми они не в состоянии злоупотреблять. Это – первое правило.
Во всем, что касается физических потребностей, им нужно помогать и вознаграждать то, чего им не хватает по части ума и силы. Это – второе правило.
Помогая им, нужно ограничиваться только действительно необходимым, не делая никаких уступок прихоти или беспричинному желанию: прихоти не будут их мучить, если их не возбудят в них, потому что они не прирождены ребенку. Это – третье правило.
Нужно заботливо изучать язык и знаки ребенка, чтобы в возрасте, когда он не умеет лгать, различать те желания, которые непосредственно внушены природою, от тех, которые навеяны прихотью. Это – четвертое правило.
Дух этих правил состоит в том, чтобы предоставлять детям побольше настоящей свободы и поменьше власти, предоставлять им побольше действовать самим и поменьше требовать действий от других. Таким образом, приучаясь с ранних пор ограничивать свои желания, сообразно своим силам, они не будут ощущать лишения в том, что находится вне их власти.
Вот новая и весьма важная причина предоставлять полнейшую свободу телу детей, заботясь только об устранении от них возможности падения и таких предметов, которыми они могли бы ушибиться.
Ребенок, члены которого свободны, будет неминуемо меньше плакать, чем ребенок, затянутый свивальниками. Ребенок, которому знакомы одни только физические потребности, плачет только тогда, когда страдает. Вам делается тотчас же известно, что он нуждается в помощи, и необходимо немедленно подать ему эту помощь. Но, если вы не можете облегчить страданий, оставайтесь в покое и не ласкайте его, с целью успокоить. Ваши ласки не ослабят его колик, а между тем ребенок будет помнить, что нужно сделать дли того, чтобы его приласкали. Если он хоть один раз сумеет занять вас собою, когда захочет, он уже овладел вами и все пропало.
Менее стесненные в своих движениях дети будут меньше плакать; реже раздражаемые их плачем вы меньше станете мучиться, заставляя их молчать; реже слыша ласковые слова или угрозы, дети будут не так боязливы и не так упрямы, и скорее сохранят свой природный нрав. Я вовсе не желаю, чтобы пренебрегали детьми; напротив того, следует предупреждать их нужды, а не ждать крикливых заявлений. Но я не хочу также, чтобы попечения о ребенке были бестолковы.
Продолжительный плач ребенка, который не спеленат, не болен и ни в чем не нуждается, проистекает от привычки и упрямства. Тут виновата не природа, а кормилица, которая не умеет переносить докучливости плача и не помышляет о том, что заставляя ребенка замолчать сегодня, подстрекает его еще сильнее плакать завтра. Единственный способ уничтожить или предупредить эту привычку состоит в том, чтобы не обращать на нее никакого внимания. Даже и дети не любят трудиться даром. Они упорны в своих попытках, но если ваше постоянство пересилит их упорство, оно им надоедает, и они от него отказываются. Капризный плач можно, впрочем, прекратить, развлекая ребенка каким-нибудь красивым и бросающимся в глаза предметом. Большинство кормилиц отличается этим искусством, и если с разбором употреблять его, оно очень полезно. Но в высшей степени важно, чтобы ребенок не заметил намерения развлечь его и веселился не думая, что о нем заботятся: и в этом-то все кормилицы крайне неловки.
Детей слишком рано отнимают от груди. Время, когда их нужно отнимать от груди, указывается прорезыванием зубов, а это прорезывание вообще бывает трудно и болезненно. Инстинкт побуждает тогда ребенка брать в рот и жевать все, что он держит в руках. Давая ему вместо игрушек какое-нибудь твердое тело, думают облегчить операцию. Я полагаю, что это ошибка. Твердые тела, вместо того, чтобы размягчить десны, делают их затверделыми, причиняют более трудное и болезненное прорезывание. Надо всегда брать за образец инстинкт. Видано ли, чтобы щенки точили свои молодые зубы о камни, железо и кости; они употребляют для этого кожу, лоскутья, мягкие вещества, которые зуб может укусить.
Теперь во всем отвыкли от простоты. Даже детям завели серебряные и золотые погремушки; надавали им ценных игрушек всякого рода. Прочь все это: маленькие ветки с фруктами и листьями, маковые головки, где гремят зерна, солодковый корень, который ребенок может сосать и жевать, будут забавлять его столько же, сколько и эти великолепные безделушки, и не будут приучать его к роскоши с самого рождения.
Дознано, что кисель не особенно здоровая пища. Кипяченое молоко и сырая мука засоряют кишки и не хороши для желудка. В киселе мука менее сварена, чем в хлебе, а кроме того она не бродила. Я предпочитаю хлебную похлебку, кашицу из протертого риса. Если желают непременно делать мучной кисель, то следует первоначально обжечь муку. В Швейцарии делают из обожженной муки очень вкусный и здоровый суп. Говяжий бульон и суп тоже плохое кушанье, которое следует употреблять как можно реже. Нужно, чтобы дети рано приучились жевать; это самый верный способ облегчить прорезывание зубов и возбудить отделение слюны, которая, примешиваясь к пище, облегчает пищеварение.
Я давал бы им жевать сначала сухие фрукты, корочки. Я дал бы им вместо игрушек небольшие ломтики сухого хлеба, или сухари в роде пьемонтских drisses. Размягчая этот хлеб во рту, дети глотают его маленькими количествами, зубы прорезываются легче и ребенок отвыкает от груди, прежде нежели ожидают. У крестьян обыкновенно желудок очень хорош, а их этим-то путем и отнимают от груди.
Дети слышат говор с самого рождения. С ними говорят не только прежде, нежели они начнут понимать сказанное, но прежде, нежели могут передать слышанный голос. Оцепенелый орган их только мало-помалу начинает подражать звукам, которые слышит, и неизвестно даже, одинаково ли отчетливо передаются вначале эти звуки в их ушах, как и в наших. Я не против того, чтобы кормилица забавляла ребенка пением и веселыми, разнообразными звуками; но она не должна беспрерывно оглушать его потоком бесполезных слов, из которых он ровно ничего не понимает, кроме тона, каким они произносятся. Желательно, чтобы первые слога, долетающие до уха ребенка, были протяжны, легки, ясны, чтобы они часто повторялись и чтобы слова, выражаемые ими, касались только видимых предметов, которые можно показать ребенку. Несчастная легкость, с какою мы удовлетворяемся словами, значения которых не понимаем, рождается раньше, чем мы думаем. Ученик в классе слушает разглагольствования учителя, также как в пеленках слушал болтовню кормилицы. Мне кажется, что весьма полезно было бы такое воспитание, при котором все это оставалось бы для него совершенно непонятным.
Идеи теснятся толпою, когда вздумаешь заняться образованием речи и первых разговоров детей. Что бы ни делали, а дети научатся говорить все-таки тем же путем, и все философские умозрения здесь совершенно бесполезны.
Во-первых, у них есть, так сказать, своя грамматика, синтаксис которой состоит из более общих правил, чем наш; и если б на него обращали больше внимания, то изумились бы точности, с какою дети держатся некоторых аналогий, весьма ошибочных, если хотите, но весьма последовательных и которые неприятны для уха только по своей резкости, да еще потому, что обычай их не допускает. Я слышал, как одного бедного ребенка разбранил отец за то, что тот сказал ему: monpere, irai-je-t-y? А между тем ребенок лучше следил за аналогией, чем наши составители грамматик: если ему говорят, отчего же ему не сказать, irai-je-t-y? Заметьте, кроме того, с какою ловкостью он обошел неприятное сочетание гласных в irai-je-y, ими у irai-je? Виноват ли бедный ребенок, если мы совсем некстати выбрасываем здесь определительное наречие у, потому что не можем сладить с ним? Старания исправлять в речи детей эти маленькие ошибки, от которых они со временем отучатся сами собою, – нестерпимое педантство и бесполезнейшее дело. Говорите всегда с детьми правильным языком, сделайте так, чтобы они предпочитали ваше общество всякому другому, и будьте уверены, что нечувствительно речь их станет такою же правильною, как и ваша, хотя бы вы никогда не поправляли их ошибок.
Но одним из более важных злоупотреблений и которое не так легко предупредить, является поспешность, с какою заставляют говорить детей; точно боятся, что они не научатся говорить сами собою. Эта неуместная поспешность производит действие совершенно обратное тому, какого от нее ожидают. Дети начинают от этого говорить позже и менее явственно: чрезвычайное внимание, с каким встречается их лепет, избавляет их от труда хорошо произносить слова и у многих на всю жизнь остаются дурное произношение и неясная речь.
Я много жил между крестьянами и никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из них картавил. Отчего это происходит? Разве органы у крестьян устроены иначе, нежели у нас? Нет, эти органы иначе упражняются. Против моего окна есть холмик, на котором собираются, для игр, окрестные ребятишки. Хотя они играют на довольно большом расстоянии от меня, но я отлично слышу все, что они говорят, и часто приобретаю из их разговора хорошие материалы для этого сочинения. Каждый день ухо обманывает меня насчет их возраста; мне слышатся голоса десятилетних детей; взгляну, и вижу рост и черты трех или четырехлетних. Я не ограничивался собою, для этого опыта: городские жители, которые навещают меня, впадали в ту же самую ошибку. Разница в этом случае происходит от того, что городские дети, воспитываемые до пяти или шести лет в комнате и под крылышком гувернантки, должны только пробормотать, чтобы быть понятыми; едва они шевелят губами, как их уже стараются расслушать; им подсказывают слова, которые они плохо передают, а так как ребенка постоянно окружают одни и те же лица, то, вследствие напряженного внимания, они скорее отгадывают, нежели выслушивают, то, что он хотел сказать.
В деревне совсем иное дело. Крестьянка не вертится беспрестанно около своего ребенка: он принужден очень отчетливо и громко выговаривать то, что ему нужно сказать. В поле, дети, рассеянные, удаленные от отца, матери и других детей, изощряются говорить издалека и соразмерять свой голос с расстоянием, отделяющим их от того, к кому они обращаются. Вот каким образом действительно научаются произношению, а не бормотаньем нескольких гласных на ухо внимательной гувернантки. Поэтому, когда мы обращаемся с вопросом к крестьянскому ребенку, стыд может помешать ему отвечать; но то, что ребенок скажет, он скажет отчетливо; между тем как для разговора с городским ребенком необходимо, чтобы нянька служила переводчиком.
Бывают, разумеется, исключения, и часто дети, которых сначала было наименее слышно, становятся потом, когда начнут возвышать голос, самыми шумливыми. Но если б нужно было входить во все эти мелочи, то никогда конца не было бы; всякий благоразумный читатель должен понять, что излишек и недостаток, порождаемые одним и тем же источником, одинаково исправляются моею методою.
С летами дети должны бы исправляться от дурного выговора в учебных заведениях: и действительно воспитанники таких заведений говорят вообще явственнее, нежели дети, которые всегда воспитывались в родительском доме. Но им мешает приобрести такой же чистые выговор, как у крестьян, постоянная необходимость выучивать наизусть пропасть вещей; заушая урок, они привыкают бормотать, небрежно и дурно произносить снова; а когда приходится отвечать урок, они с усилием припоминают снова, растягивают слога, так как невозможно, чтобы язык не запинался, когда память изменяет. Таким образом, приобретаются или сохраняются недостатки в произношении. Ниже мы увидим, что у Эмиля не будет таких недостатков, а если они и будут, то по другим причинам.
Я согласен, что простой народ и поселяне впадают в другую крайность, что они почти всегда говорят громче, нежели следует, и привыкают к резкому и грубому произношению; что делают слишком сильные ударения на слова, дурно выбирают выражения и проч. Но, во-первых, эта крайность кажется мне гораздо менее порочною, чем другая, – так как первое условие речи – то, чтоб она была слышна. Лишать выговор ударения значит отнимать у фразы грацию и энергию. Ударение есть душа речи; оно придает ей чувство и правдивость. Ударение меньше лжет, чем слово; поэтому-то, может быть, благовоспитанные люди так и боятся его. Обычай незаметно трунить над людьми явился от обыкновения все говорить одним тоном. Изгнанному ударению наследовала притворная и подверженная влиянию моды манера произношения, особенно заметная у великосветской молодежи. Эта манера говорить и держать себя делает француза на первый взгляд отталкивающим и неприятным для других наций. Ударение в своей речи он заменяет тем, что называется тоном. Это плохой способ расположить людей в свою пользу.
Все небольшие недостатки, которых так боятся в детской речи, незначительны; устранить или исправить их очень легко: но недостатки, которыми их наделяют, приучая к глухой, невнятной, робкой речи, беспрерывно критикуя их интонацию и перебирая каждое их слово, никогда не исправляются. Человека, выучившегося говорить в спальне, плохо будет слышно во главе батальона и среди волнующейся толпы. Научите сначала детей говорить с мужчинами, а с женщинами они сами сумеют говорить, когда понадобится.
Вскормленный в деревне, среди сельской простоты, ребенок ваш приобретет звонкий голос; он не приучится там к невнятному бормотанью городских детей; он не переймет также им деревенских выражений, ни деревенского тона или, по крайней мере, легко от них отвыкнет, если наставник, с самого рождения живущий с ним и с каждым днем все менее и менее покидающий его, предупредит или исправит правильностью своей речи впечатление речи крестьянской. Эмиль будет говорить по-французски так же чисто, как и я, но он будет говорить гораздо внятнее и произносить слова гораздо лучше меня.
Ребенок, который начинает говорить, должен слышать только такие слова, которые может понять, а говорить только такие, которые может выговорить. Усилия, которые он делает при этом, побуждают его повторять один и тот же слог, как бы для того, чтоб привыкнуть произносить его. Когда он начинает лепетать, не ломайте головы над тем, чтобы отгадать, что он хочет сказать. Притязательность человека на то, чтоб его всегда выслушивали, есть также род власти; а ребенок не должен иметь никакой власти. Достаточно, если вы будете внимательны к настоятельным нуждам его, а затем он сам должен стараться дать понять вам то, что не крайне необходимо. Тем менее следует торопиться в возбуждении детей к говору: ребенок сам сумеет говорить, когда почувствует в том необходимость.
Замечено, правда, что дети, которые начинают говорить очень поздно, никогда не говорят явственно, но они косноязычны не от того, что поздно заговорили, а наоборот заговорили поздно от того, что родились косноязычными. Иначе почему же они заговорили бы позднее других? Разве им представлялось меньше случаев говорить или их меньше принуждали к говору? Напротив, беспокойство, причиняемое этим замедлением, производит то, что их гораздо больше стараются заставить бормотать, нежели тех, которые заговорили раньше, а этой бестолковою поспешностью еще больше затрудняют речь, которую они успели бы может быть усовершенствовать.
Детям, которых торопят говорить, некогда приучиться ни к хорошему произношению, ни к ясному пониманию того, что им говорят: тогда как, если им предоставляют свободу, они сначала начинают с самых легких слогов, и мало-помалу, придавая им значение, которое объясняется их жестами, говорят вам свои слова, не слыхав еще ваших слов, которые перенимают не торопясь и только тогда, когда поймут их.
Самое большое зло, проистекающее от поспешности, с какою заставляют говорить детей, заключается не в том, что первые речи, которые им говорят, и первые слова, которые они произносят, не имеют для них никакого смысла, а в том, что дети придают этим речам и словам не тот смысл, какой мы им придаем, и что мы этого не замечаем; так что, отвечая нам, по-видимому, весьма точно, они говорят, не понимая нас, а мы слушаем, не понимая их. Подобные недоразумения порождают обыкновенно и изумление, в какое повергают нас иногда речи детей, которым мы приписываем идеи, каких сами дети вовсе им не придавали. Невнимание наше к настоящему смыслу, который слова имеют для детей, кажется мне причиною первых их ошибок, а эти ошибки, будучи даже исправлены впоследствии, оказывают влияние на склад их ума, которое не изглаживается во всю жизнь. Я буду не раз иметь случай разъяснить это примерами.
Итак, по возможности ограничивайте словарь ребенка. Весьма нехорошо, если у него больше слов, нежели идей, и если он может наговорить больше, нежели может обдумать. Я полагаю, что одна из причин, вследствие которых ум крестьян обыкновенно точнее ума городских жителей, – та, что словарь крестьян не так обширен. У них мало идей, но они хорошо их сопоставляют.
Все стороны в ребенке развиваются сначала почти разом. Он почти одновременно учится говорить, есть, ходить. Тут собственно начинается первая эпоха его жизни. До этой поры он оставался тем же, чем был в чреве матери: у него нет ни чувств, ни идей, едва-едва существуют у него ощущения; он не чувствует даже собственного существования:
- Vivit, et est vitae nescius ipse suae.
- Ovid., Trist., lib. I.
КНИГА ВТОРАЯ
Здесь начинается второй период жизни, когда собственно детству настает конец; ибо слова infans и puer вовсе не синонимы. Первое заключается во втором и означает того, кто не может говорить; вследствие чего у Валера Максима мы находим puerum infantem. Не я продолжаю употреблять слово enfance, сообразно обычаю нашего языка, до того возраста, для которого есть другие названия.
Когда дети начинают говорить, они меньше плачут: один язык заменяется другим. Как скоро ребенок может передать словами, что он страдает, зачем он станет передавать это криком, исключая разве случая такой сильной боли, которой словами выразить нельзя? Если дети продолжают тогда плакать, то это вина людей, окружающих их. Если ребенок слаб, чувствителен, если он кричит из-за пустяков, то, сделав эти крики недействительными, я скоро уничтожу их причину. Пока он плачет, я не иду к нему и подбегаю тотчас же, как он замолкнет. Скоро молчание или простая подача голоса будут его зовом. Дети судят о смысле знаков по их видимому действию; как бы ни ушибся ребенок, если он один, он редко заплачет, разве понадеется, что его услышат. Если он упадет, наживет себе синяк, разобьет нос до крови или обрежет себе палец, вместо того, чтобы с испуганным видом засуетиться около него, я останусь спокойным, по крайней мере, некоторое время. Беда случилась, необходимо, чтоб он перенес ее; всякая суетливость может только больше напугать его и усилить в нем чувствительность. Когда ребенок ушибается, боль мучит меньше, чем страх. Я, по крайней мере, избавлю его от последнего страдания; потому что он непременно будет судить о своем страдании по моему суждению: если он увидит, что я с беспокойством бегу утешать его, сожалеть о нем, то сочтет себя погибшим; если же увидит, что я сохраняю все свое хладнокровие, то скоро ободрится сам. В этом-то возрасте и получаются первые уроки мужества; без страха перенося легкую боль, научаются мало-помалу переносить сильнейшие.
Я не только не старался бы охранять Эмиля от ушибов, но напротив был бы очень недоволен, если б он никогда не ушибался и вырос не зная, что такое страдание. Страдать – первая вещь, которой он должен научиться и которая всего больше понадобится ему. Пока дети малы и слабы, они могут совершенно безопасно брать эти важные уроки. Если ребенок свалится с ног, он не переломит себе ноги; если ударит себя палкой, не переломит руки; если схватит острый нож, то не глубоко порежет себя. Я не слыхал, чтобы дети на свободе когда-либо убивались до смерти, искалечивали или сильно ранили себя, исключая разве случаев, что их неосторожно оставляли на возвышенном месте, около огня или с опасными инструментами в руках. Не нелепо ли, что вокруг ребенка устраивают целый арсенал разных орудий с целью оградить его с головы до ног от боли, так, что, сделавшись взрослым и не имея ни мужества, ни опытности, он при первой царапине считает себя умирающим и падает в обморок при виде первой капли своей крови?
Мы вечно силимся учить детей тому, чему они гораздо лучше научатся сами, а забываем о том, чему мы одни могли бы их научить. Есть ли что-нибудь глупее старания, к каким учат ходить ребенка, как будто видано, чтобы кто-нибудь, будучи взрослым, не умел ходить вследствие небрежности кормилицы. Напротив того, сколько мы видим людей, которые дурно ходят от того, что их дурно учили ходить!
У Эмиля не будет ни предохранительных шапочек, ни корзин на колесах, ни тележек, ни помочей; как скоро он научится передвигать ноги, его будут поддерживать только на мостовой, быстро минуя ее. Нет ничего смешнее и слабее как походка людей, которых в детстве долго водили на помочах; это опять одно из тех замечаний, которые становятся пошлыми вследствие своей верности и которые верны не в одном смысле. Вместо того чтобы давать ребенку засиживаться в испорченном комнатном воздухе, пусть его ежедневно пускают в поле. Пусть он там бегает, резвится, падает сто раз в день: тем скорее научится он подниматься. Благодатное ощущение свободы выкупает много ран. Мой воспитанник будет часто ушибаться, но зато он будет всегда весел и, хотя ваши ушибаются реже, зато они всегда недовольны, всегда скованны, всегда грустны. Я сомневаюсь, чтобы выгода была на их стороне.
Другая сторона развития делает жалобы ребенка еще менее необходимыми для него: я подразумеваю увеличение сил. Получая возможность больше действовать сам, он меньше нуждается в чужой помощи. Вместе с силою развивается знание, которое дает ему средства управлять ею. В этом втором периоде начинается собственно жизнь индивида; тогда он начинает сознавать себя. Память распространяет чувство тожества на все моменты его существования; он в самом деле становится одним, все тем же, и поэтому способным ощущать радость и горе. Следовательно, теперь надо начать смотреть на него как на нравственное существо.
Хотя средний предел жизни человеческой, равно как и вероятность, которая имеется в каждом возрасте, достигнуть этого предела, определяются довольно точно; но нет ничего менее верного, как продолжительность жизни каждого человека в частности; весьма немногие достигают среднего предела. Наибольшим опасностям подвергается жизнь в самом начале; чем меньше жил человек, тем меньше представляется надежды жить. Едва половина всех рождающихся детей достигает отрочества, и есть вероятность, что воспитанник ваш не доживет до возмужалости.
Как же назвать варварское воспитание, которое настоящее приносит в жертву неверному будущему, налагает на ребенка всевозможные оковы и начинает с того, что делает его несчастным, с целью приготовить вдали какое-то воображаемое счастье, которым он вероятно никогда не воспользуется? Если б я даже считал это воспитание разумным по своей цели, то можно ли без негодования смотреть на несчастные жертвы, подчиненные нестерпимому игу и осужденные на каторжный труд, без уверенности, чтобы все эти заботы были когда-либо полезны им? Лета веселья проходят в слезах, наказаниях, в страхе и рабстве. Несчастного мучат для его пользы и не видят смерти, которую призывают и которая поразит его в этой грустной обстановке. Кто знает, сколько детей погибает жертвою сумасбродной мудрости отца или наставника? Единственное благо, извлекаемое ими из вынесенных страданий, – смерть без сожалений о жизни, в которой они знали одну только муку.
Люди, будьте человечны. Это ваш первый долг. Будьте человечны для всех состояний, для всех возрастов, для всего, что не чуждо человеку! Какая мудрость может быть для вас вне человечности? Любите детство; будьте внимательны к его играм, забавам, к его милому инстинкту. Кто из вас не жалел иногда об этом возрасте, когда улыбка всегда на губах, когда душа всегда покойна? Зачем хотите вы отнять у этих маленьких, невинных созданий пользование золотым временем, которое убегает от них так быстро и безвозвратно.
Сколько голосов поднимается против меня! Я издали слышу вопли той ложной мудрости, которая непрестанно отвлекает нас от самих себя, презирает настоящее и неутомимо преследует будущее, убегающее по мере приближения к нему, и переносит нас туда, где мы никогда не будем.
Вы говорите, что в это-то время и нужно исправлять дурные наклонности человека, что в детском именно возрасте, когда горе менее чувствительно, нужно умножать его, чтобы предохранить от него разумный возраст? Но кто вам сказал, что это в руках ваших и что прекрасные наставления, которыми вы обременяете слабый ум ребенка, не будут для него со временем более вредны, чем полезны? Зачем, не будучи уверенными, что настоящие страдания предотвращают от него будущие, причиняете вы ему больше страданий, нежели связано с его состоянием? и чем докажете вы мне, что дурные наклонности, от которых вы намереваетесь его исправить, не порождаются в нем вашими бестолковыми попечениями гораздо более, чем природою? Несчастная предусмотрительность, которая заставляет человека бедствовать в настоящем, основываясь на неверной надежде сделать его счастливым в будущем! Но если грубые резонеры смешивают своевольство со свободою и счастливого ребенка с избалованным, то надо объяснить им дело.
Человечеству определено место в общем строе вселенной; ребенку определено место в строе человеческой жизни; в человеке нужно рассматривать человека, а в ребенке ребенка. Указать каждому его место и укрепить его за ним, регулировать человеческие страсти сообразно организации человека, вот все, что мы можем сделать для его благосостояния. Остальное зависит от посторонних причин, которые находятся не в нашей власти.
Мы не знаем, что такое абсолютное счастье или несчастье. Все смешано в жизни; в ней не испытываешь ни одного чистого чувства, не остаешься двух минут в одном положении. Ощущения души, так же как и изменения тела, находятся в постоянном колебании. Добро и зло свойственны всем нам, но в различной степени. Самый счастливый человек тот, у кого меньше горя; самый несчастный тот, кто испытывает меньше радостей. Счастье человека есть только отрицательное состояние; мерилом его должна служить незначительность испытываемых страданий.
Всякое желание предполагает лишение, а все лишения, которые ощущаешь, тяжелы; поэтому несчастье наше заключается в несоразмерности наших желаний с нашими средствами. В чем заключается человеческая мудрость и где путь к истинному счастью? В ограничении избытка желаний соразмерно со средствами и в восстановлении полнейшего равновесия между силою и волею.
Природа, делающая все к лучшему, так и устроила человека. Она дает ему сначала только желания, необходимые для самосохранения, и средства, достаточные для их удовлетворения. Все другие она укрывает в глубине его души, как бы в запас, для развития по мере необходимости. Только в этом первобытном состоянии встречается равновесие между силою и желанием, и человек не бывает несчастным. Как скоро начинают пробуждаться другие способности, воображение, самая деятельная из всех, опережает остальные, расширяет границы возможного и возбуждает и поддерживает желания надеждою их удовлетворения. Мир действительный имеет свои границы, мир воображения беспределен: не будучи в состоянии расширить первый, стесним второй; потому что только от разницы, существующей между ними, рождаются все страдания, делающие нас в самом деле несчастными.
Все животные имеют ровно настолько средств, сколько им необходимо для самосохранения: один человек имеет эти средства в избытке. И не странно ли, что этот избыток служит орудием его несчастья?
В учреждениях человеческих все исполнено безумий и противоречий. Мы тем более заботимся о жизни, чем более она теряет свою цену. Старики дорожат ею больше молодежи: им жаль всех приготовлений, которые они сделали для того, чтоб наслаждаться ею… И всё это результат предусмотрительности, которая переносит нас постоянно туда, куда мы, может быть, никогда не попадем. Что за пагубная страсть заноситься в будущее, которого так редко достигают, и пренебрегать настоящим, которое верно? Мы за все хватаемся, все нам близко. Человек расплывается по всему земному шару и становится уязвим на всех его пунктах. Сколько государей приходят в отчаяние от потери провинции, которой они никогда не видели! Сколько купцов начнет кричать в Париже, если кто-нибудь коснется Индии… Неужели человек естественно уносится так далеко от своего существа?
Запрись в себя, люд божий, и ты не будешь больше бедствовать! Ограничься местом, которое природа указала тебе в цепи творений. Твоя свобода, твоя власть обусловливаются природными силами твоими: вне их все рабство, иллюзии и тщеславие. «Маленький мальчик, которого вы видите, говорил Фемистоил друзьям своим, властитель Греции: он управляет своей матерью, мать его управляет мной, я управляю Афинами, а Афины управляют Грецией».
Как только приходится видеть чужими глазами, так приходится и хотеть чужою волею. Свою волю исполняет только тот, кому не нужно чужих рук на помощь своим. Следовательно, первое благо человека не власть, а свобода. Человек действительно свободный желает только то, что может, и делает только то, что хочет. Вот основное мое положение. Надо только применить его к детскому возрасту и все правила для воспитания будут вытекать из него сами собой.
Общество сделало человека слабым не только тем, что отняло у него права на собственные его силы, но в особенности тем, что сделало эти силы недостаточными. Если взрослый человек кажется нам сильным, а ребенок слабым существом, то это не потому, чтобы у первого было больше абсолютной силы, а потому что первый мог бы естественным путем удовлетворить своим нуждам, а второй нет.
Природа озаботилась о вознаграждении этой слабости ребенка, наделив отцов и матерей привязанностью к детям: но в привязанности этой могут быть свои излишества, свои недостатки, свои злоупотребления. Родители, живущие в гражданском быту, преждевременно вводят в него ребенка. Наделяя его большими потребностями, они не парализуют его слабость, но увеличивают ее. Также точно увеличивают они ее и требованием от ребенка того, чего не требует природа, подчинением своей воле небольшого запаса сил, который у него есть, для исполнения его собственной воли, и обращением в рабство той взаимной зависимости, которая порождается его слабостью и их привязанностью.
Разумный человек умеет оставаться на своем месте, но ребенок, не знающий своего места, не может на нем удержаться. Он находит тысячу лазеек, чтобы выйти из него; руководитель ребенка должен удерживать его на месте, а это нелегкое дело. Ребенок не должен быть ни животным, ни человеком, он должен быть ребенком; нужно, чтобы он чувствовал свою слабость, а не страдал от нее; нужно, чтоб он находился в зависимости, а не в повиновении; нужно, чтоб он просил, а не приказывал. Он подчиняется другим только вследствие своих нужд и потому, что взрослые лучше его видят, что для него полезно, что лучше может обеспечить его или повредить ему. Но никто, даже и сам отец, не имеет права приказывать ребенку того, что ему ни на что не нужно.
Пока предрассудки и человеческие учреждения не изменили еще наших природных стремлений, счастье детей, также как и взрослых, заключается в пользовании свободою; но у первых свобода эта ограничивается их слабостью. Даже в естественном состоянии дети пользуются свободою неполною, наподобие той, какой пользуется человек в гражданском быту. Каждый из нас, не будучи в состоянии обойтись без других, становится слабым и несчастным. Мы созданы, чтобы быть взрослыми: законы и общество снова превращают нас в детей. Богачи, знать, властители все это – дети, которые, видя, как спешат помочь их слабости, тщеславятся этим и гордятся попечениями, которых им не оказывали бы, если б они были взрослыми людьми.
Эти соображения очень важны и разрешают все противоречия социальной системы. Есть два рода зависимости: зависимость от внешних явлений, создаваемая самою природою, и зависимость от людей, созданная обществом. Зависимость от внешних явлений, не имея ничего морального, не мешает свободе и не порождает пороков: зависимость же от людей, будучи неестественною, служит основой всех пороков; чрез ее посредство господин и раб взаимно развращают друг друга. Если есть какое-нибудь средство помочь этому злу в обществе, так оно состоит в том, чтоб заменить человека законом и придать общей воле вещественную силу, возвышающуюся над действием всякой частной воли. Если б законы народов могли иметь, так же как и законы природы, непреклонность, непобедимую для человеческой силы, то зависимость от людей превратилась бы тогда в зависимость от внешних явлений; в республике соединились бы тогда все преимущества естественного и гражданского состояний; к свободе, удерживающей человека от пороков, присоединилась бы нравственность, возвышающая его до добродетели.
Держите ребенка в зависимости от одних только внешних явлений, и вы будете идти естественным путем в деле его воспитания. Противопоставляйте неразумным его желаниям только физические препятствия, или наказания, вытекающие из самых поступков: нет надобности запрещать ему дурной поступок, – достаточно помешать совершению такого поступка. Опыт или бессилие одни должны служить ему законом. Уступайте его желаниям, соображаясь не с требованиями его, а с его нуждами. Когда он действует, ему должно быть незнакомо послушание; когда за него действуют другие, – не должна быть знакома власть. Пусть он равно чувствует свободу, как в своих, так и в ваших действиях. Вознаграждайте в нем недостаток силы именно настолько, насколько это нужно ему для того, чтобы быть свободным, а не повелительным: пусть, пользуясь вашими услугами с некоторого рода уничижением, он стремится к той минуте, когда ему можно будет обойтись без них, когда он будет иметь честь сам служить себе.
Природа, для укрепления тела и содействия его росту, употребляет средства, которым никогда не должно ставить препятствий. Не нужно принуждать ребенка сидеть, когда ему хочется ходить, или ходить, когда ему хочется сидеть. Если желания детей не искажены нами, дети ничего не хотят бесполезного. Пусть они прыгают, бегают, кричат, когда им хочется. Все движения их вызваны потребностями их организма, который стремится крепнуть; но нужно с недоверчивостью относиться к тем желаниям их, для выполнения которых они нуждаются в чужой помощи. Нужно заботливо отличать действительную, природную потребность от потребности, порождаемой прихотью или избытком жизни.
Я уже сказал, что нужно делать, когда ребенок плачет, желая получить то или другое. Я прибавлю только, что как скоро он может словами попросить желаемого, но, стремясь получить его скорее или осилить отказ, подкрепляет свою просьбу слезами, нужно безвозвратно отказать ему в его просьбе. Вы должны понять, когда потребность руководит его словами, и тотчас же исполнить его просьбу; но уступить в чем-нибудь его слезам, значит побуждать его к крику, к сомнению в вашей услужливости и к предположению, что надоедание имеет больше влияния на вас, чем доброта. Если он не будет считать вас добрым, он скоро сделается злым; если будет считать вас слабым, скоро сделается упрямым. То, в чем не желаешь отказать, следует исполнять по первому знаку ребенка; но никогда не следует отменять данного раз отказа.
Берегитесь, в особенности, приучать ребенка к пустым формулам вежливости, которыми он пользуется при случае, как магическим словом, для подчинения своей воле всех окружающих и немедленного получения желаемого. Вычурное воспитание богатых делает их всегда вежливо-повелительными; у детей их нет ни умоляющего тона, ни умоляющих оборотов; они равно высокомерны, когда просят и когда приказывают. Сразу видно, что «пожалуйста» означает у них «я так хочу», а «прошу вас» означает «приказываю вам». Я гораздо меньше боюсь грубости Эмиля, нежели его высокомерия, и лучше хочу, чтобы он просил «сделайте это», чем приказывал «я вас прошу». Для меня важно не выражение его, а смысл, который он придает выражению.
Есть излишек суровости и излишек мягкости, которых должно одинаково избегать. Если вы запускаете детей, вы подвергаете опасности их здоровье, жизнь, делаете их несчастными в настоящем; если же вы слишком старательно охраняете их от всякого рода неприятных ощущений, вы приготовляете им большие бедствия, делаете их изнеженными, выводите их из положения людей, к которому они со временем должны неминуемо возвратиться. Чтобы отвлечь некоторые естественные страдания, вы создаете такие, которые совершенно неестественны. Вы скажете, что я впадаю в ту же крайность, за которую упрекал отцов, приносящих настоящее счастье детей в жертву отдаленному будущему, которое может быть, никогда не наступит. Вовсе нет: свобода, которую я предоставляю моему воспитаннику, с избытком вознаграждает его за легкие неудобства, каким я его подвергаю. Я вижу маленьких шалунов, играющих на снегу, посиневших от холода. От них зависит пойти обогреться, однако они этого не делают; если их к тому принудить, то жестокость принуждения будет им во сто раз чувствительнее стужи. На что же вы жалуетесь? Разве я делаю вашего ребенка несчастным, подвергая его неудобствам, которые он сам желает переносить? Я делаю его счастливым в настоящем, оставляя его свободным; я делаю его счастливым в будущем, вооружая его против зол, которые он должен переносить. Как вы полагаете, задумается ли он хотя на одну минуту, если ему предоставить по выбору быть вашим или моим учеником?
Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным? Это приучить его не знать ни в чем отказа: желания его будут постоянно возрастать от легкости исполнения их, и рано или поздно вы будете силою обстоятельств вынуждены к отказу, который по неожиданности своей измучит его больше, чем лишение желаемого. Человеку свойственно считать своим все, что находится в его власти. Следовательно, ребенок, которому стоит только пожелать, чтобы получить желаемое, будет считать себя властителем вселенной; на всех людей он будет смотреть как на рабов своих и когда, наконец, принуждены будут отказать ему в чем-нибудь, он примет отказ за сопротивление. Все причины, представляемые ему в такие годы, когда он еще не в состоянии рассуждать, кажутся ему отговорками; во всем он видит недоброжелательство: чувство мнимой несправедливости ожесточает его нрав; ребенок начинает всех ненавидеть. Я видел детей, воспитанных таким образом, которые желали, чтобы плечом своротили дом с места, чтобы остановим шествие полка, дабы они могли подольше послушать барабанный бой. Вечно ворча, вечно буяня, вечно злясь, они проводили целые дни в криках и жалобах. Если их понятия о власти делают их несчастными с самого детства, что же будет впоследствии, когда сношения их с людьми расширятся? Привыкнув, чтобы все склонились пред ними, как изумительно им будет чувствовать при вступлении в свет, что все им сопротивляется? Заносчивость, мелкое тщеславие навлекают на них одно унижение; оскорбления сыпятся на них градом; жестокие испытания скоро научают их, что они не знают ни своего положения, ни своих сил; не будучи в состоянии всего исполнить, они думают, что не могут исполнить ничего. Столько непривычных препятствий парализует их энергию, столько презрения унижает их: они становятся подлыми, трусливыми, заискивающими и падают так же низко, как высоко хотели подняться.
С другой стороны, кто не видит, что слабость первых лет так сковывает детей, что становится жестоким прибавлять еще к этому подчинению подчинение нашим капризам. Как решиться отнять у ребенка ограниченную свободу, которою он так мало может злоупотреблять и лишение которой так же невыгодно для нас, как и для него? Если нет зрелища более смешного, как высокомерный ребенок, то нет зрелища более достойного сострадания, как боязливый ребенок. С разумными летами наступает гражданское подчинение; зачем же предписывать ему еще домашнее подчинение? Постарайся же, чтобы хоть одно мгновение в жизни было изъято из-под ига, которого природа нам не налагала, и предоставим ребенку пользоваться естественною свободою, которая хоть на время спасет его от пороков, порождаемых рабством.
Возвратимся к делу. Я сказал уже, что ребенок ничего не должен получать вследствие требования, а вследствие надобности, ничего не делать из послушания, а из необходимости: слова слушаться и приказывать будут вычеркнуты из его словаря, а тем, более такие слова как долг и обязательство; зато словам: сила, необходимость, бессилие, вынужденность должно быть отведено большое место. Одному только желанию детей не должно никогда снисходить: желанию заставить себя слушаться. При всех их просьбах, нужно, прежде всего, обращать внимание на побуждение. Дозволяйте им все, что может им сделать действительное удовольствие; отказывайте им всегда в том, чего они требуют только из прихоти[10] или чтобы выказать свою власть.
До разумных лет не может явиться никакой идеи о нравственности и социальных отношениях; нужно, следовательно, по возможности избегать слов, выражающих эти понятия, – из боязни, чтобы ребенок не придал им ложного смысла, которого потом не сумеют или не успеют уничтожить. Первая ложная идея, попавшая в его голову, является зародышем порока и заблуждения; нужно особенно внимательно следить за первым шагом. Устройте так, чтобы до тех пор, пока на него действуют только осязаемые предметы, все идеи его останавливались только на ощущениях; устройте, чтобы он всюду видел вокруг себя один только физический мир: без этого, будьте уверены, он вовсе не станет слушаться вас или составит себе о нравственном мире, о котором вы ему говорите, фантастические понятия, которых вам не изгладить во всю жизнь.
Рассуждение с детьми было основным правилом Локка, и в настоящее время принимается очень многими. Но что касается меня, то я ничего не знаю глупее ребенка, с которым много рассуждали. Из всех способностей человека разум, который есть так сказать соединение всех других, развивается всего труднее и всего позже; а его-то именно и хотят пустить в ход для развития остальных. Идеалом хорошего воспитания должно считать уменье сделать человека разумным: а тут имеют претензию воспитывать ребенка помощью разума! Это значит начинать с конца, из следствия делать причину.
Вот формула, к которой можно привести все нравственные наставления, какие делают и могут делать детям:
Учитель. Этого не должно делать. – Ребенок. А почему же не должно этого делать? – Учитель. Потому что это будет дурным поступком. – Ребенок. Дурным поступком! А что значит дурной поступок? – Учитель. Это значит делать то, что вам запрещается. – Ребенок. Почему же дурно делать то, что мне запрещают? – Учитель. Вас наказывают за непослушание. – Ребенок. Я постараюсь, чтобы об этом никто не знал. – Учитель. За вами будут наблюдать. – Ребенок. Я спрячусь. – Учитель. Вас будут расспрашивать. – Ребенок. Я солгу. – Учитель. Лгать не должно. – Ребенок. Почему же не должно лгать? – Учитель. Потому что это будет дурным поступком, и проч.
Вот неизбежный круг. Попробуйте из него выйти, и ребенок перестанет вас понимать. Не правда ли, как полезны такие наставления!
Природа требует, чтобы дети были детьми прежде, нежели сделаются взрослыми людьми. Если же мы вздумаем нарушить этот порядок, то произведем скороспелые плоды, которые не замедлят испортиться; у нас будут юные доктора и старые дети. У детей есть свой образ взглядов, мыслей и чувств, который им свойственен; ничего не может быть безрассуднее, как желать заменить его нашим. Я столько же оправдал бы требование от ребенка пяти футов роста, как и требование рассудка в десять лет. К чему послужил бы ему рассудок в этом возрасте? Он служит уздою силе, а ребенку не нужна эта узда.
Стараясь убедить ваших воспитанников, что повиновение есть долг, вы присоединяете к этому мнимому убеждению насилие и угрозы, или – что еще хуже – лесть и обещания. Таким образом, привлеченные выгодой, или принуждаемые силою, они делают вид, что повинуются разуму. Они очень хорошо видят, что послушание им выгодно, а сопротивление невыгодно. Но так как все ваши требования для них неприятны и так как им тяжело исполнять чужую волю, то они скрытно делают по-своему, с убеждением, что поступают хорошо, если никто не знает об их непослушании, – но с готовностью, как скоро их уличат, тотчас же сознаться, что поступили дурно, из опасения еще большего зла. Так как понятие долга немыслимо в их годы, то нет человека в мире, которому удалось бы внушить ребенку это понятие; но страх наказания, надежда на прощение, приставанье, докучливость ответов вытягивают из ребенка все требуемые признания; а между тем, мы думаем, что убедили детей, тогда как только надоели им или запутали их.
Каков же результат всего этого? Во-первых, налагая на детей обязанность, которой они не сознают, вы возбуждаете их против вашей тирании и делаете привязанность к вам невозможною. Вы научаете их скрытничать, двуличничать, лгать, из желания вынудить награду или избежать наказания; наконец, приучаете их всегда прикрывать свои тайные побуждения каким-нибудь явным предлогом; вы сами даете им средство беспрерывно обманывать вас, скрывать от вас свой настоящий характер и ублажать, при случае, вас и других пустыми словами. Вы скажете, что законодательные постановления, хотя и обязательны для совести, действуют, относительно взрослых людей, так же принудительно. Согласен. Но что же такое эти взрослые, как не дети, испорченные воспитанием? Вот это-то именно и нужно предупредить. Употребляйте с детьми силу,[11] а с взрослыми разум; таков естественный ход дел.
Обращайтесь с вашим воспитанником сообразно его возрасту. С самого начала поставьте его на должное место и умейте так удержать его на нем, чтобы он не покушался его покинуть. Тогда, не зная еще, что такое мудрость, он на практике получит самый лучший ее урок. Никогда и ничего не приказывайте ему, не допускайте в нем даже мысли, что вы имеете притязание на какую бы то ни было власть над ним. Пусть он знает только, что он слаб, а вы сильны; что, по взаимному вашему положению, он необходимо зависит от вас; пусть он это знает и чувствует; пусть он с ранних пор чувствует над своею гордою головою ярмо, которое природа налагает на человека, тяжкое ярмо необходимости, под которым должен склоняться всякий смертный. Необходимость эта должна являться ему в вещах, а не в людском капризе. Уздою до него должна быть сила, а не власть. Не запрещайте ему того, чего он не должен делать; а поставляйте внешние препятствия без всяких объяснений и рассуждений; но то, что хотите дозволить ему, дозволяйте с первого слова, без упрашиваний и в особенности без условий. Дозволяйте с удовольствием, отказывайте с сожалением. Но все отказы ваши должны быть неизменны; никакая докучливость не должна поколебать вас; сказанное нет должно быть каменною стеною, которую ребенок, испытав раз пять или шесть свои силы, не будет более стараться опрокинуть.
Таким-то образом вы сделаете его терпеливым, ровным, покорным, смирным, даже и в тех случаях, когда он не получит желаемого; потому что человеку от природы свойственно терпеливо переносить предписания необходимости, но не предписания чужого недоброжелательства. Слово нет больше – такой ответ, против которого никогда не восставал ребенок, если только не считал его ложью. Впрочем, тут нет середины; нужно или ничего не требовать от него, или с самого начала подчинить его полнейшему повиновению. Хуже нет воспитания, как то, которое заставляет ребенка колебаться между своею и вашею волею и беспрерывно спорить о том, кто из вас двух господин: по-моему, во сто раз лучше, чтобы он был им всегда.
Странно, что с тех пор, как взялись за воспитание детей, не придумали другого орудия, чтобы вести их, как развитие соревнования, зависти, тщеславия, жадности, страха, всех наиболее опасных страстей, которые всего сильнее волнуют и всего скорее портят душу, прежде даже чем тело сформируется. Всякое преждевременное знание, которое вбивают им в голову, развивает какой-нибудь порок в их сердце; безумные воспитатели думают сделать из них чудо: из желания научить их, что такое добро, делают их злыми; а потом важно говорят: таков человек. Да, таков человек, которого вы сделали.
На этом поприще пробовали все орудия кроме одного, единственного, какое может быть удачным: хорошо направленной свободы. Не нужно и браться за воспитание ребенка, если не умеешь вести его туда, куда хочешь, помощью одних законов возможного и невозможного. Так как сфера того и другого ему равно неизвестна, то ее можно по усмотрению расширять и суживать вокруг него. Достаточно одной узды необходимости, чтобы сковывать, понуждать, удерживать его не возбуждая в нем ропота; посредством одной силы вещей можно его сделать гибким и послушным не давая повода к развитию в нем какого-либо порока.
Не делайте вашему воспитаннику никаких выговоров: предоставьте ему получать их от опыта; не наказывайте его: он не знает, что значит быть виноватым; никогда не заставляйте его просить прощенья: он не может вас оскорбить. Так как в его поступках нет нравственности, то он ничего не может сделать нравственно дурного и заслуживающего наказания или выговора.
Я вижу уже, что испуганный читатель судит об этом ребенке по нашим: он ошибается. Постоянное стеснение, в котором вы держите ваших воспитанников, раздражает их живость: чем стесненнее они на ваших глазах, тем буйнее с той минуты, как вырвутся: нужно же им вознаградить себя за жестокое стеснение, в котором вы их держите. Два городских школьника наделают больше опустошений в каком-нибудь месте, чем все дети деревушки вместе взятые. Заприте барчонка и крестьянского мальчика в комнате; первый все опрокинет, все разобьет, прежде чем второй пошевельнется. От чего это, если не от того, что первый спешит вволю насладиться минутою свободы, между тем как второй, всегда уверенный в своей свободе, никогда не спешит ей пользоваться? А между тем дети поселян, которых часто ласкают и дразнят, еще очень далеки от состояния, в котором я желал бы, чтоб их держали.
Примем за неоспоримое начало, что первые природные движения хороши: в сердце человеческом нет природной испорченности; в нем нет ни одного порока, о котором нельзя было бы сказать, каким образом и откуда он явился в нем. Единственная страсть, прирожденная в человеке, есть любовь к самому себе, или самолюбие, взятое в обширном смысле. Это самолюбие само по себе, т. е. по отношению к человеку, хорошо и полезно; оно становится хорошим или дурным только смотря по тому, как его применяют, или смотря по отношениям, которые ему придают. До тех пор, пока руководитель самолюбия, т. е. разум, не явился, необходимо, чтобы ребенок ничего не делал ради того, что его видят или слышат, словом ничего не делал из-за других, а делал только то, чего от него требует природа; тогда он ничего не сделает, кроме хорошего.
Я не утверждаю, чтобы ребенок никогда не наделал беспорядков, никогда бы не ушибся, не разбил бы дорогой вещи, если такая случится под руками. Он может наделать много зла, не сделав ничего дурного, потому что дурной поступок обусловливается намерением вредить, а у ребенка никогда не будет такого намерения. Если б он хоть раз возымел такое намерение, все было бы почти безвозвратно потеряно.
Иная вещь, дурная в глазах скупости, вовсе не дурна в глазах разума. Предоставляя детям полную свободу резвиться, следует удалять от них все, что могло бы сделать эту свободу слишком убыточною, и не оставлять у них под руками ничего ломкого и ценного. Пусть комнаты их будут убраны простою и прочною мебелью; долой зеркала, долой Фарфор, долой предметы роскоши. Что касается моего Эмиля, которого я воспитываю в деревне, то комната его ничем не будет отличаться от комнаты крестьянина. Стоит ли убирать ее с такою заботливостью, если он так мало будет в ней сидеть? Но я забылся: он сам будет украшать ее, и мы скоро увидим, чем именно.
Если, несмотря на ваши предосторожности, ребенок произведет какой-нибудь беспорядок, разобьет какую-нибудь полезную вещь, не наказывайте его за эту небрежность, не браните его; пусть не слышит он ни одного слова упрека; не давайте ему даже заметить, что он огорчил вас; поступайте точно так, как если б вещь сломалась сама собою; будьте уверены, что вы многое сделали, если сумели не сказать ни слова.
Осмелюсь ли я высказать здесь самое великое, самое важное, самое полезное правило во всяком воспитании? Оно заключается не в том, чтобы выигрывать время, а в том, чтобы его терять. Дюжинные читатели, простите мои парадоксы: они необходимо рождаются при мышлении; и что бы вы ни говорили, я лучше хочу быть человеком парадоксальным, нежели человеком предрассудочным. Самое опасное время в человеческой жизни это – промежуток от рождения до двенадцатилетнего возраста. Это – время, когда зарождаются заблуждения и пороки, и когда нет никакого орудия для их уничтожения; а когда является орудие, то корни так глубоки, что поздно уже вырывать их. Если бы дети вдруг перескакивали от груди к разумным летам, воспитание, которое им дают, могло бы годиться для них; но, соображаясь с естественным ходом, им нужно совершенно другое воспитание. Нужно, чтобы душа их оставалась в покое до тех пор, пока в ней разовьются все ее способности: потому что, пока она слепа, ей невозможно видеть подставляемого ей факела и следовать, в необозримой равнине идей, по пути, который так еще слабо означен разумом даже для самых лучших глаз.
Следовательно, первоначальное воспитание должно быть чисто отрицательным. Она состоит не в том, чтобы учить истине и добру, но в том, чтобы предохранять сердце от порока, а ум от заблуждений. Если б вы могли ничего не делать и не допускать, чтобы что-нибудь было сделано; если б вы могли довести вашего воспитанника, здоровым и сильным, до двенадцатилетнего возраста, так, чтобы он не умел отличить правой руки от левой, то с первых же ваших уроков понимание его раскрылось бы для разума; не имея предрассудков, не имея привычек, он ничего не имел бы в себе такого, что могло бы мешать действию ваших забот. В скором времени, он сделался бы, в ваших руках, самым мудрым из людей, и, начав с отрицательных действий, вы достигли бы чудес.
Поступайте противно обычаю, и вы почти всегда поступите хорошо. Так как из ребенка хотят сделать не ребенка, а доктора, то отцы и наставники постоянно журят, исправляют, выговаривают, ласкают, угрожают, обещают, учат, наставляют. Поступайте лучше: будьте благоразумны и не рассуждайте с вашим воспитанником, в особенности с целью заставить его одобрить то, что ему не нравится, потому что вечно опираться на разум, когда желаешь заставить ребенка сделать что-нибудь для него неприятное, значит только наскучать ему с разумом и заранее уничтожить к нему доверие в голове, которая еще не в состоянии его понимать. Упражняйте тело ребенка, его органы, чувства, силы, но оставляйте его душу в бездействии, до тех пор пока можно. Остерегайтесь посторонних впечатлений, и не спешите делать добро, с целью помешать злу, потому что добро бывает только тогда добром, когда его освещает разум. Считайте выигрышем всякую остановку: подвигаться к цели, ничего не теряя, значит много выиграть; предоставляйте детству созревать в детях. Наконец, если какой-нибудь урок становится для них необходимым, берегитесь давать его сегодня, если можете без вреда отложить его до завтра.
Другое соображение, подтверждающее полезность этой методы, является в духе каждого ребенка; с духом этим нужно хорошенько познакомиться, чтобы узнать, какое нравственное обращение годится для него. Каждый ум имеет свой собственный склад, сообразно которому следует и управлять им. Осторожный наставник должен долго наблюдать природу ребенка; хорошенько следить за ним, прежде чем скажет ему первое слово; дайте сначала высказаться зачатку его характера на свободе; ни к чему не принуждайте его с целью заставить лучше выказаться. Неужели вы думаете, что это свободное время потеряно для него? Напротив того, оно даст вам средство не терять ни минуты более дорогого времени; между тем как, если вы начнете действовать, не узнав, что нужно делать, вы будете действовать наудачу; ошибка заставит вас возвратиться назад; вы больше удалитесь от цели, чем при меньшей поспешности достичь ее. Итак, не поступайте как скупой, который, не желая ничего терять, теряет много. Пожертвуйте, в первом возрасте, временем, которое вы с избытком воротите впоследствии. Умный медик не дает легкомысленно лекарств по первому взгляду, но изучает сначала темперамент больного, прежде чем предписать ему что-нибудь; он начинает его лечить позднее, но зато вылечивает, между тем как медик, слишком поспешивший, убивает его.
Но куда же поместить этого ребенка, где воспитывать его, таким образом, как нечувствительное существо, как автомата? На луну, или на необитаемый остров? Удалить его от всех людей? Не будет ли у него постоянно пред глазами зрелище и пример чужих страстей? Может ли он избегнуть встречи с другими детьми его возраста? Разве он не будет видеть своих родных, соседей, свою кормилицу, гувернантку, своего лакея, наконец, своего воспитателя, который не ангел же наконец?
Возражение это серьёзно и важно. Но разве я говорил, что естественное воспитание дело легкое? О люди! моя ли вина, что вы сделали трудным все, что хорошо? Я понимаю эти трудности, я сознаю их: может быть они непреодолимы; но, как бы то ни было, а верно то, что при старании они до известной степени преодолеваются. Я показываю цель, которою нужно задаться: я не говорю, что ее можно достичь; но я говорю, что тот, кто ближе подойдет к ней, успеет больше других.
Помните, что прежде, нежели возьметесь за воспитание человека, нужно самому сделаться человеком; надо, чтоб в вас самих сложился тот образец, которому должен следовать ребенок. Пока ребенок еще ничего не понимает, есть возможность подготовить все окружающее, показывать ему только такие предметы, какие ему следует видеть. Внушите всем уважение к себе, прежде всего, заставьте полюбить себя, дабы каждый старался делать то, что вам нравится. Вы не овладеете ребенком, если не овладели всем, что его окружает; а авторитет ваш никогда не будет полным, если не основан на уважении к добродетели. Защищайте слабого; покровительствуйте несчастному. Будьте справедливы, человеколюбивы, благотворительны. Не ограничивайтесь милостыней; любите ближнего; дела милосердия успокаивают больше горестей, чем деньги: любите других, и они будут вас любить; помогайте им, и они будут помогать вам; будьте их братом, а они будут вашими детьми.
Вот еще одна из причин, почему я хочу воспитывать Эмиля в деревне, вдали от этой сволочи, лакеев, самых недостойных из людей, после своих господ, вдали от грязных городских нравов, которые, вследствие лоска, прикрывающего их, делаются привлекательными и заразительными для детей, между тем как пороки крестьян, выказывающиеся без прикрас и во всей своей наготе, скорей могут отвратить, чем соблазнить ребенка, если нет никакой выгоды подражать им.
В деревне воспитатель легче овладеет предметами, которые захочет показать ребенку; его личность, его мнения будут иметь авторитет, которого никогда не получат в городе: так как он полезен всем, то каждый будет стараться услужить ему, вызвать его уважение, выказаться воспитаннику таким, каким учитель желал бы, чтобы все были, и если люди не исправятся тут от порока, то удержатся от скандала, а нам только это и нужно для нашей цели.
Перестаньте упрекать других в своих собственных ошибках: зло, видимое детьми, портит их меньше, чем то, которому вы их учите. Вечные моралисты, вечные педанты, за одну идею, считаемую вами хорошею, вы набиваете голову ребенка двадцатью другими, которые никуда не годятся: занятые тем, что делается в вашей голове, вы не видите действия, которое производите на его голову. Неужели вы думаете, что в потоке слов, которым вы постоянно надоедаете ребенку, не может быть слова, которое он поймет ложно? Неужели вы думаете, что дети не толкуют по-своему ваши многословные объяснения и не умеют составлять себе из них доступную своему пониманию систему, которую противопоставят вам при случае?
Послушайте маленького мальчика, которому только что читали наставления; предоставьте ему свободно болтать, расспрашивать, дурить, и вы будете изумлены странным оборотом, который примут в его уме ваши рассуждения: он все смешивает, все опрокидывает, надоедает вам, приводит иногда в отчаяние своими неожиданными возражениями; принуждает или вас самих замолчать, или заставить молчать, его, – а что подумает он о молчании со стороны человека, который так любит говорить? Если он когда-нибудь возьмет тут верх и заметит это, прощай воспитание; все кончено с этой минуты, он уже не будет стараться учиться, а будет только стараться опровергать вас.
Ревностные наставники, будьте просты, скромны, воздержны; никогда не спешите действовать, с целью помешать чужим действиям. Я не перестану повторять: избегайте, если можно, хорошего наставления, из боязни дать дурное. Не будучи в состоянии помешать ребенку поучаться примерами, ограничьте свою бдительность тем, чтобы эти примеры запечатлевались в его уме в наиболее приличной форме.
Пылкие страсти производят сильное действие на ребенка, потому что выражаются сильно и привлекают его внимание. Увлечения гнева, в особенности, он не может не заметить. Это – прекрасный случай для педагога произнести приличную речь. Но не надо этих речей, не надо ничего, ни одного слова. Подзовите просто ребенка: удивленный зрелищем, он не замедлит обратиться к вам с вопросами. Ответ вытекает из самого предмета, поражающего его чувства. Ребенок видит воспламененное лицо, сверкающие глаза, угрожающий жест, слышит крики: все это признаки, что тело не в нормальном состоянии. Скажите спокойно, без аффектации, без таинственности, что бедняк этот болен, что у него припадок лихорадки. Вы можете воспользоваться этим случаем, чтобы дать ребенку, в немногих словах, понятие о болезнях и их действиях: они есть в природе и составляют одну из необходимостей, которым он должен чувствовать себя подчиненным.
Может ли быть, чтобы благодаря этой идее, вовсе не ложной, у него с ранних пор не явилось некоторое отвращение к проявлению страстей, на которые он будет смотреть как на болезни? Неужели вы думаете, что такое понятие, внушенное кстати, не произведет более полезного действия, чем скучнейшая проповедь о нравственности? Посмотрите на следствия этого понятия в будущем: вам является возможность, если вы будете к тому принуждены, обращаться с своенравным ребенком как с больным; запереть его в комнате, уложить если нужно в постель, держать на диете, грозить ему зарождающимися в нем пороками, представить их ему отвратительными и страшными; а между тем он никогда не может считать за наказание строгость, с какою вы, может быть, будете принуждены поступать с ним, чтобы его вылечить. Если же вам самому случится, в минуту вспыльчивости, потерять хладнокровие и умеренность, не старайтесь скрыть своей ошибки, но скажите ему откровенно и с нежным упреком: друг мой, вы причинили мне боль.
Необходимо, однако, чтобы никакие наивности, которые могут быть сказаны ребенком вследствие простоты идей, внушенных ему, не подмечались в его присутствии и не пересказывались заметным для него образом. Нескромный хохот может испортить дело шести месяцев и повредить на всю жизнь. Я повторяю, что для того, чтоб овладеть ребенком, нужно уметь владеть самим собою. Я представляю себе моего маленького Эмиля подходящим, в самый разгар спора между двумя бабами, к самой разъяренной из них и говорящим ей тоном соболезнования: Бедняжка, вы больны, мне вас очень жаль. Эта наивность произведет, разумеется, действие на зрителей, а может быть и на действующих лиц. Не смеясь, не браня и не хваля его, я волею или неволею увожу его, прежде чем он заметит это действие или, по крайней мере, прежде чем он подумает о нем, и поспешу развлечь его другими предметами.
Я не имею намерения входить во все подробности, я излагаю только общие правила и даю примеры для затруднительных случаев. Я считаю невозможным, среди общества, довести ребенка до двенадцатилетнего возраста не давая ему никакого понятия об отношениях людей друг к другу и о нравственном значении людских поступков. Достаточно, чтобы старались, по возможности, отдалить их от него, а когда они сделаются неизбежными, то ограничивались бы только самым необходимым для того, чтобы ребенок не считал себя господином над всем и чтобы он не сделал зла другому бессознательно и без сожалений. Есть характеры кроткие и тихие, которым можно безопасно оставлять подольше их первобытную невинность; но есть натуры пылкие, в которых рано развивается свирепость и которые нужно поскорей сделать людьми, дабы не быть принужденным посадить их на цепь.
Наши первые обязанности суть обязанности к себе самим; наши первоначальные чувства сосредоточиваются исключительно на нас, самих; все наши природные движения относятся, прежде всего, к личному нашему самосохранению и благоденствию. Поэтому первое чувство справедливости порождается в нас не тем, что мы обязаны делать по отношению к другим, а тем, что должны для нас делать другие, и одну из бессмыслиц общепринятого воспитания составляет совершенно противоположный обычай воспитателей: они твердят сначала детям об их обязанностях, а не об их правах, т. е. говорят вещи, которых они не могут понять и которыми не могут интересоваться.
Имей я на воспитании ребенка, о котором говорю, я рассуждал бы так: ребенок не трогает людей,[12] он бросается на вещи; опыт скоро научает его уважать всякого, кто старше и сильнее его; вещи же не могут сами защищаться. Следовательно, первою его идеей должна быть скорее идея о собственности, нежели о свободе, а чтобы идея эта была ему понятна, он должен иметь сам какую-нибудь собственность. Приводить ему как собственность его одежду, мебель, игрушки, значит не говорить ему ровно ничего, потому что хотя он и располагает этими вещами, но сам не знает, зачем и как они ему достались. Сказать ему, что он их имеет, потому что их ему дали, значит поступить не лучше, потому что, чтобы давать, нужно иметь; следовательно, это только более удаленная от него собственность, а ему надо разъяснить принцип собственности. Я не говорю уже о том, что дар есть вместе с тем и договор, а ребенок не может еще знать, что такое договор, и что потому-то большинство детей желают получить обратно то, что они подарили, и плачут, если им не хотят возвратить вещь. Этого с ними не случается больше, когда они хорошо поняли, что такое дар; но только тогда они и дарят с большею осмотрительностью.
Итак, нужно восходить к началу собственности, потому что оттуда должна родиться первая идея собственности. Живя в деревне, ребенок получит некоторое понятие о сельских работах; для этого ему нужны только глаза, да свободное время; у него будет и то, и другое. Всякому возрасту, а его возрасту и подавно, свойственно желание создавать, подражать, производить, проявлять могущество и деятельность. Увидев раз, другой, как возделывают сад, сеять, как разводят овощи, он в свою очередь захочет заниматься садоводством.
Вследствие вышеизложенных принципов, я не противлюсь его желанию; напротив того, я поощряю его, разделяю его склонность, работаю вместе с ним, не для его удовольствия, но для своего собственного; по крайней мере, он так думает: я делаюсь его помощником в садоводстве; в ожидании, пока разовьются его руки, я вспахиваю за него землю; он входит во владение ею, сажая бобы и, конечно, это вступление во владение священнее и почтеннее, чем вступление Бальбоа во владение Южной Америкой, посредством выставления испанского знамени на берегу Южного моря.
Каждый день, мы приходим поливать бобы, и всход их приветствуется с радостным восторгом. Я увеличиваю эту радость, говоря: это принадлежит вам, и, объясняя ему при этом выражение «принадлежит», я даю ему чувствовать, что он положил сюда свое время, свой труд, словом, себя самого, что в этой земле есть частица его самого, которую он может потребовать от кого бы то ни было, подобно тому, как мог бы вырвать свою руку из руки другого человека, который хотел бы насильно удержать ее.
В один прекрасный день он спешит туда с лейкой в руке. О, какое горе! все бобы вырваны, вся земля перерыта, самое место узнать нельзя. Куда девался мой труд, моя работа, сладкий плод моих забот, моих стараний? Кто похитил у меня мое имущество? Кто отнял у меня мои бобы? Молодое сердце возмущено; в первый раз чувство несправедливости изливает в него свою горечь; слезы текут ручьем; крики раздаются на весь сад. В его горести и негодовании принимают участие; ищут, делают розыски. Оказывается, что это сделано садовником: его призывают.
Но каково наше разочарование. Садовник, узнав, на что жалуются, начинает жаловаться еще громче нас. Как, господа, это вы так испортили мое дело! Я посеял тут мальтийские дыни, семена которых получены мною как драгоценность и которыми я надеялся угостить вас, когда они созрели бы; а вы, чтобы посадить жалкие бобы, истребили мои дыни, которые было уже совсем взошли и которых мне нечем заменить. Вы причинили мне невознаградимый убыток, и сами лишили себя удовольствия поесть превосходных дынь.
Жан-Жак. Извините нас, любезный Робер. Вы положили сюда свой труд, свои заботы. Я вижу, что мы виновны в том, что мы испортили вашу работу; но мы вам достанем других мальтийских семян, и больше не будем копать земли, не разузнав сначала, не обрабатывал ли ее уже кто-нибудь прежде нас.
Робер. О, если так, господа, то вы можете отложить попечение, потому что невозделанной земли совсем больше нет. Я обрабатываю ту, которую удобрил отец мой, и каждый со своей стороны делает тоже; вся земля, которую вы видите, давным-давно занята.
Эмиль. Господин Робер, следовательно, семена дынь часто пропадают?
Робер. Совсем нет, мой милый юноша: нам не часто приходится иметь дело с такими шалунами, как вы. Никто не прикасается к саду своего соседа; всякий уважает чужой труд, для того, чтобы я его собственный был обеспечен.
Эмиль. Но у меня-то нет сада.
Робер. А мне какое дело? если вы будете портить мой сад, то я не буду вас больше пускать гулять, потому что я не хочу, чтоб мой труд пропадал.
Жан-Жак. Нельзя ли предложить сделку доброму Роберу? Пусть он уступит мне и моему маленькому другу уголок своего сада для обработки, с условием, что будет получать половину произведений.
Робер. Я уступаю вам его без условий. Но помните, что если вы тронете мои дыни, то я взбороню ваши бобы.
Из этого примера передачи детям первоначальных понятий, видно, как идея собственности естественно восходит к праву первого завладения путем труда. Это ясно, вразумительно, просто и вполне доступно детскому пониманию.
Отсюда до права собственности и до мены один только шаг, после которого следует остановиться.
Понятно, кроме того, что объяснение, которое помещается у меня на двух страницах, на практике будет, может быть, делом целого года; потому что в деле нравственных идей следует подвигаться вперед с чрезвычайною медленностью и старательно упрочивать каждый шаг. Молодые наставники, помните, что всюду уроки ваши должны заключаться больше в поступках, чем в речах; потому что дети скоро забывают и свои и чужие слова, но не забывают ни своих, ни чужих поступков.
Подобные наставления, как я уже говорил, следует делать раньше или позже, смотря по тому, ускоряется ли или замедляется их необходимость сообразно нраву воспитанника; ясность их применения бросается в глаза; но дабы не упустить ничего важного, мы представим еще один пример. Положим, что ваш ребенок портит все, до чего ни прикоснется: не сердитесь; удаляйте от его рук все, что он может испортить. Он ломает свою мебель, не спешите заменить ее новою: дайте ему почувствовать неприятность лишений. Он бьет окна своей комнаты; пусть ветер дует на него день и ночь: не бойтесь простуды, потому что пусть ребенок будет лучше с насморком, нежели безумным. Никогда не жалуйтесь на неудобства, которые он вам причиняет, но сделайте так, чтобы он первый почувствовал их. Наконец вы вставляете новые стекла, все-таки не говоря ему ни слова. Он опять разбивает их? тогда перемените методу; скажите ему сухо, но без гнева: окна принадлежат мне; я озаботился их устройством, и желаю сохранить их. Затем заприте его в темном месте, где не было бы окон. При таком небывалом обращении он примется кричать и бушевать: никто не обращает на него внимания. Скоро он утомляется и переменяет тон, начинает жаловаться, плачет: приходит слуга и упрямец просит освободить его. Не прибирая никаких других предлогов к отказу, слуга отвечает: я также должен заботиться о целости своих окон, и уходит. Наконец, когда ребенок пробудет взаперти несколько часов и достаточно соскучится чтобы помнить об этом, кто-нибудь внушит ему мысль предложить вам сделку, вследствие которой вы возвратите ему свободу, а он больше не будет бить стекол. Он с радостью согласится, и просит вас прийти его проведать: вы приходите; он делает вам свое предложение, и вы тотчас же принимаете его, говоря: это очень хорошо придумано; мы оба выиграем от того: как жаль, что эта хорошая мысль не пришла вам в голову раньше! Затем, не требуя ни уверений, ни подтверждения его обещания, вы с радостью целуете его и уводите в его комнату, считая эту сделку столь же святою и ненарушимою, как если б она была подкреплена клятвою. Как вы думаете, какое понятие приучит он, по этому поступку, о верности взаимных обязательств и их пользе? Я жестоко ошибаюсь, если найдется на земле хотя один еще неиспорченный ребенок, на которого не подействовало бы это поведение и который вздумал бы после того бить намеренно стекла.
Теперь мы вступили в нравственный мир, и вот открылась дверь для порока. Вместе с договорами и обязанностями рождается обман и ложь. Как скоро является возможность делать то, чего не следует, является и желание скрыть то, чего не следовало делать. Как скоро выгода заставляет обещать, большая выгода может заставить нарушить обещание, все дело только в том, чтобы безнаказанно нарушить обещание; естественные для того средства – скрытность и ложь. Не имея возможности предупредить порока, мы поставлены в необходимость его наказывать. И вот рука в руку с заблуждениями идут и бедствия человеческой жизни.
Сказанного мною достаточно, чтобы дать понять, что никогда не следует налагать на детей наказание как наказание, но что оно должно всегда падать на них как следствие их дурного поступка. Таким образом, не ораторствуйте против лжи, не наказывайте ребенка именно за ложь, но сделайте так, чтобы все дурные последствия ее падали на его голову.
Есть два рода лжи: ложь в деле, относящаяся к прошедшему, и ложь в праве, относящаяся к будущему. Первая бывает, когда отрицают сделанное или утверждают что-нибудь, чего не делали, и вообще когда умышленно искажают истину. Вторая бывает тогда, когда обещают что-нибудь, не имея намерения сдержать обещания, и вообще когда выказывают намерения, противные тем, какие имеются. Оба эти рода лжи могут иногда сливаться в одно, но здесь я рассматриваю те их стороны, которыми они отличаются. Тому, кто чувствует потребность в помощи других людей и кто постоянно испытывает на себе их расположение, нет никакой выгоды в обмане; напротив, ему очевидно выгоднее, чтобы люди эти видели вещи в их настоящем свете, во избежание ошибок с их стороны, могущих послужить ему во вред. Следовательно, ясно, что ложь в деле не свойственна детям; но закон послушания вызывает необходимость лжи; так как послушание тяжело, то втайне его обходят насколько можно, а близкая выгода избегнуть наказания и выговора берет верх над отдаленной выгодой истины. При естественном и свободном воспитании к чему станет лгать ребенок? Разве ему нужно скрывать что-либо от вас? Вы не журите его, не наказываете, ничего от него не требуете. Отчего и ему не сказать вам все, что он делает, так же откровенно, как и своему маленькому товарищу? Для него нет ничего опасного в этом признании, как с той, так и с другой стороны.
Ложь в праве еще менее свойственна детям, потому что обещания сделать что-либо или не делать чего-либо суть договоры, выходящие за пределы естественного строя и нарушающие свободу. Мало того, все детские обязательства ничтожны сами по себе; так как ограниченный взгляд ребенка останавливается только на настоящем, то ребенок сам не знает, что делает, когда берет на себя какое-нибудь обязательство. Едва ли он может лгать в этом случае: думая только, как бы выпутаться из затруднения в настоящую минуту, он считает годным всякое средство, действие которого не чувствуется в настоящем. Обещая что-нибудь на будущее время, он ничего не обещает: воображение его, которое еще дремлет, не умеет переносить его на два различных времени. Если б он мог избегнуть сегодня розог или получить коробку конфет обещанием броситься завтра из окна, он тотчас бы пообещал это. Вот почему законы признают все детские обязательства недействительными; а если строгие отцы и наставники и требуют выполнения детских обязательств, то только по отношению к таким вещам, которые ребенок должен делать даже без всякого обещания.
Итак, ребенок, не сознавая, что делает, когда обязуется, не может и лгать, принимая обязательство. Другое дело, когда он нарушает обещание; это уже известного рода ложь, так как он очень хорошо помнит о своем обещании, но только не видит важности его выполнения. Не умея предвидеть будущее, он не может предвидеть и последствий каждой вещи и, когда нарушает свои обязательства, не делает ничего несообразного со своим возрастом.
Из этого следует, что лганье детей есть дело наставников и что желать научить ребенка говорить правду, значит, ничего больше как научить его лгать. В поспешности, с какою его исправляют, направляют, учат, им все кажется еще мало орудий. Помощью безосновательных правил и бессмысленных наставлений, хотят усилить влияние на ум ребенка, и предпочитают, чтоб он знал свои уроки и лгал, нежели оставался бы правдивым невежей.
Что же касается нас, то так как мы даем нашим воспитанникам только практические уроки и лучше желаем, чтобы они были добры, чем учены, то мы и не станем требовать от них истины, из боязни, чтобы они ее не скрыли, и не заставляем давать обещаний, которых им не захотелось бы выполнить. Если в мое отсутствие случишь какая-нибудь беда, и я не знаю ее виновника, то остерегусь обвинить Эмиля, или сказать ему: «Не вы ли это сделали?» Ничего не может быть не скромнее этого вопроса, в особенности, если ребенок виноват: он сочтет, что вам известен его поступок, и подумает, что вы расставляете ему сети, и мнение это не может не вооружить его против вас. Если он этого не подумает, то скажет себе: зачем признаюсь я в моей вине? И вот первый повод ко лжи является следствием вашего неосторожного вопроса.
Если своенравный характер ребенка принудит меня сделать с ним какое-нибудь условие, я приму меры, чтобы предложение всегда было сделано им, а не мною; чтобы во всяком обязательстве у него была настоящая и осязательная выгода выполнить его, чтобы в случае нарушения обязательства ложь ребенка навлекла на него зло, причину которого он видел бы в самом порядке вещей, а не в мстительности своего воспитателя. Но, не прибегая к таким жестоким средствам, я почти уверен, что Эмиль весьма поздно узнает, что такое ложь, и что, узнав ее, будет только удивляться ей, не понимая, к чему она может служить. Ясно, что чем независимее делаю я его благосостояние от чужой воли или от чужих мнений, тем более уничтожаю для него всякую выгоду лжи.
Если не спешишь поучать, то не спешишь и требовать и стараешься все делать при случае. Тогда развитие ребенка заключается в том, что он не портится. Но если какой-нибудь беспутный учитель, не умея взяться за дело, беспрестанно заставляет ребенка обещать то то, то другое, без разбора и без меры, ребенок, утомленный, осажденный всеми этими обещаниями, перестает обращать на них внимание, забывает их, наконец пренебрегает ими и, считая их бесполезными формулами, забавляется тем, что дает и нарушает их. Если хотите, чтоб он был верен в исполнении своего слова, будьте скромны в своих требованиях.
Подробности, на которые я указал, говоря о лжи, можно, во многих отношениях, применить во всем другим обязанностям, которые предписывают детям и делают не только ненавистными, но и невыполнимыми. Ради мнимых проповедей о добродетели, их заставляют полюбить все пороки: запрещением иметь пороки порождают в них эти пороки. Для того чтобы сделать детей благочестивыми, их беспрестанно водят скучать в церковь; заставляя вечно бормотать молитвы, их вынуждают мечтать о том, чтобы совсем не молиться Богу. Чтоб внушить им милосердие, их заставляют раздавать милостыню, как будто сами пренебрегают исполнять это. Не ребёнку следует давать милостыню, а учителю: какова бы ни была его привязанность к своему воспитаннику, он должен оспаривать у него эту честь; он должен дать ему понять, что в его годы человек еще не дорос до нее. Милостыня должна подаваться человеку, который знает цену тому, что дает, и нужду, испытываемую ближним. Ребенок, не знающий ничего подобного, не может считать заслугою свое пожертвование; он дает не из милосердия, не из благотворительности: он почти стыдится давать, когда, основываясь на своем и вашем примере, думает, что одни только дети дают и что, делаясь взрослыми, люди перестают давать милостыню.
Заметьте, что ребенка всегда заставляют давать вещи, которым он не знает цены, деньги, из которых он не может сделать употребления. Ребенок отдаст скорее сто червонцев, чем один пирожок. Но пригласите-ка этого щедрого раздавателя милостыни отдать вещи, которые ему дороги, игрушки, конфеты, завтрак, и вы скоро узнаете, действительно ли сделали его щедрым.
Это дело устраивают еще так, что поспешно возвращают ребенку то, что он дал, так что он приучается давать только то, что уверен получить обратно. Я подмечал в детях только два рода щедрости: давать то, что им не нужно, или то, в возвращении чего они уверены. «Сделайте так, – говорит Локк, – чтобы они на опыте убедились, что самый щедрый всегда вместе с тем и самый богатый». Это значит сделать ребенка щедрым на вид, но скупым на самом деле. Локк прибавляет, что «таким образом дети приучатся к щедрости. Да, к ростовщицкой щедрости, которая дает яйцо, чтобы получить быка. Но как скоро дело зайдет о том, чтобы действительно дать что-нибудь – прости привычка! Если ребенку перестанут возвращать данное, он перестанет и давать. Нужно скорее стараться о привычках души, нежели рук. Все другие добродетели, которым поучают детей, похожи на эту, и вот ради проповедей о таких прочных добродетелях принуждают их грустно тянуть свои молодые годы!» Не правда ли, какое ученое воспитание?
Наставники, бросьте притворство, будьте добродетельны и добры; пускай ваши примеры запечатлеваются в памяти ваших воспитанников, пока проникнут в их сердца. Вместо того чтобы спешить с требованием милосердия от моего воспитанника, я лучше сам буду проявлять милосердие в его присутствии и лишу его даже возможности подражать мне в этом, ибо такая честь ему не по летам: не следует приучать его смотреть на человеческие обязанности только как на детские обязанности. А если, видя меня помогающим бедным, он начнет расспрашивать меня и приспеет время отвечать ему (понятно, что я отвечаю на его вопросы не тогда, когда ему угодно: это значило бы подчиниться его воле и поставить себя в самую опасную для воспитателя зависимость от воспитанника), я скажу: «друг мой, я делаю это потому, что когда бедные согласились, чтобы были богатые, богатые обещались кормить всех тех, кому нечем жить, у кого нет ни имущества, ни работы». «Значит, вы тоже обещали это?» – возразит он. «Разумеется, я пользуюсь имуществом, проходящим чрез мои руки, только под условием, которое связано с его владением».
Услыхав эту речь (а мы видели, каким образом ребенка можно довести до ее понимания), иной, а не Эмиль, мог бы захотеть подражать мне и вести себя как богач; в подобном случае, я постараюсь помешать ему, по крайней мере, тщеславиться этим; я предпочитаю, чтобы он похитил у меня мое право и подавал милостыню тайком. Подобный обман свойственен его возрасту и – единственный, который я бы ему простил.
Я знаю, что все эти добродетели из подражания – не более как добродетели обезьяны, и всякое доброе дело только тогда бывает нравственно-хорошим, когда делается как доброе дело, а не потому, что так делают другие. Но в возрасте, когда сердце еще ничего не чувствует, нужно заставить детей подражать действиям, к которым хочешь их приучить, в ожидании, пока они в состоянии будут их делать с рассудком и из любви к добру. Человек склонен к подражанию и даже животное склонно к тому же; склонность к подражанию – естественное свойство, но в обществе оно превращается в порок. Обезьяна подражает человеку, которого боится, и не подражает животным, которых презирает; она считает хорошим то, что делает существо высшее. У нас же, напротив того, наши разнородные арлекины подражают прекрасному с целью унизить его, сделать его смешным. Они стараются приравнять к себе то, что лучше их, а если и усиливаются подражать тому, чему удивляются, то по выбору предметов виден ложный вкус подражателей: они скорее хотят обмануть других или снискать одобрение своему искусству, чем сделаться лучше или умнее. Начало подражания лежит у нас всегда в желании превзойти себя. Если мое предприятие удастся, у Эмиля, конечно, не будет такого желания.
Вникните во все правила воспитания, вы найдете, что все они противоречат здравому смыслу, в особенности в том, что касается добродетели и нравов. Единственный урок нравственности, годный в детском возрасте и самый важный во всяком возрасте, заключается в том, чтобы никогда и никому не делать зла. Само наставление делать добро, если оно не подчинено ему, опасно, лживо, противоречиво. Кто же не делает добра? Все его делают, злые как и добрые; они делают одного счастливого насчет сотни несчастных; и отсюда проистекают все наши бедствия. Самые высокие добродетели суть отрицательные; они также и самые трудные, потому что не громки и лишены даже той сладостной для человеческого сердца отрады – отпустить от себя кого-нибудь довольным. О, какое благо делает своим ближним человек (если такой есть), который никогда не делает их зла! Какая отвага души, какая сила характера нужна ему для этого! Не в умствованиях об этом правиле, а на практике только чувствуется вся важность и трудность удачи.[13]
Вот несколько слабых идей о тех предосторожностях, с какими я желал бы давать детям наставления, в которых им иногда нельзя отказать, не подвергая их возможности вредить самим себе или другим и перенимать дурные привычки, от которых потом трудно будет их исправить. Но будьте уверены, что эта необходимость редко представится для детей, воспитанных как следует: ин невозможно будет сделаться непослушными, злыми, лживыми, жадными, если в сердцах их не будут посеяны задатки этих пороков. Поэтому то, что я говорил здесь, служит скорее как исключение, нежели как правило; но исключения эти учащаются по мере того, как детям представляется случай выходить из своего состояния и заражаться пороками взрослых людей. Тем из детей, которые воспитываются в среде общества, необходимы более ранние наставления, нежели тем, которых воспитывают в уединении. Это уединенное воспитание было бы предпочтительнее уже но одному тому, что оно даст ребенку время созреть.
Есть другой род, совершенно противоположных, исключений для детей, счастливая организация которых возвышает их над их возрастом. Подобно тому, как есть люди, которые никогда не выходят из детства, есть и такие, которые, так сказать, никогда не бывают детьми и становятся человеком почти с самого рождения. Дурно то, что это исключение встречается весьма редко, весьма трудно распознается и что каждая мать, воображая, что ребенок может быть чудом, не сомневается в том, что ее ребенок именно один из таких. Они идут даже дальше, они принимают за необыкновенные приметы то, что составляет только нормальное явление: живость, ветреность, остроумную наивность, что составляет характеристические признаки этого возраста и лучше всего доказывает, что ребенок есть только ребёнок. Удивительно ли, что тот, кому позволяется все говорить, кто не стесняется никакими соображениями, никакими приличиями, натолкнется иногда на счастливое выражение? Удивительно было бы, если б это не случалось, как удивительно было бы, если б, предсказывая тысячу лживых вещей, астролог никогда не предсказал ни одной истины. Они столько лгут, говорил Генрих IV, что, наконец, скажут правду.
Самые блестящие мысли могут запасть в голову детей или, скорее, умнейшие слова могут попасть им на язык, точно так, как и самые драгоценные бриллианты в их руки; но это еще не значит, чтобы мысли и бриллианты принадлежали им: для этого возраста не существует никакого рода собственности. Вещи, которые говорит ребенок, имеют для него иной смысл, чем для нас; он не связывает с ними таких же идей. Идеи, если только они у него есть, не имеют в его голове ни последовательности, ни связи; в мыслях его нет ни определительности, ни точности. Рассмотрите ваше мнимое чудо. В иные моменты вы найдете в нем необыкновенно деятельное начало, ясность мысли, заносящую его за облака. Чаще же всего ум его является вам слабым, вялым и как бы окруженным густым туманом. Он то опережает вас, то остается неподвижным.
Иногда вы сказали бы – это гений, а минуту спустя – это дурак. И то и другое будет ошибочно: это ребенок. Это орленок, который на минуту поднимется в воздухе и тотчас же падает назад в гнездо.
Обращайтесь же с ребенком сообразно его возрасту и берегитесь, как бы, вследствие усиленного упражнения, не истощить его сил. Если молодой мозг разгорячится, если вы видите, что он начинает закипать, оставьте его бродить на свободе, но никогда не возбуждайте его, из боязни, чтобы он весь не испарился, а если первые всходы мысли испарились, удерживайте, обуздывайте остальные, дабы с годами все превратилось в живительную теплоту и настоящую силу. Иначе вы потеряете ваше время и хлопоты, уничтожите собственное дело и, неосторожно упившись жаркими парами, получите только выжимки, лишенные всякой крепости.
Из ветреных детей выходят дюжинные люди: я не знаю более общего и более верного замечания, как это. Ничего нет труднее, как различить в ребенке действительную тупость от той наружной и обманчивой тупости, которая характеризует сильную душу. Сначала кажется странным, что эти две крайности отличаются столь сходными признаками, а между тем это так и должно быть; потому что в возрасте, когда у человека еще нет никаких истинных идей, вся разница между тем, у кого есть гений, и тем, у кого его нет, в том, что последний высказывает одни ложные идеи, а первый, находя их все такими, не высказывает никаких. Он походит, следовательно, на глупца тем, что тот ни на что не способен, а этому ничто не годится. Единственный признак, могущий отличить их, зависит от случая, который может дать последнему какую-нибудь идею, которую он может понять, тогда как первый всегда и везде одинаков. Молодой Катон, во время своего детства, казался дураком дома. Он был молчалив и упрям; вот все, что могли сказать о нем. Только в прихожей Силлы дяде пришлось узнать его. Не войди он в эту прихожую, он слыл бы может быть тупицей вплоть до разумных лет; не живи Цезарь, может быть этого самого Катона, который разгадал его пагубный гений и заранее предусмотрел все его намерения, считали бы мечтателем. Как ошибаются люди, которые так поспешно судят о детях! Часто люди эти – больше дети, чем сами дети. Я видел, уже довольно пожилым человека, слывшего в семье своей и среди друзей за ограниченную голову; необыкновенный ум этот зрел в тишине. Вдруг он высказался философом, и я не сомневаюсь, что потомки наши отведут ему почетное и видное место между самыми лучшими мыслителями и самыми глубокими метафизиками его века.[14]
Уважайте детство и не спешите судить о нем ни в хорошую, ни в дурную сторону. Дайте исключениям выказаться, доказать себя и окончательно утвердиться, прежде чем примете во внимание к подобному исключению какую-нибудь особую методу. Предоставляйте действовать природе возможно дольше, прежде чем начнете действовать за нее из боязни, что дело ее не сделается. Вы знаете, говорите вы, цену времени и не хотите его терять. Да разве вы не видите, что при дурном употреблении пропадает его еще больше и что дурно выученный ребенок еще дальше от мудрости, чем тот, которого ничему не учили. Вы ужасаетесь, видя, что он проводит в бездействии свои первые года. Как, разве быть счастливым не стоит чего-нибудь? Разве прыгать, играть, бегать целый день не стоит чего-нибудь? Во всю свою жизнь не будет ребенок так занят. Платон в своей «Республике», которую считают такою суровою, воспитывает детей только среди праздников, игр, песен, забав; подумаешь, что, научив их веселиться, он научил их всему; а Сенека говорит о древней римской молодежи: «Она была всегда на ногах; ее ничему не учили такому, чему она должна была бы учиться сидя».[15] Разве она от этого была хуже, когда достигала возмужалости? Не бойтесь же мнимой праздности. Что сказали бы вы о человеке, который, чтобы не терять ни одной минуты жизни, вздумал бы отказаться от сна? Вы сказали бы: этот человек безумный; он не пользуется временем, а отнимает его у себя; избегая сна, он призывает смерть. Помните же, что здесь тоже самое, и что детство – сон разума.
Кажущаяся легкость ученья и бывает причиною гибели детей. Люди не видят, что самая легкость эта есть доказательство, что дети ничему не научаются. Мозг их гладкий и выполированный отражает, подобно зеркалу, подставляемые ему предметы; но ничто не остается, ничто не проникает. Ребенок запоминает слова, идеи отражаются; те, кто его слушают, понимают их, но ребенок ничего не понимает.
Хотя память и мышление две существенно различные способности, однако же, на самом деле, они развиваются вместе. До наступления разумных лет, ребенок удерживает не идеи, а образы. Между теми и другими есть та разница, что образы суть только абсолютные изображения видимых предметов, а идеи выражают понятия о предметах, определяемые отношениями. Образ может оставаться одиноким в уме, который представляет его себе; но всякая идея предполагает существование других идей. Воображением – видишь; пониманием – сравниваешь. Ощущения наши совершенно страдательные, между тем как все понятия и идеи порождаются в нас деятельным началом, которое судит. Это будет доказано ниже.
Итак, я говорю, что дети, не будучи способны мыслить, не имеют и настоящей памяти. Они запоминают звуки, образы, ощущения, редко идеи, еще реже связь. Возражая мне, что они выучивают некоторые начала геометрии, думают опровергнуть мои слова, а между тем только подтверждают их – показывая, что дети не только не умеют сами рассуждать, но не умеют даже запоминать чужих рассуждений: проследите-ка метод этих маленьких геометров и вы тотчас увидите, что они запомнили только точный вид фигуры и термины доказательств. При малейшем новом возражении, они теряют голову. Поставьте иначе фигуру, и они перестают понимать. Все их знание заключается в ощущении, ничто не переходит в мышление. Сама память их вовсе не лучше, чем остальные их способности: когда сделаются взрослыми, им почти всегда приходится переучивать вещи, слова которых они запомнили в детстве.
Я, впрочем, весьма далек от мысли, чтобы у детей не было ровно никакого рассудка.[16] Напротив того, я вижу, что они очень хорошо рассуждают о том, что знают и что касается их настоящей и осязательной выгоды. Но люди заблуждаются насчет их познаний: детям приписывают такие познания, каких у них нет, и заставляют их рассуждать о таких вещах, которых они еще не могут понять. Заблуждаются еще и тогда, когда желают обратить внимание детей на соображения, которые их нисколько не интересуют, как например: их будущую выгоду, счастье, уважение, которые их ожидают, когда они вырастут; все эти речи говорятся существам, лишенным всякой предусмотрительности, и, следовательно, не имеют для них никакого значения. Между тем, насильственное обучение этих бедняжек имеет целью именно только эти предметы, совершенно чуждые их уму. Судите, могут ли дети быть внимательны к подобным наставлениям.
Педагогам, с торжеством выказывающим пред нами познания, которыми они наделяют своих учеников, платят для того, чтоб они говорили другое; но все поведение их доказывает, что думают они точно так же, как и я. Ибо чему же, наконец, учат они детей? Словам, словам и только словам. Из различных наук, преподаванием которых они похваляются, они не избирают таких, которые на самом деле были бы полезны детям, а избирают такие, в которых достаточно заучить термины, для того, чтобы казалось, что их знаешь, геральдику, географию, хронологию, языки и проч., – науки, которые так мало касаются человека, а в особенности ребенка, что надо дивиться, если хоть что-нибудь из всего этого пригодится ему в жизни.
Читатели изумятся, что я считаю изучение языков в числе бесполезных вещей в воспитании; но пусть они вспомнят, что я говорю здесь о занятиях первоначального возраста и не думаю, чтобы какой-нибудь ребенок ранее 12 или 15 лет (за исключением диковинных детей) когда-нибудь действительно изучил два языка.
Я согласен, что если б изучение языков состояло только в изучении слов, т. е. образов или звуков, выражаемых ими, то это изучение могло бы годиться для детей; но языки, изменяя обозначения, изменяют также и идеи, изображаемые ими. Склад головы зависит от языка; мысли принимают оттенки наречий. Один только разум общ, ум же в каждом языке имеет свою особенную форму; это различие представляет, может быть, одну из причин или одно из следствий национальных характеров: предположение мое подтверждается тем, что, у всех народов в мире, язык следует за всеми изменениями нравов, – вместе с ними портится и вместе с ними сохраняется.
Из этих различных форм, ребенок усваивает одну форму, и сохраняет ее до разумного возраста. Чтобы овладеть двумя формами, нужно было бы уметь сравнивать идеи, а где же ему сравнивать их, когда он едва-едва может их понять? Каждая вещь может иметь для него тысячу различных обозначений; но каждая идея может иметь только одну форму; следовательно, он может научиться говорить только на одном языке. Однако же, скажут мне, дети выучиваются нескольким языкам. Я отрицаю это. Я видел необыкновенных детей, которые воображали, что говорят на пяти или на шести языках. Я слышал, как они поочередно говорили по-немецки, латинскими, французскими, итальянскими выражениями; они употребляли в дело пять-шесть словарей, но говорили всегда только по-немецки. Давайте детям сколько угодно синонимов: вы измените слова, но не язык. Они никогда не будут знать больше одного языка.
Чтобы скрыть неспособность детей к изучению языков, их заставляют преимущественно изучать мертвые языки, относительно которых не существует судей, которых нельзя было бы отвергнуть. Так как обыденное употребление этих языков исчезло давным-давно, то и удовлетворяются подражанием тому, что написано в книгах; и это называется говорить на этих языках. Если таков греческий и латинский язык учителей, то судите, каков должен быть язык детей. Едва успеют они вызубрить свою латинскую грамматику, из которой ровно ничего не понимают, как их принимаются учить сначала передаче французской речи латинскими словами; затем, при дальнейших успехах, перешивке фраз Цицерона и стихов Вергилия. Дети воображают при этом, что говорят по-латыни: кто же может опровергнуть их?
При изучении чего бы то ни было, обозначения ровно ничего не значат, если не сопровождаются идеями о тех вещах, которые они изображают. А между тем с ребенком всегда ограничиваются обозначениями, не будучи никогда в состоянии заставить его понять ни одной из изображаемых этими обозначениями вещей. Думая познакомить его с описанием земли, его знакомят только с картами: его обучают названиям городов, стран, рек, существования которых где-либо в ином месте, кроме как на бумаге, где ему их показывают, он никак не может взять в толк. Мне помнится, я где-то видел географию, начинавшуюся так: что такое земля? Земля есть картонный шар. Вот именно такова и детская география. Я убежден, что не найдется ни одного десятилетнего ребенка, который после двухлетнего изучения географии и космографии сумел бы, соображаясь с данными ему правилами, добраться из Парижа в Сен-Дени. Я убежден, что не найдется ни одного, который, соображаясь с планом отцовского сада, был бы в состоянии обойти все его извороты, не заблудись.
Вот каковы эти доктора, знающие с точностью, где находятся Пекин, Испогань, Мексика и все страны земные.
Говорят, что детей нужно занимать только такими науками, для которых нужны только глаза: это могло бы быть справедливо, если б такие науки существовали; но я их не знаю.
Вследствие другой, еще более смешной ошибки их заставляют изучать историю, воображая, что история доступна их пониманию, потому что представляет собою только сборник фактов. Но что же подразумевают под этим словом факты? Уж не воображают ли, что отношения, определяющие исторические факты, так легко схватываются, что понятие о них без труда составляется в уме детей? Не думают ли, что можно отделить действительное знакомство с событиями от знакомства с их причинами и следствиями, и что исторические явления мало связаны с нравственными, так что можно ознакомиться с одними не зная других? Если в действиях людских вы будете видеть одни только внешние и чисто физические движения, чему же научаетесь вы из истории? решительно ничему; и подобное изучение, лишенное всякой занимательности, доставляет так же мало удовольствия, как и пользы. Если же вы хотите оценить эти явления по нравственным их отношениям, то попробуйте-ка сделать эти отношения понятными для ваших учеников; тогда вы увидите, можно ли изучать историю в этот возраст.
Читатели, помните, что с вами говорит не ученый, не философ, а простой человек, друг истины, не имеющий ни партии, ни системы, отшельник, который, мало живя с людьми, имеет меньше случаев усваивать их предрассудки и больше времени на размышление о том, что поражает его, когда он приходит с ними в соприкосновение. Рассуждения мои основаны больше на фактах, чем на принципах, и я думаю, что не могу дать вам лучшего средства судить об этих рассуждениях, как передавая вам по временам образцы тех наблюдений, которые внушили мне их.
Однажды я приехал на несколько дней в деревню к одной доброй матери семейства, которая очень заботилась о воспитании своих детей. Утром, когда я присутствовал при уроке старшего из них, гувернер остановился на известной сцене между Александром и медиком его Филиппом, послужившей темой для картины и вполне заслужившей это.[17] Гувернер, человек с большими достоинствами, высказал о мужестве Александра несколько замечаний, которые мне не понравились, но которых я не стал опровергать, чтобы не уронить его в глазах воспитанника. За столом, не преминули, сообразно французским обычаям, заставить болтать маленького человечка. Живость, свойственная его возрасту, и ожидание похвалы побудили его наболтать тысячу глупостей, сквозь которые по временам прорывалось несколько удачных выражений, заставлявших забывать остальное. Наконец дошла очередь и до истории медика Филиппа: он рассказал ее очень бойко и очень ловко. После обычной дани похвал, требуемых матерью и ожидаемых сыном, начали рассуждать о сказанном. Большинство порицало смелость Александра; иные, по примеру гувернера, восхищались его твердостью, мужеством, что дало мне понять, что никто из присутствовавших не понимал, в чем заключается настоящая прелесть этого поступка. Мне кажется, сказал я, что если в поступке Александра есть хоть сколько-нибудь храбрости, или твердости, то поступок этот не более как сумасбродство. Все стали соглашаться, что это – сумасбродство. Я думал было отвечать, стал горячиться, но одна женщина, сидевшая возле меня и не открывавшая рта во все время, нагнулась ко мне и тихо сказала мне: Молчи, Жан-Жак, они тебя не поймут. Я взглянул на нее и, пораженный, замолчал.
После обеда, подозревая, по некоторым данным, что юный мой доктор ровно ничего не понял из истории, которую так отлично рассказал, я взял его за руку и пошел ходить по парку. Расспросив его на свободе, я нашел, что он больше чем кто-нибудь удивлялся хваленой храбрости Александра: но, знаете ли, в чем он видел эту храбрость? Единственно в том, что тот проглотил разом не задумавшись и не поморщившись невкусное питье. Бедный ребенок, которого только за две недели пред тем заставили принять лекарство, помнил еще до сих пор его неприятный вкус. Смерть и отравление были в его уме только неприятными ощущениями; он не признавал другого яда, кроме александрийского листа. Нужно, однако, сказать, что твердость героя сделала сильное впечатление на молодое сердце, и что ребенок твердо решился быть Александром при первом лекарстве, которое ему придется проглотить. Не входя в объяснения, которые очевидно были недоступны его пониманию, я укрепил его в этих похвальных чувствах и возвратился домой, внутренне смеясь над высокою мудростью отцов и наставников, которые думают обучать своих детей истории.
Легко вложить им в уста имена королей, империй, войн, завоеваний, революций, законов; но как скоро дело дойдет до придания этим словам ясного смысла, все объяснения окажутся глупее разговора с садовником Робером.
Иные читатели, недовольные словами: смолчи Жан-Жак, спросят – я предвижу – что же, наконец, нахожу я такого прекрасного в поступке Александра. Несчастные! если вам нужны объяснения, то где же вам понять это? Я нахожу то прекрасным, что Александр верил в добродетель; что он верил в нее, рискуя головою, собственною жизнью; что великая душа его не могла не верить в нее. О, каким чудным признанием веры было это проглоченное лекарство! Никогда ни один смертный не заявил своей веры более величественно. Если есть какой-нибудь новейший Александр, пусть укажут мне в нем подобные черты.
Если нет науки слов, то значит нет и науки годной для детей. Если у них нет истинных идей, то нет, значит, и настоящей памяти, потому что я не называю памятью то, что удерживает одни только ощущения. К чему служит вносить в их голову перечень обозначений, которые ничего для них не выражают? Изучая вещи, не изучат ли они также и обозначений? Зачем налагать на них бесполезный труд заучивать эти обозначения два раза? А между тем, какие опасные предрассудки внушают им, позволяя считать за науку слова, не имеющие никакого смысла! Суждения ребенка искажаются с первым словом, которым он удовлетворяется, с первою вещью, которой он верит с чужих слов, не видя сам ее полезности: долго придется ему блистать в глазах глупцов, прежде чем вознаградится такая потеря.[18]
Нет, если природа дала детскому мозгу ту мягкость, которая делает его способным воспринимать всякого рода впечатления, то это вовсе не для того, чтобы на нем вырезывали имена королей, чисел, геральдических терминов, терминов географии и всех этих слов, непонятных для его возраста и бесполезных для какого бы то ни было другого, слов, которыми обременяют его грустное и бесплодное детство. Природа устроила его голову так для того, чтобы все идеи, которые он может понять и которые полезны для него, все идеи, которые касаются его счастья и должны со временем указывать ему его обязанности, с ранних пор запечатлевались в нем неизгладимыми чертами и помогали бы ему вести себя в течение всей своей жизни свойственным его природе и способностям образом.
От отсутствия книжных занятий, тот род памяти, который доступен ребенку, не остается в бездействии; все, что ребенок видит, слышит, поражает его и запоминается им. Он запоминает поступки и речи людей, и все, что его окружает, есть книга, из которой он постоянно, хотя и бессознательно, обогащает свою намять, в ожидании пока рассудок будет в состоянии воспользоваться ею. В выборе этих предметов, в заботах о том, чтобы показывать ему то, что пригодно, и скрывать то, что не годится, состоит настоящее искусство развития в нем этой первой способности; этим-то способом и нужно стараться образовать в нем запас познаний, полезных для его воспитания в пору юности и направляющих его поведение во всю жизнь. Эта метода, правда, не образует необыкновенных детей и не дает случая отличиться гувернанткам и преподавателям; но образует людей рассудительных, сильных, здоровых телом и умом, которые, не возбуждая удивления в юности, заставляют уважать себя сделавшись взрослыми.
Эмиль никогда и ничего не будет учить наизусть, ни даже басен; он не будет даже заучивать басен Лафонтена, несмотря на все их добродушие и прелесть; потому что слова басен точно так же не составляют самих басен, как и слова истории не составляют истории. Можно ли до того заблуждаться, чтобы называть басни нравоучением для детей? Мы упускаем из виду, что басни, забавляя их, вместе с тем вводят их в заблуждение, что, обольщенные ложью, дети упускают из вида истину и что старание сделать им поучение приятным лишает его возможности быть полезным. Басни могут поучать взрослых; но детям нужно говорить голую правду; как скоро ее прикрывают покровом, они не дают себе труда приподнимать его.
Всех детей заставляют учить басни Лафонтена, а нет ни одного ребенка, который понимал бы их. Если б дети понимали их, было бы еще хуже, потому что нравоучение в них такое запутанное и несообразное с детским возрастом, что скорее направило бы ребенка к пороку, чем к добродетели. Вы скажете, что я опять говорю парадоксы. Пусть так; но посмотрим, не истины ли это.
Я говорю, что ребенок не понимает басен, учить которые его заставляют, потому что, несмотря на все усилия сделать их простыми, приходится – вследствие поучения, которое хотят из них извлечь – вводить в них идеи, которых ребенок не может усвоить; наконец даже самая поэтическая форма их, облегчая заучиванье, затрудняет понимание; так что приятность покупается насчет ясности. Не говоря о множестве басен, в которых ровно ничего нет понятного и приятного для детей и которые их заставляют, без всякого разбора, заучивать вместе с другими, ограничимся теми, которые автор как будто специально предназначает для детей.
В целом сборнике Лафонтена я знаю только пять или шесть басен, в которых, несомненно, блещет ребяческое добродушие; из этих пяти или шести я беру для примера первую, ту, нравоучение которой понятнее для всех возрастов и которую дети понимают лучше и выучивают с наибольшим удовольствием, ту, наконец, которую, вследствие всего этого, автор поместил во главе своей книги. Если на самом деле предположить, что содержание ее может быть понятным для детей, нравиться им и поучать их, то конечна басня эта мастерское произведение: пусть же будет мне дозволено в немногих словах проследить и разобрать ее.[19]
- Le Corbeau et le Renard. Fable.
- Vaitre corbeau, sur un arbre perche.
Maitre! Что значит это слово само по себе? что значит оно рядом с именем собственным? какой смысл имеет оно в этом случае?
Что такое un corbeau?
Что такое un arbre perche? Не говорится sur un arbre perche, говорится perche sur un arbre. Следовательно, приходится говорить о вольной перестановке слов в поэзии; нужно сказать, что такое проза и что стихи.
Tenait dans son bec un fromage.
Какой сыр? Швейцарский ли, бри, или голландский? Если ребенок не видал ворон, какая вам польза упоминать об них? если он видал их, то как представит он себе, что ворона держит в клюве кусок сыру? Надо всегда рисовать картины с природы.
- Maitre renard, par l’odeur alleche,
Опять слово maitre! но тут-то оно у места: лисица мастер своего дела. Надо сказать, что такое лисица, и отделить ее настоящий характер от условного, придаваемого ей в баснях.
Alleche. Это слово редко употребляется. Нужно его объяснить; нужно сказать, что оно употребляется только в стихах. Ребенок спросит, почему в стихах говорится иначе, нежели в прозе. Что вы ему ответите?
Alleche par l’odeur d’un fromage! Сыр, который держала ворона, взгромоздясь на дерево, должен был иметь сильный запах, чтобы его могла пронюхать лисица из лесу или из своей норы! Так-то вы приучаете вашего воспитанника к тому духу разумной критики, благодаря которой человек верит только действительной истине и умеет различать правду от лжи в чужих рассказах?
- Lui tint a peu pres ce langage:
Се langage? Лисицы говорят, следовательно? и говорят на одном языке с воронами? Мудрый наставник, берегись: хорошенько взвесь свой ответ; он важнее, чем ты думаешь.
- Eh! bonjour, monsieur le corbeau!
Monsieur! титул, который обращают в смех еще прежде, нежели ребенок поймет, что это почетный титул. Тем, которые говорят monsieur du Corbeau, много будет труда, пока они объяснят это du.
- Que vous etes joli! Que vous me sembles beau!
Вставка, бесполезное многословие. Ребенок, видя повторение одного и того же, в разных выражениях, привыкает размазывать свою речь. Если вы скажете, что в этом многословии выказывается искусство автора, что оно входит в планы лисицы, которая хочет, многословием, как бы удвоить похвалы, то эта уловка хороша для меня, а не для воспитанника моего.
- Sans mentir, si votre remage.
Sans mentir! Значит иногда лгут? Что подумает ребенок, если вы скажете ему, что лиса только потому и говорит sans mentir, что лжет?
- Repondait a votre plumage,
Repondait! Что означает это слово? Попробуйте научить ребенка сравнивать качества столь различные, как голос и перья, и вы увидите, поймет ли он вас.
- Vous series le phenix des hotes de ces bois.
Le phenix! Что такое phenix! мы внезапно очутились в лживой древности, почти в мифологии.
Les hotes de ces bois! Какая цветистая речь! Льстец украшает свою речь и придает ей величавость, чтобы сделать ее привлекательнее. Поймет ли ребенок такую тонкость? Знает ли он и может ли даже знать, что такое высокий слог?
- A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie,
Нужно испытать сильные страсти, чтобы понимать это фигуральное выражение.
- Et, pour monterer sa belle voix,
Не забудьте, что для того, чтобы понять стих этот и всю басню, ребенок должен знать, что такое прекрасный голос вороны.
- Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Стих этот великолепен; одна гармония дает уже картину. Я вижу большой, скверный, открытый клюв; слышу, как падает сыр между ветвей; но красоты эти не существуют для ребенка.
- Le renard s’en saisit, et dit: Mon bon monsineur,
Вот уже доброта превращается в глупость. Нечего сказать, торопятся поучать детей!
- Apprenez que tout flatteur
Общее правило, – мы уже потерялись.
- Vit aux depens de celui qui l’ecoute.
Никогда еще, ни один десятилетний ребенок не понял этого стиха.
- Cette lecon vaut bien un fromage, sans doute.
Понятно, и мысль весьма хороша. Однако мало найдется детей, которые сумели бы сравнить урок с сыром и не предпочли бы сыр уроку. Нужно, следовательно, дать им понять, что это насмешка. Сколько тонкостей для ребенка!
- Le corbeau, honteux et confus,
Опять плеоназм; но этот уже не извинителен.
- Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’u prendrait plus.
Jura! Какой дурак учитель осмелится объяснять ребенку, что такое клятва?
Сколько мелочей! а все-таки гораздо меньше, чем нужно было бы для анализа всех мыслей этой басни и приведения их к простым и элементарным идеям, из которых каждая составлена. Но считается ли необходимым подобный анализ, для того, чтобы быть понятным юношеству? Никто из нас не достаточно философ, чтобы суметь стать на место ребенка. Перейдем теперь к нравоучению.
Спрашивается: разве шестилетним детям нужно объяснять, что есть люди, которые льстят и лгут из выгоды? Самое большое, что можно было бы им рассказать, это что есть насмешники, которые трунят над маленькими мальчиками и втайне смеются над их глупым чванством: но сыр портить все дело; детей тут скорее учат, как заставить выпасть его из чужого клюва, чем не ронять из своего собственного. Это мой второй парадокс, но он так же важен.
Наблюдайте за детьми, когда они учат басни, и вы увидите, что как скоро для них становится возможным применение, оно всегда бывает противным намерению автора, и что вместо того, чтобы исправляться от недостатка, от которого их хотят исправить или предостеречь, они больше склонны восхищаться пороком, помощью которого можно с выгодою пользоваться чужими недостатками. В предыдущей басне, дети смеются над вороной, но все любуются лисой; в последующей вы воображаете, что ставите им в образец стрекозу; вовсе нет, они выберут муравья: Никто не любит унижать себя: и дети всегда выберут красивую роль; это выбор, внушаемый самолюбием и весьма естественный выбор. Между тем, какой ужасный урок для детей! Самым отвратительным из чудовищ был бы скупой и жестокий ребенок, который знал бы цену того, чего у него просят и в чем он отказывает. Муравей же делает больше, он научает ребенка смеяться при отказе.
Во всех баснях, где лев является одним из действующих лиц, ребенок никогда не преминет выбрать для себя роль льва, так как она самая видная; а если распоряжается каким-нибудь дележом, то, наученный образцом, постарается завладеть всем, чем может. Другое дело, когда комар одерживает верх надо львом; тогда ребенок больше не лев, а комар. Он учится убивать со временем жалом тех, на кого не посмеет напасть кулаками.
Из басни худого волка и жирной собаки, вместо примера умеренности, который желают ему представить, он извлекает пример своевольства. Никогда не забуду я одну маленькую девочку, которую привели в отчаяние этой басней и постоянной проповедью о покорности; она горько плакала. С трудом добились, наконец, причины ее слез. Бедный ребенок скучал на привязи; ему щемило шею; он плакал о том, что он не волк.
Итак, нравоучение первой из приведенных басен учит ребенка самой низкой лести; нравоучение второй учит бесчеловечности; нравоучение третьей учит несправедливости; нравоучение четвертой учит сарказму; нравоучение пятой – урок независимости. Последний урок, будучи излишним для моего воспитанника, не делается пригоднее и для ваших. Давая ребенку противоречивые наставления, какого нрава ждете вы от ваших попечений? Но может быть нравоучения, которые служат мне поводом к возражению против басен, заключают в себе и много хороших сторон. В обществе, на словах нужна одна мораль, а на деле другая, и обе эти морали не похожи одна на другую. Первая выражена в катехизисе, где ее и оставляют; другие содержится для детей в баснях Лафонтена, а для матерей в его сказках. Один автор всюду поспевает.
Помиритесь господин де Лафонтен. Что касается меня, я обещаю читать вас с выбором, любить вас, поучаться из ваших басен, потому что надеюсь не ошибиться насчет их содержания; но позвольте не давать учить ни одной из них моему ученику до тех пор, пока вы мне не докажете, что ему полезно заучивать вещи, из которых он не понимает и четвертой доли, что он никогда не перетолкует тех, которые поймет, и что не станет брать за образец плута, вместо того, чтобы исправляться, глядя на жертву обмана.
Уничтожая, таким образом, все детские обязанности, я удаляю орудия величайших их горестей, а именно – книги. Чтение – бич детского возраста, а между тем единственное почти занятие, которое умеют найти для него. Эмиль и на двенадцатом году едва ли будет знать, что такое книга. Скажут: нужно же, по крайней мере, чтобы он умел читать. Согласен; нужно, чтобы он умел читать тогда, когда чтение ему полезно; но ранее этого срока оно может только надоедать ему.
Если ничего не должно требовать от детей ради послушания, то из этого также следует, что нельзя учить их ничему такому, в чем они не видели бы непосредственных результатов для своего удовольствия или для своей пользы; иначе, какая причина может побудить их учиться? Искусство говорить с отсутствующими и слушать их, искусство сообщать им медали и без посредника свои чувства и желания это такое искусство, полезность которого должна быть ощутительна для каждого возраста. Каким же чудом это полезное и приятное искусство сделалось мукою для детей? Оно сделалось мукою потому, что их заставляют заниматься этим искусством против желания и делают из него такое употребление, которого дети не понимают. Ребенку нет выгоды совершенствовать орудие своей пытки; но сделайте так, чтобы это орудие служило для его удовольствий, и он скоро будет заниматься им помимо ваших стараний.
Много хлопочут о том, чтобы приискать лучшую методу для обучения чтению; придумывают конторки, карточки; комнату ребенка превращают в типографскую мастерскую. Локк хочет, чтобы ребенок учился читать посредством игральных костей. Скажите, какая счастливая выдумка! Досадно становится. Средство более верное, чем все эти, средство, о котором всегда забывают, есть желание учиться. Внушите ребенку это желание, а затем оставьте в покое все ваши конторки и игральные кости; всякая метода будет хороша для него.
Выгода настоящей минуты вот великое и единственное побуждение, которым все достигается. Эмиль получает иногда от отца, матери, родных или друзей, пригласительные записки на обед, гулянье, прогулку на воде, на какой-нибудь общественный праздник. Записки эти коротки, ясны, отчетливы и хорошо написаны. Нужно найти кого-нибудь, кто бы прочел их: подобный человек не всегда является вовремя или отплачивает ребенку за вчерашнюю не услужливость такою же не услужливостью. Таким образом, случай, минута проходят. Наконец ему прочитывают записку, но уже поздно. Ах! если б он сам умел читать! Получаются другие записки: они так кратки! содержание их так интересно! хотелось бы попробовать разобрать их; ребенок иногда находит помощь, а иногда встречает и отказ. Он прилагает все старания, и, наконец, разбирает половину записки: дело идет о том, чтобы назавтра отправиться есть сливки… неизвестно ни куда, ни с кем… Сколько усилий, чтобы прочитать остальное! Я не думаю, чтобы Эмилю понадобилась конторка. Стану ли я теперь говорить о письме? Нет; мне совестно пробавляться такими пустяками в трактате о воспитании.
Я прибавляю одно только слово: обыкновенно то, о чем не особенно хлопочешь, получается вернее и скорее. Я почти уверен, что Эмиль будет отлично уметь читать и писать но, достигнув еще десятилетнего возраста, именно потому, что мне все равно, будет ли он уметь читать и писать прежде пятнадцати лет; но я хочу, чтобы он лучше никогда не умел читать, нежели купил бы это звание ценою всего, что может сделать его полезным: к чему послужит ему чтение, если его навсегда отвратят от него!
Чем настойчивее напираю я на свою недеятельную методу, тем больше чувствую, как растут возражения. Если ваш воспитанник ничему не будет учиться от вас, он научится от других. Если вы не предупредите заблуждений посредством истины, он узнает ложь; предрассудками, которые вы так боитесь вселить в него, он заразится от всего окружающего; они войдут в него путем всех пяти чувств; они развратят его разум, прежде даже, чем он образуется в нем, или, окоченевший в долгом бездействии, он поглотится материей. Непривычка думать в детстве парализует на всю жизнь мыслительную способность.
Мне кажется, что я легко мог бы ответить на это; но к чему эти вечные ответы? Если моя метода сама говорит за себя, она хороша; если нет, она никуда не годна. Я продолжаю.
Если, соображаясь с планом, который я начертал, вы будете следовать правилам прямо противоположным тем, которые приняты; если вместо того, чтобы беспрерывно останавливать внимание вашего воспитанника на отдаленных предметах, заставлять его постоянно блуждать в других местностях, других климатах, других столетиях, на оконечностях земли и даже на небесах, – если вместо всего этого вы постараетесь, чтоб он всегда сосредоточивался на самом себе и был внимателен к тому, что непосредственно его касается, то вы найдете в нем способность понимать, помнить и даже рассуждать: таков естественный закон. По мере того как чувствительное существо становится деятельным, оно приобретает рассудок, пропорциональный своим силам, и только при силе, превышающей ту, которая ему необходима для самосохранения, развивается в нем умозрительная способность, помогающая употреблять этот избыток силы на другие цели. Итак, если хотите образовать ум вашего воспитанника, развивайте силы, которыми он должен управлять. Беспрестанно упражняйте его тело; чтобы сделать его умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым; пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть находятся в беспрерывном движении; пусть будет он человеком по силе, он тогда скоро сделается ин и по разуму.
Правда, что этой методой вы могли бы сделать его тупым, если б стала вечно направлять его, вечно следить за ним, говоря: иди туда, сюда, стой, делай то, не делай того. Если ваша голова всегда будет управлять его руками, его собственная голова становится для него бесполезною. Но вомните наши условия: если вы педант, то не стоит вам и читать меня.
Какое жалкое заблуждение – мысль, что телесные упражнения мешают умственной работе; как будто эти два дела не должны идти рядом и одно всегда направлять другое!
Есть два рода людей, тело которых находится в постоянном упражнении и которые конечно мало думают об образовании своей души, а именно: крестьяне и дикари. Первые невежественны, грубы, неловки; вторые, известные своим большим смыслом, еще более известны тонкостью своего ума: вообще нет никого тупее крестьянина и нет никого хитрее дикаря. Отчего это различие? Оттого, что первый, постоянно исполняя чужие приказания, подражая действиям отца или, наконец, вечно делая то, что делал с первых дней молодости, живет по рутине; при такой автоматической жизни и при постоянно одних и тех же работах привычка и послушание заменяют для него разум.
Другое дело – дикарь: не привязанный к местности, не имеющий никакого определенного занятия, не обязанный никому повиноваться, не признающий другого закона, кроме своей воли, – он принужден рассуждать о каждом своем поступке; он не сделает движения, шага, не рассудив заранее о последствиях. Таким образом, чем более упражняется его тело, тем более просвещается ум; сила его и разум растут вместе и взаимно развивают друг друга.
Ученый наставник, посмотрим, который из наших двух воспитанников похож на дикого, и который похож на мужика. Во всем подчиненный вечно поучающей власти, ваш ничего не делает иначе как по приказу; он не смеет ни есть, когда голоден, ни смеяться, когда ему весело, ни плакать, когда ему грустно, ни подавать одну руку вместо другой, ни пошевелить не той ногой, какою ему приказывают; скоро он не будет сметь дышать иначе, как по вашим правилам. О чем хотите вы, чтобы он думал, когда вы думаете за него обо всем? Уверенный в вашей предусмотрительности, зачем ему собственная предусмотрительность? Видя, что вы берете на себя заботу о его сохранении, о его благополучии, он считает себя освобожденным от этого труда; рассудок его полагается на ваш рассудок; он делает без размышления все, чего вы ему не запрещаете, зная, что он ничем не рискует. Зачем ему учиться предугадывать дождь? Он знает, что вы изучаете небо за него. Зачем ему, гуляя, соображаться со временем? он знает, что вы не прогуляете час обеда. Пока вы не запрещаете ему есть, он ест; как скоро вы ему запретите есть, он перестает есть; он слушается не советов своего желудка, а ваших приказаний. Сколько бы вы ни изнеживали его тела в бездействии, вы не делаете его рассудка более гибким. Напротив того, вы окончательно роняете размышление в глазах ребенка, заставляя изощрять его слабый разум на вещах, кажущихся ему самыми бесполезными. Не видя, на что годен разум, он начинает думать, что он ни на что не годен. Худшее, что может с ним случиться, если он станет дурно рассуждать, это, что его остановят, а останавливают его так часто, что он больше об этом не думает; привычная опасность не пугает его больше.
Вы, однако, найдете, что он умен; у него есть ум на то, чтобы болтать с женщинами тоном, о котором я уже говорил: но случись ему необходимость распорядиться самому, принять решение при каких-нибудь трудных обстоятельствах, вы увидите, что он сто раз тупее и глупее, чем сын самого невежественного крестьянина.
Что касается моего воспитанника или, скорее, воспитанника природы, то, рано приученный заботиться насколько возможно о самом себе, он не привык беспрестанно обращаться за помощью к другим, а тем менее выказывать пред ними свои большие познания. Взамен того, он судит, предвидит, рассуждает обо всем том, что касается непосредственно его. Он не болтает, он действует; он ничего не знает о том, что делается в свете, но очень хорошо умеет делать то, что ему нужно. Так как он находится в беспрерывном движении, то принужден наблюдать за множеством вещей, знать о множестве действий; он рано приобретает опытность; он берет уроки у природы, а не у людей; он тем лучше научается, что нигде не видит намерения научить его. Таким образом, тело его и ум развиваются разом. Всегда действуя по своей мысли, а не по чужой, он постоянно соединяет два действия: чем сильнее и здоровее, тем благоразумнее и рассудительнее становится он. Вот средство иметь со временем то, что считается несовместным и что почти все великие люди соединяли в себе: телесную и душевную силу, разум мудреца и силу атлета.
Молодой наставник, я проповедую вам трудное искусство; т. е. искусство воспитывать без правил и делать все не делая ничего. Искусство это, сознаюсь, вам не по летам; оно не может с самого начала выставить в блистательном свете пред отцами ни ваших талантов, ни вас самих; но оно одно может удачно привести вас к цели. Вам никогда не удастся воспитать мудрецов, если вы сначала не воспитаете шалунов: таково было воспитание спартанцев; вместо того, чтобы приклеивать их к книгам, их учили воровать свой обед. А становились ли от этого спартанцы невежественными, когда делались взрослыми? Кому не знакома сила и меткость их ответов? Приготовляемые всегда к победе, они разбивали своих врагов в войне всякого рода; болтливые афиняне столько же боялась их языка, сколько и их ударов.
При самом старательном воспитании, учитель приказывает и воображает, что управляет; но на деле оказывается, что управляет ребенок. Посредством того, чего вы требуете от него, он получает от вас то, что ему нравится, и всегда сумеет заставить вас заплатить ему, за час послушания, восьмью днями снисходительности. Каждую минуту нужно с ним договариваться. Эти договоры, предлагаемые вами по-вашему, а исполняемые им по-своему, всегда обращаются в пользу его прихотей, в особенности если вы имеете неловкость поставить ему условием вещь, которую он уверен получить независимо от того, исполнит ли то, что на него налагаете. Обыкновенно ребенок гораздо лучше читает в уме учителя, нежели учитель в сердце ребенка. Да так и должно быть; потому что всю смышленость, какую ребенок, будь он предоставлен самому себе, употребил бы на заботу о самосохранении, он употребляет на спасение своей природной свободы от цепей своего тирана, тогда как последний, не имея ровно никакой особенной надобности разгадывать ребенка, находит иногда более удобным предоставлять ему лениться или тщеславиться.
Действуйте с вашим воспитанником наоборот; пусть он всегда думает, что он господин, лишь бы на деле господином всегда были вы. Нет более полного подчинения, как то, которое имеет вид свободы; оно порабощает самую волю. Разве бедный ребенок, который ничего не знает, ни на что не способен, ни с чем не знаком, не в вашей власти? Разве вы не располагаете, относительно его, всем, что его окружает? Разве, вы не властны в его ощущениях? Разве его занятия, игры, удовольствия, горести, – разве все это не в ваших руках? Конечно, он должен делать только то, что хочет; но он должен хотеть только того, чего вы хотите, чтоб он делал; он не должен ступить шага, которого вы не предугадали бы, не должен открывать рта без того, чтобы вы не знали, что он скажет.[20]
Тогда только можно ему будет предаваться необходимым телесным упражнениям, не притупляя своего уха; тогда только вместо того, чтобы изощрять свою хитрость на увертках от беспокойного господства, он будет заниматься единственно тем, чтобы воспользоваться всем, что его окружает, самым выгодным для своего настоящего благополучия образом; вы будете изумлены тонкостью его выдумок для присвоения себе всего, что ему доступно, и для действительного наслаждения, не зависящего от каких-либо условных понятий.
Оставляя его, таким образом, господином своей воли, вы не возбуждаете его к капризам. Делая всегда то, что нравится, он вскоре станет делать только то, что должно, и хотя тело его будет находиться в постоянном движении, вы убедитесь, что всякий раз, когда дело коснется настоящей и видимой выгоды, весь разум свойственный возрасту ребенку разовьется гораздо лучше, нежели при чисто умозрительных занятиях.
Таким образом, не видя в вас постоянного стремления противоречить ему, не чувствуя к вам недоверия, не имея ничего скрывать от вас, он не будет обманывать вас, не станет лгать; без боязни, он – в своем настоящем свете; вам можно будет изучить его на свободе и так распределить вокруг него уроки, которые вы хотите ему дать, что он никогда и не догадается, что это уроки.
Он также не станет с любопытною ревностью подсматривать за вашими нравами, и не будет испытывать тайного удовольствия при виде ваших промахов. Неудобство, которое мы предупреждаем, таким образом, очень велико. Одною из первых забот у детей, это, как я уже сказал, открыть слабую сторону тех, кто ими руководит. Склонность эта порождает злость, а не составляет следствия последней: она является вследствие потребности ускользнуть из-под надоедающей власти. Падая под тяжестью налагаемого на них ига, дети стараются сбросить его, а недостатки, замечаемые ими в своих наставниках, доставляют им верные для того средства. Между тем, являются привычка к изучению недостатков в людях и удовольствие при их открытии. Ясно, что вот еще один источник пороков, уничтоженный в сердце Эмиля; не находя ровно никакой выгоды в открытии моих недостатков, он не станет отыскивать их во мне и ему также мало захочется отыскивать их и в других.
Все эти приемы кажутся трудными, потому что о них не думают; но, в действительности, они не должны быть трудными. Мы найдем право предполагать в вас сведения, необходимые для занятия ремеслом, выбранным вами; мы должны предполагать, что нам знакомо естественное развитие человеческого сердца, что вы умеете изучить человека и индивида; что вы заранее знаете, на что склонится воля вашего воспитанника по отношению ко всем интересам для его возраста предметам, которые вы будете выставлять перед его глазами. А разве иметь в руках орудия и хорошо знать их употребление не значит быть господином дела?
Вы возражаете, указывая на капризы ребенка, и не правы. Капризы детей никогда не бывают делом природы, но дурного руководства, это значит, что дети или приказывали или повиновались; а я сто раз повторял, что не нужно ни того, ни другого. У вашего воспитанника будут, следовательно, только те капризы, которым вы его научите; справедливость требует, чтобы вы были наказаны за ваши ошибки. Но как помочь горю, если оно уже есть? При умении и при большом терпении это еще возможно.
Однажды я взял на себя заботы на несколько недель об одном ребенке, который привык не только всегда исполнять свою волю, но, вдобавок, заставлять всех повиноваться ей, и который был, следовательно, преисполнен прихотей.[21] В первый же день, чтобы испытать мою снисходительность, он захотел встать в полночь. Во время самого крепкого моего сна, он соскакивает с постели, надевает халат и зовет меня. Я встаю, зажигаю свечку; ему только это и было нужно; чрез четверть часа сон начал его клонить и он улегся, весьма довольный своим испытанием. Дня два спустя он возобновил его с таким же успехом, но не увидел с моей стороны никакого знака нетерпения. В то время как он, ложась, целовал меня, я сказал ему весьма спокойно: мой маленький друг, все это прекрасно, но не возобновляйте этого больше. Эти слова подстрекнули его любопытство, и на следующий же день, желая поглядеть, жать я посмею не послушаться его, он не преминул встать в том же самом часу и позвать меня. Я спросил у него, что ему нужно. Он сказал мне, что не может спать. Тем хуже, отвечал я и замолчал. Он попросил меня зажечь свечу. Зачем? сказал я и замолчал. Лаконический тон начал приводить его в смущение. Он ощупью принялся отыскивать огниво, делая вид, что выбивает огонь, и я не мог не смеяться, слыша, как он бил себя по пальцам. Наконец, убедившись, что это ему не удастся, он поднес огниво к моей кровати; я сказал, что оно мне не нужно, и повернулся на другой бок. Тогда он принялся бегать по комнате, с криком и пением, шуметь напропалую, ударяясь о столы и стулья, однако очень странно умеряя удары; при каждом из них он громко кричал, надеясь возбудить во мне беспокойство. Все это не имело никакого действия; и я видел, что рассчитывая на красноречивые увещания или гнев, он совсем не приготовился к такому хладнокровию.
Однако, решившись победить мое терпение своим упрямством, он продолжал гвалт с таким успехом, что я, наконец, разгорячился, и, предчувствуя, что испорчу все дело неуместною вспыльчивостью, принял новое решение. Я встал, не говоря ни слова, и отправился за огнивом, которого не нашел; я спросил его у ребенка, который подал мне его с радостным трепетом: он думал, что восторжествовал надо мною. Я высек огонь, зажег свечу, взял за руку моего молодчика и спокойно отвел его в соседнюю комнату, где ставни были плотно закрыты, и где нечего было ломать; я оставил его там впотьмах; потом запер дверь на ключ и лег, не промолвив с ним ни словечка. Нечего и говорить, что сначала поднялся крик; но я этого ожидал и ни мало не смутился. Наконец шум утих; я стал прислушиваться и, убедившись, что ребенок укладывается, успокоился. На следующий день я вхожу с рассветом в комнату и нахожу моего маленького упрямца лежащим на диване и спящим крепким сном, в котором он очень нуждался, после такой усталости.
Дело тем не кончилось. Мать узнала, что ребенок провел две трети ночи не в постели. Все пропало; ребенка сочли за умирающего. Видя удобный случай для мщения, он притворялся больным, не предполагая, что ничего тем не выиграет. Позвали медика. К несчастью для матери, медик оказался шутником, который, чтобы позабавиться ем страхом, постарался его усилить. Между тем он сказал мне на ухо: предоставьте дело мне; я обещаюсь вам вылечить, и некоторое время, ребенка от фантазии быть больным. Действительно, ему предписали оставаться в комнате, быть на диете и принимать лекарства. Я вздыхал, видя, как бедная мать была жертвою обмана всего окружающего, за исключением меня, которого она возненавидела, именно потому, что я ее не обманывал.
После довольно жестких упреков, она сказала мне, что сын ее слабого здоровья, что он единственный наследник ее семейства, что нужно сохранить его во что бы то ни стало и что она не хочет, чтобы его дразнили. В этом я был с ней согласен; но она считала, что дразнить его значило не во всем его слушаться. Я увидел, что с матерью нужен такой же тон, как и с сыном. Сударыня, сказал я ей довольно холодно, я не знаю, как воспитывают наследника, да не хочу и узнавать этого; вы можете принять это к сведению. Во мне нуждались еще на некоторое время: отец уладил все; мать написала к учителю, чтобы он поспешил приездом; а ребенок, видя, что он ничего не выигрывает, мешая моему сну и притворяясь больным, решился, наконец, сам спать и быть здоровым.
Трудно представить себе, скольким капризам подобного рода подчинил маленький тиран своего несчастного воспитателя; ибо воспитание совершалось на глазах матери, которая не терпела, чтобы не слушались в чем бы то ни было наследника. В каком бы часу он им вздумал выйти, нужно было быть готовым вести его или скорее следовать за ним, а он старательно выбирал такое время, в которое воспитатель его был наиболее занят. Он вздумал и надо мною повластвовать таким же точно образом и отомстить мне днем, за покой, который поневоле давал мне ночью. Я охотно исполнял все, и начал с того, что хорошо доказал ему, с каким удовольствием я делал приятное ему; затем, когда вопрос зашел о том, чтобы вылечить его от капризов, я взялся за дело иначе.
Надобно было сначала сделать его неправым, что было не трудно. Зная, что дети думают только о настоящем, я воспользовался легкой выгодой предусмотрительности; я постарался доставить ему дома занятие, которое, как я знал, очень нравилось ему; в ту минуту, как я видел его наиболее занятым, я предложил ему пойти погулять; он послал меня к черту: я настаивал, он не слушал; нужно было согласиться и он, разумеется, отлично заметил это подчинение.
На следующий день наступила моя очередь. Я позаботился о том, чтоб он соскучился, а сам напротив казался сильно занятым. Этого было слишком достаточно, чтобы заставить его решиться. Он не преминул прийти оторвать меня от работы, требуя скорее вести его гулять. Я отказался, он упорствовал. «Нет, – сказал ему я, исполняя свою волю, – вы и меня научили тому же; я не хочу идти гулять». «Ну так, – возразил он с живостью, – я пойду один». «Как вам угодно». И я опять принялся за работу.
Он стал одеваться, немного обеспокоенный тем, что я не препятствовал ему и не делал того же. Пред уходом, он пришел проститься, я поклонился ему; он постарался напугать меня рассказом о путешествии, которое он сделает; выслушав его, можно било бы подумать, что он отправлялся на край света. Ни мало не волнуясь, я пожелал ему счастливого пути. Смущение его увеличивается. Однако он принимает бодрый вид и пред уходом приказывает своему лакею следовать за ним. Лакей, предупрежденный заранее, отвечает, что ему некогда и что, занятый исполнением моих приказаний, он должен слушаться меня, а не его. На этот раз ребенок теряется. Как понять, что ему дозволяют выйти одному, ему, который считает себя существом, дорогим для всех, и думает, что небо и земля заботятся о его сохранении? Между тем, он начинает чувствовать свою слабость. Он понимает, что очутится один среди людей, не знающих его; он заранее видит опасности, которым подвергается: но упрямство поддерживает его; он медленно сходит с лестницы, в большом замешательстве. Наконец выходить на улицу, утешаясь несколько мыслью, что с меня взыщут за бедствия, которые могли бы постигнуть его.
Этого-то я и ждал. Все было приготовлено заранее; и так как дело шло так сказать о публичной сцене, то я запасся согласием отца. Едва ступил он несколько шагов, как услыхал направо и налево разные замечания на свой счет. «Сосед, посмотрите, какой хорошенький барин! куда это он идет один? он заблудится; я попрошу его зайти к нам». «Соседка, не делайте этого. Разве вы не видите, что это маленький шалун, выгнанный из отцовского дома за дурное поведение? Шалунов принимать не нужно; пусть он идет, куда хочет». «Ну когда так, то Бог с ним! мне жаль будет, если с ним случится беда». Немного дальше он встречается с шалунами, одного почти с ним возраста, которые дразнят его и насмехаются над ним. С каждым шагом; затруднения увеличиваются. Один, без защиты, он видит себя игрушкою для всех, и чувствует, с большим изумлением, что бант на его плече и золотые обшлага не внушают к нему уважения.
Между тем, один из моих друзей, которого он не знал и которому я поручил наблюдать за ним, следил, незаметно для него, и подошел когда приспело время. Для роли этой, сходной с ролью Сбригони в «Pourceaugnac», требовался умный человек, и роль была выполнена превосходно. Не запугивая ребенка и не возбуждая в нем чрез это слишком большой трусливости или застенчивости, он так хорошо дал ему почувствовать безрассудство его шалости, что чрез полчаса привел его ко мне покорным, пристыженным и не смевшим поднять глаза.
К довершению бедствий его путешествия, в ту самую минуту, как он возвратился домой, отец его сходил с лестницы и встретился с ним. Нужно было сказать, откуда он шел и почему я не с ним. (В подобном случае, можно без риска требовать правды от ребенка: он хорошо знает тогда, что не может скрывать ее и, если осмелится солгать, будет тотчас же уличен.) Бедный ребенок желал бы провалиться сквозь землю. Не теряя времени на выговоры, отец сказал ему с большей сухостью, нежели бы я ожидал: когда вы захотите выйти один, то вы властны сделать это; но так как я не хочу иметь в доме бродягу, то, в подобном случае, постарайтесь больше, не возвращаться.
Что касается меня, то я встретил его без упреков и насмешек, но несколько серьезно и, боясь, чтобы он не заподозрил, что все случившееся была шутка, я не водил его гулять в тот день. На следующий день я с большим удовольствием увидел, что он с торжеством проходил со мною мимо людей, насмехавшихся над ним накануне вследствие того, что он проходил один. Понятно, что он больше не пугал меня тем, что пойдет гулять один.
Подобными средствами, мне удалось, в короткое время, которое я был с ним, заставить его делать все, что я хотел, ничего не приказывая и не запрещая ему; я достиг этого без журьбы, без нравоучений и не надоедая ему бесполезными уроками. Зато, пока я говорил, он был доволен; но молчание мое устранило его; он понимал, что что-нибудь да не ладно. Но возвратимся к делу.
Постоянные упражнения, предоставленные руководству самой природы, укрепляя тело, не только не притупляют ума, но, напротив того, развивают в вас единственный род разума, возможный в первом возрасте в самый необходимый во всех других. Они научают нас уменью пользоваться своими силами, распознавать отношения нашего тела к окружающим телам, пользоваться естественными орудиями, которые в нашей власти и наиболее годны для наших органов. Что может сравниться с тупостью ребенка, воспитанного в комнате и на глазах у матери, который, не зная что такое тяжесть и сопротивление, хочет вырвать большое дерево или поднять скалу? В первый раз, как я вышел из Женевы, я хотел догнать скачущую лошадь; я кидал камни в Силевскую гору, которая была от меня на расстоянии двух миль; я был посмешищем для всех деревенских детей, казался им настоящим идиотом. Только в восемнадцать лет узнаешь из философии, что такое рычаг; а нет ни одного крестьянского мальчика, который в двенадцать лет не сумел бы справиться с рычагом, лучше первого механика Академии. Уроки, получаемые школьниками друг от друга на дворе училища, сто раз полезнее для них, нежели все, что им когда-либо было говорено в классе.
Посмотрите на кошку, которая входит в комнату в первый раз: она исследует, осматривает, обнюхивает, она ни минуты не остается в покое, ничему не доверяет, не разглядев сначала и разузнав всего. Так же точно поступает и ребенок, начинающий ходить и вступающий так сказать в свет. Вся разница в том, что к зрению, общему и в ребенке и в кошке, первый присоединяет при наблюдениях руки, которыми его наделила природа, а вторая – тонкое обоняние, полученное ею от природы. Эта потребность – смотря по тому, хорошо ли она развита или дурно – делает детей ловкими или неуклюжими, неповоротливыми или проворными, ветреными или осторожными.
Так как первое естественное движение в человеке – помериться силами со всем, что его окружает, и испытать, в каждом видимом предмете, все осязательные свойства, которые могут до него касаться, то первая наука ребенка есть род экспериментальной физики, относящейся к его самосохранению; ого отвлекают от этого занятия умозрительными науками, прежде чем он распознал свое место на земле. Пока его органы, нежные и гибкие, могут приноравливаться к телам, среди которых должны действовать, пока чувства ребенка не знают еще обмана, – тогда-то и следует приучать их к роли, которая ни свойственна; в это-то время и следует научить распознавать осязательные отношения, которые существуют между вещами и нами. Так как все, что не проникает в человеческий разум, проникает тут чрез посредство чувств, то первый человеческий разум – чувственный разум; он-то и служит основанием для умственного разума: первые наши учителя философии – наши ноги, руки, глаза. Заменить все это книгами не значит учить нас рассуждать, это значит учить нас пользоваться чужим разумом; это значит учить нас многому верить и никогда ничего не знать.
Для упражнения в каком-нибудь искусстве, нужно, прежде всего, достать инструменты; а для полезного употребления этих инструментов, нужно сделать их достаточно прочными, чтобы они смогли выдержать свое употребление. Чтобы научиться думать, нужно, следовательно, упражнять наши члены, чувства и органы, которые суть инструменты нашего ума; а чтобы извлечь из этих инструментов всю пользу, нужно, чтобы тело, доставляющее их, было крепко и здорово. Итак, настоящий человеческий разум не только не формируется независимо от тела, но напротив хорошее телесное сложение делает умственные процессы легкими и верными.
Указывая, чем нужно занимать долгую праздность детства, я вхожу в подробности, могущие показаться смешными. Забавные уроки, скажут мне, которые, подпадая под вашу собственную критику, ограничиваются преподаванием того, учиться чему им для кого не нужно! Затем тратить время на уроки, которые всегда приходят сами собою и не стоят ни трудов, ни забот? Какой двенадцатилетний ребенок не знает того, чему вы хотите учить вашего, а в придачу еще и того, чему научили его наставники?
Господа, вы ошибаетесь; я преподаю моему воспитаннику очень обширное, очень трудное искусство, которого конечно ваши не знают: искусство быть невеждою; ибо наука того, кто полагает знать только то, что он знает, приводится к весьма немногому. Вы даете науку, прекрасно; я же занимаюсь инструментом, необходимым для ее приобретения. Говорят, что раз, когда венецианцы с большим триумфом показывали испанскому посланнику свою казну в Сен-Марко, он, вместо всякой любезности, сказал им, посмотрев под столы: «Qui non c’e la radice».[22] Меня всегда подмывает сказать то же самое, когда я вижу преподавателя, выставляющего знания своего ученика.
Все изучавшие образ жизни древних приписывают гимнастическим упражнениям ту телесную и душевную мощь, которою всего более отличаются люде древнего мира от новейших. Способ, каким Монтен подтверждает это мнение, показывает, что он был им сильно проникнут; он возвращается к нему беспрерывно и самым различным образом. Чтобы укрепить душу ребенка, нужно, говорит он, укрепить его мускулы; приучив его к труду, его приучает к боли, нужно приучить его к трудности упражнений, чтобы облегчить ему чувствительность вывиха, колики и всех других страданий. Мудрый Локан, добрый Роллви, ученый Фливи, педант де Пруза, столь отличающиеся друг от друга во всем остальном, все сходятся на том пункте, что нужно много упражнять тело ребенка. Это – самое разумное из всех их правил, то, которое было и всегда будет более всего в пренебрежении. Я уже достаточно говорил о его важности; а так как нельзя привести ни лучших причин, ни более благоразумных правил, как те, которые находятся в книге Локка, то я ограничусь отсылкой к ней, взяв смелость прибавить к его замечаниям несколько своих.
Всем членам тела, которое растет, должен быть дан простор в одежде; ничто не должно стеснять их движений и роста; не надо ничего слишком тесного, ничего плотно прилегающего к телу, не надо перевязок. Французская одежда, беспокойная и вредная для взрослых, в особенности губительна для детей. Кровь, остановленная в своем обращения, портится от застоя, к которому присоединяется недеятельная и сидячая жизнь, и причиняет скорбут, болезнь, с каждым днем усиливающуюся у нас и почти незнакомую древним, которых предохраняли от нее одежда и образ жизни. Всего лучше по возможности держать детей в курточке и одевать их в очень широкое платье, не гоняясь за тем, чтобы оно обрисовывало их талию, что только уродует ее. Почти все телесные и умственные их недостатки происходят от одной причины: от того, что детей преждевременно хотят сделать взрослыми.
Есть цвета веселые и есть мрачные цвета: первые больше нравятся детям; они также больше и идут к ним, и я не вижу, почему, бы не соображаться в этом с такими естественными условиями: но с той минуты, как они предпочитают какую-нибудь материю, потому что она богаче, сердца их уже заражены роскошью. А вкус этот родился в них не сам собою. Трудно рассказать, как влияют на воспитание выбор одежды и поводы к этому выбору.
Доводись мне исправлять голову подобного избалованного ребенка, я постарался бы, чтобы самые богатые его платья были всегда самыми неудобными, чтобы он всегда был в них стеснен, связан, подчинен различным образом, я сделал бы так, чтобы его роскошь убивала свободу, веселье: пожелай он вмешаться в игры других детей, более скромно одетых, чем он – игры тотчас же прекращались бы. Словом, я так наскучил бы ему, так пресытил бы его блеском, я сделал бы его таким рабом своего раззолоченного платья, что превратил бы это платье в бич его жизни, и он с меньшим ужасом смотрел бы на самую мрачную тюрьму, нежели на приготовления к своему наряду. Пока ребенка не подчинили нашим предрассудкам, первое желание у него – быть на воле; самое простое, самое удобное и менее других стесняющее платье всегда ему дороже всякого другого.
Тело принимает привычки, свойственные и деятельной жизни и жизни сидячей. Последний из этих родов жизни, делая кровообращение ровным и однообразным, заставляет предохранять тело от перемен в воздухе; первый же, заставляя тело беспрерывно переходить от движения к покою, от жара к холоду, приучает его к этим переменам. Из этого следует, что люди, ведущие сидячую и комнатную жизнь, должны во всякое время одеваться тепло, чтобы держать тело в ровной температуре, одинаковой почти во все времена года, и во все часы дня. Те же, напротив, которые выходят и в ветер, и на солнце, и в дождь, те, которые много двигаются и проводят большую часть времени sub dio, должны быть всегда легко одеты, дабы приучаться ко всем переменам погоды и ко всяким температурам. И тем и другим я советовал бы не переменять одежды сообразно временам года, и такова будет постоянная привычка Эмиля. Я не хочу этим сказать, что он будет носить летом зимнюю одежду, как домоседы, но что он зимою будет носить летнюю одежду, как деятельные люди. Последнего обыкновения держался Ньютон в течение всей своей жизни, и он пережил восемнадцать лет.
Во все времена года, избегайте кутанья головы. У древних египтян голова была всегда открыта, персы же всегда покрывали ее и до сих пор носят еще теплые головные уборы, которые, как говорит Шарден, необходимы им вследствие климатических условий. Я уже заметил в другом месте[23] о различии, которое нашел Геродот, на поле сражения, между черенами персов и черенами египтян. Так как важно, чтобы кости головы сделались крепче, менее хрупки, менее ноздреваты, для лучшего предохранения мозга не только от ран, но и от простуды и всех влияний воздуха, то приучайте ваших детей быть всегда с непокрытой головой, и зимою и летом, и днем и ночью. А если для опрятности и чтобы держать их волосы в порядке, вы захотите надеть на ночь головной убор, то пусть это будет тонкий и редкий колпак, вроде сетки, в какую баски убирают свои волосы. Я уверен, что большинство матерей обратят скорее внимание на замечания Шардина, нежели на доводы, и будут искать везде воздух Персии; но я не для того выбрал своим воспитанником европейца, чтобы сделаю из него азиата.
Вообще детей слишком кутают и в особенности в первые годы. Их скорее следовало бы приучать к холоду, нежели к теплу: сильный холод никогда не вреден для них, если с ранних пор приучить их к нему; а нежная и вялая ткань ножи, пропуская слишком свободно испарину, доводит их, от излишнего жара, до неизбежного истощения. Поэтому замечено, что детей больше умирает в августе, нежели в другие месяцы. К тому же, кажется несомненным, при сравнении северных народов с южными, что привычка к чрезмерному холоду укрепляет больше, нежели привычка к чрезмерному жару. Но, по мере того, как ребенок растет, а фибры его укрепляются, приучайте его мало-помалу переносить солнечные лучи: действуя постепенно, вы с безопасностью приучите его к зною жаркого пояса.
Локк, вслед за разумными советами своими, впадает в противоречия, которых нельзя было бы ожидать от такого точного мыслителя. Этот самый человек, желающий, чтобы дети купались летом в ледяной воде, не хочет, чтобы они пили разгорячась холодную воду или ложились на землю в сыром месте.[24] Но так как он хочет, чтобы башмаки детей промокали во всякое время, то разве они меньше будут промокать, когда ребенку жарко? И разве нельзя сделать таких же выводов по отношению тела к ногам, какие он делает по отношению ног к рукам и тела – к лицу? Если вы хотите, скажу я ему, чтобы все тело человека было как его лицо, то почему порицаете вы меня за то, что я хочу, чтобы все оно было как ноги?
Дабы помешать детям пить в разгоряченном состоянии, он предписывает приучать их съедать предварительно кусок хлеба, прежде чем пить. Странно, что нужно давать ребенку есть, когда он хочет пить; по-моему, это тоже самое, что дать ему пить, когда он хочет есть. Никогда не поверю я, чтобы наши первые желания были так беспутны, что нельзя удовлетворить им не подвергая себя опасности. Будь это так, род человеческий сто раз успел бы погибнуть прежде, чем узнал бы, что нужно делать для его сохранения.
Я хочу, чтобы Эмилю давали пить всякий раз, как он почувствует жажду; я хочу, чтобы ему давали чистую воду, без всяких предосторожностей, даже не нагревая ее, хотя бы он весь был в испарине, и хотя бы дело было среди самой вины. Единственная забота, рекомендуемая мною, это различать качество воды. Речную воду давайте пить немедленно и в том виде, в каком получаете ее из реки; ключевую же воду нужно подержать некоторое время на воздухе прежде, нежели пить ее. В теплое время года вода в реках теплая; но не такова вода в ключах, где она не приходит в соприкосновение с воздухом; нужно подождать, чтобы температура ее сравнялась с температурою атмосферы. Зимою, напротив, ключевая вода, в этом отношении, менее опасна, чем речная. Но не естественно и не часто случается зимою быть в испарине, в особенности на открытом воздухе; потому что холодный воздух, поражая беспрерывно кожу, вгоняет внутрь испарину и препятствует порам достаточно открыться для свободного пропуска испарины. Между тем, я вовсе не предполагаю, чтобы Эмиль упражнялся зимою. Пока он разгорячается только от игры в снежки, дозволяйте ему пить, по мере жажды, напившись, пусть он продолжает свое занятие, и не бойтесь никакой беды. Если от какого-нибудь другого упражнения он вспотеет и захочет пить, пусть и тогда напьется холодного. Заставьте его только медленными шагами и подальше пойти за водою. Холодный воздух достаточно освежит его, чтобы пришедши, он мог безопасно пить воду. В особенности же принимайте эти предосторожности так, чтобы он был иногда болен, нежели беспрерывно заботился о своем здоровье.
Детям нужен долгий сон, потому что они беспрерывно в движении. Одно служит коррективом для другого; поэтому-то мы видим, что они нуждаются и в том, и в другом. Время отдыха есть ночь; оно указано природою. Замечено, несомненным образом, что сон спокойнее и тише, пока солнце скрывается за горизонтом, и что воздух, согретый его лучами, не позволяет нашим чувствам оставаться в таком покое. Таким образом, самою здоровою привычкою было бы, конечно, вставать и ложиться вместе с солнцем. Из чего следует, что в наших климатах и человеку и всем животным нужно вообще дольше спать зимою, нежели летом. Но гражданская жизнь не достаточно проста и естественна, не достаточно ограждена от случайностей, чтобы человека следовало до того приучать к этому разнообразию, чтобы сделать его необходимым. Конечно, нужно подчиняться правилам; но первым из них должна быть возможность без риска нарушать их, когда это будет нужно. Итак, не вздумайте безрассудно нежить вашего воспитанника длинным, спокойным сном, который ничем не прерывался бы. Предоставьте ребенка сначала, не стесняясь, закону природы; но не забывайте, что среди нас он должен быть выше этого закона, что он должен уметь, без вреда для себя, ложиться поздно, вставать рано, быть внезапно разбуженным, проводить ночи без сна. Если взяться за дело вовремя, действовать не спеша и постепенно, можно приучить темперамент к тем самым вещам, которые губительны для него, если он подвергается им в эпоху своего полного развития.
Следует с малолетства приучиться спать на жесткой постели: это лучшее средство не встречать больше дурных постелей. Вообще суровая жизнь, раз обратившись в привычку, умножает приятные ощущения; изнеженная же жизнь подготовляет бесчисленное множество неприятных ощущений. Люди воспитанные слишком изнеженно, не могут спать иначе, как на пуху, люди же, привыкшие спать на досках, могут спать везде; для того, кто ложась тотчас засыпает, нет жесткой постели.
Мягкая постель, в которой тело погружается в перья или пух, распускает, так сказать, и размягчает. Поясница, слишком тепло одетая, разгорячается. Это часто дает начало каменной болезни и другим недугам, и неизбежно порождает слабое сложение – причину всех болезней.
Лучшая постель та, на которой лучше спится. Такую постель приготовляем мы себе, Эмиль и я, в течение дня. Нам не нужны рабы, приведенные из Персии, чтобы стлать наши постели; паша землю, мы взбиваем свои тюфяки.
Я по опыту знаю, что, когда ребенок здоров, можно заставить его спать или бодрствовать, почти произвольно. Когда ребенок, лежа в постели, надоедает болтовней няньке, она говорит ему: спите; это все равно, как если бы она говорила ему: будьте здоровы, когда он болен. Лучшее средство усыпить его, это наскучить ему самому. Говорите сами, так чтобы он принужден был молчать, и он скоро уснет: нравоучения должны же пригодиться к чему-нибудь; уж лучше читать ему нравоучения, нежели, укачивать его; но употребляйте это усыпительное средство только вечером и берегитесь употреблять его днем.
