Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже бесплатное чтение
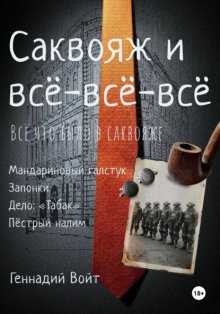
Дисклаймер
Все персонажи и события, описанные в этой книге, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми (живыми или умершими), событиями или организациями является непреднамеренным и случайным. Мнения и взгляды, высказанные персонажами, принадлежат только им и не отражают точку зрения автора.
©2025
Моим самым главным людям —
жене Ольге, сыновьям Герману и Глебу.
С бесконечной любовью и благодарностью.
Пролог: Содержимое в подарок
Мое существование в последнее время напоминало анекдот, рассказанный на поминках: вроде и смешно, но как-то не к месту. Ощущение, что моя биография свернула не туда и теперь едет по какой-то заброшенной, ржавой ветке – прямиком в депо для списанных судеб. И всё это, разумеется, усугублялось похмельем. Оно не просто стучало. Оно отбивало в висках морзянку. Точка-тире. Конец. Во рту же стояла такая сушь, будто я всю ночь пытался разжевать карту пустыни Каракум. Знаете, из тех, что для прочности клеили на картон? Вот этот самый картон, который сначала ломается сухими пластами, а потом размокает до состояния тошнотворной бумажной пульпы.
Лениво разлепив веки, я уставился в потолок. Пыльный, с паутиной в углу, похожей на схему какой-то неизвестной, никому не нужной галактики. Солнечные блики, пробившись сквозь немытое, кажется, с прошлого года, окно, рисовали на штукатурке дрожащие руны. Кажется, они складывались в слово «тлен». Или это уже моё воображение начинало развлекать само себя. Телефон, найденный на ощупь под подушкой, показывал половину второго.
– Белиссимо. Инкредибле. Экселенте, – прохрипел я в подушку, которая пахла пылью и несбывшимися с четверга на пятницу снами. – Ещё один день. Коту под хвост. Какая расточительность, учитывая, что и кота-то у меня нет. Просто в пустоту.
Кое-как отлепив себя от дивана – процедура, с каждым днём напоминающая работу археолога, извлекающего хрупкий артефакт из пласта окаменевшей глины, – я прошлёпал на кухню. Открыл холодильник, мой белый саркофаг надежд. Он встретил меня не просто пустотой, а стерильным, почти больничным сиянием лампочки, освещавшей полное отсутствие перспектив. В углу сиротливо съёжился кусок сыра, по цвету и фактуре напоминающий ухо мумии. Рядом – бутылка водки с сиротливым глотком на дне, ровно на один акт окончательного отчаяния.
Я вздохнул и налил стакан воды из-под крана. Холодная, с отчетливым привкусом ржавых труб городского водопровода со времён Очакова и покорения Крыма. Живительная, одним словом, влага. В древнем Риме за такую воду отравили бы половину сената, а у нас она считается питьевой. Что ж, это закаляет. Или добивает.
Меня зовут Виктор Левицкий. Тридцать пять лет. И, если называть вещи своими именами, я – неудачник. Еще год назад у меня была спокойная, хоть и скучноватая работа в издательстве, симпатичная девушка Лена и некие туманные, но в целом приятные планы на будущее. Теперь же я сидел без работы, без денег, без Лены и без малейшего представления, в какую сторону хотя бы смотреть, не то что двигаться.
Моя аккуратная жизнь, выстроенная по принципу карточного домика, начала осыпаться с того самого дня, когда шеф вызвал меня к себе.
– Оптимизация штата, – произнёс он, старательно изучая узор на своём галстуке. Глаза прятал так, словно я был не просто увольняемым сотрудником, а носителем какой-то особо заразной формы невезения. Он нервно вращал в пальцах перьевую ручку ленинградского завода «Союз». Ту самую, с золотым пером, что я подарил ему по пьяни на Всемирный день свободы печати. Вот этим самым пером, купленным для укрепления лояльности, он сейчас и вычёркивал меня из ведомости. Изящно. – Ты же понимаешь, – продолжил он. – Времена сейчас… ну, ты сам видишь. Кризис, санкции, народ перестал читать то, что толще этикетки на пивной бутылке…
Тогда я не особо и расстроился. Работа давно превратилась в рутину, а платили, прямо скажем, не ахти. «Найду что-нибудь получше», – решил я с легкомыслием человека, который стоит на краю пропасти и с интересом разглядывает проплывающие внизу облака.
Не нашёл. Зато нашёл бутылку. Потом ещё одну. И ещё. Мои алкогольные экзерсисы Лена терпела три месяца. А потом просто собрала вещи.
– Ты меня разочаровал, Виктор, – сказала она на прощание. Она не кричала. Она объяснила мне, почему мы больше не можем быть вместе, с той же спокойной и убийственной логикой, с какой инженер-мостостроитель объясняет причины обрушения конструкции. Никаких эмоций, чистая механика разрушения. Это было страшнее любой истерики.
Я и сам себя разочаровал, если уж честно. Когда-то воображал себя писателем, но дальше пары рассказов в университетском альманахе, от которых сейчас краснею, дело не пошло. Потом была корректура, редактура… а потом – вот это. Тишина и гул в ушах. Пустота.
Я допил воду и выглянул в окно. День был солнечный, яркий – из тех, что печатают на рекламных буклетах, призывающих срочно взять кредит на отпуск. Хотелось одного: рухнуть обратно в постель и отключиться. Но денег не было уже сегодня, а значит, нужно было что-то делать.
Я вздохнул, натянул джинсы, футболку и вышел из квартиры. На лестничной клетке пахло кошками и жареной картошкой. Классика жанра. Дверь напротив тут же скрипнула. Баба Нюра – местный центр наблюдения и контроля.
– Витя, ты куда это собрался? На работу, что ли?
– Ага, на работу, – соврал я, не останавливаясь.
– А?
– На ра-бо-ту, – крикнул я громче, уже спускаясь по лестнице. – И как это у вас, баба Нюра, получается: шаги мои слышите, а слова – нет? Удивительная избирательность слуха!
– Служба такая, Витенька! – донеслось обиженно сверху.
– В НКВД? До свидания, баба Нюра, – хмыкнул я себе под нос.
– Ну давай, давай, – проворчала старушка, и дверь захлопнулась.
Спустившись на пролет, я подумал, что баба Нюра – это и есть настоящий фундамент государства. Она ничего не хочет знать, но всё должна видеть. Идеальный гражданин. Я выскочил на улицу. Июньское солнце врезало по глазам. Куда идти? Без понятия. Сунул руку в карман – звякнула мелочь. И – о чудо! – среди медяков затесалась мятая сотенная бумажка. Пересчитал медяки – на пиво хватит. Но нет. Начинать пить в два часа дня – это уже не просто падение, это пересечение некой невидимой черты, за которой начинается совсем уж беспросветный мрак. Жалкая черта, но всё-таки черта.
Ноги сами понесли меня в сторону центра. Куда – без понятия. Просто вперёд.
А мимо – поток. Сплошной. Поток людей, которые не замечали ни меня, ни витрин, ни, кажется, самих себя. И ведь не люди же. Нет. Какие-то функции, автоматы, заведённые на выполнение одной и той же невидимой задачи. У всех на физиономиях – одно и то же. Какое-то напряжённое, почти страдальческое выражение, будто им всем одновременно прислали одинаковую СМС с плохими новостями. Очень плохими.
Один я болтался среди них без дела. Как дурак. Или как отвязавшаяся от пирса лодка – что, впрочем, почти одно и то же.
Через полчаса я забрёл на Малую Конюшенную. Туристы, музыканты, суета. Я шёл, засунув руки в карманы, и думал о тщете всего сущего. И тут небо из ясного, почти рекламного, вдруг сделалось асфальтово-серым. Громыхнуло. Протяжно, с металлическим дребезгом, так, что в голове почему-то заиграл Шостакович. Кажется, Седьмая. Или Пятая? Та, что самая трагическая. Впрочем, какая разница. А потом город просто выключили, залив потоками воды. Через минуту я, промокший так, словно состоял из губки, стоял под козырьком какой-то антикварной лавки.
Решение пришло само. Дверь рядом открылась, и из неё выплыла дама в шляпе, поля которой создавали вокруг её головы собственную зону турбулентности. Она окинула меня взглядом, каким смотрят на тараканов, и отчалила в потоки воды. Я криво усмехнулся ей в ответ и нырнул внутрь. Над дверью деликатно звякнул колокольчик.
В нос ударил густой, многослойный запах пыли, древесной трухи и, кажется, самого ушедшего времени.
– Чем могу помочь? – раздался сухой, как осенний лист, голос.
За прилавком сидел старик, похожий на высохший гриб-трутовик. Он перебирал монеты, и мир за пределами его стола, кажется, перестал для него существовать.
– Добрый день, – сказал я, стряхивая капли. – Я… просто посмотреть.
– Смотрите, смотрите, – кивнул он и тут же обо мне забыл.
Я побрёл между стеллажами, заставленными молчаливыми свидетелями чужих жизней. Фарфоровые пастушки с отбитыми носиками, потускневшие самовары, часы с навсегда застывшим временем. Пыльные книги в переплётах, похожих на старческую кожу, шептали истории, которые никто уже не хотел слушать. На полке, придавленная бронзовым пресс-папье в виде скорпиона, лежала стопка старых фотографий. Я всегда любил такие лавки. Это не магазины, а кладбища эпилогов. Я взял верхнюю фотографию. Молодая пара на фоне Дома Зингера. Она – смеётся, запрокинув голову. Он – смотрит на неё с такой нежностью, что стало неловко, будто я подглядываю. У её ног – деревянный ящик с надписью «ЗИНГЕРЪ».
Вот он, идеальный эпилог к чьей-то большой любви: пожелтевший картон, выцветшие лица и негласный вердикт – «сдано в утиль».
«Интересно, где сейчас эта швейная машинка?» – подумал я.
Глядя на них, я почувствовал какую-то глухую, почти медицинскую отстранённость. Будто я смотрю не на людей, а на представителей вымершего вида – Homo Sapiens Felix, человек разумный счастливый. Обитали в прошлом веке, питались надеждами, вымерли из-за резкого изменения среды обитания.
Какой же эпилог будет у моей истории? Боюсь, он не дотянет даже до фотографии. Максимум – до неоплаченного счёта за интернет.
Я положил фото и двинулся дальше. Рядом с прилавком, почти в тени, стоял он. Старый, пузатый саквояж из потёртой кожи. Он стоял с таким видом, словно ждал именно меня.
– Можно посмотреть? – кивнул я в его сторону.
Старик пожал плечами, не отрываясь от монет. Жест означал: «Делайте что хотите, только не отвлекайте».
Я присел на корточки. Кожа на ощупь оказалась тёплой, шершавой. Застёжки – с едва различимым витиеватым узором. Пахло от него плесенью и чем-то неуловимо сладким, вроде абрикосового варенья.
– Сколько стоит? – спросил я, сам не зная, зачем.
– А, этот… Ну, за символическую цену, – усмехнулся антиквар. – Всё равно никто не покупает. Скажем, сто рублей.
Я выудил свою единственную, мятую купюру. Старик взял её, не глядя, сбросил в ящик стола.
Саквояж оказался неожиданно тяжёлым.
– В нём что-то есть? – глянул я на старика с замиранием сердца. В груди неприятно ёкнуло – то самое чувство, когда ждёшь вердикта и боишься, что сейчас попросят доплатить.
– Содержимое в подарок, – буркнул старик, не поднимая головы.
Колокольчик звякнул на прощание. Дождь кончился. Лужи на асфальте – осколки разбитого неба. Я шёл домой.
Поднявшись на свой третий этаж, я вошёл в квартиру.
– Будешь теперь жить здесь, старина, – сказал я, водрузив саквояж на стол. – Извини за беспорядок.
Присел на диван, закурил и уставился на свою покупку.
– И зачем я тебя купил?
Саквояж, разумеется, промолчал. Сигаретный дым плыл к потолку.
– Эй, растяпа, ты забыл про содержимое! – осенило меня.
Я открыл его с осторожностью сапёра. И начал вынимать чужие тайны.
Первыми появились запонки. Серебряные, потемневшие. На крышке бархатной коробочки гравировка: «В.К. От благодарных сотрудников. Литейный проспект. 1938». Да уж. Благодарность на Литейном в тридцать восьмом – это почти оксюморон. Наверняка благодарили за то, что ещё не расстреляли.
Дальше – курительная трубка. Светло-коричневая, с янтарным якорем. В комплекте – парусиновый кисет с вышитым адресом: «Ленинград. Гороховая, 12». Человек, который оставляет свой адрес на кисете, либо бессмертный оптимист, либо просто очень её любил. Надо бы вернуть. Не пропадать же добру. Да и начинать курить трубку в моём положении – это уже было похоже на карикатуру на опустившегося интеллигента.
Измятый театральный билет. Большой театр, «Лебединое озеро», 10 ноября 1982 года. Дата кольнула в памяти. Ну конечно, день смерти Брежнева. Вся страна смотрела траурные марши, а кто-то собирался на балет. На обороте: «Если я не вернусь, позвони по номеру…» – и почти стёртый номер.
Блокнот в крокодильей коже. Внутри – шифр. На последней странице по-русски: «Ключ у Маргариты. Екатерининский парк, скамейка у пруда, с видом на Турецкую баню».
– Загадочно, однако, – сказал я саквояжу. – Привет, Михаил Афанасьевич.
Одна чёрная кожаная перчатка. На ладони – вышивка крохотными, непонятными знаками. Внутри, на подкладке, инициалы «Е.А.Л.» и адрес: «Каменноостровский пр., д. 42».
Старая фотография. Группа людей в нелепых костюмах, похожих на скафандры. На обороте: «Байкал. 1962 г.» и список фамилий. Одна, последняя – Зор-Зенин А.Н. – обведена красным. Фамилия из фантастического романа, написанного на коленке. Почему выделена? Странно.
На дне лежала ещё небольшая деревянная шкатулка и галстук. Я потряс шкатулку – внутри что-то глухо перекатилось. На дне нацарапано: «Вскрыть 1 января 2026 года. К.Ц.». Оптимист писал. Или просто человек с хорошим, долгосрочным планированием. Качество, мне совершенно несвойственное. Я-то не знаю, что буду есть завтра, а тут – 2026 год.
И, наконец, галстук. Ярко-оранжевый, с зелёными разводами. На изнанке бирка: «Ленинградтекстиль. Артикул ХЗ-1940». Я усмехнулся – аббревиатура была до боли знакомой. Я так всегда отвечаю на вопросы в программе «Что? Где? Когда?» Ниже, химическим карандашом, от руки: «Осторожнее! Удача – капризная дама, и не всегда приходит по зову. Редакция журнала „Ленинград“».
Я откинулся на спинку дивана, оглядывая этот натюрморт из чужих жизней. Запонки чекиста, трубка оптимиста, билет на последний балет эпохи, шифровка для Маргариты… Это был не просто хлам. Это был, чёрт побери, какой-то квест, вываленный на мой захламлённый стол. Инструкция по сборке чужих судеб.
– Ну что, старина, – обратился я к саквояжу, – спасибо, конечно. У меня своей жизни нет, так ты мне ещё десяток подкинул? Щедрый подарок.
Саквояж, как и прежде, молчал. Но мне показалось, что в его потёртых кожаных складках, похожих на морщины, промелькнула хитрая, всезнающая усмешка. Мол, не жалуйся, парень. Это всяко интереснее, чем изучать галактики из паутины на потолке.
Мандариновый галстук
Только-только продрав глаза, я сразу наткнулся на него. Он просто висел на вешалке. И этого зрелища было достаточно, чтобы из глаз непроизвольно потекли слёзы – не от горя, а от эстетического шока, как от слишком яркого, выжигающего сетчатку света. Передо мной, как знамя победы абсурда над здравым смыслом, висел галстук. Тот самый, вчерашний. Аккуратненько так висел, даже торжественно, будто это и не галстук вовсе, а вымпел «Победителю социалистического соревнования по саморазрушению». Я моргнул. Видение никуда не делось.
– Чудненько, – пробормотал я, разглядывая это произведение текстильной промышленности СССР. – Теперь у меня есть личный флаг революции безвкусия.
Недолго думая, я снял его с вешалки. Ткань на ощупь была странной, какой-то неожиданно прохладной. Я нацепил его на себя, под самое горло затянув узел, который получился кривым и агрессивным. Эффект был… ошеломляющим. В мутном зеркале шкафа на меня смотрел ведущий корпоратива в психиатрической лечебнице. И, боже, я был прекрасен.
– Ну и видок, – пронеслось в голове.
Но странное дело – чем дольше я смотрел на себя в этом нелепом ярко-мандариновом удаве, тем больше он мне… нравился? Нет, не то слово. Он меня завораживал. Гипнотизировал. Словно удав Каа, только хлопчатобумажный.
Я почувствовал, как внутри зарождается какое-то новое, незнакомое чувство. Словно этот кусок ткани был не просто тряпкой, а ключом. Ключом к какой-то другой, параллельной жизни, где люди не боятся выглядеть идиотами.
– А почему бы и нет? – подумал я, ощущая, как по телу разливается странное, почти электрическое возбуждение.
Ведь сколько раз я обещал себе что-то изменить? Начать бегать, выучить испанский, написать книгу… И тут, в этой тишине, где покоились скелеты моих неначатых пробежек, невыученного испанского и ненаписанной великой книги, пришла мысль.
Нет, не записаться в спортзал и не купить онлайн-курс. Мысль была куда более дикой. Найти бывшего владельца этого галстука. Зачем? А чёрт его знает. Просто из чистого, незамутнённого любопытства. Если эта вещица за десять минут так подействовала на меня, то интересно, что она сделала с человеком, который носил её годами?
Идея была дикой. Нелепой. И оттого – совершенно гениальной. Я рассмеялся вслух.
– Ну что ж, – сказал я своему отражению, которое в мандариновом сиянии выглядело ещё более безумным. – Похоже, у нас намечается приключение. Надеюсь, в процессе поисков меня не упекут в ту самую психушку, где мне придётся вечно вести эти самые весёлые праздники.
С этим решением я направился на кухню. Вылив, на удивление без всякого сожаления, остатки водки из бутылки в раковину, я решил, что хватит плавать в этом мутном аквариуме самосожаления. Пора было что-то делать. Или, в моём случае, изучить галстук.
Я аккуратно расстелил его на столе, словно хирург, готовящийся к сложной операции.
– Так, давай-ка посмотрим, что ты из себя представляешь, мой винтажный друг, – пробормотал я.
Цвет – это что-то. Ядовито-оранжевый, словно кто-то смешал закатное солнце с радиоактивными отходами и светлым будущим, которое обещали в СССР. Пятна и разводы меня не интересовали. Бирка, пожамканная и потёртая, выглядела так, будто пережила пару локальных конфликтов. Самое интересное – надпись. Нацарапанная толстым химическим карандашом, она расплылась, но была различима: «Осторожнее! Удача – капризная дама, и не всегда приходит по зову. Редакция журнала „Ленинград“».
Мой опыт детективной работы ограничивался поиском второго чистого носка по утрам. Но галстук придавал мне иррациональную уверенность.
Я вздохнул. Часы показывали 6:30 утра. Кто в здравом уме ищет мифическую редакцию в такую рань? Только я.
Я посмотрел на свой компьютер. Бесполезная груда пластика. Интернет отключили два месяца назад за неуплату. Теперь он собирал пыль и служил подставкой для кактуса Вени, который, игнорируя законы ботаники, упорно цвёл в марте, видимо, пытаясь привлечь самочек из соседней квартиры.
– Ладно, Витя, думай. Люди как-то жили до интернета.
И тут меня осенило. Гришка! Мой старый приятель, помешанный на истории Петербурга. Этот чудик знал о городе больше, чем все экскурсоводы вместе взятые. Припоминаю, он даже выиграл кучу денег в «Кто хочет стать миллионером», отвечая на вопросы о Петербурге. Только бы найти его номер.
Я начал лихорадочно рыться в ящиках. Под стопкой неоплаченных счетов нашлась потрёпанная записная книжка. «Гришка-ботаник». Рядом – номер.
– Надеюсь, не сменил, – пробормотал я, набирая цифры.
Гудки. Длинные, как полярная ночь. На десятом я уже был готов сдаться, как вдруг услышал сонное и раздражённое:
– Алло? Какого чёрта?
– Гришка! Дружище! Это я, Виктор.
– Виктор? Какой ещё… – В трубке что-то грохнуло. – Твою мать! Левицкий, ты?
– Он самый. У меня к тебе дело государственной важности.
– Наконец-то умер? – зевая, спросил Гришка.
– Работаю над этим. Но пока нет. Мне срочно нужно найти редакцию журнала «Ленинград».
Повисла пауза. Тяжёлая, как чугунный мост.
– Ты… – начал он медленно, – разбудил меня в семь утра… в субботу, чтобы узнать про какую-то редакцию?
– А что такого? – искренне удивился я. – Дело житейское.
– Житейское?! – взорвался Гришка. – Ты, чёртов алкоголик! Я вчера до четырёх утра корпел над статьёй о влиянии петровских реформ на архитектуру Петербурга!
Из трубки донеслась такая отборная брань, что мой кактус Веня, кажется, втянул свои колючки. Гришка припомнил мне всё. Я слушал и только диву давался. Господи, он помнит всё. Всё! И самогон в кабинете химии, и мои идиотские стихи на выпускном, и даже ту проклятую сигарету, которую я сунул ему «подержать на секунду», а в итоге его застукала мама. Потрясающе. Память у людей на чужие грехи работает лучше швейцарских часов.
– …и после всего этого ты имеешь наглость?! Интеллигент! Вот что ты такое! Всегда им был! Думал, костюм надел, умные книжки читаешь – и все можно?!
– Гриш, – сказал я, когда он наконец выдохся, – ты прав. Я идиот. Но, пожалуйста, помоги. Это действительно важно.
Я услышал тяжёлый вздох.
– Ладно. Что тебе нужно?
– Где находится редакция журнала «Ленинград»?
– И всё?
– Да.
– Господи, Витя. Ты мог бы просто погуглить.
– Ну… У меня интернет отключили.
– Прекрасно, – фыркнул Гришка. – Редакция «Ленинграда» раньше находилась на улице Воинова, 18.
– Отлично! Спасибо!
– Подожди. Там нет никакой редакции. Журнал давно не существует. И улицу ты не найдёшь.
– Почему?
– Потому что её переименовали. Теперь это Шпалерная. А в здании, где была редакция, – это бывший особняк графа Шереметева. В советское время там располагался «Дом писателей имени Маяковского».
– Ох… Спасибо, что предупредил. А то я бы полдня искал.
– Зная тебя, ты бы искал её неделю, – хмыкнул Гришка. – И, вероятно, нашёл бы какую-нибудь улицу Воинова в Саранске.
– Спасибо тебе, Гриш.
– Да ладно. Ты это… не пропадай.
Гудки. Я положил трубку. В груди неприятно заныло. Такой мелкий, колючий укол. За то, что звонишь друзьям, только когда припрёт.
Что бы сказал Гришка, если бы узнал истинную причину моего звонка? Наверное, покрутил бы пальцем у виска. И был бы прав.
Я улёгся на кровать, уставившись в потолок. Мысли путались. Я искал несуществующий журнал на исчезнувшей улице в городе, который, по сути, тоже уже не существует. И всё из-за мандаринового галстука. Бред. Но почему-то этот бред казался мне единственно правильным делом за последние несколько лет.
– Так-так-так… Шпалерная, дом графа Шереметева, «Дом писателей имени Маяковского», – бормотал я себе под нос.
И в этот момент, будто материализовавшись из самой плотности воздуха, в комнату вошёл он. Владимир Маяковский. Высоченный, широкоплечий. Но главное – галстук. Ярко-оранжевый, он тлел в утреннем полумраке. Маяковский замер, как памятник самому себе. И вдруг громовым, наждачным голосом, от которого зазвенели стаканы, начал:
– Я… достаю… – он похлопал себя по карманам необъятных брюк и вдруг смутился как школьник. – Тьфу, чёрт, забыл слова…
А потом посмотрел на меня в упор и уже без всякого пафоса, буднично так спросил:
– Гражданин, у вас кактус не продаётся? Мне для Лили Юрьевны. Она любит… колючее.
И тут я проснулся. По-настоящему. Сердце колотилось. В комнате было светло, тихо и, разумеется, никакого Маяковского.
– Н-да, – подумал я, протирая глаза, – если так пойдёт и дальше, чокнусь я с этим галстуком. Нужно быстрее отыскать владельца.
Шаркая босыми ногами по полу, я отправился в ванную. Зеркало безжалостно отразило неандертальца, в которого я превратился за последние дни. Я набрал пригоршню ледяной воды и плеснул в лицо. Эффект был как от пощёчины. Зубная щётка с остатками пасты подарила иллюзию свежести. Затем – бритва. Десять быстрых, злых движений, и из-под серого налёта щетины проступило моё забытое лицо. Чужое. Лицо человека, у которого когда-то были планы.
Вытершись полотенцем, я вдохнул. Это было простое, почти забытое ощущение – быть чистым. Не обновлённым, не другим, а просто – не грязным. Что ж, уже не полная развалина. И то хлеб.
Пришёл черёд галстука. Стирка в раковине с мылом заняла минут десять. И тут я протёр глаза. Промокнул галстук снова. Пятен не было. Ни следа. Будто ткань просто… сожрала их. Это было уже не смешно. Одно дело – сны про Маяковского, другое – законы физики, решившие взять отпуск прямо в моей раковине. Галстук из секретного НИИ? Артефакт из другого мира? Или я просто окончательно рехнулся? Последний вариант казался самым правдоподобным. Погладив его утюгом, я убедился: галстук выглядел как новенький.
Я надел чистую рубашку. Нежно-голубую. Такого цвета бывает небо в Каталонии. Потом – галстук.
Оглядел отражение. Костюм, провисевший в шкафу год, сидел сносно. Капля одеколона завершила образ. Я усмехнулся. Этот господин в зеркале был всего лишь костюмом, но костюмом убедительным.
Почти открыл дверь, как услышал на лестнице шарканье бабы Нюры. Видеть её не хотелось. Я затаился, пока скрип её двери не возвестил, что путь свободен. Тогда я, перепрыгивая через ступеньки, бросился вниз.
На улице было свежо. Я убрал с рукава невидимую пылинку и зашагал к метро.
В вагоне было душно. Суббота. Пассажиры, погружённые в свои телефоны, напоминали секту. Я смотрел в тёмное окно, и вдруг взгляд зацепился за знакомый силуэт. Илюша Ленивкер. Он стоял, упершись лбом в стекло двери, точно в то место, где написано «Не прислоняться». Его рыжие волосы торчали во все стороны, очки сидели криво. Потёртая футболка висела на нём, как на вешалке, а клочковатая борода напоминала гнездо, свитое неряшливой птицей. Но глаза за стёклами очков были умными и усталыми.
Двери распахнулись, и я протолкнулся к нему.
– Ленивкер! Живой! А я думал, тебя давно оцифровали и загрузили в облако как национальное достояние.
Илюша обернулся. На его лице медленно, как программа на старом компьютере, проступило узнавание.
– Витька! Какими судьбами? Неужто решил присоединиться к нам, простым смертным, в этом подземном чистилище?
– Да вот, еду… по делам. А ты как, всё пишешь?
– Пишу, – вздохнул Илюша. – Иногда мне кажется, что легче научить осьминога вязать, чем достучаться до умов нашего общества. Кстати, Витя, я тут пишу статью для одного глянцевого журнальчика, а концовка не идёт. Поможешь? Дело прибыльное, три тысячи плачу.
Три тысячи. Сумма для меня звучала как выигрыш в лотерею.
– А что за тема?
– Да так, ерунда. Про смысл жизни.
Поезд затормозил.
– Идём в кафе, обсудим, – предложил Илюша. – Тут неподалёку есть «Бермудский треугольник».
Кафе напоминало кабинет безумного учёного. Книги, колбы, приборы. Мы уселись, и Илюша заказал два кофе и черничный пирог.
– Значит так, – начал он, выкладывая стопку листов. – Статья почти готова, нужна только какая-нибудь умная мысль в конце.
Я взял листы. Типичный Ленивкер – иронично, абсурдно и безнадёжно.
– Так, концовка… нужна «умная мысль», говоришь? – Я отхлебнул кофе. – Глянцу нужна не умная мысль, а её симуляция. Давай так. Пишешь что-то вроде: «В конечном счёте, смысл жизни не в том, чтобы найти ответы, а в том, чтобы правильно задавать вопросы». Банально? Да. Но звучит глубоко. А потом бьёшь под дых. «Но давайте честно, – пишешь ты, – кому нужны эти вечные вопросы, когда можно просто съесть мороженое?» И всё. Контраст. Интеллектуалки решат, что это тонкая ирония, а дуры – что это призыв наслаждаться моментом. Все довольны.
Илюша медленно откинулся на спинку стула и усмехнулся. Не восторженно, а как-то по-свойски, по-цеховому.
– Старик, это не гениально, – сказал он, постучав пальцем по листам. – Это – продаваемо. А для глянца это гораздо лучше. Ты не просто дал им умную мысль, ты дал им алиби для её отсутствия. Это высший пилотаж.
Он хмыкнул, отсчитал из потёртого бумажника три мятые тысячные бумажки и пододвинул мне.
– Гонорар. Кстати, ты где сейчас?
– Да так, в поиске…
– Понятно. – Илюша вырвал из блокнота листок и размашисто написал номер. – Вот телефон нашего кадровика. Нам вроде как нужен редактор с головой, а не с набором шаблонов. Позвони в понедельник. Скажешь, от меня. Но учти, босс у нас мужик с прибабахом. Так что не накосячь.
Мы расстались. Как же всё-таки забавно устроена мужская дружба. Годами не видишь человека, а потом он за десять минут покупает у тебя цинизм оптом за три тысячи рублей и, возможно, дарит тебе будущее. И ты даже не знаешь, за что благодарить его больше – за деньги или за то, что он напомнил тебе, что ты ещё на что-то годен.
И тут случилось то, что окончательно сбило мои внутренние настройки.
– Простите, – услышал я мягкий женский голос. – У вас такой необычный галстук.
Я обернулся. Бариста, та самая девушка с ярко-розовыми волосами, смотрела на меня с неподдельным любопытством. Я почувствовал, как щёки начинают гореть. Что ответить?
– А… это… Наследство, – брякнул я первое, что пришло в голову.
Она рассмеялась.
– Похоже, у вашего дедушки было отличное чувство юмора. Или он был дальтоником.
– И то, и другое, – нашёлся я, сам удивляясь своей прыти.
– Ну, если надумаете продать этот артефакт, я первая в очереди, – подмигнула она и вернулась за стойку.
И всё. Но этого «всё» было достаточно, чтобы я вышел из кафе с идиотской улыбкой на лице, которую не мог стереть.
До Шпалерной я решил дойти пешком. Погода, на удивление, располагала.
Улица встретила меня привычной суетой. И тут, среди этого шума, я увидел его – особняк Шереметева. Он стоял, как мудрый, чуть усталый старец среди толпы вечно спешащих подростков. Я остановился.
Подошёл ближе, посмотрел на бронзовую доску. Буквы блестели. Огляделся. Люди текли мимо, не замечая старый особняк. Ну, может, кроме вон того деда в инвалидной коляске, да и тот, казалось, дремал. А я стою тут и чувствую себя последним романтиком в жестоком мире прагматиков. Смешно, конечно. Какой из меня романтик? Последний раз цветы дарил ещё в прошлом веке, да и то пластиковые – чтобы не завяли.
Массивная дубовая дверь, конечно же, была заперта. Несколько робких, а затем и уверенных ударов в тяжёлое дерево ответа не принесли.
Пожал плечами. Может, оно и к лучшему.
За спиной послышался тихий скрип колёс. Обернулся – это был тот самый дед. Он медленно подъезжал, пристально глядя на меня. Старик выглядел как профессор из старых фильмов: аккуратно постриженные седые волосы, ухоженная бородка клинышком. Его костюм был безукоризненно чистым, хоть и немного старомодным – из тех, что носили интеллигенты прошлого века, ещё когда слово «интеллигент» считалось ругательством. Взгляд – живой, с искоркой хитрости.
– Молодой человек, вы, кажется, хотите воскресить мёртвое, – произнёс он с улыбкой.
Я отпустил ручку.
– Пытаюсь вот попасть внутрь, – объяснил я. – Кажется, здесь находилась редакция журнала «Ленинград».
Старик приблизился.
– Это было давным-давно. Эти двери тогда были более гостеприимны.
– Вы… как-то связаны с этой редакцией?
Он кивнул.
– Борис Аркадьевич Барис, к вашим услугам. Когда-то я здесь работал.
– Вот это удача! – я чуть не подпрыгнул.
Старик ухмыльнулся, и в его взгляде заиграли лукавые искорки.
– Мне почему-то кажется, у вас сегодня в целом удачный день, – заметил он.
– Откуда вы?..
– Наблюдательность, молодой человек. У вас вид человека, которому только что заплатили, и улыбка человека, который только что получил номер телефона. Да и галстук… Оранжевый – цвет авантюристов.
Я поправил галстук, чувствуя себя разоблачённым.
– Вы правы, сегодня действительно на редкость удачный день. И я надеюсь, он станет ещё удачнее. Я как раз ищу кого-то, кто сможет помочь мне с одной загадкой…
Борис Аркадьевич не ответил сразу, лишь чуть склонил голову, изучая меня поверх очков. В его глазах блеснуло любопытство.
– Смотря что за загадка, молодой человек. Смотря что за загадка.
Этот тихий, чуть скрипучий голос был как разрешение. Как зелёный свет светофора.
– Вы это… правда можете помочь? – выдавил я, тыча пальцем в галстук. – Ну, с галстуком этим?
– С галстуком? – удивился Борис Аркадьевич. – Что с ним не так?
Я снял его и показал старику.
Он взял галстук, поправил очки и прочёл вслух: «Осторожнее! Удача – капризная дама, и не всегда приходит по зову. Редакция журнала „Ленинград“».
– Ой, вей! – старик уронил руки на колени.
– Вам плохо?
– Нет, нет, молодой человек! – он сжал галстук. – Это же мой галстук! Я сам это написал в 1946-м, когда закрыли редакцию.
– Меня зовут Виктор…
– Очень приятно. Теперь всё встало на свои места.
– Что именно?
– Череда ваших сегодняшних удач.
– Не понимаю…
– Знаете, Виктор, этот галстук – он… Каждый раз, когда я его надевал, случалось что-нибудь этакое. Вроде бы мелочь, а день уже и не такой паршивый.
Он погладил оранжевую ткань.
– Началось всё в сорок четвёртом. Я тогда лежал в госпитале, весь в бинтах как мумия. И там ухаживала за мной медсестра – Машенька. Совсем девчонка. Кормила меня бульоном с ложечки, когда у меня руки не двигались, и вытирала мне губы, смущаясь больше, чем я.
Старик усмехнулся.
– И вот однажды, перед моим отъездом, подходит она со свёртком. «Это вам, – говорит, – товарищ лейтенант. На память». Разворачиваю – а там этот галстук. Я растерялся. «Машенька, – говорю, – спасибо, но куда ж я его? На передовую? Фрицев смешить?» А она смеётся: «Вот вернётесь с победой, тогда и наденете. На парад».
Старик задумался.
– И знаете что? Два раза ещё ранен был. Но ведь действительно вернулся. И на парад попал. Правда, не в Москве, а в нашем городе. И галстук впервые надел. И тут началось…
– Что началось?
– Вам, Виктор, правда интересно?
– Да я только для этого и искал вас.
– Хорошо. Я готов рассказать вам кое-что, но при условии.
– Каком?
– Во-первых, наденете этот галстук. И, во-вторых, прогуляетесь со мной до Таврического сада, – он протянул мне галстук. – Погода, конечно, уже так себе, но для хорошей беседы самое то.
Я взглянул на небо, которое намекало на скорый дождь, но перспектива узнать больше была слишком заманчивой.
– С удовольствием, – согласился я. – К тому же, я вижу, у вас и зонт имеется, на случай дождя.
Он издал смешок. Короткий, сухой, похожий на звук, с которым лопается пересушенная косточка абрикоса.
– Вот и замечательно. Надевайте, Виктор, и не будем испытывать терпение этого замечательного питерского дождя.
Я встал рядом с его коляской, и снова это дурацкое чувство – как у сапёра перед выбором провода. Предложить помощь – и, возможно, оскорбить. Не предложить – и прослыть чёрствым болваном. Он, перехватив мой взгляд, полный метаний Гамлета уездного масштаба, отмахнулся.
– Не стоит, Виктор. Эта повозка умнее иного депутата, сама разберётся. А уж если понадобится грубая мужская сила, чтобы, скажем, перенести её через баррикаду, – я вам свистну.
И мы тронулись. В какой-то момент я поймал наше отражение в запотевшей витрине закрытого на вечный ремонт бара: громоздкое кресло, фигура рядом, серая изморось. Картинка была настолько монохромной и лишённой примет времени, что не хватало только закадрового голоса Левитана, вещающего о досрочном выполнении плана по унынию. Старик катил рядом, и его коляска тихо, басовито жужжала, словно шмель-переросток, заблудившийся в складках его пиджака. И вот это оранжевое пятно галстука на моей шее казалось в этом чёрно-белом кино единственным доказательством того, что цвет в мире всё ещё существует.
– Так откуда у вас эта реликвия, Виктор? – его голос вырвал меня из оцепенения.
– История без всякой поэзии. Наткнулся на старый саквояж в антикварной лавке, – сказал я. – Выгреб мелочь из карманов, купил. А внутри – он. Ну и ещё кое-какой хлам.
– Везенье – та ещё лотерея, – кивнул старик, виртуозно лавируя между трещинами в асфальте. – Мне вот тоже однажды выпал счастливый билет. Это был… да, сорок пятый. Ленинград только-только начал дышать. И судьба определила меня в дворники. Борис – дворник. Согласитесь, звучит как имя персонажа из сатирического фельетона. Разгребая как-то очередные завалы – смесь битого кирпича, обрывков чьих-то жизней и обычного мусора, – я и наткнулся на марку. Крохотный, грязный, прилипший к газетному обрывку квадратик. «И на кой ляд она мне?» – подумал я, но в карман сунул. Знаете, привычка человека, который знает, что любая вещь может когда-нибудь пригодиться. Хотя бы для растопки.
Годы летели. Как спугнутая с карниза стая нетрезвых голубей – шумно, бестолково и в непредсказуемом направлении. Я обзаводился сединой, суставы – артрозом, а желудок – язвой, а марка тихо лежала в старом конверте. Ждала. И дождалась. Мой правнук Мишка, молодой «волк с Уолл-стрит», пришёл клянчить денег на очередной «стартап». Вот тут-то я про неё и вспомнил.
– На, – говорю, – держи. Это покрепче любых акций будет.
Он посмотрел на меня, как врач-психиатр смотрит на пациента, уверяющего, что он – Наполеон. Но конверт взял. Из уважения к возрасту, не иначе.
А через неделю влетает. Без стука. Глаза блестят, как два начищенных медяка, с каким-то лихорадочным, почти биржевым азартом.
– Дед, ты гений! – орёт. – Эта бумажка стоит как… как крыло от самолёта!
Я только ухмыльнулся.
– А ты, поди, думал, старый хрыч тебе фантик от конфеты подсунет?
В общем, продал он её. Теперь у него галерея, где за бешеные деньги выставляют ржавые железяки, а я – его «эксцентричный, но мудрый дедушка», – старик хмыкнул. – Забавно. А знаете, почему всё это случилось?
– Почему? – я действительно не понимал.
– Да потому что галстук этот, – он щёлкнул по оранжевому хлопку, – мне тогда носить было некуда. Абсолютно. Вот я и надевал его, когда шёл мести улицу. Понимаете, к чему я это оранжевое безобразие приплёл?
– Признаться, туманно, – пожал плечами я.
– Тогда слушайте. К концу сорок пятого меня повысили. Стал курьером в редакции «Ленинграда». Работа – мечта идиота. Бери пакет, неси пакет. Но, как оказалось, и на этом поле чудес могут вырасти диковинные цветы. Посылают меня однажды к какой-то поэтессе. Фамилию даже не назвали, а имя я тут же забыл. Дали адрес на бумажке и конверт. «Срочно». Ну, срочно так срочно. Прихожу. Дом старый, подъезд мрачный, как настроение после вчерашнего у завхоза в редакции. Третий этаж. Стучу. Тишина. Стучу снова, уже кулаком. Никого. А пакет-то отдать – приказ. Ну, я сел на ступеньки. Жду. Время тянется как резина. И чтобы не сойти с ума от этой тишины, я начал читать стихи. Свои. Я их тогда пописывал, грешным делом. Обычно читал шёпотом, для себя и для стен в коммуналке, да и те, кажется, в восторге не были. А тут вдруг осмелел. Голос гулко так отдавался от стен. Наверное, от безысходности. И тут, прямо посреди моего «шедевра», за спиной раздался голос:
– Это вы чьи стихи читаете, молодой человек?
Я так вздрогнул, что чуть не съехал по ступенькам вниз. Оборачиваюсь – женщина. В чёрном. И не то чтобы красивая, нет. Лицо строгое, высокие скулы, глаза пронзительные, томные и какие-то загадочные. Нос с горбинкой, на лоб спадает чёлка. Такая… властная. Будто не она ко мне на лестницу вышла, а я к ней на приём во дворец попал без приглашения.
В голове застучала одна-единственная мысль, паническая и простая, как сигнал SOS: «Ну всё, Боря, сейчас тебя отсюда вышвырнут».
– С-свои, – заикаясь, выдавил я.
Она вскинула бровь.
– Свои? Любопытно. Заходите.
Я вошёл. В квартире – книги. Везде. На полках, на стульях, на полу. И запах табака.
– Кофе? – спросила она. Я кивнул.
Пока она была на кухне, я сидел и думал, что это какой-то странный сон. Она вернулась, поставила две чашки.
– Читайте.
И я читал.
Бутылка пуста, а душа – как Бродвей.
Здесь каждый «прохожий» – непризнанный гений.
И я среди них – чистокровный еврей
В плену своих русских сомнений…
Она слушала, подперев подбородок, и в комнате повисла такая тишина, что, казалось, слышно, как пылинки в луче света толкаются.
– В этом что-то есть, – сказала она, когда я замолчал. И улыбнулась одними уголками губ. – Вы ведь что-то принесли?
– Ах, да! – я протянул конверт.
Она отложила его, не глядя.
– Я поговорю в редакции. Такой талант не должен пропадать. Тем более, – она мельком взглянула на мою шею, – обладатель столь жизнеутверждающего мандаринового галстука.
На следующий день меня вызвал главный. Думаю: ну все, доигрался.
– Борис, – сказал он, – тут Анна Андреевна за вас словечко замолвила.
– Анна… Андреевна?
– Ахматова, – пояснил он, глядя на меня как на полного кретина.
У меня в голове на секунду стало совершенно пусто. Ахматова. Та самая? Живая легенда. Женщина, о которой шептались все, от университетских профессоров до лифтёрш в «Астории». И она… замолвила словечко за меня, дворового рифмоплёта? В это было просто невозможно поверить.
– Несите свои вирши, – буркнул редактор.
Так я на короткое время стал поэтом. Слава богу, недолгим. Но я до сих пор думаю: не надень я тот галстук, я бы просто ушёл. Или бормотал бы стихи себе под нос. И всё. Конец истории.
– А стихи?
– Стихи остались в прошлом. Вместе с молодостью. Этого, поверьте, достаточно. Продолжать? – он повернул голову. Сбоку нас с ветерком пронёсся парень на электросамокате, обдав нас веером грязной воды. Старик проводил его нечитаемым взглядом.
– Конечно! – стряхнув капли с рукава, улыбнулся я. – До Таврического ещё как до Пекина в неудобной обуви.
– В сорок девятом году занесло меня в Москву. Командировка. Я тогда впервые увидел этот город по-настоящему, не с парадных открыток, а изнутри. Он пах пылью, дешёвым табаком и какой-то отчаянной, но упрямой надеждой. Город-герой, похожий на старого генерала, который снял парадный мундир со всеми орденами и надел простую, штопаную гимнастёрку. Серый, разрушенный, но под этой серостью уже гудело напряжение, как в мускуле перед рывком. Живой был город, да.
Забрёл как-то к стадиону «Динамо». Рядом скверик, несколько скамеек, пустых. Присел, закурил «Казбек». Драгоценность! Я тогда у нашего редакционного фотографа выменял четыре пачки на целую бутылку «Столичной». Сделка века, я считаю.
Я невольно усмехнулся. В его голосе прозвучала такая неподдельная гордость за эту мелкую спекуляцию, какая сейчас бывает разве что у биржевых маклеров, провернувших многомиллионную сделку. Времена меняются, а азарт, видимо, вечен.
– И вот смотрю – неподалёку какой-то долговязый парень мяч чеканит. Худой, нескладный, лет двадцати, не больше. И так сосредоточенно считает удары, будто от этого зависит, взойдёт завтра солнце или нет.
– Эй, Пушкаш! – крикнул я ему просто так, от нечего делать.
Парень, конечно, отвлёкся, сбился, неловко ткнул мяч ногой, и тот, описав нелепую дугу, покатился прямо ко мне. Я поймал его руками, как какой-нибудь арбуз.
– Простите! – подбежал он, запыхавшись, с виноватым лицом мальчишки, разбившего мячом соседское окно.
– Пустяки, – говорю. – Мяч хороший. Небось, трофейный? – ляпнул я, желая сойти за знатока.
– Да нет, обычный, советский, – ответил он с такой обезоруживающей серьёзностью, что мне даже стало немного стыдно за своё позёрство.
– Может, сыграем? – предложил я, чтобы сгладить неловкость. – Я в своё время за сборную нашего двора блистал.
– А давайте! – его глаза тут же загорелись.
И мы начали гонять этот мяч по жухлой траве. Воротами нам служили два булыжника, а воображаемыми соперниками – молодые берёзки, которые мы с азартом обводили, орали друг на друга как сумасшедшие. Для него мяч был продолжением мысли, а для меня – досадным недоразумением, которое постоянно путалось под ногами. После пятой или шестой бесплодной попытки отобрать у него мяч я окончательно выдохся.
– Стой, – говорю, хватая ртом воздух. – Всё, сдаюсь. Давай лучше пенальти. Ты – в ворота, я бью.
Он кивнул и встал между берёзками, приняв на удивление профессиональную стойку. Я отошёл, разбежался и от души приложился, целясь точно в левый верхний угол. Мне на мгновение показалось, что это гол, неотразимый, идеальный. Но парень в каком-то невероятном, кошачьем прыжке, с совершенно нечеловеческой реакцией, дотянулся и кончиками пальцев перевёл мяч за «штангу».
– Чёрт возьми, – выдохнул я с искренним восхищением. – Да в тебе талант пропадает. Тебе вот туда надо, – кивнул я на громаду стадиона.
Он посмотрел в ту же сторону, и вся его мальчишеская удаль куда-то улетучилась. Он вздохнул.
– Меня как раз сегодня на просмотр позвали.
– Так чего стоишь? Боишься, что ли?
– Мандраж, – честно признался он. – Боюсь, всё испорчу.
Я оглядел его с ног до головы. Одет бедно, но чисто. Типичный послевоенный парень, один из миллионов таких же, мечтающих о славе.
– Знаешь что, – сказал я ему. – Тебе галстука не хватает.
– Чего? – он уставился на меня, как на идиота.
– Галстука. Для солидности, для апломба, – и, недолго думая, снял свой оранжевый талисман и протянул ему. – Надевай.
– Галстук? На просмотр?
– Надевай, говорят тебе, – настоял я. – Потом ещё спасибо скажешь.
– Ну, давайте, – он недоверчиво, но с каким-то скрытым любопытством взял галстук. – Меня Лев зовут, кстати.
– А меня Борис. А теперь иди и покажи им класс. И не забудь галстук вернуть, – крикнул я ему вдогонку, – он мне ещё для свиданий с барышнями пригодится!
Я слушал старика и пытался представить его таким – молодым, дерзким, раздающим направо и налево свой единственный модный галстук. Картина, на удивление, получалась абсолютно живой.
Прошёл, наверное, час, а может, и больше. Я уже успел выкурить полпачки драгоценного «Казбека». Солнце уже клонилось к закату, тени от берёз вытянулись через весь сквер, и откуда-то из-за стадиона доносились глухие удары по мячу и обрывки команд. Там шла какая-то своя, настоящая жизнь, а я сидел тут и ждал возвращения этого куска оранжевой ткани, как ждут весточки с фронта.
И тут вижу – бежит мой новый знакомый. Летит, размахивая руками, а лицо сияет так, словно он не просто прошёл просмотр, а только что узнал, что война закончилась во второй раз, лично для него.
– Взяли! – кричит. – Сказали, перспективный! – Он подбежал, запыхавшийся, и достал из кармана маленький эмалевый значок с буквой «Д». – Вот, – говорит, – вам. На память. Ладно, мне пора. Будете в Москве – приходите на матч. Спросите Льва Яшина, это я. Проведу без билета.
Я усмехнулся ему вслед.
– Обязательно.
Старик замолчал, глядя куда-то вдаль, сквозь пелену дождя.
– И что, сходили? – спросил я, нарушив паузу.
– Нет, не сложилось… – он покачал головой. – Хотя за его игрой, конечно, следил. Любопытно было, как там мой «крестник». Парень-то легендой стал. А я вот теперь могу рассказывать, что приложил к этому руку.
Он сказал это без тени хвастовства, скорее с какой-то лёгкой, почти отеческой иронией. Будто рассказывал не о встрече с будущей легендой мирового футбола, а о том, как научил соседского мальчишку кататься на велосипеде.
– Скорее, галстук, – поправил я.
Мы оба рассмеялись.
Я посмотрел на старика, на его кресло и на этот нелепый и прекрасный мандариновый галстук, режущий глаз посреди серого дня. И вдруг я подумал о его жизни, да и о своей тоже. Это была прогулка под дождём в поисках Таврического, где самое важное случалось не в самом саду, а по дороге к нему.
– Ну что, Виктор, начинает проясняться, к чему я веду эти раскопки в прошлом? – Старик чуть прищурился, глядя на меня. – Или требуется еще один контрольный экскурс, для закрепления материала?
– Проясняется, – кивнул я. – Но от экскурса не откажусь. Уж больно у вас складные получаются байки.
– Байки… – он усмехнулся, покачал головой. – Ну, байки, так байки. Вот вам, например, байка про лифт. Я всегда подозревал, что у лифтов есть свой характер, чаще всего – скверный, – начал он, когда его коляска с натужным скрипом преодолела очередной дефект асфальта. – Они кряхтят, как старые ревматики, думают по полчаса, прежде чем тронуться, а иногда – вот как в тот раз – просто решают вздремнуть. В тот день он вздремнул между третьим и четвертым этажами в знаменитом довлатовском доме на Рубинштейна. И в этом его железном чреве я оказался не один, а с девушкой, которую видел первый раз в жизни.
Она вскочила в кабину в последнюю секунду, бросив на меня быстрый, оценивающий взгляд. Копна рыжих волос, россыпь веснушек на носу, а в руках – пакет с мандаринами, оранжевыми как пожар. Я тут же сделал вид, что страшно увлечен изучением инструкции по пользованию лифтом, написанной на выцветшей бумажке. Мы тронулись. Через мгновение свет моргнул, как подбитый глаз, и погас. И всё оборвалось. Не стало ни гула мотора, ни дребезжания. Только темнота и чужое дыхание где-то рядом. На секунду мне показалось, что мы не просто застряли, а провалились в какую-то беззвучную дыру в пространстве, и мир снаружи перестал существовать.
– Кажется, приехали, – сказала она на удивление ровно, будто застревать в лифтах было ее привычным хобби.
– Похоже, наш транспорт решил передохнуть, – пробормотал я, тщетно пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-то в этой абсолютной, бархатной черноте.
В темноте послышался смешок.
– Что ж, будем знакомиться в условиях, приближенных к боевым. Я – Маша.
– Борис, – отозвался я. – Я, конечно, ценю сюрпризы, которые подкидывает жизнь, но предпочитаю получать их на твердой земле.
Мы оба усмехнулись.
– Огонька не найдется? – спросила она.
– Только внутренний свет души, – признался я. – Но тут он слабоват.
Она снова рассмеялась.
– Ну, может хотя бы зажигалка?
Щёлкнув кремнем, я осветил наши лица дрожащим пламенем. Ее зеленые глаза в свете зажигалки блеснули, как два осколка бутылочного стекла на солнце. Она смотрела прямо на меня, и в ее взгляде не было ничего, кроме живого интереса. И я внезапно почувствовал, что это приключение может быть не таким уж плохим.
Я опустил на пол свой пухлый портфель.
– Присаживайтесь. Неизвестно, сколько нам тут куковать.
Сам я прислонился к холодной стенке. Пакет с мандаринами лег между нами.
– Угощайтесь, – предложила она, протягивая мне оранжевый шар. – Почти как ваш галстук.
Я принялся чистить фрукт. Сок брызнул на пальцы и в кабинке запахло Новым Годом.
– Я где-то вычитал, что мандариновый цвет, вроде как, лечит хандру. Чушь, наверное… – я отломил дольку, отправил в рот. – Хотя, знаете, а ведь не врут.
– Поэтично, – заметила Маша. – Вы, часом, не писатель?
– Скорее, вечный абитуриент в эту профессию. Рассказы пописываю. Вы, кстати, как раз на них и сидите. Хоть какая-то от них польза. Их все равно никто печатать не хочет.
– Это еще почему?
– Слишком мрачные для веселых журналов и слишком веселые для мрачных. Ни под чье настроение не подхожу.
– А может, дело не в вас, а в редакторах? – предположила она так просто, будто это само собой разумелось.
– Тоже мысль. Только вы потише, – зашептал я. – Я как раз к одному такому на пятый этаж ехал. Еще услышит – обидится на всю жизнь. А вы кем будете?
– Я психиатр. Помогаю людям разбираться с тараканами в их головах. Боязнь замкнутых пространств, например, – мой профиль, – и она улыбнулась.
– Выходит, вы сейчас при исполнении, – заметил я.
Мы доели первый мандарин, потом второй. Я рассказал ей сюжет своего самого провального рассказа, а она – историю пациента, который панически боялся пуговиц. Я и не заметил, как зажигалка в моей руке стала горячей. Время перестало существовать.
– Занятно, – протянула Маша, когда мы замолчали. – Иногда нужно оказаться в железной коробке в полной темноте, чтобы понять, что сидеть на полу с незнакомым человеком и есть мандарины – чертовски приятное занятие.
– Может, это и есть удача?
– Вы в нее верите?
– Стараюсь.
Вдруг лифт содрогнулся, как от озноба, свет судорожно замигал и включился. Мы аж подскочили. Кабина нехотя поползла вверх и с лязгом остановилась. Двери открылись. В проеме стоял лифтер – брыластый, как бульдог, которому сообщили, что косточку он сегодня не получит.
– Опять? – проворчал он. – Говорил же, не больше трех человек! Соберутся толпой и шастают!
Мы переглянулись и фыркнули от смеха.
– Простите, – сказала Маша, стараясь сохранить серьезное лицо.
– Не будем… больше, – пообещал я.
Мы вышли на площадку, и я почувствовал, как что-то внутри оборвалось. Будто фильм кончился на самом интересном месте.
– Знаете… – начал я, чувствуя, как слова застревают в горле. – Может, мы могли бы продолжить… Лимонад, мороженое?
– Я только за, – кивнула она. – Но с одним условием.
– Каким?
– Вы дадите мне почитать свои рассказы. – Она сделала короткую паузу и, чуть прищурившись, с лукавой усмешкой посмотрела на потолок, в сторону квартиры того самого редактора. – Вдруг я смогу поставить им правильный диагноз.
– Идет, – кивнул я. – А вы здесь живете?
– К тете пришла. Квартира шестьсот три. Она у меня бывшая балерина. Представляете?
Она рассмеялась, и я, глядя на нее, отчетливо понял, что этот застрявший лифт – лучшее место, где я оказывался за последние лет десять.
Мелкая морось, что накрапывала у Фонтанного дома, к Таврическому саду разошлась не на шутку, превратившись в полноценный, уверенный в себе дождь. Мы спрятались под тяжелыми лапами старого дуба.
– Послушайте, – сказал я решительно. – Возьмите галстук. Он ваш по праву.
– Виктор, дорогой мой, – старик мягко положил свою сухую, теплую руку на мою. – Мне без году неделя сто лет. Какая там удача… В моем возрасте удача – это когда ты утром открываешь глаза и понимаешь, что проснулся, да к тому же не мокрым. Всё. Представление продолжается. Оставьте галстук себе.
Я улыбнулся.
– Знаете, – продолжил он, – я прошу правнука просто возить меня по городу. Оставлять на час-другой в местах, где что-то когда-то было. Вот она, моя удача. Просто сидеть и смотреть.
– И часто вы так… путешествуете?
– Каждый день, – кивнул он. – Вчера вот сидел у Пяти углов. Там я впервые поцеловал Машу. Эх, какой это был поцелуй… Будто мне в кровь впрыснули порцию чистого, незамутненного солнца.
– Так тем более возьмите! Он же удачу приносит! Вам она нужна, чтобы и дальше просыпаться по утрам.
– Галстук… – он задумчиво потер подбородок. – Да просто тряпка. Яркая. Флажок, может быть. Чтобы самому себе напоминать – смотри по сторонам. Не жди подарков от судьбы, а будь готов сам сделать шаг навстречу. Не зевай. А то пропустишь свой лифт… или своего долговязого вратаря, который мяч ловит как бог. Истории, Виктор. Вся соль в них. Ведь главное – не то, что с тобой случается, а то, что ты потом можешь рассказать.
Мы помолчали. Дождь забарабанил по листьям… тон – тон – полутон – тон – тон – тон – полутон… Простая и ясная логика. Истории. Вся соль в них. И в этот момент я понял, что старик подарил мне не просто галстук. Он вручил мне первую страницу моей собственной истории, которую теперь предстояло написать. И впервые за год мне стало интересно, что же будет дальше.
Запонки
Чёртов ливень. Третий день, если я не сбился со счёта. Долбит в стекло. Назойливо, методично, бесконечно. Словно какой-то особенно упёртый Свидетель Иеговы, твёрдо намеренный всучить мне свежий номер «Сторожевой башни», даже если для этого придётся выбить дверь. Погода за бортом настолько отвратная, что даже вон, ворона – существо, казалось бы, всепогодное – прилетела на балкон искать укрытие. Нахохлилась, уставилась на меня так пристально, будто я персонально задолжал ей приличную порцию отборных хлебных крошек и теперь делаю вид, что мы не знакомы.
Я сижу на кухне. Ковыряю вилкой остывшую котлету и, синхронно, собственные мысли. И то, и другое получается одинаково бесплодно, но зато как прекрасно откладываются важные дела на завтра. Или на послезавтра. Или, чего уж там, до следующей, будем надеяться, более удачной жизни.
Ворона на балконе чуть склонила голову набок. Чего-то ждёт. Может, она тоже рефлексирует под этим нескончаемым дождём? Я усмехнулся и, сам не зная зачем, просто, чтобы нарушить тишину, начал читать ей стихи. Телеграфным стилем. В столбик.
Нева. Гранит. Туман. Шпиль. Мост. Рассвет.
Шаги. Звон. Тишина. Дождь. Зонт. Силуэт.
Кафе. Свет. Аромат. Книга. Строки. Мысль.
Ворона. Крик. Закат. Фонарь. Ночь. Жизнь.
Птица слушала, не шевелясь. Серьёзно, как критик на премьере. Я, войдя в раж, продолжил.
Взгляд. Улыбка. Трепет. Сердце. Ритм. Волнение. Рука.
Тепло. Касание. Гу́бы. Вздох. Мгновение. Слова́.
Шёпот. Нежность. Чувство. Страсть. Полёт.
Двое. Город. Вечность. Счастье. Сон. Восход.
Закончив, я почувствовал себя немного глупо. Этакий городской сумасшедший, декламирующий экзистенциальные вирши пернатым. Ворона моргнула. Медленно склонила голову набок, будто взвешивая каждую рифму. И вдруг каркнула так отчётливо, что я поперхнулся:
– Карр-во-яж!
Развернулась и улетела в серую хмарь.
– Дура, – сказал я в пространство. Саквояж… Откуда в её птичьей голове это слово? Или это я уже слышу то, что хочу услышать? Я почему-то улыбнулся. В конце концов, это был самый подходящий саундтрек для чтения стихов вороне в Петербурге.
Дожевал наконец котлету, с лёгким сожалением о её загубленной гастрономической судьбе поставил тарелку в раковину и поплёлся в комнату. В полумраке прихожей машинально бросил взгляд в зеркало. И замер. Опять. Вместо моей привычной, слегка помятой физиономии оттуда на меня смотрела мисс Марпл. Седые кудряшки, вязаная шаль, лукавый, всезнающий прищур – полный комплект. Уже несколько дней эта английская леди не давала мне покоя, материализуясь в любом отражении.
Она не произнесла ни слова. Просто смотрела с этим своим лукавым, всезнающим прищуром. А в моей голове, будто эхо вороньего крика, назойливо и отчётливо прозвучало английское слово: Suitcase.
– Да иду я, иду, – пробормотал я в ответ, обращаясь к зеркальному наваждению. – Сговорились вы все, что ли? Сначала ворона каркает про саквояж, теперь вы, мэм. Не доведёт меня до добра этот ваш детективный метод. Того и гляди, начну пить чай в пять часов, играть на скрипке и курить сигары.
Уселся на диван и лениво, ногой, придвинул к себе тот самый саквояж. Расстегнул тугую латунную застёжку и, не глядя, почти на ощупь, вытащил первую попавшуюся вещь.
Это были запонки. В старой, потёртой, но добротной коробочке.
Снаружи – ничего особенного. Только маленькая металлическая пластинка с гравировкой: «В.К. От благодарных сотрудников. Литейный проспект. 1938». Я извлёк запонки из бархатного гнезда, положил их на стол. Серебряные, массивные, покрытые благородной патиной. Проба виднелась отчётливо – «875» и рядом крохотная звезда. На одной была выгравирована буква «В», на другой – «К».
– В.К., – произнёс я вслух, пробуя инициалы на вкус. – И кто же вы такой, товарищ В.К.?
Машинально попытался прикинуть варианты. «Варфоломей Космик», «Викентий Калабухов», «Вакула Куров». Или, может быть, наоборот – «Капитон Варшавчик», «Калистрат Взбесившийся», «Ксенофонт Восходец»? Нет, бред какой-то.
Я повертел запонки под светом настольной лампы. Тусклый свет скользил по серебру, обнажая сеть мелких царапин и вмятин – следы чьей-то жизни. Взял лупу и стал внимательно рассматривать гравировку. Под буквами я разглядел едва заметный символ – крохотную пятиконечную звезду с серпом и молотом внутри. А по окружности шёл затейливый, почти незаметный орнамент.
– Интересно, – подумал я вслух. – Литейный проспект, 1938 год…
От этого сочетания слов по спине пробежал не просто холодок – прошёл настоящий сквозняк, пахнущий сыростью казённых коридоров и дешёвым табаком. В голове тут же всплыл номер дома, который в Ленинграде знал каждый, хоть и старался не произносить его вслух. В.К.… Картина разом прояснилась, и от этой ясности стало только гаже.
В голове будто провернули старую мясорубку, забив её обрывками газет, ржавыми значками и окурками. Ежов. Безродные космополиты. Большой террор. Ленинградское дело. Расстрельные списки.
Из этого хаоса, без всякого приглашения, начала прокручиваться кинохроника. Сначала я видел это будто со стороны: большой зал, тяжёлые красные знамёна, ряды одинаковых стульев. Но в какой-то момент зернистая картинка обрела цвет и объём, запахи стали реальными, а я оказался не зрителем, а одним из тех, кто сидит в зале, вжавшись в жёсткое дерево. Гипсовый бюст Дзержинского на деревянной тумбе смотрел в никуда, но было полное ощущение, что он видит всех и каждого насквозь. Воздух в зале был густой, как сироп, пропитанный запахом мастики, табака и пота застывших в креслах людей. На трибуну, тяжело ступая, так, что скрипнула половица, поднимается товарищ Сталин. Невысокий, усатый, с трубкой в руке. Он говорит негромко, но каждое слово падает в мёртвую тишину зала, как капля свинца в воду.
И тогда-то он и посмотрел прямо на меня.
– Товарищ В.К., – произносит он с лёгким акцентом, и я чувствую, как холодеет под ложечкой. – Ви показали сэбя вэрным сином партыи. Ваши чистая голова, горячие руки и холодное сэрдце – это то, что нужьно совэтскому народу. Благодарю за служьбу. Носитэ… пока.
Это «пока» прозвучало особенно зловеще, повиснув в воздухе, как дымок от его трубки. Он протянул почему-то мне коробочку с запонками, и я увидел его сухие, короткие пальцы. И тут же, заметив какую-то невидимую мне ошибку, он нахмурился и поправил, обращаясь уже не ко мне, а ко всему залу:
– Голова холодная, руки чистые, а сердце – горячее.
Я отложил запонки, потёр виски. Мысли путались, сбивались в клубок, как мокрая паутина, что липнет к лицу в тёмной парадной.
Забулькал на кухне закипевший чайник, выдернув меня из этого бреда. Налил чаю. Подумал, может, коньяка? Решил, что ещё рановато для серьёзных напитков. Хотя, какая, к чёрту, разница – рано, поздно. Время в Петербурге – понятие в высшей степени относительное. Особенно когда имеешь дело с призраками прошлого.
За окном снова раздался хриплый вскрик. Я вздрогнул. На секунду мне показалось, что ворона отчётливо произнесла: «Бе-ри-я». Глупости, конечно. Откуда ей знать, кто это такой. Просто каркает. Наверное.
Махнул стопку коньяка, который всё-таки материализовался на столе. Пожевал дольку лимона, почти не чувствуя вкуса. И снова уставился на запонки. В.К. Кто же ты? Палач? Или жертва? А может, и то и другое в одном личном деле?
Глоток горячего чая. Так, стоп. Надо собраться. Подумать логически. С чего начать поиски? Библиотеки? Старые подшивки газет? Перелопатить тонны бумаги ради одной фамилии? Бред. Поспрашивать прохожих на Литейном? «Простите, вы случайно не знаете чекиста В.К. из тридцать восьмого?» Абсурд, конечно. Но чем абсурднее метод, тем больше шансов на успех. Особенно в России. В этом есть своя, вывихнутая логика.
Я встал, подошёл к окну. Дождь не просто усилился – он перешёл в яростную атаку. Капли стучали по карнизу, как пальцы по клавишам старого «Ундервуда» в кабинете следователя. Тук-тук-тук. Имя, фамилия, год рождения. Тук-тук-тук. Место работы, партийность, социальное происхождение. Тук-тук-тук. Приговор. Тук-тук-тук. Расстрелять.
Я невольно поёжился, хотя в комнате было тепло. Этот звук въедался под кожу.
И тут, на дне коньячного стакана, я наконец разглядел идею. Абсурдную, рискованную, но единственную из имевшихся. Дам объявление о продаже запонок на «Мешке»! Ведь именно там сейчас сидит вся приличная тусовка знатоков и коллекционеров. Не просто барыг, а людей, для которых трещинка на эмали или форма клейма говорят больше, чем целая биография. Может быть, кто-то узнает их и откликнется?
Эта мысль придала мне сил. Я налил ещё коньяку. На этот раз не стал мелочиться – плеснул щедро, до краёв.
Сначала – вещдоки. Подобрав удачные ракурсы под настольной лампой, я сделал несколько недурных фотографий. Крупным планом – гравировка, общий вид, коробочка с надписью. Затем открыл сайт и принялся составлять текст объявления, тщательно подбирая слова:
Старинные серебряные запонки. 875-я проба. На одной выгравирована буква «В», на другой – «К». Коробочка с надписью: «В.К. От благодарных сотрудников. Литейный проспект. 1938». Возможно, представляют историческую ценность. Цена договорная.
Клацнул по кнопке «Опубликовать». На секунду в груди разлилось тёплое чувство выполненного дела. А потом оно схлынуло, оставив привычный привкус холодной золы. И что теперь? Сидеть и ждать у моря погоды? Нет, может не сработать, нужно что-то ещё придумать. Что, если никто не откликнется? Или откликнутся одни перекупщики? Нужно проработать и другие варианты. Обратиться в музей? Засмеют. Съездить на Уделку? Эти прохиндеи сдерут три шкуры и ничего не скажут. Найти форум коллекционеров советской атрибутики? Возможно, но это долго. А что если… Забежать к тому всклокоченному антикварному деду, который продал мне этот саквояж? Вот это уже теплее. Если я, конечно, найду его лавку снова. Или… рискнуть и в архив? Списки сотрудников НКВД за 1938 год глянуть. Я хмыкнул. Смешно. Меня с такой просьбой дальше порога не пустят.
Глаза начали слипаться. Коньяк в голове мурлыкал колыбельную из «Спокойной ночи, малыши». Мысли, как оказалось, утомляют не меньше, чем разгрузка вагонов с цементом. За окном всё так же шумел дождь, убаюкивая город.
Я потянулся к выключателю настольной лампы. Петербургский вечер медленно и неотвратимо перетекал в ночь. Свет от качающегося под порывами ветра уличного фонаря танцевал на потолке моей комнаты какой-то причудливый, тревожный танец. И последняя мысль, мелькнувшая в голове перед тем, как провалиться в сон, была на удивление чёткой: нужно завтра съездить на Литейный. Просто посмотреть.
***
Выполз из своей берлоги около семи часов. Воздух на лестничной клетке был спёртый, как в фамильном склепе. Тут-то меня уже и поджидала вездесущая баба Нюра с неизменным пакетом в руке.
– Всё равно мимо мусорки пойдёшь, выброси пакетик, Витенька.
«Витенька, – мысленно передразнил я эту вестницу апокалипсиса. – Как будто у Витеньки нет своих дел, кроме как служить персональным мусоропроводом для всего подъезда». Но пакет, разумеется, взял.
Умытые трёхдневным дождём дома на Васильевском стояли как новенькие, блестя на солнце своими свежевымытыми фасадами. Небо местами ещё хмурилось, как недовольный профессор на лекциях в университете, которому задали глупый вопрос. Типичное питерское лето: солнце не греет, а дразнит, выглядывая из-за плывущих по небу серых тучек. После трёх суток квартирного ареста этот обыденный пейзаж казался почти галлюцинацией. Воздух был такой свежий, что хотелось его пить, как минералку.
Я гордо шагал по набережной, неся своё тело, как орден за взятие неприступной крепости под названием «Пробуждение ни свет ни заря». Нева лениво плескалась о гранит, на макушках тёмных волн беззаботно катались солнечные зайчики.
Дворцовый мост встретил меня, как обычно, с холодным равнодушием. Я, словно встретив старого приятеля, похлопал его по холодной чугунной решётке перил. Мост не ответил, видимо, счёл это ниже своего имперского достоинства.
На углу Шпалерной я вспомнил старика Бариса. Как он там? Проснулся ли сегодня утром? Эх, и чего он свой мандариновый галстук не забрал себе? Хороший дед.
Свернул на Литейный, и первым делом изменился звук. Он стал глуше, словно кто-то выкрутил ручку высоких частот. Пропал визг мотоциклов и ровный гул современных иномарок. Я решил, что мне показалось. Потом изменился свет – он пожелтел, потускнел, будто на мир надели старые очки с закопчёнными стёклами. У обочины я увидел автомобиль – чёрный, округлый, незнакомой формы. Потом ещё один. Я начал вглядываться в прохожих. Мужчины в шляпах и пальто до пят. Женщины в скромных платьях, с сетками-авоськами в руках. И тут я посмотрел на себя – на свои джинсы и яркую куртку. Я кричал в этом сером потоке, как канарейка в стае ворон. Воздух сгустился, словно кто-то накинул на город огромное мокрое одеяло. Невесть откуда взявшаяся посреди солнечного дня питерская морось превратилась в плотный туман, обволакивающий здания, людей, мысли.
Я шёл по проспекту и вдруг понял, что иду в тишине. Не в полной, нет, но из неё пропали все современные звуки – визг тормозов, гул иномарок, обрывки музыки из наушников. Остался только глухой, шаркающий шум сотен ног по влажному асфальту. Люди текли мимо меня сплошным серым потоком. Их взгляды не встречались с моим, они скользили мимо, сквозь меня, устремлённые в одну точку – в себя. Не пустые – выключенные. Словно каждый нёс внутри хрупкий, бесценный груз и боялся, что одно неосторожное движение, один лишний взгляд – и он его уронит. Я вдруг почувствовал себя чудовищно неуместным, выряженным в будущее, как в карнавальный костюм.
Взглядом замечаю старика, у ног которого стоит фанерный чемоданчик. Стоит, опершись рукой о стену, смотрит на меня, кашляет. Сухой, надсадный кашель. Взгляд изучающий, будто насквозь видит. Пронизывает как рентген. Кто он? Что ему нужно? Я инстинктивно отворачиваюсь. Сердце заколотилось быстрее. Через мгновение повернулся – старика уже нет. Испарился. Померещилось? Господи, что со мной происходит? Этот город выталкивает меня из реальности…
Напротив – Большой дом. Стоит, как огромный гранитный айсберг, застрявший посреди города. Восемь этажей давят на психику, как невыполненная работа к утру понедельника. Высокие пилоны казались рёбрами какого-то исполинского, доисторического чудовища, торчащими из земли. Кажется, будто само здание – не дом, а исполинский канцелярский пресс, который штампует человеческие судьбы, как бланки строгой отчётности, с одним и тем же итогом в последней графе.
Я замер перед входом, чувствуя себя Давидом перед Голиафом. Инстинктивно расправил плечи так, что хрустнул позвоночник, и задрал подбородок, рассматривая эту бесконечную россыпь прямоугольных окон. Они словно многоглазый прокурор пялились на тебя, безмолвно крича в лицо: «Расстрелять». Подошвы ботинок вдруг показались тонкими, как бумага, а в животе образовалась пустота, в которую, казалось, засасывало тепло. Не от страха, нет. От осознания. Осознания того, что было тут восемьдесят лет назад.
Я достаю сигарету. Закуриваю. Руки слегка дрожат. Дым растворяется в сыром воздухе. Как растворялись здесь судьбы, жизни, надежды. Мимо проходит старушка. Замечает мой взгляд, устремлённый на здание, и торопливо крестится. Я усмехнулся. Бог? Здесь? Смешно. Здесь правят другие боги.
Закрываю глаза. Представляю, как выглядел этот дом ночью. Окна горят. Жёлтым, нездоровым светом. В кабинетах – допросы. В подвалах… Нет, о подвалах лучше не думать. Открываю глаза. Дом стоит. Молчит. Хранит свои тайны за толстыми стенами и тяжёлыми дверями. В голове застучала какая-то строчка, кажется, из Мандельштама… «Мы живём, под собою не чуя страны…»
Смотрю на часы. Секундная стрелка замерла. Или мне так кажется? Кажется, что время стоит на месте. Поворачиваюсь спиной к Большому дому. Ухожу. Но чувствую – он смотрит мне вслед. Смотрит всеми своими окнами, всей своей жестокой мощью. Мимо мелькают прохожие. Дети этого времени. Дети страха и молчания.
Иду быстрым шагом, почти бегу. Мимо проезжает чёрная «эмка». Бесшумно как акула. Сквозь стёкла едва различимы силуэты людей в форме. Сердце ёкает. Кого везут? Куда? Вернётся ли? Трамвай громыхает по рельсам, заставляя вздрогнуть. Я оглядываюсь на звук. Мимо проплывают лица пассажиров, взгляды потухшие, привыкшие ничего не замечать. Читаю в них: «Лучше не видеть, ни слышать, не знать. Так спокойнее».
Сворачиваю за угол, и вдруг – пелена спадает. Первое, что я вижу, – ярко-красную вывеску кофейни и девушку в огромных наушниках, проехавшую мимо на электросамокате. Этот обыденный мир кажется оглушительно громким и нестерпимо ярким. Воздух становится легче, возвращаются звуки современного города. Я снова в своём времени. Выдыхаю. Глубоко, судорожно. Достаю телефон, проверяю время. Всё в порядке. Привидится же чёрт знает что. Но я чувствую – частичка меня осталась там, в 1938-м. И частичка того времени теперь всегда будет со мной. Как напоминание. Как предупреждение. Как проклятие.
– Куда же теперь? – спросил я сам себя вполголоса. Голос звучит хрипло. – Архив… Возможно, там отыщутся ответы на мои мучительные вопросы.
Путь до него занял около получаса. Я шёл пешком, намеренно выбирая маршрут подлиннее. Нужно было время, чтобы собраться с мыслями. И убедиться, что за мной не едет чёрная «эмка».
***
Архив встретил меня прохладой и такой глубокой тишиной, что, кажется, даже муха не осмелилась бы нарушить её своим жужжанием. Я остановился в огромном, гулком фойе и вдохнул этот особый запах. Припоминаете, как пахнет старая книга? Вот примерно так, только помноженное на тысячу. Запах ломкой бумаги, высохшего клея и чего-то ещё… неуловимого. Так, наверное, пахнет само время, спрессованное в тома и пересыпанное нафталином от моли забвения.
В полумраке, освещённом несколькими тусклыми лампами, сновали безликие тени. Где-то в глубине виднелись бесконечные ряды деревянных шкафов, уходящих под самый потолок. Казалось, тронь один – и вся эта конструкция рухнет, похоронив под собой пару веков.
Прийти в государственный архив, имея на руках только пару старых запонок и смутное предчувствие… С таким же успехом можно было отправиться на рыбалку с дуршлагом вместо удочки. Но отступать было поздно. Я подошёл к окошку справочной, за которым сидела дама с такой причёской и выражением лица, будто она лично принимала капитуляцию у Паулюса.
– Здравствуйте, – начал я как можно любезнее. – Я хотел бы найти информацию о человеке… У меня, правда, немного данных. Только инициалы и вот… – я выложил на стойку потёртую коробочку и открыл её.
Дама посмотрела на запонки, потом на меня, и во взгляде её застыло вселенское презрение к дилетантам.
– Молодой человек, это архив, а не ломбард. Нам нужна фамилия. Год рождения. Место службы. Поиск ведётся по документам, а не по бижутерии. Не отнимайте моё время.
Я почувствовал, как уши начинают гореть. Сгрёб коробочку и отошёл, ощущая себя последним идиотом.
– Простите… – раздался вдруг тихий, чуть скрипучий голос рядом. – Я случайно стал свидетелем вашей… небольшой неудачи. Боюсь, дама в окне вам и впрямь не поможет. Но, кажется, смогу помочь я.
Я обернулся. Передо мной стоял пожилой мужчина. Немного сутулый, в простом, но безупречно отглаженном костюме тёмного цвета, из тех, что уже давно не носят. Первое, что бросилось в глаза, – это его лицо, изрезанное глубокими морщинами, и ярко-синие, живые глаза, с любопытством смотревшие на меня сквозь круглые очки с толстыми линзами.
– Позвольте взглянуть? – он кивнул на коробочку в моей руке.
Я молча протянул её. Он взял запонки, поднёс почти к самым очкам, повертел так и этак.
– Позвольте представиться. Аркадий Вениаминович Зар-Заречный. Я здесь работаю. Специализируюсь, так уж вышло, на периоде тридцатых.
– Виктор Левицкий, – ответил я, чувствуя, как внутри что-то щёлкнуло. – Вы… вы знаете эти запонки?
Аркадий Вениаминович не ответил сразу. Он опустился в одно из потёртых кожаных кресел у стены и жестом пригласил меня сесть рядом.
– Знаю, Виктор. Для того, кто умеет читать такие… артефакты, это открытая книга. – Он вернул мне коробочку. – Валентин Кротов.
– Валентин Кротов? – переспросил я, и пружина внутри меня натянулась до предела. – Вы его…
– Знал? – горько усмехнулся он. – Нет, что вы. Я родился намного позже. Но я знаю о нём. И знаю достаточно, чтобы сказать: есть люди, чьи истории лучше не раскапывать. Они как радиоактивные отходы – фонят даже спустя десятилетия. Откуда они у вас?
– Купил. В антикварном магазине, – ответил я, решив пока не усложнять.
Он изучал меня сквозь толстые линзы, и я заметил на его пальце старинное кольцо с почти стёртым гербом.
– И что вы собираетесь с ними делать?
– Хочу довести историю до конца. Узнать, кто он. Может, у него остались родственники… Вернуть им… Это ведь их семейная история.
Аркадий Вениаминович помолчал, поправляя свои очки привычным жестом.
– Благородная, но наивная цель, – наконец произнёс он. – Не думаю, что потомки захотят вспоминать такого предка. Но если вам так любопытно… Я могу вам кое-что показать. Посидите здесь, я оформлю вам пропуск.
Минут через пятнадцать он вернулся с листком бумаги.
– Прошу за мной.
Мы двинулись по длинным коридорам, под ногами жалобно поскрипывал старый паркет. Спускаясь всё ниже и ниже по лестницам, мимо бесконечных стеллажей, я чувствовал, как мы погружаемся в Марианскую впадину истории.
– Такое чувство, – сказал я, чтобы разбавить тишину, – будто мы сейчас встретим тут призрак Дзержинского.
– Призраки здесь не водятся, – хмыкнул Аркадий Вениаминович. – А вот мыши – бывает.
Он остановился перед неприметной дверью, повозился со связкой ключей и распахнул её. Здесь пахло всё той же пылью, старой бумагой и почему-то карамелью. Массивный стол красного дерева, старый глобус в углу, карты на стенах.
– Присаживайтесь.
Он уселся напротив, выдвинул ящик стола и достал оттуда толстую папку с красными тесёмками. На обложке было выведено: «Кротов В.С.».
– Ну что ж, – сказал он, развязывая бантик. – Давайте знакомиться. Начнём с главного. – Он достал из папки пожелтевшую фотографию и протянул мне. – Вот он.
Я взял карточку. С неё на меня смотрел мужчина лет тридцати, с зачёсанными назад тёмными волосами и тяжёлым, мясистым подбородком. Взгляд – холодный, сверлящий. Тонкие губы плотно сжаты. Но главное – на манжете его белоснежной рубашки, выглядывавшей из-под рукава строгого костюма, отчётливо виднелась знакомая запонка.
– Неприятный тип, – пробормотал я.
– Это вы ещё мягко сказали, – кивнул Аркадий Вениаминович. – А теперь давайте посмотрим, из чего слепили этого… товарища. – Он положил на стол ветхий документ. – Метрическая выписка. Родился в 1907-м, в семье рабочего Путиловского завода и прачки. Вот, кстати, их единственное семейное фото.
Я взял другую, совсем потрёпанную карточку. Мужчина в косоворотке, усталая женщина и насупившийся подросток с уже знакомым мне тяжёлым взглядом.
– Отец погиб в Гражданскую, – продолжил архивариус, выкладывая следующий документ, как карту в пасьянсе. – А вот личное дело из школы ФЗУ. Специальность – слесарь-инструментальщик.
– А это что? – я указал на другую бумагу.
– Характеристика из комсомольской ячейки. Обратите внимание на формулировки: «Идейно подкован. В борьбе с мещанством и оппортунизмом беспощаден». В тридцатые годы такая характеристика – это путёвка в жизнь. Или на тот свет, – он усмехнулся. – В его случае – в жизнь. Вот направление по комсомольской путёвке в ОГПУ. 1931 год.
Он сделал паузу, давая мне переварить информацию.
– Валентин с головой погрузился в новую работу. Учился хитрости, цинизму, жестокости и абсолютной лояльности. Учился, учился и ещё раз учился, – Аркадий Вениаминович с этими словами протянул руку к стоящему на столе чугунному бюсту Ленина и нравоучительно постучал вождю по чугунной же макушке.
Я едва сдержался от смеха. Сцена была до того абсурдной и в то же время точной. Она идеально описывала тот конвейер, который создавал таких как Кротов.
Начав с должности помощника уполномоченного экономического отдела, Кротов постепенно продвигался по служебной лестнице. Его ценили за исполнительность и острый ум.
– В его личном деле, в характеристиках того времени, – Аркадий Вениаминович говорил это и одновременно вынимал из папки один за другим пожелтевшие листки бумаги и передавал мне, – то и дело отмечалось его «классовое чутьё» и «непримиримость к врагам народа».
– Красивые слова, – подумал я, разглядывая каллиграфический почерк на бланке с водяными знаками. – Под такими можно скрыть всё что угодно.
В 1934 году произошли три важных события в жизни Кротова: он вступил в ряды ВКП(б), получил звание лейтенанта государственной безопасности и женился на Зинаиде Алексеевне Воробьёвой, работавшей машинисткой в том же управлении НКВД.
– Умерла она во время блокады Ленинграда в 1943-м, – Зар-Заречный сделал паузу, словно давая мне переварить информацию. – А тогда, в тридцать четвёртом, казалось, налаживается спокойная семейная жизнь, впереди открываются радужные перспективы.
Но времена менялись. После убийства Кирова в декабре 1934 года в СССР началась волна репрессий, которая вскоре переросла в настоящий террор. И Ленинград, как колыбель революции и один из крупнейших промышленных и культурных центров страны, оказался в эпицентре этих событий.
– И тут-то наш подопечный, Валентин Семёнович Кротов, раскрылся, как плесень на сырой стене. Сначала незаметная точка, а потом – захватывает всё пространство. Он стал одним из самых… эффективных оперативных работников, если можно так выразиться. Большой террор. Сталинские репрессии. Всё это не абстрактные понятия из учебников. Такие люди, как Кротов, были их шестерёнками, их движущей силой.
Я почувствовал, как между лопаток медленно пробежала холодная капелька пота.
– Что значит «эффективный»? – спросил я, и голос мой прозвучал глухо. Хотя я уже догадывался, что это могло значить.
– То и значит, – Аркадий Вениаминович поморщился, словно случайно прикоснулся к испанскому слизню. – Выбивал признания. Фабриковал дела. Отправлял людей в лагеря и на расстрелы. И делал это с особым… рвением. С удовольствием.
Мне неожиданно вспомнился Большой дом, его давящие стены. Бесконечные ряды окон замельтешили в глазах. Комната архива на мгновение качнулась. Запах старой бумаги и карамели сменился другим – запахом хлорки, немытого тела и отчаяния. Скрип кресла Зар-Заречного превратился в лязг металлической двери. И вот я уже видел не его, а самого Кротова…
***
Лейтенант государственной безопасности Кротов решительно шагал по гулкому коридору следственного изолятора. Это был его мир, его охотничьи угодья. Его начищенные до блеска, подкованные сапоги отбивали чёткий ритм по бетонному полу. Этот звук здесь знали все. Остановившись перед массивной металлической дверью без номера, он резко дёрнул ручку.
В нос сразу ударил спёртый воздух камеры. Он поморщился. Тусклая лампочка под потолком едва освещала небольшое помещение. В центре стоял обшарпанный стол, перед которым, сгорбившись, стоял арестованный – худощавый мужчина лет пятидесяти в дорогом, но теперь грязном и очень помятом костюме. Его впалые щёки заросли седой щетиной, под глазами были тёмные круги. Рядом неподвижно стоял конвойный, глядя в стену поверх головы арестованного.
– Ну что, Антон Георгиевич, готовы к продолжению нашей беседы? – холодно произнёс Кротов, усаживаясь напротив.
Арестант медленно поднял голову. Веко на правом глазе у него едва заметно подёргивалось.
– Я… я уже всё рассказал. Я не виновен.
– Не виновен?! – Кротов с грохотом ударил кулаком по столу. – Здесь все невиновные! А кто виновен? Может, я? Или, может быть, товарищ Сталин?
– Нет-нет, что вы… – испуганно пробормотал арестованный, ещё больше сгорбившись и вжав голову в плечи.
Кротов откинулся на спинку стула, вытряхнул из пачки папиросу и прикурил, намеренно выпуская дым в лицо арестованного. Тот мелко закашлял.
– Ладно, начнём по новой. Фамилия, имя, отчество?
– Мясин-Колбасин Антон Георгиевич.
– Год рождения?
– 1887.
– Место работы?
– Ленинградское отделение Института философии АН СССР, старший научный сотрудник.
Кротов аккуратно выводил каждую букву, время от времени бросая на арестованного свои цепкие взгляды. Тот грязными пальцами нервно теребил последнюю, чудом державшуюся пуговицу на пиджаке.
– Так-с, хорошо, – протянул Кротов. – Биографию мы помним. А теперь расскажите-ка мне, любезный Антон Георгиевич, как вы докатились до жизни такой? Как стали врагом народа?
Мясин-Колбасин вздрогнул:
– Я не враг! Я вам объяснял… Я честный советский учёный!
– Честный он! – хохотнул Кротов, подмигнув конвоиру. – А кто на научном совете выступал против диалектического материализма? Кто говорил, что марксизм устарел?
– Я… я просто предлагал новые философские концепции… – пробормотал Мясин-Колбасин. – Наука не стоит на месте, я думал…
– Думал?! – взревел Кротов, вскакивая. – Врагам народа думать не положено! А вы знаете, что бывает с теми, кто слишком много думает? Они начинают подрывать основы советской идеологии! Разлагать научное сообщество! Саботировать развитие марксистско-ленинской философии!
Мясин-Колбасин съёжился:
– Я не хотел… Я исправлюсь!
Кротов сел обратно, толкнул пальцем к краю стола чистый листок бумаги:
– Поздно, голубчик. Теперь только чистосердечное признание может облегчить вашу участь. Пишите.
Он придвинулся ближе, понизив голос до такого доверительного шёпота, от которого по спине бегут мурашки:
– Вы же понимаете, Антон Георгиевич, дело ваше – труба. Показания на вас дали и ректор института, и секретарь парторганизации. Так что не упрямьтесь. Теперь главное – не запираться. Расскажите, кто вас завербовал? На какую разведку работаете?
– Да никто меня не вербовал! – в отчаянии воскликнул Мясин-Колбасин. – Я никогда…
Договорить он не успел. Кротов резко выбросил руку и схватил арестованного за грудки, притягивая к себе через стол:
– Слушай сюда, падаль! Ещё раз скажешь «никто» – я тебе все зубы этой табуреткой повыбиваю! Ты думаешь, я с тобой цацкаться буду?
Он с силой оттолкнул Мясина-Колбасина, тот едва не свалился, споткнувшись о стоящую у него за спиной табуретку.
– У меня методов много, – процедил Кротов. – На любой вкус. Могу и по-хорошему. А могу и иначе. Вы ведь семью свою любите? Жену, дочь? Антон Георгиевич?
Мясин-Колбасин резко побледнел:
– При чём тут они? Не трогайте их!
– А это уж как вы себя вести будете, – усмехнулся Кротов. – Будете паинькой – может, и обойдётся. А нет – так есть у нас местечко и для врагов народа помоложе. Лет эдак с шестнадцати…
– Вы не посмеете! – выкрикнул Мясин-Колбасин, делая отчаянный шаг к столу. – Не смейте угрожать ребёнку!
Кротов молниеносно среагировал. Коротким и точным ударом в челюсть он опрокинул арестованного на пол.
– Ну всё, договорился, философ, – прорычал следователь, нависая над Мясиным-Колбасиным. – Сейчас ты у меня запоёшь!
Он схватил стоявшую рядом табуретку и замахнулся. Мясин-Колбасин в ужасе закрыл голову руками…
Я резко мотнул головой, возвращаясь в тишину архивного кабинета. Аркадий Вениаминович молча смотрел на меня, и в его синих глазах было сочувствие.
– Знаете, Виктор, – продолжил Аркадий Вениаминович, аккуратно перелистывая страницы дела, его пальцы двигались с осторожностью сапёра, – самое страшное в таких людях, как Кротов, – это не рога и копыта. А то, что их не было. Они не были монстрами из фильмов ужасов. Они были обычными людьми. Как вы и я. Ходили на работу, как на завод. Выполняли план. Возвращались домой к семьям. И при этом… – он замолчал, подбирая слова.
– Что? – спросил я, чувствуя, как внутри всё сжимается от ужаса.
– При этом творили такое, что в голове не укладывается, – закончил Аркадий Вениаминович. – Вот, смотрите.
Он протянул мне лист бумаги. Это был отчёт о допросе. Я пробежал глазами. Сухие, казённые фразы описывали то, что иначе как пытками назвать было нельзя.
– И это… это всё Кротов? – спросил я, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота.
Аркадий Вениаминович кивнул:
– Да. И не только это. Здесь, – он постучал пальцем по папке, – и вот на этой полке, – он указал рукой на стеллаж, заполненный толстыми папками, – сотни таких отчётов. Сотни сломанных судеб. А вот, – он протянул мне фотографию, – взгляните-ка на это.
Я взял снимок. На нём была запечатлена группа людей в форме НКВД. Все с одинаково жёсткими лицами. В центре стоял мужчина, которого я сразу узнал, – Валентин Кротов. Он улыбался. Улыбался широко, почти счастливо.
– Эта фотография сделана в июле 1938 года, на каком-то праздновании. Я предполагаю, что именно тогда ему и вручили в качестве подарка эти самые запонки. Видите, какой довольный?
– Ещё бы, – пробормотал я. – Сотни «раскрытых» дел.
– Да, – Аркадий Вениаминович тяжело вздохнул. – Только не дел, а жизней. Читайте, – он протянул мне ещё один листок.
Я взял его.
15 ноября 1937 года совместно с комендантом Ленинградского УНКВД Безгубой Андреем Петровичем, прокурором Кобыльским Виктором Николаевичем и народным судьёй Александром Добродомовым принял участие в исполнении приговора (расстреле) в отношении 12 человек.
3 февраля 1938 года в Ленинградской тюрьме № 1 УНКВД совместно с комендантом Ленинградского УНКВД Безгубой Андреем Петровичем и инспектором 8-го отдела Ленинградского УНКВД Ревякиной Анной Васильевной принял участие в исполнении приговора (расстреле) в отношении 6 человек, затем ещё 33 человек.
К концу дня 3 февраля 1938 года принял участие в исполнении приговора (расстреле) в отношении как минимум 46 человек в этот день, в том числе и Мясина-Колбасина Антона Георгиевича.
Я молчал. Смотрел на листок, но видел лишь чёрные закорючки, похожие на мёртвых насекомых, – смысл отказывался проникать в сознание. 46 человек. За один день. Руками троих. Я почувствовал, как во рту появился привкус металла, как от старой монеты.
– Но знаете, что самое интересное? – Аркадий Вениаминович наклонился ко мне. Его голос стал тише, почти заговорщицким. – В конце того же года с Кротовым что-то произошло. Что-то, что изменило его поведение.
– Что вы имеете в виду? – спросил я, чувствуя, как позвонки на миг превратились в цепочку ледяных кубиков.
Аркадий Вениаминович, пошелестев листками бумаги, достал ещё несколько документов из папки.
– Смотрите. Вот отчёты о делах, которые вёл Кротов с января по август 1938 года. – Он разложил бумаги передо мной. – Краткое содержание, так сказать. Видите? Практически все заканчиваются признаниями обвиняемых, суровыми приговорами, высшей мерой. А теперь взгляните сюда.
Он рядом положил другие документы.
– Это отчёты о делах, которые Кротов вёл с сентября по декабрь того же года. Видите разницу?
Я внимательно просмотрел отчёты. Действительно, картина резко менялась. Вместо выбитых признательных показаний – ходатайства за подписью Кротова о дополнительном расследовании. Вместо стандартных обвинительных заключений – запросы на пересмотр дел.
– А что произошло? – спросил я, поднимая глаза на Аркадия Вениаминовича.
Он пожал плечами:
– Точно никто не знает. Но что-то определённо случилось. Что-то, что заставило его посмотреть в зеркало и, видимо, ужаснуться. Что-то, что заставило его изменить свой подход.
Я снова посмотрел на фотографию улыбающегося Кротова. Что могло произойти с этим человеком? Что заставило его усомниться в том, что он делал?
– И что было дальше?
Аркадий Вениаминович горько усмехнулся:
– А дальше… Дальше система сработала так, как она и должна была сработать.
Он встал, отсканировал какой-то листок и протянул мне:
– Возьмите, обязательно пригодится, когда найдёте родственников Кротова.
Я пробежал глазами текст, сложил лист и засунул во внутренний карман пиджака.
Аркадий Вениаминович молчал, глядя куда-то поверх моей головы. Потом тихо добавил:
– Знаете, в чём трагедия таких людей как Кротов? Они были частью системы, которая не прощала слабости и сомнений. Даже если у них и появлялись какие-то человеческие чувства, система быстро ставила их на место.
Я смотрел на разложенные передо мной документы, на фотографии, на газетные вырезки. Всё это складывалось в жуткий пазл той эпохи, которая казалась такой далёкой, но в то же время была так близко.
– А запонки? – спросил я, снова доставая их из кармана. – Как они могли оказаться в антикварном, а не остаться в семье Кротова?
Аркадий Вениаминович пожал плечами:
– Кто знает? Вот и выясните это. А потом и мне как-нибудь расскажете эту историю.
– Выясню, Аркадий Вениаминович, – улыбнулся я, – правда, совершенно не представляя, как это у меня получится.
Он ободряюще похлопал меня по плечу и начал собирать документы обратно в папку – старую, потёртую, с выцветшей надписью на обложке. Интересно, сколько ещё таких папок хранят истории, подобные истории Кротова? И сколько из них никогда не будут рассказаны?
Уже прощаясь, у массивных дубовых дверей архива, я не удержался и спросил:
– Аркадий Вениаминович, простите за любопытство, но не могу не спросить. Откуда у вас такая интересная фамилия – Зар-Заречный? Звучит как название какого-нибудь уездного городка из романа Салтыкова-Щедрина.
Он остановился и рассмеялся, явно довольный моим вопросом.
– О, это история почти анекдотичная!
Знойный летний день 1861 года. Солнце нещадно палит, заливая ярким светом пыльные улицы уездного городка. Купец третьей гильдии Ефим, по прозвищу Коврик, неуверенной походкой, пошатываясь, приближается к зданию уездной канцелярии. В голове шумит от выпитой накануне наливки, но он полон решимости закончить намеченное на сегодня дело.
Тяжёлая дверь канцелярии со скрипом поддаётся, и он оказывается в полутёмном помещении. Воздух густой, пропитанный запахом чернил, пыли и табака. Из открытого окна доносится визг пробегающих босоногих пацанов, аромат свежевыпеченного хлеба из соседней хлебной лавки, густой смех стоящих под окном мужиков.
За высокой конторкой восседает писарь – тощий мужичонка средних лет с длинным носом, на котором едва держатся круглые очки, и с таким выражением лица, будто он лично проиграл Крымскую войну. Он смотрит на Ефима поверх них с явным недовольством, словно тот оторвал его от самого важного занятия в мире – созерцания мухи на потолке.
– Чего изволите? – спрашивает он, окидывая купца оценивающим взглядом.
Прочистив горло, Ефим чувствует, как предательски начинает дрожать нижняя губа. Заикание, будь оно неладно, всегда усиливалось, когда Ефим нервничал или подшофе.
– З-здра-вствуйте, в-ваше бла-го-родие, – почтительно выдавливает Ефим из себя. – П-пришёл ф-фамилию п-получать.
Писарь вздыхает, он явно не в восторге от перспективы общения с купцом-выпивохой. Берёт чистый лист бумаги, обмакивает перо в чернильницу и вопрошает:
– Имя, отчество?
– Еф-фим К-карпович, – отвечает купец, стараясь говорить как можно чётче. – По п-прозвищу Коврик.
– Коврик? – переспрашивает писарь и тихо заливается булькающим смехом. – Ну и наградили тебя, Ефим Карпович, прозвищем, – отсмеявшись, говорит он. – Откуда будешь, любезный? – следует следующий вопрос.
И тут чувствует Ефим, язык начинает заплетаться пуще прежнего. Хочет сказать, что из Заречья, а слова, гляди ты, застревают в горле.
– З-зар… з-зар… – начинает купец, чувствуя, как на лбу выступает испарина.
Писарь смотрит на него уж с нескрываемым раздражением, постукивая костяшками пальцев по столу.
– Ну же, говори яснее! – торопит он Ефима.
– Зар-заречный я! – наконец выпаливает тот, чувствуя облегчение от того, что смог закончить фразу.
Писарь вдруг улыбается; на меня на миг глянул уже не чиновник, а мальчишка, задумавший подложить товарищу в ранец ежа. Он быстро что-то пишет на бумаге, пока Ефим, переминаясь с ноги на ногу, терпеливо ждёт, а затем поворачивает лист к нему.
– Ну вот, Ефим Карпович, отныне вы – Зар-Заречный, а не какой-то Коврик. Поздравляю с обретением фамилии!
Ефим-то, глаза пьяные выпучил, моргает, пытаясь сфокусировать взгляд на написанном. «Зар-Заречный»? Что за чертовщина? Уж к Коврику привык за столько лет, сроднился. Хочет возмутиться, рявкнуть, что он не дворянин какой, а купец, но язык, предатель, снова не слушается. А писарь уж протягивает ему документ и машет рукой в сторону выхода, давая понять, что аудиенция окончена.
– Давай, давай, Зар-Заречный, оплати пошлину и будь здоров, не кашляй.
Выходит Ефим Карпович на улицу, солнце глаза слепит, щурится, разглядывая свою новую фамилию. «Зар-Заречный»… Звучит-то как! Почти по-дворянски!
И тут разбирает его смех. Хохочет, привлекая внимание ничего не понимающих прохожих. А что? Пусть будет Зар-Заречный! Чем не фамилия для уважаемого купца? Да с такой фамилией, глядишь, и в первую гильдию выбьюсь!
Он расправляет плечи и с гордо поднятой головой шагает, качаясь, по улице, уже представляя, как будет красоваться новенькая, пахнущая краской вывеска на его лавке: «Ковры, Коврики и другие Чудеса от купца 3-й гильдии Ефима Зар-Заречного». Звучит, ей-богу, звучит!
– Забавная история! – рассмеялся я, когда Аркадий Вениаминович закончил свой рассказ. – Это действительно всё правда?
Аркадий Вениаминович усмехнулся, и его взгляд стал точь-в-точь как у того самого писаря из его истории.
– Виктор, а какая разница? – сказал он, разводя руками. – История-то хороша! И потом, так она звучит куда солиднее, чем «деда по пьяни записали не в ту графу», согласитесь? Ну что ж… Виктор, удачи вам в ваших поисках.
Я крепко пожал его руку.
– Спасибо вам огромное, Аркадий Вениаминович. За всё. Я вернусь с результатами.
Он кивнул и по-отечески похлопал меня по плечу.
***
Остаток дня я провёл за компьютером, пытаясь найти хоть какую-то информацию о семье Кротова. Виски сдавило тугим, гудящим обручем. От мерцания монитора в глазах осталась только рябь, будто я слишком долго смотрел на воду. Десятки фамилий и дат рассыпались на пиксели, теряя всякий смысл и превращаясь в цифровой мусор. Безрезультатно. Кротов словно растворился в потоке времени. Не оставил после себя ничего, кроме этих запонок и страшных документов в архивной папке.
– Неужели это тупик? – мелькнула предательская мысль.
Но история Кротова, рассказанная Аркадием Вениаминовичем, зацепилась во мне, как рыболовный крючок, и теперь при каждом движении мысли рвала мягкие ткани покоя. Я должен был узнать, что случилось дальше. Почему он изменился? Что стало с его семьёй? Куда делись эти запонки после его ареста?
На следующий день я решил попробовать поискать информацию в социальных сетях. Создал посты в нескольких группах, посвящённых истории города и краеведению. Ответом была тишина, нарушаемая лишь редкими всплесками сетевого безумия. Только какие-то неугомонные тролли писали бред:
«Ха-ха, конспиролог нарисовался! Кротовы они повсюду, под каждым кустом прячутся. Может, ты и сам Кротов, только не знаешь об этом?»
«У моей бабушки была кошка по кличке Кротов. Может, это как-то связано? Она тоже с концами исчезла в 1938…»
«Внимание!!! Я знаю всю правду про Кротова! Пишите в личку, вышлю информацию всего за 10 000 рублей! Торопитесь, предложение ограничено!»
Идиоты. Всемирная паутина оказалась всего лишь гигантским балаганом, где каждый дурак норовит примерить шутовской колпак. Я удалил все посты. Этот путь тоже оказался тупиковым.
Прошло ещё два дня. В субботу, когда я собирался пойти за продуктами, неожиданно зазвонил телефон. Незнакомый номер. Обычно такие сбрасываю – достали уже банки со своими кредитами, да и прочие коммивояжёры от цифровой эпохи, – но тут почему-то ответил. Какое-то шестое чувство, не иначе.
– Алло? – сказал я, прижимая телефон плечом к уху и пытаясь одновременно завязать шнурки.
– Здравствуйте, Виктор, – раздался в трубке женский голос, мягкий, немного встревоженный и как будто неуверенный. – Я звоню по поводу объявления на «Мешке». Про запонки. Они… они ещё у вас? Вы их не продали?
Я выпрямился, забыв про шнурки. Воздух в комнате будто перестал двигаться, и я вдруг ощутил его вес на своих плечах.
– Да-да… вернее, нет, не продал. Я слушаю вас.
– Я… – женщина помолчала секунду, словно собираясь с мыслями. – Я видела фотографии. Эти запонки… они очень похожи на те, что были у моего родственника. Я помню их по старым фотографиям.
В груди застучало – не испуганным кроличьим тремором, а тяжёлыми, выверенными ударами, будто у сапёра, который только что перерезал нужный провод.
– А как его звали? – спросил я, стараясь говорить спокойно, хотя голос предательски дрогнул.
Снова пауза. В трубке слышалось только её дыхание – тихое, прерывистое.
– Валентин Семёнович Кротов.
Я медленно опустился на банкетку в прихожей. В ушах зашумело.
– Вы… вы его…
– Правнучка. Меня зовут Дарья. Дарья Кротова.
Я сглотнул, во рту было сухо и горько. Отчего, спрашивается? Оттого, что история вдруг перестала быть просто набором фактов, протянув ко мне свою живую, тёплую руку.
– Д-Дарья, я… я очень рад, что вы п-позвонили, – ни с того ни с сего начал я заикаться, как дальний родственник Аркадия Вениаминовича Зар-Заречного. – У меня есть информация о вашем прадеде. И запонки эти… они действительно его.
– Я знаю, – тихо сказала она. – Я узнала их сразу, как только увидела фотографии на сайте. Бабушка… она часто рассказывала о них.
– Послушайте, – сказал я, возвращая себе самообладание, – может быть, мы могли бы встретиться? Поговорить? У меня есть… информация, которая может быть важна для вас.
– Да, конечно, стоит встретиться, – наконец произнесла она. – Только… – она запнулась. – Запонки… Вы их продаёте. Скажите, сколько вы хотите за них?
– Дарья, – мягко сказал я, – поверьте, мне не нужны деньги. И если вы захотите, я просто отдам вам их так, без всяких условий.
– Правда? – в её голосе послышалось удивление и радость, смешанные с недоверием. – Но… они же наверняка дорого стоят. И потом, вы же купили их…
– Это неважно, – перебил я. – Главное, что они должны быть у вас. У семьи.
– Спасибо, – тихо сказала она. – Тогда… может быть, встретимся? Есть такое кафе – «Маняшины Плюшки», знаете? На Петроградской?
– Нет, но найду. Название звучит многообещающе.
– Там тихо, спокойно. Можно поговорить.
– Хорошо. Когда вам удобно?
– Давайте… давайте сегодня? В четыре? Или у вас другие планы?
– Нет-нет, сегодня отлично. В четыре буду там.
– Договорились, Виктор. До встречи.
– До встречи.
В магазин пошёл, конечно же, в ботинке с развязанным шнурком. Чуть не упал на ступеньках. Представил заголовок в газете:
Вчера на Васильевском острове гр. В. Левицкий, проявив неосмотрительность при обращении с обувными принадлежностями, споткнулся о собственные шнурки. Пострадавший отделался лёгким испугом и ушибом чувства собственного достоинства.
Шёл по улице как пьяный. Нет, не от выпитого, от счастья: «Надо же – правнучка Кротова! Живая, настоящая правнучка! Нашлась». Мир определённо сошёл с ума. Или, наоборот, наконец-то обрёл какую-то причудливую, но восхитительную логику.
У кассы передо мной стояла старушка. Она методично подавала кассиру по одному пакетику с кошачьим кормом. Один пакет, второй, пятый… На десятом я не выдержал:
– Простите, у вас что, десять котов? Питомник?
– Нет, – ответила старушка с достоинством. – У меня один кот. Но он очень любит покушать.
– Кот Кашалот?
– А вы что, с ним знакомы?
– Нет, я столько не ем, – сказал я, а старушка посмотрела на мою корзину: три пачки печенья, коньяк, лимон и банка кильки в томате.
Вернулся домой. Я переоделся три раза, будто собирался не на деловую встречу, а на свидание. Сначала надел всё чёрное – как положено на светских раутах. Посмотрел в зеркало – получился гробовщик, явившийся объявить о скорой, но неизбежной кончине семейных тайн. Переоделся в джинсы и лёгкий свитер – стал похож на вечно невыспавшегося аспиранта, чьё главное интеллектуальное достижение – это знание, где продают самый дешёвый кофе. Наконец напялил пиджак с заплатками на локтях, превратившись в умного и проницательного Дживса, хотя, скорее, в пародию на английского профессора – из тех, что показывают в дешёвых телеспектаклях. Прекрасно. Самое то для встречи с наследницей Кротова.
Налил себе стопку для храбрости. До встречи оставалось ещё два часа. Я побродил по комнате, переставил книгу на полке, зачем-то протёр и без того чистое стекло на фотографии родителей. Сто двадцать минут. Каждая – тяжёлая, как мокрая шинель, наброшенная на плечи. Семь тысяч двести секунд. Семь тысяч сто девяносто девять…
***
Кафе нашёл не сразу. На Петроградской каждый второй дом – кафе, а в каждом третьем – плюшки. Спросил у прохожего: «Где тут „Маняшины«?» Тот посмотрел как на сумасшедшего. У второго спросил. Пожал плечами: «Первый раз слышу». Третий махнул рукой куда-то в сторону Кронверкского.
Нашёл. Маленькая вывеска, будто стесняющаяся себя, – «Маняшины Плюшки». Внутри – уют советской квартиры. Салфетки крючком, герань на подоконниках, обои в цветочек. Не хватало только бабушкиного серванта с хрусталём и каравана слоников на телевизоре «Рекорд».
Выбрал столик у окна. Так проще – видно входящих, да и свет хороший. В меню был представлен, кажется, весь пекарский Интернационал: от русской кулебяки до французского киш-лорена, от грузинского хачапури до финского калакукко. Заказал пока только эспрессо. Потом ещё один. Официантка – вылитая Маняша, молодая, веснушчатая, с косой до пояса и пирсингом в носу – уже начала поглядывать в мою сторону и без всякой надобности протирать соседний столик.
Минутная стрелка на моих часах, казалось, тащила за собой весь груз этого дня и двигалась с упрямством заржавевшего механизма. Смотрел на часы каждые три минуты. Руки немного дрожали. В голове крутились обрывки фраз: «Понимаете, Дарья, ваш прадед…», «Дело в том, что…», «Я должен вам рассказать…»
Каждый раз, когда звякал колокольчик над входной дверью, вздрагивал. Вот зашла молодая мама с ребёнком – нет. Парочка студентов – мимо. Седой профессорского вида господин с тростью…
Запонки в кармане пиджака, казалось, создавали собственную гравитацию, оттягивая ткань и напоминая о себе при каждом движении. Интересно, если их взвесить на аптекарских весах – сколько потянут? Унцию памяти? Фунт вины? Или наоборот?
Без пяти четыре дверь звякнула снова.
Вошла девушка. Светлое платье в мелкий цветочек, волосы цвета осеннего мёда собраны в небрежный пучок, из которого выбивались непослушные пряди. Тонкие пальцы сжимают ремешок сумки – костяшки побелели от напряжения. В глазах – серых, как петербургское небо, – тревога и ожидание.
Она медленно обвела взглядом зал. Я встал, неловко задев чашку. Кофейная ложечка звякнула как колокол.
Наши глаза встретились. Она чуть заметно кивнула, улыбнулась уголками губ и направилась к моему столику. Походка лёгкая, но какая-то осторожная – так ступают по рассохшимся половицам в старом доме, боясь потревожить тишину.
– Виктор? – спросила неуверенно.
– Да, – ответил я. – Присаживайтесь, Дарья.
Официантка уже спешила к нашему столику с блокнотом наперевес, я отрицательно покачал головой: «Не надо».
Полез в карман пиджака. Коробочка с запонками застряла – чёрт бы побрал эти узкие карманы. Дёрнул чуть сильнее, и пуговица с треском отлетела, запрыгала по полу, закатилась под соседний столик. Пожилая дама, сидевшая там, поджала губы и посмотрела на меня с такой вселенской скорбью, будто я не просто пуговицу уронил, а публично усомнился в гении Чайковского.
– Простите, – пробормотал я, поднимая оторвавшуюся пуговицу. Положил наконец коробочку на стол.
Старый бархат потёрся на углах и поблёскивал, как лысина Джузеппе «Сизый нос». Петли коробочки держались на честном слове. В девяностые такие коробочки выбрасывали пачками – доставали из сервантов, вытряхивали содержимое и отправляли в мусор. Теперь их продают в антикварных.
Дарья смотрела на коробочку. Её пальцы, тонкие и бледные, как у пианистки, замерли над крышкой.
– Можно? – спросила она шёпотом.
Я кивнул.
– Конечно, можно. Теперь они ваши.
Крышка открылась с тихим вздохом – так вздыхают старики, поднимаясь по лестнице. Запонки лежали на выцветшем шёлке, как два серебряных глаза. Смотрели. Ждали.
– Боже мой, – выдохнула Дарья. – Они… они настоящие.
Она молчала, только ресницы вдруг стали темнее, слиплись. А потом я увидел, как на скатерти появилось тёмное, быстро расплывающееся пятнышко. И ещё одно.
– В детстве, – заговорила Дарья, промокнув глаза салфеткой, – бабушка часто доставала альбом. Большой такой, в коричневой коже. На фотографиях прадед всегда был в белой рубашке. И эти запонки… они блестели даже на чёрно-белых снимках.
Я молчал.
– Он работал в какой-то конторе, – продолжала она. – Обычный служащий. Каждое утро уходил с портфелем, каждый вечер возвращался. По воскресеньям водил бабушку в Таврический сад кормить уток. Она помнит, как он подсаживал её на плечи, чтобы она могла дотянуться до веток сирени.
«Обычный служащий». Я чуть не поперхнулся кофе. Если бы она знала… Но как рассказать? Как объяснить, кем действительно был человек, который подсаживал маленькую девочку к сирени и кормил уток в Таврическом…
– А потом его забрали, – голос Дарьи дрогнул. – В тридцать девятом. Ночью. Кто-то написал донос. Бабушка помнит, как её мама плакала. Как соседи отворачивались во дворе. Как исчезли все знакомые – будто их стёрли ластиком с картинки нашего двора.
– А запонки? – спросил я, разглядывая узор на скатерти.
– Это уже в блокаду, – Дарья погладила бархатную коробочку. – Зима сорок второго. Прабабушка договорилась со спекулянтом. Он давал хлеб и ещё какие-то продукты. За запонки… – она замолчала. – Они с бабушкой пошли к нему домой. Пятый этаж, окна затемнены. В комнате – буфет красного дерева. На буфете – патефон. А в патефоне – Вертинский. «В синем и далёком океане…»
Я представил: голод, холод, темнота. И из патефона – про океан. Про любовь.
– Спекулянт был в косоворотке и золотом пенсне. Повертел запонки, поцокал языком. Спросил: «Откуда?» Прабабушка соврала – мол, от дядьки достались. Он хмыкнул: «Знаем мы ваших дядек…»
Дарья замолчала. Где-то вдалеке завыла сирена скорой.
– В сорок третьем, в феврале, прабабушка умерла, от голода, а бабушку эвакуировали с детским домом через Ладогу. Она рассказывала, что лёд трещал под полуторкой, а она думала только об одном: как там мама? Она так и осталась лежать в их комнате, накрытая старым одеялом?
Я смотрел на запонки. Они поблёскивали тускло, как звёзды сквозь туман. Полбуханки хлеба. Консервы. Патефон с Вертинским. Жизнь человеческая.
Передо мной – девушка и её воспоминания о сирени. В моём кармане – протокол расстрела. Два мира за одним столом. Если я сейчас открою рот, один из этих миров рухнет. А если промолчу?
Официантка прошла мимо. Я машинально отметил: губная помада у неё того же оттенка, что и пятна крови. Господи, куда меня несёт.
Эта мысль почему-то напомнила мне Аркадия Вениаминовича. Как он, протирая очки платком, сказал: «Знаете, Виктор, правда – она как водка. Горькая, противная, но иногда лучше любого лекарства. Главное – дозу соблюсти».
А ещё я вспомнил фотографию. Не ту, парадную, из семейного альбома, которую видела Дарья, – другую. Из архива. Там он стоял, подбоченившись, у стенки, с револьвером в руке. И улыбался. Как будто на курорте снимался, а не…
– К чёрту, – решил я. – Она имеет право знать. Хотя бы потому, что те, кто приговорён, расстрелян, растоптан им, тоже чьи-то прадеды. И у них тоже есть внуки и правнуки. Потому что молчание – тоже форма лжи.
– Дарья, – начал я, – есть кое-что, что вам нужно знать о вашем прадеде…
Она подняла руку, останавливая меня:
– Не здесь.
Я огляделся. Пожилая дама за соседним столиком, под который закатилась моя пуговица, уже навострила уши, как старая легавая, и не сводила с нас глаз. Официантка демонстративно протирала стол рядом, хотя он был чист. А в углу шумная компания студентов громко обсуждала новую кофейню на Рубинштейна, где бариста делает какие-то немыслимые узоры на пенке.
– У меня квартира тут недалеко, – сказала Дарья, аккуратно закрывая коробочку. – Там есть кое-что ещё. Фотографии, письма… Бабушкин архив. Она всё хранит. Говорила, память – как нитка: потянешь за один конец, размотается весь клубок. Может быть, вам будет интересно.
Я кивнул. «Интересно» – не то слово. Я столько времени копался в протоколах, отчётах, служебных записках. А тут – домашний архив. Личные вещи. Казённые бумаги против семейных писем.
– И ещё, – добавила она тише, – у меня есть коньяк. Армянский. Кажется, такие разговоры без коньяка не ведутся.
Я усмехнулся. Дарья была права. Чертовски права. Такие разговоры действительно требуют коньяка. И тишины. И возможности помолчать, когда закончатся слова.
– Пешком? – спросил я.
– Тут близко. Петроградская сторона, Большая Пушкарская. Дом довоенный, – она улыбнулась краешком губ. – Знаете, такой, в котором в парадной пахнет сыростью, кошками и корицей. Соседка печёт пироги каждую субботу, говорит, пока печёт – жива.
– Всё как у меня, – улыбнулся я в ответ. – Только у меня пахнет кошками и жареной картошкой.
Я расплатился.
– Подождите минутку, – Дарья скрылась в дамской комнате.
Я смотрел в окно. Накрапывал дождь. Капли стекали по стеклу, оставляя кривые дорожки. Как слёзы по щекам. Как жизнь – то плавно, то рывками, то вбок.
«Господи, – подумал я, – во что я ввязываюсь? Нормальные люди в субботу выбирают обои, спорят из-за цвета дивана или хотя бы смотрят футбол. А я иду в чужой дом с запахом корицы, чтобы детонировать прошлое».
Дарья вернулась. От неё пахло лёгкими духами: что-то цветочное, прозрачное.
– Готовы? – спросила она.
Я кивнул.
Мы вышли под моросящий дождь. Я накинул ей на плечи свой пиджак. Впереди была Большая Пушкарская, довоенный дом, запах корицы в парадной. И правда, от которой не защитит ни один пиджак.
***
До дома шли молча. Дождь усилился, и мы добирались перебежками, от козырька к козырьку. Мой пиджак на её плечах намок и потемнел. Парадная и правда пахла корицей. И кошками. И сыростью.
– Вот и пришли, – Дарья остановилась у тёмной двери с латунным номером «37».
Квартира оказалась неожиданно светлой. Высокие потолки, белые стены, огромные окна. Настоящее поле битвы, где современный скандинавский дизайн отчаянно сражался с тяжёлой артиллерией прабабушкиного наследства: удобный плюшевый диван соседствовал с буфетом красного дерева, модные светильники, похожие на летающие тарелки, бросали свет на бронзовый канделябр, а в старом зеркале в тяжёлой раме отражался тонкий, как скелет, торшер.
В углу просторного зала – винтажный секретер. На нём – ноутбук. Рядом старая печатная машинка «Continental». Такая же стояла у шефа в издательстве.
Но больше всего меня поразили часы. Они стояли у дальней стены, высокие, торжественные, как часовой на посту. Корпус из красного дерева, покрытого благородным лаком. Маятник – медное солнце, качался размеренно и важно. Циферблат в завитках орнамента: дубовые листья сплетаются с виноградными лозами. Римские цифры строги и официальны.
– Прадедушкины, – сказала Дарья, заметив мой взгляд. – Единственное, что осталось, кроме запонок. Перевезла к себе недавно от бабушки.
Часы пробили шесть. Звук был глубокий, бархатный, как гонг в старом театре, объявляющий начало драмы.
– Присаживайтесь, – Дарья указала на плюшевый диван. – Я сейчас.
Она вернулась с бутылкой коньяка и двумя неподходящими для него, но очень изящными бокалами на тонких ножках, явно из другого, винного мира. Я разлил коньяк. Янтарная жидкость качнулась в бокалах. Дарья села в кресло напротив, подобрав под себя ноги. Взяла свой бокал.
– Ну что ж, Виктор, вы хотели что-то рассказать мне о прадеде?
За окном всё так же шумел дождь. Часы тикали мерно, спокойно, отсчитывая секунды до того момента, как в этой комнате станет слишком тесно. И уже ничего нельзя будет вернуть назад.
Я сделал глоток. Коньяк обжёг горло. Вытянув руку, я достал из кармана пиджака, который висел на стуле, файл с отсканированными документами, на которых настоял Аркадий Вениаминович. «На всякий случай», – сказал он тогда.
– Дарья, – начал я, медленно раскладывая документы на столе, – то, что ты сейчас услышишь и увидишь… Это будет нелегко.
Она подалась вперёд, вся обратившись в слух. Только пальцы, сжимавшие подлокотник, выдавали напряжение.
Я подал ей чёрно-белый снимок. 1937 год. Летний день, автомобиль «эмка» с открытым верхом. За рулём – молодой человек с волевым подбородком, на груди – орден. Рядом с машиной – подтянутый офицер НКВД. Его строгий взгляд устремлён в объектив, форма безупречно отглажена, кожаная портупея поблескивает на солнце.
– Узнаёшь? Это твой прадед, Валентин Семёнович Кротов, – сказал я. – За рулём его друг, Лаврентий Бронш. А на заднем сиденье – начальник следственного отдела, Всеволод Радлов.
Даша взяла фотографию дрожащими пальцами. Вздрогнула, прикусила губу.
– Это дедушка Валя? – Она недоверчиво всматривалась в знакомые черты. – Но… почему он в форме? Ведь мне всегда говорили, что он работал в какой-то конторе, был инженером. Бабушка всегда говорила…
Я молча выложил следующий снимок. Кротов стоит среди сослуживцев. Наганы в кобурах, фуражки лихо заломлены назад, уверенные позы людей, облечённых властью. За их спинами – железные ворота внутренней тюрьмы.
Далее. В рабочем кабинете – массивный дубовый стол, за которым сидит Кротов, завален папками следственных дел, малахитовый чернильный прибор, настольная лампа. На стене – карта области, выше – портрет Дзержинского. В углу – несгораемый шкаф с особо важными документами.
Дарья смотрела, не двигаясь. Только пальцы слегка подрагивали, держа снимки. Я начал читать документы. Протоколы допросов. Личные резолюции. Приговоры.
– Вот, например. «По делу гражданина Мясина-Колбасина Антона Георгиевича. Обвиняется в шпионаже в пользу иностранных разведок. В ходе допроса с применением специальных мер воздействия признал свою вину. Приговорён к высшей мере наказания. Приговор приведён в исполнение. Подпись – Кротов».
– Специальные меры воздействия? – Дарья посмотрела на меня. – Что это?
– Пытки, – ответил я. – Избиения, лишение сна, холодный карцер, «выстойка». Всё это подробно описано в служебных записках.
Её мир не рушился с грохотом. Он осыпался тихо, как старая штукатурка, обнажая страшную кирпичную кладку под собой. «Применены меры физического воздействия». «Признал свою вину». «Высшая мера социальной защиты». И это её прадед, которого она знала только по семейным фотографиям, где он улыбался, держа на руках её маленькую бабушку…
Она встала. Подошла к окну. За стеклом по-прежнему шёл дождь.
– Таких дел десятки. Может, сотни, – я перелистывал страницы. – Учителя, инженеры, врачи, рабочие, крестьяне, учёные. Бухгалтер Райпотребсоюза. Священник. Агроном. Все – враги народа.
– Не может быть, – прошептала Дарья. – Это ошибка. Должна быть ошибка. – Она качнулась и вцепилась в подоконник так, словно только он один удерживал её в этой комнате, на стенах которой проступила карта чужой, невыносимой боли.
– Рапорты о расстрелах. Он всё делал сам. Собственноручно. В подвале управления. Его подпись внизу каждой страницы. Почерк твёрдый, уверенный. Как у человека, который никогда не сомневается.
Она смотрела на ровные строчки казённых букв, но лицо её было таким, будто она видела не их, а живых людей, идущих по бесконечному коридору.
– Сорок шесть человек за один день? – спросила она шёпотом. – Как это возможно?
Часы пробили семь.
– Как мне теперь с этим жить? Как…
Она не договорила. Мы оба знали – ответов нет.
– Но самое странное случилось позже, Дарья. Что-то произошло. Что-то, что изменило твоего прадеда.
Дарья подняла глаза:
– Что вы имеете в виду?
Я достал из файла ещё несколько документов.
– Что это?
– Это самое интересное. Я закурю? У окошка?
Дарья кивнула.
– Здесь документы за тридцать восьмой год, вторая половина. Когда твой прадед вдруг… перестал быть собой.
– В каком смысле?
– В прямом. Представьте: человек годами честно служит системе. Пытает, расстреливает, подписывает приговоры. Имеет благодарности и награды от начальства. И вдруг – как подменили.
Я протянул ей первый документ:
– Вот, смотрите. Дело врача Лебедевского. Стандартное обвинение – вредительство. До этого такие дела твой прадед фабриковал и заканчивал за две недели. А тут – полгода волокиты.
– Почему?
– Потому что Кротов, – я затушил в стоящем на подоконнике блюдце окурок и присел напротив Дарьи, – вдруг начал работать… тщательно. – Я усмехнулся. – Очень тщательно. До абсурда.
Я ткнул пальцем в строчки текста в документе:
– Смотрите. Кротов требует медицинские справки за десять лет. Опрашивает всех бывших пациентов Лебедевского. Составляет немыслимые графики смертности. Сравнивает их со средними показателями по больнице.
– И что?
– А ничего. Чем дольше тянется дело, тем больше шансов, что человек выживет. Твой прадед это понял.
Дарья смотрела на документы, как на змею в террариуме, с ужасом.
– Это просто шедевр бюрократического искусства. – Я постучал пальцем по документу, исписанному колонками цифр. – Статистический анализ работы больницы за чёртову кучу лет. С графиками, диаграммами, выкладками. Три месяца работы, минимум. Полная бессмыслица с точки зрения следствия. Но дело того стоит.
Я глотнул коньяка. Действительно хороший.
– А вот, – я достал новый документ, – дело профессора Познанова. Обвинение в шпионаже, работа на немецкую разведку. Статья пятьдесят восемь, пункт шесть. Между прочим, расстрельная.
– И что сделал прадед?
– Для начала потребовал перевести все научные статьи профессора с немецкого. С комментариями специалистов. Потом – экспертиза почерка. Потом – лингвистический анализ. Доказал, что формулы, которые сочли шифровкой, – на самом деле какие-то выкладки по какой-то теории, опубликованные ещё в двадцатых годах.
– И что случилось с профессором?
– Профессор остался жив. Дали пять лет, но только потому, что дело передали Лаврентию Броншу, который не поступал так, как поступал твой прадед.
– Но ведь это было опасно? В то время… – Дарья подсела поближе.
– Ещё как, – я кивнул. – Смотри, вот рапорт от начальника отдела. Жалуется начальству: «Товарищ Кротов проявляет подозрительный либерализм в ведении дел. Затягивает сроки. Саботирует работу органов. Не применяет должных мер. Разваливает дела. Требую принять меры». Но знаешь, в чём был его гений? Он не нарушал правила. Он их соблюдал. До абсурда. До идиотизма. Каждую запятую, каждую формальность. Соблюдал так, что система начинала задыхаться в собственной бюрократии.
– А пытки? – спросила она тихо.
– Прекратил. Совсем.
– Но почему? Что случилось?
Я пожал плечами.
– Никто не знает. Вот, это из дела самого Кротова. – Я протянул Дарье несколько листков. – Смотри. Характеристики, рапорты, доносы коллег. Всё здесь. Но ничего, что объяснило бы перемену. Ничего. Ни записей, ни объяснительных. Аркадий Вениаминович говорит – искал во всех архивах. Пусто.
Часы пробили восемь.
– Мне пора, – сказал я, посмотрев на Дарью.
– Да, уже темно…
Я медленно поднялся и подошёл ближе к часам, чтобы лучше их рассмотреть.
– Дарья, вам не кажется, что орнамент на циферблате удивительно похож на узор с запонок?
Дарья рассеянно покачала головой:
– Я как-то не обратила внимания.
Она достала из потёртой коробочки запонки. Подошла ближе и невольно ахнула – сходство действительно было поразительным.
Массивный бронзовый циферблат обрамлял причудливый орнамент, выполненный с поразительным мастерством. Дубовые листья, прорисованные с ботанической точностью, сплетались с виноградными лозами. Каждая прожилка листа, каждая виноградина были выполнены с невероятной тщательностью. Между листьями прятались крошечные жёлуди, настолько детально проработанные, что казалось, вот-вот упадут с ветки. Виноградные грозди обвивали римские цифры, создавая впечатление, будто время само прорастает сквозь этот лесной узор.
– Смотрите, – прошептала Дарья, проводя пальцем по деревянной раме, обрамлявшей циферблат, – здесь какие-то отверстия.
Действительно, по обеим сторонам циферблата в искусной деревянной инкрустации виднелись два небольших отверстия, настолько аккуратных, что их легко было принять за часть узора.
– А что если… – я взял у Дарьи одну из запонок и осторожно вставил фиксатор в левое отверстие. Он вошёл в него с мягким, точным щелчком, будто две части одного механизма, разделённые веком, наконец нашли друг друга.
Дарья, затаив дыхание, проделала то же самое со второй запонкой.
Мы переглянулись. Я кивнул. Она – в ответ. И мы одновременно повернули запонки.
– Ну вот, – вздохнула она, нервно поправляя выбившуюся прядь волос, – я уж думала…
– А чего мы, собственно, ждали? – пробормотал я, пытаясь скрыть разочарование. – Что это сработает и мы найдём клад?
Дарья рассеянно вертела в руках свою запонку, разглядывая причудливый узор.
– Постойте-ка… – она прищурилась, поднесла запонку ближе к настольной лампе. – А вы заметили? Один, два… семь желудей! Точно такие же, как и на циферблате. На вашей запонке тоже есть?
Я кивнул, разглядывая свою:
– А на моей… Девять, – произнёс я и вдруг меня осенило. – Дарья, а что если… Что если нужно повернуть их определённое количество раз? Семь и девять?
Мы переглянулись.
Снова вставили запонки. Я досчитал до девяти, Дарья – до семи. Тишина. Только маятник продолжал лениво покачиваться.
– Чёрт возьми, – пробормотал я и уставился на циферблат. – А что если…
Я принялся считать жёлуди на часах, водя пальцем по бронзовой поверхности. Дарья следила за моим подсчётом, беззвучно шевеля губами.
– Шестнадцать, – объявил я. – Как на обеих запонках. Но зачем? Какой в этом смысл?
Дарья молчала. На её лице застыло то особенное выражение, которое появляется у людей за секунду до важного открытия. Она протянула руку к часам и осторожно повернула стрелки. Минутная стрелка замерла на двенадцати, часовая – на четвёрке.
– Шестнадцать часов, – прошептала она.
– Точно! А вы молодец, – хмыкнул я.
Мы снова взялись за запонки. Семь поворотов, девять поворотов. Внутри часового механизма что-то сухо щёлкнуло, затем раздался мелодичный звон, будто упала маленькая серебряная ложечка, и циферблат отскочил, как кассетный лоток на старых советских магнитофонах, открывая тёмное нутро часов.
Я даже невольно отпрянул.
– Невероятно! – выдохнула Дарья, хватая меня за рукав. – Смотрите, смотрите!
Сразу за циферблатом блеснула круглая бронзовая дверца, в которую было искусно вделано небольшое зеркало. На его поверхности изящной вязью было выгравировано: «Antoine Lemorge».
– Антуан Леморж, – прочитал я вслух. – Должно быть, часовой мастер?
Дарья уже достала телефон и быстро застучала пальцами по экрану.
– Ага! – воскликнула она через несколько секунд. – Антуан Леморж, русско-французский часовщик XIX века. Известен созданием уникальных часовых механизмов с секретами для аристократических семей. Считался непревзойдённым мастером сложных часовых головоломок. – Она подняла на меня глаза, и в них уже не было страха, только азарт исследователя. – Кажется, Виктор, мы только что нашли ключ. И совсем не от часов.
***
Всякий губернский город, если он себя хоть сколько-нибудь уважает, обязан иметь свою легенду. Не какую-нибудь банальную историю о кладе, зарытом Стенькой Разиным, а нечто более изящное, с европейским флёром. В городе N такой легендой, вне всякого сомнения, был двухэтажный домик с мезонином, притулившийся в кривом, точно сабельный шрам, переулке близ Торговой площади. Вывеска на нём, исполненная витиеватой вязью, гласила: «Часовыхъ дѣлъ мастеръ А. Моржовъ». Этот дом и его хозяина знал каждый горожанин, от последнего мальчишки-газетчика до самого градоначальника, ибо не было в округе человека, кто хоть раз не заглядывал бы к старому часовщику со своей остановившейся брегеткой или барахлящими ходиками.
Имя мастера, Антон Степанович, на самом деле было лишь удобной русской ширмой, за которой скрывался Антуан Леморж – человек поистине удивительной и, как сказали бы романисты, авантюрной судьбы. В Россию он, правду сказать, не стремился, но оказался здесь волею того самого слепого случая, что с упорством маньяка-железнодорожника переводит стрелки на чужих судьбах. В достопамятном тысяча восемьсот двенадцатом году, будучи совсем молодым сержантом Великой армии Наполеона, он получил тяжёлое ранение под Малоярославцем. Что было дальше – сюжет для чувствительной повести, из тех, что дамы в девятнадцатом веке читали, промокая глазки кружевными платочками. Замерзающего, в бреду и горячке, его подобрала Агафья Петровна Смирнова, кроткая дочь местного священника. Выходила она француза, как и полагается в таких историях, травами да молитвами, а как оправился он – так девичье сердце и не устояло перед этим самым хвалёным галльским обаянием. Да и сам Антуан, глядя в глаза своей спасительницы – глубокие и тёмные, цвета тех самых чернил, которыми подписывают не торговые контракты, а брачные свидетельства, – понял, что война для него кончилась и пропал он окончательно и бесповоротно. Так и остался в России, обрусев до неузнаваемости, приняв православие и став Антоном Степановичем Моржовым (фамилия Леморж, как нетрудно догадаться, оказалась не по зубам местному дьячку, человеку, видимо, простому и далёкому от фонетических изысков).
Часовое ремесло, эта тонкая механика на грани волшебства, досталось ему от отца, потомственного часовщика из самого Лиона. Ещё мальчишкой Антуан часами просиживал в отцовской мастерской, пропахшей маслом и канифолью, заворожённо наблюдая за тем, как под умелыми, чуть подрагивающими пальцами мастера оживают, начинают дышать и отсчитывать секунды безмолвные латунные механизмы.
В новом отечестве, которое он полюбил тихо и прочно, Антон Степанович быстро прослыл мастером незаурядным. Его часы были не просто точными хронометрами – нет, это было бы слишком просто для сына лионского часовщика. Каждое изделие, вышедшее из его рук, становилось подлинным произведением искусства. Он создавал часы с курантами, играющими редкие, почти забытые мелодии; часы с движущимися фигурками, разыгрывающими целые сценки; часы с потайными механизмами, о назначении которых знал лишь он один.
«Время – оно как река, – говаривал, хитро прищуриваясь, Антон Степанович, отчего морщинки у глаз его складывались в затейливый узор. – Течёт себе неспешно, да только в каждом омуте своя загадка таится, свой чёрт водится. Вот и мои часы – каждые со своим секретом, со своей душой».
К 1830 году слава о часовщике разнеслась далеко за пределы губернии, словно пух с одуванчиков. Заказы поступали от именитых купцов, от скучающих помещиков и даже от спесивых столичных вельмож. Но подлинной его страстью, его главным экзаменом были напольные часы – эти величественные истуканы, где сложнейшие механизмы прятались в искусно сработанные корпуса из красного дерева, украшенные мерцающими бронзовыми циферблатами и затейливыми накладками.
Говорили, и не без основания, что в каждые такие часы мастер вкладывал не просто умение, но и частичку своей души и своего по-прежнему французского сердца.
К старости Антон Степанович почти не покидал своей мастерской, сросшись с ней, казалось, воедино. Сидел там дни напролёт, согнувшись над верстаком так, что спина его напоминала знак вопроса, и колдовал над очередным механизмом. Его совершенно седая, похожая на одуванчик голова склонялась над верстаком, а морщинистые, покрытые старческими веснушками руки, не утратившие былой твёрдости, продолжали творить свои маленькие чудеса.
«Механизм часовой – он что твоя судьба человеческая, – любил приговаривать старик, обращаясь не то к собеседнику, не то к очередной шестерёнке. – Каждое колёсико, каждая пружинка своё место знать должны и в свой черёд сработать. А ежели когда что-то не так пойдёт – вся жизнь наперекосяк».
Особенно же гордился Антон Степанович своими «музыкальными» часами. В них он, словно композитор, устанавливал миниатюрные музыкальные механизмы собственной, им же и выдуманной конструкции. В назначенный час они вдруг начинали играть старинные французские мелодии, тоненько и чуть печально, напоминавшие ему о далёкой, почти стёршейся из памяти родине.
Был у него и особый, главный заказ – часы для городской башни. Три года, не разгибая спины, трудился над ними мастер, создавая сложнейший, немыслимый механизм с двенадцатью движущимися фигурами. В полдень и в полночь на маленьком башенном балконе появлялись апостолы, чинно благословляющие город, а куранты, прежде чем отбить время, играли гимн Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе».
Но самой большой, самой будоражащей воображение загадкой оставались его напольные часы. Каждые, как уверяла молва, имели свой секрет, свою потаённую историю. Говорили, будто в одних были спрятаны старинные документы, способные перевернуть чью-то судьбу; в других – драгоценности, припрятанные от лихого времени; а в-третьих – и вовсе зашифрованные послания, ключ к которым давно утерян.
«Время хранит много тайн, – усмехался Антон Степанович в свои пышные седые усы. – И каждому секрету своё время для открытия положено».
Весной 1875 года, когда город уже вовсю утопал в липкой зелени и пах черёмухой, Антон Степанович слёг. Умер тихо, без мучений, во сне. Словно остановились старые, им же и заведённые часы, точно отмерив отпущенный им срок.
Хоронил его, кажется, весь город. И по сей день живёт в памяти горожан образ старого часовщика – человека, который научился управлять временем, но сам, как и все мы, в итоге покорился его неумолимому, всесокрушающему бегу. И каждый раз, когда над площадью разносится звон курантов, самым впечатлительным кажется, что это сам Антон Степанович вежливо напоминает нам: время течёт, как река, унося с собой людей и события, но оставляя в веках память о тех, кто сумел наполнить его особым, не вполне объяснимым смыслом.
История, конечно, красивая. Хоть сейчас в глянцевый журнал для местных туристов. Только вот нам от неё, как говорится, ни жарко ни холодно.
– Это всё прекрасно, – задумчиво произнёс я. – Но что нам делать дальше? Здесь нет ни замка, ни тем более ключа, ни-че-го. Пусто.
Я с преувеличенным вниманием изучал гладкую бронзовую дверцу с зеркалом, пока Дарья, не разделяя моего уныния, продолжала скроллить что-то в телефоне, читая о часовщике.
– Послушайте, Виктор, а вот тут весьма интересно, – она наконец подняла глаза от экрана, и в них блеснул огонёк азарта. – В биографии Леморжа, ну, в одной из сетевых версий, упоминается, что он обожал симметрию и считал её, цитирую, «божественным проявлением гармонии в механике».
– Симметрию? – я машинально провёл пальцем по холодной грани зеркала. – А ведь и правда… Посмотрите на этот узор вокруг: левая сторона в точности, до последней завитушки, повторяет правую. Как отражение.
Дарья отложила телефон на край стола и встала рядом со мной у массивного корпуса часов.
– Знаете, что меня смущает во всей этой истории? – сказала она, понизив голос. – Зачем здесь вообще это зеркало? Казалось бы, просто декоративный элемент, украшение с гравировкой… но вы же слышали: у Леморжа ничего не могло быть «просто так».
Она замолчала, чуть нахмурив брови и погрузившись в раздумья. Я тоже изо всех сил пытался ухватить какую-то вертлявую, ускользающую мысль, что крутилась где-то на самом краю сознания, но никак не давалась в руки.
– А что мы видим в зеркале? – спросил я скорее самого себя, чем её.
– Что мы видим? Ну… наши с вами отражения, – пожала плечами Дарья. – Всё, что находится перед ним, только наоборот…
– На-о-бо-рот… – медленно, по слогам, повторил я, и мысль, до этого дразнившая, вдруг замерла и далась в руки. – Наоборот! Дарья, чёрт возьми!
Я потёр руки с таким видом, будто только что изобрёл вечный двигатель.
– Вы понимаете, Дарья? Всё должно быть наоборот! Мы решили первую загадку определённым, вполне логичным способом. А что, если теперь нужно повторить все те же самые действия, но… в зеркальном отражении?
– Погодите-ка… – в её глазах мелькнуло понимание. – То есть, если мы вставляли запонку с семью желудями в левое отверстие…
– …то теперь её, родимую, нужно вставить в правое! – подхватил я, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло предвкушения. – А девять желудей – соответственно, слева!
– И поворачивать в другую сторону, – стремительно продолжила Дарья, заметно воодушевляясь. – Конечно! Потому что в зеркале правое становится левым, а движение по часовой стрелке превращается в движение против часовой! Но тогда… тогда и время… Время на циферблате тоже должно быть зеркальным! Мы ставили шестнадцать часов. А что будет, если отразить стрелки?
Я на секунду прикрыл глаза, представив циферблат и его призрачного двойника в зазеркалье:
– Если часовая стрелка указывает на четвёрку… то в отражении она окажется на восьмёрке! А это – двадцать часов!
– Точно! Всё сходится! Симметрия, отражение, зеркальность… Это же абсолютно, кристально в духе нашего Леморжа!
Мы снова взяли в руки тяжёленькие запонки. Теперь каждое наше действие было лишено прежней суетливости и выполнялось с особой, почти ритуальной тщательностью.
– Итак, – прошептал я, почти не дыша и держа запонку с девятью желудями. – Эта теперь идёт слева…
Дарья молча кивнула, аккуратно вставляя свою запонку в правое, теперь уже «зеркальное» отверстие. Я заметил, что её пальцы слегка подрагивали от волнения.
– Теперь время, – выдохнула она и осторожно, боясь сбить настройку, повернула стрелки. – Двадцать ноль-ноль…
Мы переглянулись. В гулкой тишине комнаты, казалось, было слышно не только наше учащённое дыхание, но и стук сердец.
– На счёт три? – одними губами предложила Дарья. – И против часовой стрелки.
– Раз… – я крепче обхватил холодный металл запонки.
– Два… – её голос едва заметно дрогнул.
– Три!
Мы повернули запонки почти одновременно, с тем сосредоточенным напряжением в пальцах, с каким, наверное, сапёры перерезают не тот провод. На какую-то долю секунды показалось, что ничего не произошло, а потом раздался тот же самый, тонкий и мелодичный звон, похожий на звук упавшей на пол серебряной чайной ложечки. Зеркальная дверца едва заметно вздрогнула и, словно выдыхая, начала медленно и бесшумно отходить внутрь, открывая то, что скрывалось за ней все эти долгие годы…
Из открывшейся ниши пахнуло так, как пахнет в запертом на зиму дачном доме – смесью сухого дерева, мышиных следов и ещё чего-то неуловимо-сладковатого, может быть, истлевшего шёлка. Внутри, точно в фамильном склепе, лежала тетрадь – массивная, в твёрдом переплёте, обтянутом тканью цвета запылённой бутылки из-под старого вина. Её края местами истёрлись до белёсых, неопрятных проплешин. Корешок, когда-то, без сомнения, крепкий и прямой, заметно скукожился и потрескался от времени, как земля в засуху. Сбоку из тетради торчали несколько пожелтевших шёлковых закладок, похожих на сухие осенние листья, готовые рассыпаться в прах.
На тетради, словно надгробный камень, покоился конверт. Обычный почтовый конверт, выцветший до оттенка старой слоновой кости, с упрямо загнутыми уголками и едва заметными бурыми разводами – то ли от влаги, то ли просто следами времени. Без единой надписи, без марки, без следов почтового штемпеля. Просто конверт, пролежавший в темноте и молчании почти век.
Я протянул руку и осторожно, двумя пальцами, извлёк нашу находку из тайника. Тетрадь оказалась тяжёлой, плотной, как слиток, и бумага под пальцами казалась на удивление тёплой и живой, будто в ней до сих пор сохранилось тепло державших её рук.
– Пойдёмте к столу, – сказала Дарья. – Там светлее.
Она проворно отодвинула чашки, из которых мы так и не успели отпить остывший чай, освобождая место для нашего сокровища. Я благоговейно положил тетрадь и конверт на полированную поверхность. Дарья, будто повинуясь внезапному импульсу, взяла початую бутылку коньяка и снова наполнила наши бокалы. В воздухе ощутимо поплыл терпкий, благородный аромат дубовой бочки и сухофруктов.
– За удачу! – почему-то шёпотом произнесла Дарья, поднимая свой бокал.
Я осторожно провёл ногтем вдоль склеенного края конверта. Бумага поддалась неохотно, с тихим, сухим потрескиванием, будто старик, нехотя расстающийся со своей единственной тайной.
Внутри лежал сложенный вдвое листок, такой же пожелтевший и хрупкий на вид, как и сам конверт. Я развернул его, стараясь не повредить ломкую бумагу по сгибам. Всего несколько слов, выведенных торопливым, очевидно нервным почерком:
«Валентин Семёнович! Спасибо Вам. Вы знаете за что. Храни Вас Бог».
– И это всё? – Дарья придвинулась ближе, почти касаясь моего плеча. – Ни подписи, ни даты? Ничегошеньки?
– Абсолютно ничего, – я повертел листок так и этак, словно надеясь, что проступят невидимые чернила. – Смотрите, как написано – буквы пляшут, будто человек очень спешил или руки у него дрожали.
– А знаете, что я думаю? – задумчиво произнесла Дарья. – Это могла быть записка от кого-то из тех, кому прадед помог бежать.
– Бежать?
– Ну да. Он ведь, предупреждал, прятал документы, организовывал маршруты…
– Или наоборот, – я задумчиво покрутил в руках бокал с коньяком, глядя на игру света в янтарной жидкости, – может, это была какая-нибудь трагическая любовная история? Благодарность за спасение чужой жены или что-то в этом духе.
– Интересная версия, – кивнула Дарья. – Более романтичная.
Я отложил записку и взял в руки тетрадь. Я открыл её на первой странице.
Почерк был мелкий, каллиграфический, почти педантично аккуратный. Я тут же узнал его – почерк Кротова. Всё те же, знакомые по многочисленным отчётам и служебным запискам, буквы, выведенные с той невероятной тщательностью, с какой гравёр вырезает свои сложнейшие узоры на меди. Строчки бежали по листу ровно, словно под невидимой линейкой.
Но самым поразительным, самым удивительным были рисунки на полях. Маленькие, но виртуозно исполненные чернилами наброски, жившие своей, отдельной от текста жизнью: вот чеканный профиль женщины с высокой причёской тридцатых годов, вот голубь, сидящий на заснеженном подоконнике, вот изящный, лёгкий абрис церковного купола. Рядом с датой «15 марта 1939» – мастерски схваченный силуэт человека в форме НКВД, низко склонившегося над столом. В уголке следующей страницы – детально, до последнего винтика, прорисованная кобура револьвера, а под ней – брошенная в пепельницу недокуренная папироса, от которой поднимается струйка дыма, выведенная так натуралистично, что казалось – вот-вот почувствуешь её горьковатый запах.
– Смотрите, – прошептала Дарья, указывая тонким пальцем на крохотный рисунок в нижнем углу, – это же те самые часы! Наши часы!
– Действительно, они… Один в один.
Я перевернул ещё несколько страниц. Между ровных строчек текста мелькали всё новые и новые рисунки: фрагмент карты города с какими-то непонятными пометками, быстрые зарисовки человеческих силуэтов, архитектурные детали, лица, руки, предметы…
– Мне кажется, Дарья, что эту ночь мы проведем вместе… – сказал я и тут же осекся, поняв, насколько по-дурацки двусмысленно это прозвучало. – С этой тетрадью, разумеется, – поспешил добавить я, чувствуя, как некстати теплеют уши. – В том смысле, что раз уж мы взялись решать головоломки, то нужно решать их до конца.
Дарья улыбнулась в ответ – одними уголками губ, но в глазах у неё блеснул тот самый огонёк, с которого обычно начинаются все авантюры.
– И у нас это неплохо получается, – сказала она, милосердно делая вид, что не заметила моей оговорки.
– Почитаем? – предложил я, благодарно придвигая тетрадь поближе.
***
За ней я послал Бурцева – одного из наших молодых. Типичный сотрудник с Литейного, почти инкубаторский: костюм стандартного, мышиного покроя, очки в тонкой оправе, как у Лаврентия Павловича, – мода, которая у нас почему-то никак не пройдёт. Лицо у Бурцева было из тех, что называют преднамеренно-незапоминающимися; такое сотрётся из памяти через минуту после расставания, что для нашей работы, разумеется, качество бесценное. Л., как она потом рассказывала, предсказуемо пыталась завязать с ним разговор в машине. «Какая сегодня погода хорошая», – щебетала она, силясь пробить брешь в его молчании. «Давно вы работаете водителем?» – ещё одна попытка. Всё впустую. Бурцев только неопределённо хмыкал в ответ, не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги. Вышколен как положено. Образцовый продукт.
Её сначала привезли на конспиративную квартиру на Петроградской. Процедура стандартная, обкатанная: сбить с толку, лишить привычных ориентиров. Там её встретил Волковский – ещё один молодой «без лица» в таком же сером, как ленинградское небо, костюме. Пересадил в другую машину, без лишних слов. И вот они уже катят на Литейный.
Сначала я наблюдал за ней через специальное смотровое стекло, когда она проходила пост контроля внизу. Руки слегка, но заметно дрожали, когда протягивала документы часовому. Я искал не страх, страх – это нормально. Я искал признаки подготовки. Охранник, не глядя, выписал временный пропуск – шершавый картонный прямоугольник с жирной фиолетовой печатью. Её провели через боковой, служебный вход – не парадный, конечно. В наше здание редкие посетители входят через главные ворота, и уж совсем единицы выходят из них на своих ногах.
Пятый этаж, длинный, гулкий коридор с одинаковыми, обитыми дерматином дверями без номеров, пахнущий мастикой и застарелым табачным дымом. Кабинет с высоким, тонущим в полумраке потолком. Массивный, как гробница, письменный стол, два кресла. Одно – моё, тяжёлое, хозяйское. Второе – для неё, жёсткое и неудобное.
Я вошёл через потайную дверь, замаскированную под стенку книжного шкафа, – старый, замшелый театральный трюк, который, однако, неизменно производил нужное впечатление на допрашиваемых. Л. вздрогнула, когда я появился словно из воздуха, и это было первое очко в мою пользу.
Я смотрел на неё, и она, оправившись, смотрела на меня.
– Присаживайтесь, – сказал я, указывая подбородком на кресло напротив. Голос я намеренно сделал ровным, безразличным.
Она села, машинально расправив складки простого платья. Сидела неестественно прямо, почти не шевелясь. Спина – идеально выпрямлена, руки сложены на коленях. Классическая поза человека, который всеми силами пытается сохранить самообладание.
Только чуть заметная, тонкая жилка на шее билась, выдавая внутреннее напряжение. Глаза – серые, с редким оттенком холодной стали – смотрели не на меня, а куда-то поверх моего плеча. Это был не вызов. И ещё не страх. Какое-то странное, сосредоточенное… ожидание.
– Вам известно, зачем вы здесь? – спросил я максимально буднично, тем самым тоном, каким спрашивают о получении справки в паспортном столе.
Она едва заметно пожала плечом, движение получилось даже изящным.
– Я полагаю, что это известно вам.
Тонкая игра. Она не станет первой озвучивать причины нашей встречи, не даст мне преимущества. Умно. Очень умно.
Я не спеша достал из стола тощую папку с её личным делом. Несколько пожелтевших листков, исписанных сухим, казённым почерком, несколько фотографий, скреплённых ржавеющей скрепкой. На верхнем снимке она лет двадцати трёх, не больше. Выразительное лицо с резкими, породистыми скулами, вьющиеся тёмные волосы, собранные в небрежный, артистический узел. Взгляд – не просто острый, а препарирующий.
– Вы окончили филологический факультет университета два года назад? – спросил я, хотя и знал ответ, разумеется. Ритуал есть ритуал.
– Да, – коротко ответила Л.
– С красным дипломом?
– Да.
Молчание повисло между нами, плотное как вата. Я понимал её тактику. Короткие, односложные ответы. Никаких лишних слов. Никаких эмоций, которые можно было бы использовать против неё.
– Расскажите о вашем круге общения, – произнёс я, наблюдая за каждым её движением, за малейшим изменением в дыхании.
Ага. Вот оно. В глазах мелькнуло что-то – секундный, почти неуловимый проблеск неуверенности. Но тут же исчезнувший, утопленный. Профессионально. Слишком профессионально для двадцатипятилетней девушки-филолога.
– Мой круг общения достаточно широк, – ровно ответила она. – Преимущественно коллеги по университету, несколько человек из литературных кружков.
– И что вы обсуждаете в этих кружках?
– Литературу. Искусство.
– Только?
На губах её промелькнула еле заметная, почти призрачная улыбка:
– А что ещё может быть интересно молодым гуманитариям в наше время?
В этот момент я окончательно понял, что передо мной не просто перепуганная молодая женщина. Передо мной – противник. Умный, осторожный, великолепно подготовленный. И наша игра, эта партия, только начиналась. Я продолжал изучать её, но уже не как энтомолог насекомое – сравнение пошлое и неточное, – а скорее как часовщик изучает незнакомый механизм с тикающей внутри взрывчаткой. Каждое её движение, каждый еле заметный изгиб брови, пауза перед ответом – всё было важно.
– Вы часто бываете в Академии художеств? – спросил я, лениво листая её документы.
– Бываю, – спокойно ответила Л. – Мой друг там преподаёт.
– Какой именно друг? – тут же последовал мой вопрос, намеренно резкий.
Секундная пауза. Вот она, первая трещина. Она понимает опасность. Понимает, что любое названое имя может стать не просто строчкой в протоколе, а приговором.
– Преподаватель искусствоведения, – уклончиво, но не теряя достоинства, ответила она.
– Имя?
– Не думаю, что это так уж важно.
Её тон – идеальный баланс. Не дерзкий вызов, но и не рабское подчинение. Та самая грань, на которой балансируют те, кто привык ходить по краю.
– В этом кабинете важно всё, – возразил я. – Особенно имена.
Она чуть заметно поджала губы. Я увидел, как пальцы её левой руки, лежащей на колене, чуть сжались, побелев на костяшках, – единственный явный признак закипающего внутри напряжения.
– У каждого человека есть право на частную жизнь, – тихо, но твёрдо сказала она.
– В наше время это непозволительная роскошь, – так же тихо, почти доверительно ответил я.
Мы смотрели друг на друга. Два игрока за одной доской, каждый знающий правила, но не желающий их озвучивать вслух.
Я демонстративно откинулся в кресле, достал папиросу «Казбек». Щелчок немецкой зажигалки – с гравировкой. Тонкая струйка сизого дыма поднялась между нами, как незримая, колеблющаяся граница.
– Расскажите о ваших политических взглядах, – произнёс я, выпуская дым в сторону потолка.
Она молчала. Я прекрасно знал эту испытанную технику молчания. Выдержка – первый признак серьёзной подготовки. Она явно не новичок в подобных… беседах.
– Политические взгляды формируются средой, – наконец проговорила Л. – Искусство – вот что по-настоящему важно. Оно вне времени.
– Искусство? – я усмехнулся. – Искусство сейчас – это самая передовая линия политики. Чистого искусства не существует. Его время прошло.
Она перевела взгляд на высокое, почти до потолка, окно. За неплотно задёрнутыми тяжёлыми занавесками моросил мелкий, нудный дождь. Капли медленно текли по пыльному стеклу – похоже на слёзы, но без всякого надрыва. Холодно и бесстрастно, как сама природа.
Я встал и с резким шорохом задёрнул занавеску, отсекая её от этого единственного пути к отступлению.
– Послушайте, – я придвинул своё кресло ближе, нарушая дистанцию, вторгаясь в её личное пространство, – мы же с вами интеллигентные люди. Прекрасно понимаем друг друга. Времена сейчас сложные, опасные. Каждому человеку нужна… поддержка. Опора.
– Я не понимаю, о чём вы, – её голос впервые дрогнул, и я мысленно поставил себе вторую галочку.
– Всё вы понимаете, – я улыбнулся самой доверительной из своих улыбок. – Мы могли бы помогать друг другу. Вы нам – мы вам. Простой и честный обмен.
Л. медленно повернула голову. Её взгляд был как надрез скальпелем патологоанатома – не ранящий, а вскрывающий, чтобы добраться до сути.
– Помогать? Как?
Её голос снова стал абсолютно спокоен. Ни капли страха. Восхитительно.
– Мой интерес – информация. Всего лишь.
– Какая именно?
– О круге ваших знакомых. Об их настроениях. О разговорах в университетских кругах. О том, что говорят, когда думают, что их никто не слышит.
Её пальцы чуть заметно дрогнули. Она скрестила руки на груди, инстинктивно, словно проведя последнюю оборонительную границу между нами.
– Люди много говорят, – сказала она. – Но мало кто действительно что-то знает.
– А что знаете вы? – тут же, не давая ей опомниться, спросил я.
– Знание – опасная вещь, – наконец, после долгой паузы, ответила Л. – Особенно в наше время.
Я достал из папки чистый бланк. Положил его перед ней на стол.
– Вот стандартный документ о сотрудничестве, – сказал я максимально нейтральным, канцелярским голосом. – Подпишете?
Она даже не удостоила бумагу взглядом.
– Нет, – коротко ответила она. Слово прозвучало в тишине кабинета, как щелчок затвора.
– Вы понимаете последствия такого отказа? – спросил я, не меняя тона.
Л. чуть заметно усмехнулась – не весело, а с какой-то бездонной внутренней усталостью.
– Понимаю, – ответила она. – Но есть вещи важнее личной безопасности.
Я закурил вторую папиросу, уже немного раздражаясь.
– Что же, позвольте полюбопытствовать?
– Достоинство, – коротко бросила она.
Её лаконичность бесила и одновременно вызывала что-то вроде профессионального восхищения. Молодая. Умная. И опасная, как документ с двойным дном, где за невинной справкой о прописке может скрываться смертный приговор.
– Достоинство, – тихо сказал я, глядя ей прямо в глаза, – не спасает от пули в затылок.
Она промолчала. Но я увидел, как снова предательски дрогнула жилка на её шее.
– У вас есть выбор, – продолжил я, давая ей последнюю лазейку. – Подписать эту бумагу или… – я многозначительно замолчал, позволяя ей самой дорисовать картину.
– Я… мне нужно подумать. – Голос сорвался. Сломалась.
– Конечно, – я с готовностью спрятал бланк обратно в стол. – Думайте. Но не слишком долго. Через три дня жду вас здесь. В это же самое время.
Она медленно встала, и я заметил, как дрожат её колени, хотя она и пыталась это скрыть. Я смотрел, как она идёт к двери. Прямая спина, гордо, даже вызывающе поднятая голова – но я-то видел, каких нечеловеческих усилий ей это стоит.
– И ещё, – добавил я в спину, когда она уже взялась за дверную ручку. – Надеюсь, не нужно напоминать о полной конфиденциальности нашего с вами разговора?
Она коротко кивнула, не оборачиваясь.
За дверью её встретил всё тот же безликий Волковский, чтобы проводить обратно в никуда.
Таких у меня были десятки – молодых, образованных, всё ещё верящих в какие-то идеалы. Они приходили сюда людьми, а уходили… разными. Кто-то ломался сразу, на первом же вопросе. Кто-то сопротивлялся дольше, заставляя попотеть. Но результат чаще всего был один. Система не любит исключений.
Я опять достал бланк, который только что предлагал ей подписать. Посмотрел на пустое место, предназначенное для подписи. Время. Ей просто нужно дать немного времени. Оно работает на нас. Всегда.
***
Она пришла ровно в назначенное время. В нашем ремесле точность – не вежливость, а главный инструмент. Она отсекает лишнее как скальпель. Стрелки настенных часов – тяжёлых, дубовых, с пожелтевшими римскими цифрами, висевших прямо над моим столом, – сошлись на отметке 12 с сухим, безжалостным щелчком именно в тот момент, когда Волковский, как заведённый автомат, распахнул перед Л. дверь моего кабинета.
Она вошла и тут же прикрыла нос тыльной стороной ладони, на секунду задержав дыхание. Да, у меня всегда пахло папиросным дымом, а ещё казёнными чернилами и страхом. Страх – это ведь особая субстанция, почти материальная. Он просачивается сквозь толстую штукатурку, въедливой пылью оседает на книжных корешках, застывает в жирных чернильных кляксах на протоколах допросов. В моём кабинете этот запах был особенно густым, многослойным, как старое вино. Мне доставляло определённое профессиональное удовольствие наблюдать, как посетители чуяли его. Как он действовал на них прежде, чем я успевал произнести хотя бы слово.
Но она выглядела иначе. Не хуже и не лучше, а именно… иначе. Словно за эти три бесконечных дня она переплавилась в каком-то внутреннем огне и вышла из него – закалённой. Усталость в глазах, та, что была на грани паники, сменилась какой-то странной, почти торжествующей решительностью. Такой, с какой идут не на допрос, а на эшафот, уже зная, что победа одержана.
– Садитесь, – я указал на кресло.
Она села. Не так, как в прошлый раз, – не вжимаясь в спинку, а наоборот, подавшись чуть вперёд, будто это она сейчас будет вести допрос. Чуть заметная, резкая складка между бровей выдавала колоссальное внутреннее напряжение.
– Итак? – я закурил, стараясь вернуть себе привычную роль хозяина положения. – Вы уж простите. На правах хозяина.
Я нарочито медленно покрутил пальцами папиросу, выпуская дым ей в лицо. Старый приём, но обычно работает.
– Вы думаете, что знаете всё, – начала она тихо, и дым, коснувшись её лица, послушно разошёлся в стороны, не заставив её даже моргнуть. – На самом деле вы знаете так мало.
Она смотрела не просто в глаза – она смотрела прямо в душу. Пронзительно и безжалостно, с той степенью проникновения, на которую не способен ни один рентгеновский аппарат. В её глазах была странная, невозможная смесь жгучей боли, ледяного презрения и какого-то почти материнского, всепрощающего сострадания.
– Вы знаете, что такое настоящее убийство? – спросила Л. – Это не когда вы человека физически уничтожаете. Это когда вы убиваете человека в самом себе. Каждый день, по частям.
Её голос звучал тихо, почти на грани шёпота, но каждое слово в оглушительной тишине кабинета било наотмашь. Не как кулаком – грубо и прямо, – а как точным ударом хирурга по нервному узлу.
– Система, которой вы так преданно служите, – это не просто механизм репрессий. Это огромная, бездушная фабрика по уничтожению человеческих душ. В первую очередь – ваших собственных душ. Вы превращаете живых людей в тени, в номера на грязной телогрейке, в безликую статистику в своих отчётах, сами при этом перестаёте быть людьми. Вы становитесь функцией. Винтиком.
Я молчал. Я смотрел на кончик своей папиросы, не в силах оторвать взгляд. Она дотлела до картонного мундштука, и бумага, пропитавшаяся смолой, почернела. Огонёк лизнул кожу. Запахло горелой бумагой и моей кожей.
– Больно? – спросила она, заметив, как я инстинктивно тряхнул обожжёнными пальцами.
Её голос был спокоен, но в вопросе этом не было ни сочувствия, ни злорадства. Только констатация факта. Диагноз.
***
Коньяк кончился ещё в полночь, и мы остались с этой рукописью один на один, без буфера. Читали до самого рассвета. Хмель не брал – слова Кротова были слишком трезвыми, слишком беспощадными к себе и к нам. Настольная лампа отбрасывала на стол дрожащий, неуверенный круг света, а тени на высоком потолке метались, как затравленные звери. Мы читали вслух, по очереди, и каждое слово, произнесённое в гулкой тишине, казалось, отлито из свинца. Кротов писал так честно, так бесстыдно честно, что временами становилось физически неловко, будто подглядываешь за человеком в самый уязвимый, самый постыдный момент его жизни.
Время от времени я поднимал глаза от страниц и смотрел на Дарью. На её острый, как на камее, профиль в полутьме. Она была там, в этих строках, в этих паузах между признаниями и сожалениями. Слова, которые я читал, казалось, обжигали горло не хуже коньяка. Она то чуть заметно улыбалась какой-то горькой, всё понимающей улыбкой, то хмурилась, водя кончиком пальца по строчкам, будто пыталась нащупать под бумагой пульс того времени. Каждое прочитанное предложение было не просто информацией. Оно было маленьким, болезненным открытием.
***
«… – Знаете, товарищ Кротов, вы же не всегда таким были.
Я помню, как разозлился. Ударил этой самой папкой с её личным делом по столу так, что подпрыгнула чернильница. А она продолжала, не испугавшись:
– У вас глаза живые. Я вижу. Значит, не всё ещё умерло.
Я её выгнал. Пил полночи, до тошноты. А наутро допрашивал какого-то бедолагу-инженера – особенно жёстко, с каким-то остервенением, будто мстил ему за её слова.
***
Следующий допрос был ещё через три дня. Она принесла с собой книгу – маленький, зачитанный томик Чехова. Молча положила на край моего стола:
– Вам полезно будет. Прочтите на досуге.
Абсурд. Полнейший абсурд – подозреваемая приносит следователю книги и даёт советы. Я начал орать. Орал долго, срывая голос. Она молчала, ждала. А потом, когда я выдохся, тихо сказала:
– Кричите. Вам, наверное, очень больно.
Книгу я всё-таки взял. Читал ночью, впервые за много лет. «Палата № 6» – это была даже не насмешка, это был диагноз. Утром я смотрел в зеркало и отчётливо видел в нём доктора Рагина. Мы все тут – в одной большой палате. И я в ней – главный санитар.
***
На четвёртом допросе я вдруг по-настоящему заметил её руки. Тонкие, с длинными пальцами. Я вдруг представил, как она этими руками вышивала, перелистывала хрупкие страницы книг, наверное, обнимала маму. Создавала что-то. А я своими руками – подписывал ордера на арест, протоколы, приговоры. И стрелял в затылок.
***
Пятый допрос был совсем коротким. Я просто указал ей на дверь. Она остановилась уже на самом пороге:
– Вы ведь знаете, что я права. Потому и злитесь.
В ту ночь я сжёг в пепельнице списки тех, кого планировал арестовать в ближайший месяц. Не из-за неё – из-за себя. Из-за того, что она, как в зеркале, просто показала мне меня настоящего. Показала, как удобно и просто быть винтиком. И как невыносимо больно снова становиться человеком.
Но теперь мне не страшно. Теперь я знаю – глаза у меня и вправду живые. Она правду сказала».
***
Дарья медленно, с сухим шелестом, перевернула страницу.
«Я убивал. Не на войне, не защищаясь. Просто убивал. За идею, из чувства долга, по приказу начальства и даже, бывало, от скуки. Я помню каждое лицо, каждый последний взгляд. Странно, но больше всего мне в память врезались не глаза, а руки моих жертв. Дрожащие, умоляющие, бессильно цепляющиеся за жизнь.
***
Перелом, то, что верующие называют озарением, а врачи – нервным срывом, случился не сразу. Всё началось с тошноты. Обычной, физической тошноты от запаха моего кабинета, от вида бумаг, от собственного голоса.
Я начал пить. Много. До беспамятства. Но алкоголь больше не приносил забвения, он только вскрывал что-то внутри. Какую-то мерзкую, липкую правду о самом себе. Я вдруг начал замечать детали, которых раньше не видел: как падает косой солнечный свет на брусчатку во дворе, как отчаянно плачут дети в парке, как старые люди, кормят жадных голубей. Всё это раздражало. Бесило до скрежета зубовного. Потому что было настоящим, живым.
***
Я стал перечитывать дела, которые вёл. И тут я впервые подумал – а ведь они, эти арестованные, осуждённые, расстрелянные мной люди, они ведь тоже видят этот солнечный свет. Тоже слышат этот детский плач. И мне стало невыносимо противно. От себя.
***
Начали преследовать сны. Не кошмары с кровью и криками – нет, было бы слишком просто. Сны были страшнее. Обычные, бытовые: я иду по улице, захожу в булочную, пахнет свежим хлебом, я здороваюсь с продавщицей. И просыпаюсь в ледяном, липком поту. Потому что во сне я был нормальным. Человеком.
***
Я начал замечать, что избегаю зеркал. В мутном отражении виделась какая-то посторонняя, омерзительная тварь. Чужая, незнакомая. Однажды в припадке разбил зеркало в прихожей кулаком. Сильно порезался. Смотрел на свою кровь и думал – она такая же красная, как у них. Так по какому же праву я решил, что имею право?
***
Часами сидел, смотрел в стену. Думал – может, застрелиться? Но потом понял – это было бы слишком просто. Слишком трусливо. Слишком похоже на то, что я столько лет делал с другими.
***
Прошлое не отпускает. Оно всегда со мной, оно вросло в меня, как вторая кожа. Каждое утро я просыпаюсь и физически чувствую его вес. Но теперь я знаю – это моя ноша. Мой крест. И может быть, в этом и есть моё настоящее наказание – жить дальше. Видеть этот свет и понимать, сколько такого же света я погасил.
Говорят, время лечит. Врут. Время не лечит – оно медленно, мучительно учит быть человеком. Не потому, что заслужил, а потому что должен. Должен всем тем, кто уже никогда не увидит этот утренний свет.
Я всё ещё не знаю, кто я теперь. Не убийца – это точно. Но и не праведник. Просто человек, который каждый божий день учится быть человеком. И это, скажу я вам, чертовски больно. Но, наверное, так и должно быть.
Сначала было страшно. Потом привык. Как привыкаешь к двойной жизни – для всех я по-прежнему следователь, а внутри себя – спаситель. Ирония судьбы, достойная пера покойного Чехова.
***
Дело № 2233. Аркадий Бенционович Лурье, филолог. Донос от соседа по коммуналке про антисоветские высказывания. Посоветовал ему через общего знакомого срочно уехать к якобы больной тётке в Ташкент. Через день после его отъезда я пришёл с ордером – квартира, разумеется, пуста. В протоколе записал: «По указанному адресу не проживает». Соседа-доносчика припугнул статьёй за ложный донос. Тот затих навсегда.
***
Дело № 2456. Валентина Горчакова, библиотекарь. Нашли у неё при обыске дневники с «крамольными» мыслями. Подсказал ей прямо на допросе: «Это же черновики для вашего романа. Вы же литературный кружок для молодёжи ведёте?» Умная женщина, всё поняла сразу. Отделалась строгим выговором по партийной линии.
***
Дело № 2789. Семён Гольдштейн, часовщик. Донос от недовольного клиента. Подозрение в связи с иностранцами. Через третье лицо намекнул – пусть сожжёт всё, что может его скомпрометировать, а при обыске мы «найдём» только пачку открыток с видами Нью-Йорка. Сработало. В деле записал: «Обнаружены материалы для коллекционирования почтовых карточек».
***
Дело № 3115. Константин Авдеев-Сабуров, бывший дворянин. Хранение монархической литературы. Посоветовал через его жену – пусть напишет донос сам на себя. Подробный, с раскаянием, со слезами, про новую, советскую жизнь. Три страницы покаяния. Определили под гласный надзор – остался жив.
***
Дело № 3442. Маргарита Тихонравова, художница. Обвинение в формализме в искусстве. Организовал ей «случайную» встречу с нужным искусствоведом из комиссии. Тот написал лестное заключение: «Смелые творческие поиски в рамках советского реализма». Дело закрыли за отсутствием состава.
***
Я учил их всех: говорите как можно меньше, смотрите в пол, со всем соглашайтесь, но отчаянно путайтесь в деталях, датах, именах. Следователь устаёт от путаницы. Ему нужна кристальная ясность – для отчёта, для галочки. Нет ясности – нет дела.
Каждому – свой рецепт спасения. Кому-то – срочный отъезд в глухую провинцию. Кому-то – правильные, нужные слова в протоколе. Кому-то – знакомство с полезным человеком. Главное – не геройствовать. Герои долго не живут. В моём ведомстве уж точно.
***
Бумаги, самые опасные, жгу теперь каждый вечер. Копии протоколов, черновики допросов. Пепел смываю в уборную – так надёжнее. Иногда думаю – может, я предатель? Потом вспоминаю глаза Л. и понимаю – нет, я просто наконец-то встал на правильную сторону.
А вообще, спасать людей оказалось на удивление проще, чем их губить. Не нужно пить по вечерам. Не снятся кошмары. И в зеркало смотреть больше не страшно. Только бы не попасться. Но даже если попадусь – оно того стоило.
Однажды в Таврическом саду мы кормили уток с дочерью, и я встретил Л. Мы сделали вид, что не узнали друг друга. Проходя мимо, она будто случайно задела меня рукой и тайком передала записку. Простой, сложенный вчетверо тетрадный листок с надписью: „Валентин Семёнович! Спасибо Вам. Вы знаете за что. Храни Вас Бог«.»
– Всё, – тихо сказала Дарья и закрыла тетрадь. Звук захлопнувшейся обложки прозвучал в тишине как выстрел. – Исповедь палача.
Я протянул руку и щёлкнул выключателем. Лампа погасла. В комнату сквозь окно уже лился холодный, безжалостный, хирургический свет наступающего утра.
– Он так и не назвал её полного имени, – заметил я, глядя на серое, как шинель, небо за окном.
– А что было потом? – Дарья повернулась ко мне, и в её глазах стоял невысказанный вопрос. – Бабушка всю жизнь говорила только одно: уехал в долгую командировку. И всё. Исчез.
Я молчал. Почему-то было трудно дышать. Достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист. Медленно, с усилием разгладил упрямые сгибы. Протянул Дарье.
«В начале 1939 года Валентина Семёновича Кротова отстранили от активной следственной работы. Арестован 16 января 1939 г. Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания 19 февраля 1940 г. по ст. 58/1 п. «а» (измена Родине); ст. 58/8 (террор); ст. 58/11 УК РСФСР (участие в антисоветской террористической организации в органах НКВД). Через 2 дня, в ночь на 21 февраля 1940 г., расстрелян.
По заключению Главной военной прокуратуры РФ от 1999 года как активный участник сталинских репрессий признан не подлежащим реабилитации».
Дисклаймер
Все персонажи и события, описанные в этой книге, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми (живыми или умершими), событиями или организациями является непреднамеренным и случайным. Мнения и взгляды, высказанные персонажами, принадлежат только им и не отражают точку зрения автора.
©2025
Моим самым главным людям —
жене Ольге, сыновьям Герману и Глебу.
С бесконечной любовью и благодарностью.
Дело: «Табак»
В лето 1697-е, когда российский государь Пётр Алексеевич, оставив на время державные хлопоты, постигал в Голландии премудрости корабельного дела, прибыл он инкогнито в тихий городок Зандам, чьи верфи славились по всей Европе.
Государь, не желая раньше времени светить своей царской персоной, назвался просто – плотник Пётр Михайлов. Да и кто бы усомнился? Руки – в узловатых, затвердевших мозолях, спина – широченная, медвежья, а в повадках столько мужицкой основательности, что ни один голландский мастер, придирчиво оглядывая долговязую фигуру, и помыслить бы не мог, что перед ним помазанник Божий.
Работал он с какой-то яростной, неуёмной энергией, будто пытался вбить в голландские доски всю свою нерастраченную силищу. Местные, прозвавшие его «плотником Питером», только дивились: и откуда в этом русском столько дури и любопытства?
И сдружился он там с Агно ван дер Маатеном – молодым плотником, сухопарым, жилистым, с вечно дымящейся глиняной трубкой в углу рта. Из трубки его тянуло диковинным заморским табаком, чей аромат причудливо сплетался с запахом просмолённых канатов и свежей сосновой стружки. Трубку свою голландец холил и лелеял, утверждая, что плотник без доброй трубки – что фрегат без руля: вроде и плывёт, да только чёрт знает куда.
Именно этот Агно, которого государь, недолго думая, окрестил на русский манер Агафоном Вмятиным (благо тот не обиделся), и стал его главным товарищем по ремеслу. Частенько можно было видеть, как эти два долговязых плотника, оба росту немалого, склонялись над чертежами, жарко споря о наилучшем способе проконопатить швы или установить ахтерштевень.
И вот однажды, как гласит известная на зандамских верфях, но отчего-то совершенно забытая в России байка, случилась оказия. Агафон-Агно, прилаживая доску обшивки, размахнулся от души тяжеленным молотком да вместо гвоздя со всего маху угодил царю-плотнику прямо по державной фаланге.
Пётр, напрочь забыв про всякую конспирацию, взревел так, что с соседних мачт врассыпную шарахнулись чайки: «Кррррех, да в бога душу мать твою, Агафон ван дер Вмятин!». И тут же, не дав голландцу и слова вымолвить, приложился размашистым кулачищем точнёхонько промеж глаз. Отчего тот не проглотил свою ненаглядную трубку лишь по той причине, что разлетелась она от удара в мелкую глиняную пыль.
Впрочем, гнев царский был сколь вспыльчив, столь и отходчив. Остыв через минуту, Пётр подошёл к всё ещё ошалевшему голландцу, достал из-за пазухи ладную, собственноручно выточенную из вишнёвого дерева трубку и протянул приятелю.
– Не серчай, брат Агафон. Сгоряча вышло, – прогудел он примирительно. – На, держи. Мировая. За дружбу нашу корабельную.
Агафон Вмятин, озадаченно потирая губу, из которой сочилась тонкая струйка крови, подарок принял. Оглядел его, потом русского плотника, и только крякнул:
– Ну и нрав у тебя, Питер! Что на море шторм – то стихнет, то снова ударит!
Вот так с той поры, как судачат на зандамских верфях, и пошла гулять присказка: «Бей русского по пальцу – трубкой новой богат будешь!»
***
В дверь колотили так, словно команда пьяных матросов штурмовали не мою скромную квартиру, а Зимний дворец. Я распахнул дверь. На пороге маячил Илюша – взмыленный, багровый, с галстуком, съехавшим набок, точно сбитый прицел. Лишь борода, аккуратно подстриженная, хранила следы цивилизации.
– Витька, паразит! Ты что, ещё дрыхнешь?! – заорал он так, словно командовал теми самыми матросами.
Я молча изучал его физиономию, силясь определить: «Вторник? Нет. Среда? Возможно. Война с Наполеоном? Кажется, уже была». Ни один из вариантов не объяснял апокалипсис, стоявший на моём пороге.
– Съезд! Трубки! Шеф! – выпалил Илюша, обходясь одними существительными, будто телеграфировал с тонущего судна.
– А, чёрт… – я почесал небритую щеку. – Точно. Запамятовал. Дай минуту.
Я метнулся в ванную. Из зеркала на меня воззрилось сонное существо с рельефным отпечатком подушки на щеке.
– Шеф нас убьёт! – доносился из коридора Илюшин трагический бас. – Сначала меня, потом тебя! Нет, погоди, лучше сначала тебя, так справедливее! Там уже весь бомонд, понимаешь? Все эти… корифеи трубочного дела!
– Корифеи? – пробормотал я, пытаясь провернуть нехитрый трюк: одновременно чистить зубы и натягивать брюки. – Небось, восседают в президиуме, дымят своими брюарами…
– Бриарами, остолоп! – поправил Илюша. – От французского bruyère – вереск.
– Неважно. Звучит солидно. Как название дорогого коньяка или фамилия французского посла.
Илюша нервно вышагивал по коридору, измеряя его шагами отчаяния.
– Давай скорее! Там же открытие! Речи! Регламент!
– Регламент у них, как же, – фыркнул я, застегивая рубашку. – Наверняка уже все приняли для храбрости и травят байки про табак «Золотое Руно»…
– Виктор!
– Иду-иду. Представляю физиономию шефа. Багровая, как у того индейца из табачной лавки…
Мы вывалились на лестницу.
– Какого ещё индейца?
– Ну, который на жестяной вывеске. Такой, знаешь, с перьями, трубкой мира… Суровый и молчаливый.
– Господи, – простонал Илюша, – мы опаздываем на стратегически важное мероприятие, а он мне про вывески…
В такси я не унимался:
– Нет, серьёзно, почему именно индейцы? Почему не викинги? Те, небось, тоже что-то покуривали…
– Ага, ягель. Витька, будь любезен, заткнись.
– Или, скажем, друиды… Омелу свою…
Илюша закрыл лицо руками.
– За что мне это всё…
Водитель с нескрываемым любопытством поглядывал на нас в зеркало заднего вида.
– Ох и скука нас ждёт, Илюша: «Дорогие соратники по дыму! Братья по никотину! Глубокоуважаемые любители трубок!»
– Почти приехали, – обречённо выдохнул тот.
– Чувствуешь?
– Что?
– Чем запахло? Дорогим табаком и респектабельностью.
– Вылезай, респектабельный.
***
У входа в клуб «Manufactory», под массивной светящейся вывеской «Съездъ любителей курительныхъ трубокъ. Россійскій Альянсъ Трубочныхъ Клубовъ», и впрямь толпились солидные мужчины. И табаком действительно пахло – густо, пряно, с нотками чернослива и старой кожи.
– А ведь мы могли бы сейчас мирно спать, – заметил я.
– Заткнись и улыбайся. Шеф идёт, – процедил Илюша. – И ты был прав. Вылитый индеец.
Шеф, и в самом деле, походил на краснокожего вождя, но очень респектабельного племени. То же благородно-багровое лицо, словно выдубленное ветрами прерий, только вместо прерий – кабинетные баталии. Костюм от Brooks Brothers вместо боевой раскраски, галстук от Brioni вместо перьев, а в руке, вместо томагавка, – увесистая трубка из карельской берёзы.
– Господа журналисты! – прогремел он с той особенной интонацией, с какой полководец приветствует опоздавшее подкрепление. – Рад, что вы всё-таки почтили нас своим присутствием! Уж думал, не дождусь.
Илюша состроил гримасу, в которой раскаяние отчаянно боролось с желудочной коликой.
– Борис Аркадьевич, – начал было я, – тут такое дело…
– Знаю я ваши дела, – перебил шеф. – Опять всю ночь материал для «Плейбоя» с моделями ваяли?
– Для «Форбса», – машинально поправил я.
– Какая разница! – отмахнулся он, извлекая из кармана два бейджа. – Вот. Пропуска. К вечеру чтобы очерк для «Гентльмена» был готов. И не забудьте…
– …взять интервью у какого-нибудь маститого трубокура, – закончил я за него.
– У почитателя курительных трубок! – поправил шеф. – Это вам не пивная. Тут элита. – Он погрозил толстым мясистым пальцем невидимому оппоненту в небесах. – Коллекционеры. Знатоки. Люди, способные часами говорить о преимуществах вирджинского табака над латакией.
– А что такое латакия? – прошептал мне Илюша.
– Без понятия, – ответил я так же шёпотом. – Звучит как название курорта в Турции.
Шеф смерил нас тяжёлым взглядом главнокомандующего.
– И постарайтесь не опозорить агентство. Здесь каждый второй – владелец заводов, газет, пароходов…
– А первый? – не удержался я.
– А первый, – отрезал шеф, – владелец трубок стоимостью как эти заводы, газеты и пароходы вместе взятые.
С этими словами он развернулся и, точно броненосец, вошёл в стеклянные двери клуба.
– Слушай, – сказал Илюша, разглядывая свой бейдж, – а может, и правда напишем что-то путное? Про традиции, культуру…
– Ага, – кивнул я. – И про латакию. Что это не курорт, а, по всей видимости, сорт табака.
Мы посмотрели на толпу солидных мужчин, неспешно перетекавших в клуб. Каждый второй действительно выглядел так, будто где-то у причала его ждёт если не пароход, то уж точно небольшая яхта.
– Знаешь, что самое забавное? – сказал я. – Мы ведь даже не курим.
Я бросил месяц назад и был горд этим до неприличия.
– Зато пишем, – вздохнул Илюша. – Пойдём, выясним, чем вирджинский табак от этой… латакии отличается.
– Главное – не перепутать с мальвазией, – заметил я на ходу.
– А это ещё что?
– Вино такое. Кажется.
***
В бывшей мануфактуре «Торговый домъ князя Н.П. Дыщева», где ныне располагался клуб, дым стоял коромыслом. Старые кирпичные стены, помнившие ещё визит государя-императора в 1873 году, теперь жадно впитывали ароматы берлея и ориентала. Под высокими потолками кружились сизые облака, путаясь в чугунных фермах, как заблудшие души.
– Вить, – проговорил Илюша, озираясь через монокль, который нацепил для солидности, – ты когда-нибудь видел столько твидовых пиджаков в одном месте?
– Только в советской экранизации «Собаки Баскервилей», – честно ответил я.
У стендов с живописными вывесками – «Специалистъ по англiйскимъ смѣсямъ», «Экспертъ по морской пѣнкѣ», «Мастеръ по реставрацiи», «Консультантъ по выбору первой трубки» – роились жаждущие знаний джентльмены.
– Господа! – вещал консультант, похожий на состарившегося и подобревшего Шерлока Холмса. – Начинаем мастер-класс по определению возраста трубок по патине!
– Это как у деревьев, – шепнул мне Илюша. – По годовым кольцам.
– Угу. Только здесь считают кольца дыма.
В дальнем углу зала разгорался академический спор, готовый перейти в дуэль.
– Peterson на голову выше Savinelli!
– Ересь! Это всё равно что сравнивать Толстого с Донцовой!
– Господа, господа, – примирительно вмешался третий. – Есть же ещё Dunhill… Он как Пелевин для них обоих.
– А давайте его побьём? – негромко предложил один из спорщиков другому.
У витрины с винтажными трубками собралась благоговейная группа. Седовласый эксперт в жилете, расшитом табачными листьями, вещал с придыханием:
– А вот, прошу обратить внимание, красавица тридцать седьмого года. Принадлежала известному московскому архитектору. Он курил её, когда проектировал высотку на Котельнической…
– А почему она такая кривая? – донеслось из толпы.
– Потому что он курил её, когда проектировал высотку на Котельнической, – с нажимом повторил эксперт.
– Илюш, – сказал я, покосившись на ценник, – ты можешь купить эту трубку.
– Серьёзно?
– Да. Только придётся продать почку.
– У меня их всего две.
– Вот видишь, даже выбор есть!
– Ну как, господа лоботрясы? Материал набирается? – из табачного тумана, словно джинн, вынырнул шеф.
– Набивается, Борис Аркадьевич, – ответил я. – Как хороший табак в трубку.
– Кстати, о табаке, – оживился тот. – Сейчас вон там, – он махнул рукой куда-то за наши спины, – начнётся дегустация раритетного Balkan Sobranie 759, розлива пятидесятых годов!
– Как вино, – заметил Илюша.
– Молодой человек, – строго произнёс шеф, – вино пьют и забывают. А трубка – это…
– Только не говорите «философия»! – взмолился я.
– Нет. Хуже. Это диагноз. Но какой, чёрт возьми, приятный!
В этот момент у стенда «Всё о чистке трубок» началась небольшая потасовка: какой-то неофит имел неосторожность назвать ёршик «ерундой на палочке».
– Пойдём отсюда, – потянул меня Илюша. – А то сейчас начнут швыряться тамперами.
– Думаешь?
– Уверен. На прошлогоднем съезде два почтенных джентльмена подрались из-за метода просушки трубки.
– И чем закончилось?
– Помирились. Отправились пить виски и обсуждать преимущества прямого чубука над изогнутым.
– Кхе-кхе! – неожиданно донеслось из динамиков. Все головы, как по команде, повернулись к сцене. У микрофона стоял прилизанный распорядитель в жилетке с гербом Альянса, вышитым золотой нитью.
– Господа! Прошу минуточку внимания! – голосом конферансье из провинциального ТЮЗа объявил он. – Сейчас перед вами выступит… – он сделал мхатовскую паузу, – председатель Российского Альянса Трубочных Клубов, Павел Иванович Углублённый!
Под бурные аплодисменты на сцену, пыхтя как паровоз на подъёме, начал взбираться грузный мужчина. Его массивная фигура в дорогом костюме отбрасывала на стену тень, похожую на силуэт самовара, а пышные бакенбарды колыхались в такт шагам.
– Слушай, – шепнул я, – он вылитый твой кот после новогодних праздников. Когда переел оливье.
– Тихо ты! – шикнул Илюша.
Павел Иванович водрузил на нос очки в золотой оправе и откашлялся.
– Кхм… Дорогие други! Соратники по дыму! – его голос подрагивал. – Мы собрались здесь… э-э… в этом историческом месте… в сей знаменательный вечер… э-э… точнее, день… чтобы… как бы это сказать… чтобы… собраться! Да! И не просто, а собраться вместе! И воздать должное великому искусству курения трубки!
– Илюша, это гениально, – прошептал я.
– Тсс! Не мешай наслаждаться ораторским искусством. Записывай за Цицероном.
– И я хочу отметить… – продолжал Углублённый, промокая платком лоб, – что наше вот это… времяпрепровождение… оно не просто так, а… как его… философски обосновано!
В зале кто-то благоговейно всхлипнул.
– Потому что трубка – это не сигарета! – вдруг воодушевился председатель. – Трубка – это… это… Ну, вы понимаете, это вам не сигарета! И это не просто… э-э… курительный прибор. Это… это символ! Символ… э-э… символичности!
В зале повисла такая тишина, что было слышно, как в дальнем углу кто-то с почтением раскуривает свой Dunhill.
– И каждый уважающий себя… э-э… трубокур…
– Почитатель курительных трубок, – шёпотом подсказал стоящий рядом распорядитель.
– Да, почитатель! – подхватил председатель. – Должен понимать всю ответственность перед… как его… историей!
– Я сейчас заплачу, – сообщил Илюша.
– И я хочу сказать… э-э… выразить… вербализировать… – Павел Иванович извлёк из кармана трубку, намереваясь подкрепить слово делом, – что каждый из нас… э-э… несёт этот символ… как… как знамя!
– И в заключение… – Павел Иванович занёс трубку над головой для финального аккорда, – хочу сказать, что мы все… того… на пороге великих… как его… свершений!
Трубка, не выдержав пафоса, выскользнула из вспотевших пальцев и с глухим стуком упала на сцену.
– Илюш, – сказал я, наблюдая, как председатель, кряхтя, пытается её поднять, – теперь я точно знаю, как мы назовём статью.
– Как?
– «Как я полюбил трубку и потерял веру в человечество».
Павел Иванович наконец поднял трубку.
– И поэтому, – продолжил он в микрофон, – я объявляю наш съезд… э-э… – он победно вскинул трофей, как факел, – официально… э-э… съехавшимся!
– Браво! – не выдержал я. Зал взорвался аплодисментами.
– Дорогие соратники по благородному искусству! – продолжил Углублённый, когда овация стихла. – Достопочтенные члены клуба и уважаемые гости! Сегодня я должен поведать вам нечто… из ряда вон выходящее!
– Спорим, сейчас объявит, что бросил курить? – шепнул я.
– В ходе планомерных… как бы это… археологических изысканий, а точнее – в результате совершенно случайной находки на Удельной барахолке, в наши руки попал документ потрясающей исторической важности! – Председатель снова промокнул лоб.
– Документ датируется, ориентировочно, серединой прошлого века. И в нём… – голос Павла Ивановича затрепетал, – описывается история обнаружения легендарной трубки самого Петра Первого!
По залу пронёсся шёпот, похожий на шелест осенних листьев.
– Витя, а ведь это тянет на сенсацию, – сказал Илюша.
– Если это не очередная байка вроде трубки Сталина, якобы найденной в секретном бункере.
– Согласно записям, – Углублённый обвёл зал орлиным взором, – сия трубка была собственноручно выточена государем-императором и подарена одному голландскому корабельному мастеру в знак особого расположения!
Зал восхищённо ахнул.
– Как именно трубка вернулась в Санкт-Петербург, не уточняется, однако таинственный автор документа составил целую цепь загадок, ведущих к ней. Во времена моего, так сказать, сопливого детства, – Углублённый издал звук, который при известном воображении можно было счесть смехом, – мы называли это игрой по станциям. Теперь принято говорить «квест». Так вот, квест этот запущен не был. По независящим причинам. И вот теперь, други мои! – он воздел руки к потолку, отчего его тень на стене стала похожа на самовар, вскипятивший воду. – Российский Альянс Трубочных Клубов принял историческое решение – возродить этот квест!
В зале воцарилась напряжённая тишина.
– Трубка Петра Первого! В Санкт-Петербурге! – торжественно провозгласил председатель. – В городе, где каждый камень дышит историей! Где каждая подворотня хранит тайны! Где любой дворник может оказаться… э-э… хранителем древних секретов!
– По-моему, он перечитал Достоевского, – заметил я.
– Скорее, недочитал, – отрезал Илюша. – Иначе знал бы, чем такие истории обычно заканчиваются.
– Победителя сего исторического состязания ждёт не только бессмертная слава! – Павел Иванович так разволновался, что его бакенбарды встали дыбом. – Но и пожизненное членство в нашем клубе!
– Господи, – простонал я, – за что такое наказание?
– Тише ты! Это призы, а не наказание.
– А также! – председатель сделал эффектную паузу. – Раритетная трубка из моей личной коллекции! Трубка, которой касались уста самого… впрочем, это покамест секрет! Первое же задание квеста, – Углублённый понизил голос до заговорщического шёпота, – каждый участник получит в запечатанном конверте из рук нашего уважаемого распорядителя.
Прилизанный распорядитель картинно поклонился.
Не успел Углублённый закончить, как с джентльменов слетела вся спесь, обнажив азарт кладоискателей. Половина зала, точно по команде, ринулась к стенду с каллиграфической надписью «КВЕСТЪ».
– Смотри, – толкнул я Илюшу. – Минуту назад – элита, а сейчас – очередь за дефицитными креповыми носками в советском универмаге.
– Ага.
Публика, отбросив джентльменские манеры, создавала у стенда невообразимую толчею. Дородный господин в пиджаке «в ёлочку» размахивал тростью, требуя пропустить его как потомственного коллекционера. Другой, в очках с линзами толщиной с блюдце, доказывал своё первенство, потрясая воображаемой диссертацией по истории табакокурения в Петровскую эпоху.
– По-моему, сейчас начнётся рукопашная, – заметил Илюша.
– Ну что ты, это же интеллигентные люди. Максимум – побьют друг друга томиком Карамзина.
В этот момент из табачного марева, словно призрак оперы, материализовался наш шеф.
– Ну что, бездельники, пляшите! – он помахал у нас перед носом белым конвертом. – Достал вам квест. Чтобы к вечеру трубка Петра была у меня на столе!
Мы с Илюшей уставились на него, как два карася на наживку.
– К вечеру? – пискнул я.
– Это даже теоретически невозможно! – подхватил Илюша. – Может, хотя бы неделю…
– Месяц! – добавил я.
– Год! – не сдавался Илюша.
Шеф расхохотался, сотрясая внушительным животом.
– Ладно, шучу. Но участвовать – всерьёз. Мы потом такой материал забабахаем – все журналы с руками оторвут! А то и фильм снимем. Для Первого канала! – он подмигнул. – Пётр же тоже Первый, а? Смекаете?
Похлопав нас по плечам своей тяжёлой пятернёй, шеф растворился в табачном тумане так же внезапно, как и появился.
Из толпы у стенда донёсся звон разбитого стекла и возмущённый вопль: «Милостивый государь, да как вы смеете намекать, что моя диссертация – лишь компиляция голландских источников?!»
Мы с Илюшей, как два ледокола «Ленин» и «Таймыр», начали пробивать себе путь к спасительной вывеске «Буфетъ».
В буфете царили цены, способные вогнать в меланхолию любого, чьё имя не значилось в списке «Форбс». Бутерброд с колбасой – триста рублей. Рюмка коньяка – пятьсот пятьдесят. Канапе с икрой – тысяча триста пятьдесят. Я машинально сунул руку в карман, где одиноко шуршали несколько помятых купюр.
Илюша заметил моё движение. Он по-отечески приобнял меня и произнёс голосом Буркова из «Иронии судьбы»:
– Если бы не я, вы бы все тут без меня пропали.
Затем, как заправский фокусник, он извлёк из недр пиджака два коньячных мерзавчика, поблескивавших в тусклом свете, как ёлочные игрушки.
– «Арарат»! – гордо объявил Илюша. – Три звезды.
– Молодые люди, – буфетчица метнула в нас взгляд, будто мы вытащили этот коньяк из её собственного кармана. – Со своим нельзя.
– Мы уже не молодые, – вздохнул Илюша. – Мы опытные. Уходим.
Мы скромно примостились в углу, подальше от её праведного гнева.
– Нет, ты только подумай, – Илюша с хрустом свернул «голову» мерзавчику, – трубка Петра Первого. Звучит как название бульварного романа.
– Или как завязка для блестящего репортажа.
– Витя, ты серьёзно? – Илюша поморщился, занюхивая коньяк долькой шоколада, выуженной из другого кармана. – Это же бред. Заголовок: «Два идиота ищут трубку царя по запискам неизвестного выпивохи из пятидесятых».
– Зато какой бред! – я выложил на стол конверт. – Пётр, голландский мастер, таинственные шифры… Даже если розыгрыш – выйдет отличная история.
– История о том, как два журналиста окончательно растеряли остатки репутации?
– У тебя была репутация?
– Туше.
– Да нет же! – во мне проснулся азарт. – Это повод увидеть город другими глазами. Пройти по следам истории!
– По следам чьего-то пьяного бреда, ты хотел сказать.
– А помнишь, как мы искали могилу банщика Котова, который якобы спас Достоевского от дуэли с Тургеневым?
Илюша замолчал, пережёвывая шоколад.
– Это другое, – наконец промолвил он. – Там были архивные документы. И выговор от шефа за перерасход бюджета на такси.
Мы помолчали. Выпили. За соседним столиком подвыпившие трубокуры спорили, был ли Пушкин масоном.
– Знаешь, – нарушил молчание Илюша, – если мы её найдём…
– Да?
– Я начну курить трубку.
– Врёшь.
– Вру. Но материал и правда может выйти занятный.
– То есть ты в деле?
– А у меня есть выбор? – Илюша тяжко вздохнул. – Шеф же нас похоронит заживо. Только давай договоримся: никаких ночных раскопок на Сенатской площади.
– Разумеется. Только дневные.
– И никаких интервью с городскими сумасшедшими.
– А как же колорит материала?
– Ладно. Но не больше трёх сумасшедших в день.
Мы допили коньяк.
– И Илюша…
– Что?
– Если это не розыгрыш, следующие полгода коньяк покупаешь ты.
– А если розыгрыш?
– Тогда не покупаешь. И я публично признаю тебя гением журналистики.
Мы вышли из клуба «Manufactory». Вполне могло статься, что где-то под потолком, в сизых клубах дыма, призрак Петра Алексеевича тоже попыхивал своей легендарной трубкой и посмеивался над потомками, решившими поиграть в охотников за сокровищами.
***
– Headquarters established, – с благородным русским акцентом объявил Илюша, водружая на стол пакет с провизией.
– Чего?
– Штаб-квартиру, говорю, объявляю открытой. Нам же теперь тут работать, как в ЦРУ.
Я окинул взглядом «штаб». Десять квадратных метров, два подслеповатых окна и древний холодильник «ЗиЛ», гудевший, как ракетоноситель на старте. На его боку – пёстрая коллекция магнитов из тех краёв, где я никогда не бывал. На стене – календарь с видами Петербурга за 2018 год.
– Я принёс завтрак настоящего сыщика, – сообщил Илюша, извлекая бутылку кефира.
– Кефир? – я посмотрел на него с сочувствием человека, узнавшего о неизлечимой болезни друга.
– Жена сказала, что если я ещё раз приду домой подшофе, она переедет к маме. В Мурманск.
Я достал сковородку.
– Яичницу будешь?
– А есть выбор?
– Теоретически – да. Практически – нет.
Я разбил яйца на сковороду. Они зашипели, как разгневанная кобра. Илюша тем временем инспектировал содержимое пакета.
– Илюша всё предусмотрел. Так… Хлеб, колбаска, масло, сыр. О, печенье «Юбилейное»!
– Ты не как следователь, а как заботливая бабушка.
– Опытный следователь знает: мозгу нужна глюкоза. Иначе будем, как те двое из «Места встречи», – голодные и злые без горячего супчика с потрошками.
– Кстати, о следствии, – я шлёпнул ладонью по конверту. – Шансов у нас всё меньше. Скорее всего, их уже и нет.
– Это почему же? – осведомился Илюша, макая хлеб в желток.
– Потому, – ответил я, вооружившись вилкой, как шпагой, – что на часах десятый час, а конверт не вскрыт. А ушлые трубокуры со вчерашнего съезда уже наверняка если не роют землю в поисках трубки Петра, чёрт бы его побрал, то копытом бьют точно.
– Значит, пора, – Илюша решительно взял конверт.
– Погоди, патологоанатом, – остановил я его, разливая по кружкам с надписью «Лучший журналист по версии мамы» кефир. – Для поднятия боевого духа.
Мы чокнулись.
– Есть гипотезы, что там? – спросил Илюша, осушив кружку.
– Карта, нарисованная кровью последнего владельца.
– Или шифр, написанный молоком.
– Не исключено, – я почесал подбородок. – Вскрываю?
Илюша драматично развёл руками, предоставляя мне право на этот исторический жест.
Я взял нож для масла и с нарочитой осторожностью, будто вскрываю не конверт, а саркофаг с проклятием фараона, надрезал край.
Тишина. Даже холодильник замолк. Я извлёк сложенный вчетверо лист.
– Ну? – Илюша подался вперёд так, что едва не ткнулся носом в яичницу.
Я несколько раз перечитал текст, прежде чем смог произнести его вслух:
В сердце творенья Петрова стою,
Где птица железная песню свою
В полдень играет по воле царей,
Там, где Нева бьёт о грани камней.
Когда первый луч озарит небосвод,
И тень великана путь укажет вперёд,
Там, где металл с камнями слились,
В узорах столетий навеки сплелись.
Сложите углы под ногой тех камней,
На возраст царя разделите скорей.
Где пушка гремит, ищи знак на граните,
К стрелке старинной свой путь устремите.
– Что за… – Илюша осёкся. – Стихи?
– Они самые, – усмехнулся я. – Чёртовы стихи. Похоже, наш таинственный автор питает к человечеству особую неприязнь.
– Скорее уж неприкрытое презрение, – поморщился Илюша.
– Qui nos despicit, ipse in tenebris ambulat, – произнёс я, машинально поправляя несуществующую тогу.
– Чего-чего?
– «Тот, кто нас презирает, сам блуждает во тьме», – перевёл я.
– И не поспоришь. Но это просто издевательство! – Илюша раздражённо швырнул листок на стол. – Теперь нам, значит, разгадывать поэтические ребусы? – его очки сползли на кончик носа, превратив его в карикатурного профессора.
Я придвинул листок к себе и, обхватив голову руками, начал беззвучно шевелить губами.
– Давай мыслить логически, – я потёр глаза. – Что имеем? Вирши, сочинённые человеком, который знает город не как турист, а как… часовщик знает механизм.
Илюша фыркнул, барабаня пальцами по столешнице:
– И при этом ненавидит всех настолько, что завернул подсказку в эту пиитическую обёртку. Садист.
– Несущественно для анализа, – отмахнулся я. – Смотрим. «В сердце творенья Петрова стою». Что может быть сердцем города?
– О, браво, Минхерц! – Илюша картинно всплеснул руками. – Половина Петербурга – творенье Петрово!
– Не ёрничай. Раскладываем. Первое: это исторический, а не просто географический центр. Второе: прямая связь с Петром, его личный замысел. Третье: место должно быть знаковым, чтобы именоваться «сердцем».
Илюша вскочил и принялся мерить шагами кухню.
– Так. Летний сад? Нет. Домик Петра? Слишком камерно. Адмиралтейство? – он замер. – Может…
– Петропавловская крепость, – выдохнул я.
– Чёрт побери, точно! – он громко щёлкнул пальцами. – Место, откуда всё и началось! Не так уж и сложно, а? – он азартно потёр руки.
– Не факт, что правильно.
– Давай дальше! – Илюша снова схватил листок.
«Где птица железная песню свою / В полдень играет по воле царей, / Там, где Нева бьёт о грани камней».
Он остановился, глядя на меня вопросительно.
– Дальше так дальше, – я потянулся к турке. – Кофе?
– Ага. Покрепче.
– Итак, – начал я, засыпая кофе, – нечто металлическое…
– …издающее звук…
– …строго в полдень…
– …и по царскому указу… – Колокол?
– Нет, – я покачал головой. – Колокола из бронзы, не из железа. Да и при чём тут «птица»?
Илюша замер у окна.
– Постой-ка… А что если… – он медленно повернулся ко мне. – Выстрел.
– Сигнальная пушка на Нарышкином бастионе?
– Она самая! Каждый день в полдень… Ба-бах! – Илюша рухнул на стул, картинно утирая пот со лба. – Утомительно, однако, думать.
– Особенно когда это занятие тебе не свойственно.
Мы встретились глазами и рассмеялись.
– Открывай печенье.
– Ну а третья строка, – Илюша разорвал пачку, – «Там, где Нева бьёт о грани камней» – это просто гвоздь в крышку гроба наших сомнений. Гранитные стены крепости.
– Ум-ни-ца, – я разлил кофе. – Читай дальше.
«Когда первый луч озарит небосвод, / И тень великана путь укажет вперёд».
Илюша, запихнув в рот сразу два печенья, открыл ноутбук и вывел на экран карту крепости.
– Великан… Великан… – бормотал он, роняя крошки. – Кто у нас там великанского?
– Александровская колонна?
– Далековато.
– Медный всадник?
– Тоже мимо…
– Что-то очень высокое, – я отхлебнул кофе. – Способное отбрасывать длинную тень на рассвете… И не просто высокое, а…
– …исполинское, – подхватил Илюша.
– Шпиль Петропавловского собора.
– Так, так… Собор. Усыпальница Романовых. Архитектор Трезини. Высота – сто двадцать два с половиной метра. Самая высокая постройка петровского времени, – затараторил Илюша, водя пальцем по экрану.
– И главное, – перебил я его, – отбрасывает грандиозную тень! «Когда первый луч озарит небосвод» – это ведь недвусмысленно про рассвет.
– Пожалуй… – Илюша помрачнел. – Чёрт бы побрал этого стихоплёта. Придётся вставать ни свет ни заря.
***
В пять утра Петербург похож на эскиз, набросанный угольным карандашом на сером картоне. Туман стирает резкость линий, превращая громады домов в расплывчатые тени, а редкие фонари кажутся одинокими мазками охры. Город ещё спит, да так крепко, что кажется, даже памятники похрапывают. Мы с Илюшей брели по пустынным набережным, как два привидения, которым забыли выдать цепи.
– Объясни мне ещё раз, – бубнил невыспавшийся Илюша, кутаясь в воротник, – почему именно пять утра? Не десять? Не час дня, когда нормальные люди пьют кофе, а не бороздят пустынные набережные?
– Потому что «когда первый луч озарит небосвод», – я старался не зевать. – На рассвете романтичнее. И металл с камнями сливается красивее.
– Металл с камнями… – простонал Илюша. – Я бы сейчас с подушкой слился. В единое, неразрывное целое.
Вода в Неве чернела, как остывший эспрессо. Петропавловская крепость – безмолвная громада из красного кирпича – дремала в тишине. А где-то там, высоко-высоко, проткнув шпилем предрассветное небо, лениво поворачивался на ветру ангел-флюгер, с золотым равнодушием взирая на двух городских сумасшедших.
Небо на востоке начало подёргиваться бледным светом. Илюша извлёк из рюкзака термос.
– А представь, – сказал я, принимая дымящийся стаканчик, – найдём мы это место, а там записка: «Лучший клад – это здоровый сон. Который вы, дураки, проспали».
– За такую записку, – невозмутимо произнёс Илюша, отхлёбывая прямо из термоса, – я найду Углублённого и прикопаю его прямо здесь. И знаешь что? Любой суд меня оправдает.
Первый луч солнца, острый, как игла, коснулся шпиля собора. Ангел на мгновение вспыхнул, будто ожил. Тень от колокольни, точно исполинская часовая стрелка, медленно поползла по земле. Она скользила по брусчатке, огибала стены и заигрывала с кронами деревьев, пуская по влажным от росы листьям солнечных зайчиков. Мы крались за ней, как два шпиона на вражеской территории.
– Знаешь, – сказал Илюша, – в моей жизни было много странного. Я гонялся за коррумпированными чиновниками, за неверными мужьями и даже однажды за сбежавшим из цирка орангутаном. Но охота за тенью от шпиля – это определённо новый уровень.
– А ты думал, в Питере все приключения закончились на Достоевском? – усмехнулся я. – Наслаждайся.
Тень привела нас точно к углу Артиллерийского цейхгауза и там замерла. Она уткнулась в старую, ржавую водосточную трубу, похожую на контрабас, забытый музыкантами «Voit's Bandits» после попойки. Рядом с ней в кирпичную кладку были вмурованы какие-то бронзовые декоративные элементы.
– Кажется, приехали, – сказал я.
Илюша, пыхтя как пригородный дизель-поезд, извлёк из рюкзака помятый листок.
– «Там, где металл с камнями слились, в узорах столетий навеки сплелись». Похоже, это наш угол.
Я кивнул, разглядывая брусчатку под трубой.
– Похоже. Что там дальше?
– «Сложите углы под ногой тех камней, / На возраст царя разделите скорей».
Мы присели на корточки. Я принялся аккуратно пересчитывать камни, попадавшие в границы тени. Илюша молча следил.
– Девятнадцать.
– Так… У каждого камня по четыре угла, – подхватил Илюша. – Девятнадцать на четыре… семьдесят шесть.
– Семьдесят шесть, – подтвердил я. – Теперь делим на возраст Петра.
– На пятьдесят два, – уверенно сказал Илюша. – Возраст на момент смерти. Я вчера посмотрел.
Я нахмурился.
– Погоди-ка. А если не на возраст смерти?
– А на какой?
– Загадка-то про крепость. Может, нужен его возраст на момент её основания?
– А ведь может быть! – Илюша оживился. – В тысяча семьсот третьем ему был… тридцать один год.
– Уверен? – я вытащил смартфон. – Давай-ка точно. Пётр родился девятого июня тысяча шестьсот семьдесят второго. Крепость заложили шестнадцатого мая тысяча семьсот третьего.
Илюша прищурился, считая в уме.
– Так… май… до дня рождения ещё три недели…
– Вот именно! – я торжествующе поднял палец. – Значит, на момент закладки ему было ещё тридцать лет.
– Получается, семьдесят шесть делим на тридцать… Итого два с половиной. – Он глянул на меня. – Два с половиной чего? Шага, метра, аршина?
– Или попугая?
– Короче, – Илюша закинул рюкзак на плечо. – Айда к Нарышкину бастиону. Проверим на месте.
Уже совсем рассвело. Утренний туман поднимался над Невой, где-то вдалеке прогудел первый речной трамвайчик, закричали сонные чайки. До бастиона мы дошли молча. Наверху было пусто и гулко, ветер гнал по небу рваные облака. Одинокая сигнальная пушка торчала на углу, как забытый часовой.
– Думаешь, она? – Илюша с сомнением похлопал по холодному металлу.
– Думаю, да. Те, что на крыше, меняли. Да и тайник там не спрячешь – нашли бы давно.
– Ну что, отмеряем два с половиной вершка и копаем? – усмехнулся Илюша.
– Вершка?
– Не версты же, – он махнул рукой вдаль. – Это где-то на той стороне Невы выйдет.
– Давай начнём с сажени. Одна сажень – это чуть больше двух метров. Значит, две с половиной – это около пяти с небольшим.
– И в какую сторону? – Илюша указал на ствол. – По ходу выстрела?
Мы отмерили пять с половиной моих шагов. Под ногами была старая, выщербленная каменная кладка.
– Будем ковырять? – снова спросил Илюша.
– Сдурел? – я покрутил пальцем у виска. – «Где пушка гремит, ищи знак на граните, / К стрелке старинной свой путь устремите». Стрелку ищи, а не приключений на свою голову.
Мы опустились на корточки.
– Правая сторона моя, – прошептал Илюша, медленно продвигаясь вдоль брусчатки.
Я взял левую. Со стороны мы, должно быть, напоминали двух чудаков, потерявших контактную линзу.
– Представляешь, что подумают туристы? – хмыкнул Илюша. – Вон уже народ подтягивается.
– Скажем, готовим материал для научного журнала, – отозвался я, не поднимая головы. – «Влияние раннепетровской брусчатки на развитие плоскостопия у последующих поколений».
Минут через двадцать у меня затекли ноги, а Илюша охрип от собственных шуток про археологов-любителей.
– Слушай, может, не здесь? – простонал он, разминая колени.
И в этот момент я её увидел. Крошечную, едва заметную царапину на граните. Не то случайность, не то гениальный расчёт каменотёса, вписавшего в структуру камня тонкую линию со стрелкой на конце. Заметить её было настоящим чудом.
– Илюша, – позвал я шёпотом. – Сюда.
Он подполз на четвереньках.
– Где?
– Вот. Смотри под углом.
Мы склонились над камнем, едва не стукнувшись лбами.
– Невероятно, – выдохнул Илюша. – Это же надо было такую мелочь заметить! И как этот чёртов стихоплёт её нашёл?
– Может, шёл, споткнулся, упал. И увидел.
– Надеюсь, обошлось без гипса. Ну что, выковыриваем? – Илюша хитро прищурился.
– Прямо здесь? – я огляделся. – На глазах у всей Петропавловки? Это памятник федерального значения. За такое не просто по шапке, а…
– А что ты предлагаешь? Ночную вылазку с ломом? Территория на ночь закрывается.
– Тише ты. Давай хоть землю между камнями поковыряем. Осторожно.
Илюша деловито достал из рюкзака мультитул.
– Швейцарский. Четырнадцать функций. Сейчас мы им, как хирурги…
Он осторожно ввёл лезвие в щель между камнями.
– Ух, утрамбовано на совесть. Пыль веков.
– Инструмент не сломай, хирург. И поторопись, а то придётся объяснять караулу, почему мы тут раскопки ведём.
– Скажем, ищем петровские червонцы.
– И загремим за незаконный поиск кладов.
Вдруг лезвие издало скрежет.
– Есть! – возбуждённо прошептал Илюша. – Что-то нащупал.
Его измазанные в земле пальцы заработали быстрее.
– Осторожнее, – заметил я его нетерпение. – Не сломай находку.
После нескольких томительных минут кропотливой работы он извлёк из щели старую винтовочную гильзу. Потемневшую, покрытую зеленоватым налётом патины, с чем-то, забитым в горлышко.
– Открывай! – не выдержал я.
Илюша повертел находку в руках, поддел ногтем заглушку.
– Записка! – он вытащил крошечный, свёрнутый в тугую трубочку листок и уже было начал его разворачивать.
– Стой! – я схватил его за руку. – Не здесь.
На площади становилось людно.
– Заметай следы и уходим, – зашептал я.
Илюша спрятал гильзу, но вдруг его осенило. Он достал из кармана блокнот и перьевую ручку.
– Гляди, – усмехнулся он, нацарапав на клочке бумаги несколько строк.
Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпенье
Конь Великого Петра.
– Ты это серьёзно? Ахматову?
– А что? – он свернул записку и засунул в пустую гильзу. – Пусть теперь роют землю у Медного всадника. Попадут в историю.
– Или в Кащенко, – хмыкнул я, торопливо притаптывая землю над нашим «кладом». – Пошли уже.
Мы быстро зашагали к Иоанновскому мосту. День разгорался. По территории крепости уже бродили туристы, зеваки, группы с экскурсоводами. И среди них всё чаще мелькали знакомые лица со вчерашнего съезда.
– О, – сказал я, – саранча встала на крыло.
– Рыщут, – поддакнул Илюша.
***
Солнце ударило в кухонное окно, как кулак подвыпившего хулигана, заливая всё вокруг наглым, почти ослепительным светом. Илюша дёрнул занавеску и, не взяв паузу для приличия, заныл.
– Если там опять стихи, – он указал подбородком на записку, лежащую на столе, – клянусь, наложу на себя руки. Прямо здесь. Больше никаких поэтических головоломок. Это выше моих сил.
– Прекрати драматизировать, – отозвался я. – Никто не обещал, что будет просто. Наоборот, с каждым шагом лабиринт будет только сужаться. Но, думаю, наш таинственный автор исчерпал свой поэтический запас. Давай, вскрывай.
Илюша развернул крошечный, свёрнутый в тугую трубочку обрывок бумаги. Ей-богу, сцена напоминала шпионский фильм категории «Б», снятый где-нибудь в Румынии: не хватало только зловещей музыки на синтезаторе и чьей-то тени за шторой.
– Читать? – Илюша пробежал глазами по тексту и посмотрел на меня. – Если это можно прочесть, то я – лауреат Нобелевской премии по художественному чтению.
В записке был набор символов: uУ6ЛN7ʞ4. А за ним – семь строк абракадабры, похожей на результат бурной ночи телеграфиста и шифровальной машины.
2ГжнрдПП-Уджфнэж-ёвнк-1823-45-3В-5; 33-7Н-11
6ЕуроуЦЗ-Шёпуб-чшёцфиф-йфтё-1847-12-1Н-2; 12-3В-7
3ФхгрнзелъГГ-Рсъя-е-Тзхзудцуёз-1905-67-4В-1; 121-16В-9
1ДспгбчСА-Тлбибойа-п-гёусбц-1835-22-2Н-3; 39-20Н-13
4ЗтпжтёЁМ-Лтё-уфизотё-1850-30-5В-4; 233-16Н-20
7СхшщпфжСЕ-Упч-фж-сжкхфп-1920-10-3Н-6; 59-4В-12
5УпкежтММ-Нжфпкж-етзйэ-1890-15-4В-2; 88-17Н-23
Я посмотрел на Илюшу. Он сидел с видом человека, которому только что предложили расшифровать инструкцию к китайскому адронному коллайдеру, написанную на древнеарамейском.
– Что ж, по крайней мере, это действительно не стихи, – попытался я разрядить обстановку.
Не помогло.
Илюша вскочил и принялся метаться по кухне, как тигр в тесной клетке, извергая проклятия на всех известных ему языках, включая, кажется, эсперанто. Его познания в ненормативной лингвистике были впечатляющими.
– Я знал! – возопил он. – Знал, что этот маньяк-шифровальщик сведёт нас в могилу! Сначала вирши, теперь – вот это! – он ткнул в бумажку дрожащим пальцем. – Что это вообще такое?!
– Похоже на шифр, – осторожно предположил я.
– Да что ты говоришь?! – Илюша артистично прижал руку к сердцу, будто я нанёс ему смертельное оскорбление. – А я-то думал, это рецепт шарлотки на языке эльфов!
– Слушай, а может, это не так сложно, как кажется?
– Конечно! – он снова перешёл на крик. – Элементарно, Ватсон! Просто берёшь квантовый компьютер, три диплома по криптографии и консультируешься с духом Алана Тьюринга!
– Заткнись на минуту, – перебил я его. – А то бдительная баба Нюра снизу сейчас вызовет наряд, и будем объяснять, что мы не шпионы, а просто идиоты.
Илюша тяжело рухнул на стул.
– Знаешь, – сказал он уже спокойнее, – я начинаю жалеть, что мы не оставили эту гильзу в земле.
– Полно тебе, – усмехнулся я. – По крайней мере, это увлекательнее, чем разгадывать стихи Ахматовой.
– Это как выбирать между гильотиной и электрическим стулом, – вздохнул Илюша. – Оба варианта не сулят ничего хорошего. Дай-ка сюда.
Он снова уставился на записку, как на квитанцию за коммунальные услуги за последний год. С тем же выражением вселенской безысходности.
– Ууу… шесть… эль… эн… семь… кэк… четыре… – бормотал он, точно шаман, пытающийся вызвать дождь. – У… убл… ублнк… – звуки, которые он издавал, напоминали попытку нетрезвого китайца придумать название для нового товара на «Алиэкспрессе».
Я молчал, давая его мыслительному процессу пройти все положенные стадии от отрицания до принятия.
– Убл-эн-ка… – он запнулся. – Чёрт, язык сломаешь.
– Похоже на название финского фолк-метал-фестиваля, – не удержался я.
Вдруг Илюша замер. Его лицо изменилось, как у человека, только что нашедшего крупную купюру в кармане старой зимней куртки.
– Витька! – заорал он так, что где-то этажом выше наверняка осыпалась штукатурка. – Это же leet speak! Чёрт побери, он самый!
– Что ещё за зверь? – спросил я, чувствуя себя неандертальцем, которому показывают смартфон.
Илюша вмиг преобразился.
– Это такой… сетевой жаргон. Компьютерный арго. Берёшь обычные буквы и уродуешь их. Цифры вместо букв, перевёрнутые символы, мешанина регистров – в общем, глумление над кириллицей.
– И кому это нужно?
– А кому нужны татуировки на китайском, которые на поверку означают «суп с лапшой»? – парировал Илюша. – Это для своих. Смотри! Вот это «u» – просто перевёрнутая «п». А «6» – вылитая «б».
Его глаза горели, как у кота, обнаружившего открытую банку со сметаной.
– Тут система! «N» – это «и», если её перевернуть. «7» – похожа на «т» или «ч». А этот «ʞ» – просто «к», сделавшая сальто назад!
До меня начало доходить. Медленно, как до жирафа, но всё же.
– Погоди-ка… – я схватил ручку. – П… у… б… л… и… ч… к… а? Публичка?
– Бинго! – воскликнул Илюша. – Российская национальная библиотека! А ты говорил – сложно.
– Это была минутная слабость, – скромно потупился я.
– Ладно, – сказал Илюша, глядя на семь строк шифра. – А с этим что делать?
Илюша откинулся на спинку стула с видом шахтёра, только что выдавшего на-гора тройную норму угля.
– Мозгу требуется питание, – изрёк он тоном земского врача и решительно направился к холодильнику.
Оттуда был извлечён увесистый батон «Докторской».
– Витамины группы К! – провозгласил он, помахивая колбасой, как дирижёрской палочкой.
Бутерброды он ваял с педантичностью ювелира, выверяя толщину каждого ломтя. На тарелке они выстроились, как гвардейцы на параде. И тут я подумал, что между колбасой и высокой философией существует прямая и неумолимая связь. Наверняка Кант обдумывал свои «Критики», уплетая братвурст, а Спиноза оттачивал «Этику», закусывая сыром маасдам. Что уж говорить о мыслителях иного, илюшиного склада – тут без «Докторской» никак не обойтись.
– Смотри, – сказал он, прожевав, – в первой строке есть «ПП». Это точно Пушкин!
– С чего бы? – скептически хмыкнул я.
– Ну как же! Александр Сергеевич! Дальше – 1823 год. Всё сходится!
– Тогда уж Пантелеймон Прокофьевич. Там же две «П». Или вообще Пётр Первый.
Следующие полчаса ушли на бесплодные попытки притянуть за уши остальные символы к пушкинской теории. Илюша, как одержимый, исписал полблокнота формулами, достойными трактата по абстрактной алгебре.
– Что-то не клеится, – наконец признал он. – Если это Пушкин, то при чём тут буква «ё»?
– И даты, – добавил я. – Вот, 1920 год. Александр Сергеевич к тому моменту уже лет восемьдесят как… – я запнулся, подбирая слово.
– Не писал, – с мрачным удовлетворением подсказал Илюша. – Постой… а если вот это в конце – не просто год? 1847, двенадцатое… января?
– Тогда в третьей строке у нас шестьдесят седьмое апреля тысяча девятьсот пятого года, – я легонько постучал его по лбу. – Гений.
– Значит…
– Значит, – перебил я, – мы не с того конца зашли. «Публичка» – это ключ. А что в библиотеке самое главное?
– Книги? Тишина? – предположил он.
– Система! – осенило меня. – Библиотечный шифр! Это не названия книг, это их координаты!
– Какая система?
– Понятия не имею. В каждой библиотеке она своя. Номер зала, стеллаж, полка…
– Ну тогда! – воскликнул Илюша. – Смотри! Первая цифра – номер зала! Потом идёт абракадабра – код книги. Год издания. А дальше… «В» и «Н»! Верхняя и нижняя полка!
– Но текст-то по-прежнему зашифрован.
– Да и чёрт с ним! – Илюша был в эйфории. – Нам не нужно знать, что это за книги. Нам нужно знать, где они стоят. Это навигация! Расшифруем её – получим семь точек на карте библиотеки!
Я посмотрел на часы. Библиотека работала до девяти.
– Поехали? – спросил Илюша, уже натягивая куртку.
– Вперёд, мой книжный червь.
***
Нас встретила женщина того особого советского чекана, из которых получались самые неумолимые преподавательницы русского языка и литературы. Такие, знаете, ставят двойки не просто за ошибку, а за неверный наклон буквы «ё» и способны заставить переписывать страницу из-за единственной кляксы, упавшей на белоснежный лист, словно слеза осквернённой невинности.
– Молодые люди, – произнесла она, поправляя на переносице очки в массивной пластиковой оправе, – где бахилы?
Я бросил взгляд на свои ботинки, затем на Илюшу. Тот, с расторопностью провинившегося школьника, пойманного на списывании, пытался проделать невозможный акробатический трюк: спрятать обе ноги себе за спину.
– Мы, собственно, ищем… – начал я, но был оборван на полуслове.
– В читальном зале все что-нибудь ищут, – отрезала библиотекарша с видом человека, которому давно известно, что именно. – Чаще всего – потерянное время. Возьмите. – Она с царственным жестом протянула нам два синих шуршащих комочка. – Читательские билеты имеются?
Билетов, разумеется, не было. Пришлось склониться над анкетами, выданными нашей «классной дамой». Илюша в графе «цель посещения» с обезоруживающей честностью начертал: «Расшифровка тайного послания». Мой пинок под столом был столь убедителен, что он едва не выронил ручку.
– Исследование системы каталогизации, – исправлял он, замазывая крамольную запись двумя жирными, паническими линиями.
Библиотекарша изучала наши анкеты с дотошностью следователя, которому попалось особенно запутанное дело. Её взгляд за стёклами очков двигался с методичностью маятника старинных часов, отмеряя нашу судьбу.
– Проходите, – наконец процедила она после мучительно долгой паузы. – И тихо. У нас учреждение культуры, а не проходной двор.
– Так, – прошептал Илюша, когда мы оказались на безопасном расстоянии, и осторожно извлёк из кармана нашу записку. – Если первая цифра – номер зала, то нам нужен…
Через час блужданий по гулким лабиринтам, среди бесконечных дверей с потускневшими латунными табличками, стеллажей и пыльных фолиантов, стало ясно: наша теория с номерами залов трещит по всем швам, как пересохший фолиант на сквозняке. Мы заглянули в читальный зал.
Здесь царила тишина, густая и торжественная, как в зале прощаний. И почти такая же пустота. Лишь у дальнего окна дремал седой старик. На столе перед ним, словно оборонительный редут, высилась стопка потрёпанных журналов «Наука и техника» за 1978 год.
– Это точно не система каталогизации, – сказал я, стараясь не слишком огорчать и без того подавленного Илюшу. – В библиотеке всё подчинено порядку: по секциям, по темам, да хоть по алфавиту… А в записке – хаос. Будто числа что-то и значат, но совсем не то, о чём мы думаем.
Илюша молча смотрел на меня. В этот момент мимо нас, деликатно шаркая бахилами, прошёл тот самый старик, бережно неся свою увесистую стопку журналов. Он на миг замер, прислушался к нашему шёпоту, и его выцветшие голубые глаза вдруг блеснули живым интересом.
– Молодые люди, – его голос, неожиданно низкий и бархатный для столь хрупкого сложения, пророкотал, как шаляпинский бас, – а вы, часом, не о старой докомпьютерной нумерации говорите?
Мы подскочили так резко, что старик отшатнулся, прижимая журналы к груди как щит.
– Простите, – выговорил я, пытаясь унять предательскую дрожь в голосе. – Вы что-то об этом знаете?
Старик улыбнулся, и сеточка морщин у глаз разбежалась весёлыми лучиками.
– Работал я здесь. Давно, правда. Ещё когда всё вручную делалось. Была такая система… – он сделал паузу, и мы затаили дыхание. Тайна была близка. – Система была… ювелирная. И капризная как балерина. Каждая буква, каждая цифра пела свою партию. Но её отменили ещё в конце шестидесятых. Слишком сложна в обращении.
Илюша побледнел и стал похож на гипсовый бюст Афанасия Фета, что взирал на нас с верхушки книжного шкафа.
– Вы… вы видели нашу записку?
– Краем глаза, – с лёгким смущением признался старик. – Привычка профессиональная, да и зрение, знаете ли, орлиное. Но могу сказать точно – это не библиотечные шифры. Ни старые, ни новые.
– Почему вы так уверены? – спросил я, чувствуя, как последняя надежда обращается в прах.
– Потому что в любой библиотечной системе есть музыка, – старик говорил теперь с интонацией профессора, читающего любимую лекцию. – Она может быть сложной, полифонической, но она есть. А в вашей записке… – он замялся, подбирая слово, – в ней музыка другая. Не библиотечная. Поищите-ка вы здесь сотрудницу… кхм… с живыми глазами. Не то что мы, архивариусы, – он кивнул на себя и, не прощаясь, зашаркал дальше.
Мы с Илюшей переглянулись.
– Знаешь, – прошептал я, наклонившись к нему через стол, – старик-то прав. Нам нужна библиотекарша помоложе.
– И покрасивее, – деловито согласился Илюша.
Мы встали и направились к выходу, шурша бахилами, точно осенние листья в Летнем саду. В холле было пусто. Часы показывали четыре.
– И как ты предлагаешь её искать? – спросил Илюша, присаживаясь на широкий подоконник. – Спросим у нашей гарпии?
– Зачем спрашивать? Я знаю, где отдел редких книг.
– Почему именно редких?
– Где редкие книги, там и редкие красавицы.
– Ага. Или реликтовые.
Мы поднялись на третий этаж. Отдел редких книг ютился в дальнем крыле здания.
Пахло здесь так, как, должно быть, пахнет в голове у вечности: старой бумагой, мудростью и тленом. Комната была огромной, с высоченными потолками и узкими стрельчатыми окнами. Между стеллажами змеились проходы, способные сбить с толку и Минотавра. Древние фолианты, инкунабулы и палеотипы в кожаных переплётах, с тиснёной позолотой, выстроились вдоль стен, словно почётный караул на параде времени. Где-то в недрах этого царства негромко гудел кондиционер, и его монотонное жужжание создавало иллюзию, будто книги перешёптываются на забытых языках. В косых солнечных лучах плясали золотые пылинки – крошечные, бесшумные свидетели минувших эпох.
Девушка у стеллажей двигалась с плавной, почти танцующей грацией. Простое серое платье не скрывало изящества фигуры. Короткая стрижка, тонкие запястья – она казалась сошедшей с кадра французского фильма. Из тех, что читают Пруста в оригинале и всегда выбирают такси вместо метро.
Илюша дёрнулся было вперёд, но я успел вцепиться в рукав его пиджака.
– Нет уж. Ты жди, а я знакомиться, – прошипел я.
– Это ещё почему? – возмутился Илюша, пытаясь высвободить рукав.
– Потому что ты, дорогой мой друг, женат, – напомнил я. – Жена узнает, что ты тут флиртуешь, – уедет.
– Куда? – механически уточнил он.
– В Магадан. К маме, – отрезал я и решительно двинулся к цели.
По пути я едва не опрокинул стопку книг на массивном дубовом столе. «История византийской архитектуры», – успел прочитать я на верхнем корешке. Девушка обернулась на шум.
– Здравствуйте, – сказал я, стараясь придать голосу максимум интеллигентности. – Мне нужна… книга.
«Гениальное начало», – мысленно съязвил я.
– Вы в библиотеке, – ответила она с лёгкой, едва заметной улыбкой. – Здесь все в них нуждаются.
– Да, но мне нужна особенная. – Мозг лихорадочно искал подходящий запрос.
– Какая же? – В её голосе прозвучало вежливое любопытство.
– Про любовь, – брякнул я первое, что пришло в голову.
