История нового имени бесплатное чтение
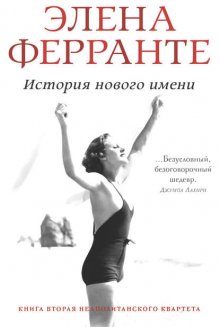
Elena Ferrante
STORIA DEL NUOVO COGNOME
Copyright © 2012 by Edizioni e/o
Published in the Russian language by arrangement with Clementina Liuzzi Literary Agency and Edizioni e/o
Эта книга переведена благодаря финансовой поддержке Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии
Questro libro e’ stato tradotto grazie a un contributo fnanziario assegnato dal Ministero degli Afari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2017
Все события, диалоги и персонажи, представленные в данном романе, являются плодом авторской фантазии. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми, фактами их жизни или местами проживания является совершенной случайностью. Упоминание культурно-исторических реалий служит лишь для создания необходимой атмосферы.
Действующие лица и краткое содержание первой книги
Семья сапожника Черулло
Фернандо Черулло, сапожник, отец Лилы. Считает, что для дочери вполне достаточно начального образования
Нунция Черулло, его жена. Любящая мать, Нунция слишком слаба характером, чтобы противостоять мужу и поддерживать дочь
Рафаэлла Черулло (Лина, Лила), родилась в августе 1944 года. Блестяще успевающая ученица, в десять лет пишет первый рассказ «Голубая фея». После начальной школы по настоянию отца бросает учебу и осваивает его профессию
Рино Черулло, старший брат Лилы, сапожник. Благодаря финансовым вложениям поклонника Лилы Стефано Карраччи запускает в производство линейку модельной обуви под маркой «Черулло». Ухаживает за сестрой Стефано, Пинуччей Карраччи. Лила называет своего первенца в честь старшего брата
Другие дети
Семья швейцара Греко
Элена Греко (Ленучча, Ленý). Родилась в августе 1944 года. Рассказ ведется от ее лица. Элена начинает писать эту историю, когда узнает об исчезновении в возрасте шестидесяти шести лет подруги детства Лины Черулло, которую называет Лилой. После начальной школы Элена успешно продолжает образование. С детства она влюблена в Нино Сарраторе, но не раскрывает ему своих чувств
Пеппе, Джанни — младшие братья Элены
Элиза — младшая сестра Элены
Мать, домохозяйка. Ходит прихрамывая, что бесконечно раздражает Элену
Семья Карраччи (дона Акилле):
Дон Акилле Карраччи, сказочный людоед, спекулянт, ростовщик. Погибает насильственной смертью
Мария Карраччи, его жена, мать Стефано, Пинуччи и Альфонсо. Работает в семейной колбасной лавке
Стефано Карраччи, сын покойного дона Акилле, муж Лилы. Управляет делами отца, владеет имуществом вместе с сестрой, братом и матерью. Колбасная лавка приносит хороший доход
Пинучча, дочь дона Акилле. Работает в колбасной лавке. Невеста Рино, брата Лилы
Альфонсо, сын дона Акилле. Одноклассник Элены, сидит с ней за одной партой. Встречается с Маризой Сарраторе
Семья столяра Пелузо
Альфредо Пелузо, столяр. Коммунист. Обвиняется в убийстве дона Акилле, приговорен к тюремному заключению
Джузеппина Пелузо, его жена. Работает на табачной фабрике, горячо предана мужу и детям
Паскуале Пелузо, старший сын Альфредо и Джузеппины, каменщик, коммунист. Первым заметил красоту Лилы и признался ей в любви. Ненавидит братьев Солара. Встречается с Адой Капуччо
Кармела Пелузо, она же Кармен, сестра Паскуале. Работает в галантерейном магазине; позже Лила нанимает ее в колбасную лавку Стефано. Встречается с Энцо Сканно
Другие дети
Семья сумасшедшей вдовы Капуччо
Мелина, родственница Нунции Черулло, вдова. Работает уборщицей в центральных кварталах города. Была любовницей Донато Сарраторе, отца Нино. Из-за этой связи Сарраторе пришлось сменить место жительства, после чего Мелина тронулась умом
Муж Мелины, при жизни грузчик на овощном рынке, умер при невыясненных обстоятельствах
Ада Капуччо, дочь Мелины. С малых лет помогала матери мыть лестницы. Благодаря Лиле устраивается продавщицей в колбасную лавку. Встречается с Паскуале Пелузо
Антонио Капуччо, ее брат, механик. Встречается с Эленой, ревнует ее к Нино Сарраторе
Другие дети
Семья железнодорожника-поэта Сарраторе
Донато Сарраторе, контролер, поэт, журналист. Известный бабник, любовник Мелины Капуччо. Когда Элена проводит каникулы на острове Искья и живет в одном доме с семейством Сарраторе, ей приходится в спешке возвращаться домой, спасаясь от преследований Донато
Лидия Сарраторе, жена Донато
Нино Сарраторе, старший из детей Донато и Лидии. Ненавидит и презирает отца. Круглый отличник
Мариза Сарраторе, его сестра. Встречается с Альфонсо Карраччи, не отличается успехами в учебе; впоследствии работает секретаршей
Младшие дети – Пино, Клелия и Чиро
Семья торговца фруктами Сканно
Никола Сканно, торговец фруктами
Ассунта Сканно, его жена
Энцо Сканно, их сын, тоже торговец фруктами. На школьном конкурсе проявляет неожиданные математические способности, чем вызывает симпатию Лилы. Встречается с Кармен Пелузо
Другие дети
Семья владельца бара-кондитерской «Солара»
Сильвио Солара, владелец бара-кондитерской. Придерживается монархистско-фашистских взглядов, связан с мафией и черным рынком. Препятствует работе сапожной мастерской Черулло
Мануэла Солара, его жена, ростовщица: жители квартала боятся попасть в ее «красную книгу»
Марчелло и Микеле, сыновья Сильвио и Мануэлы. Ведут себя вызывающе, но, несмотря на это, пользуются определенным успехом у девушек. Лила их презирает. Марчелло влюблен в нее, но она отвергает его ухаживания. Микеле умнее, сдержаннее и жестче старшего брата. Встречается с дочерью кондитера Джильолой
Семья кондитера Спаньюоло
Синьор Спаньюоло, кондитер у Солары
Роза Спаньюоло, жена кондитера
Джильола Спаньюоло, их дочь, девушка Микеле Солара
Другие дети
Семья профессора Айроты
Айрота, профессор, преподает античную литературу
Аделе, его жена
Мариароза Айрота, старшая дочь, преподает искусствоведение, живет в Милане
Пьетро Айрота, студент
Учителя
Ферраро, учитель и библиотекарь. За усердие в чтении вручил Лиле и Элене по почетной грамоте
Учительница Оливьеро. Первая догадывается о выдающихся способностях Лилы и Элены. Когда десятилетняя Лила пишет рассказ «Голубая фея» и Элена показывает его учительнице, та от огорчения, что девочка по настоянию родителей не будет продолжать учебу, не находит для нее ни слова похвалы, перестает следить за ее успехами и отдает все внимание Элене
Джераче, преподаватель гимназии
Галиани, преподавательница лицея. Блестяще образованна и умна. Состоит в коммунистической партии. Быстро выделяет Элену из массы других учеников, приносит ей книги и защищает от придирок учителя катехизиса
Прочие лица
Джино, сын аптекаря. Первый парень, с которым встречается Элена
Нелла Инкардо, родственница учительницы Оливьеро. Живет в Барано-д’Искья. В ее доме Элена проводит свои первые каникулы на море
Армандо, сын Галиани, студент медицинского факультета
Надя, дочь Галиани, студентка
Бруно Соккаво, друг Нино Сарраторе, сын зажиточного предпринимателя из Сан-Джованни-а-Тедуччо
Франко Мари, студент
Юность
1
Весной 1966 года Лила, заметно волнуясь, передала мне жестяную коробку, в которой лежали восемь тетрадок. Она сказала, что больше не может хранить их у себя: боится, как бы муж не прочитал. Я забрала коробку без лишних вопросов, правда, позволив себе иронически заметить, что тетради слишком уж плотно перетянуты шпагатом. В то время наши отношения переживали не лучшие времена, но, похоже, так считала только я. Виделись мы редко, но при встречах Лила вела себя приветливо и дружелюбно и воздерживалась от колких замечаний.
Она потребовала от меня клятвенного обещания никогда и ни при каких обстоятельствах не открывать коробку и, разумеется, его получила. Но, едва тронулся поезд, я развязала шпагат, достала тетради и принялась за чтение. Нельзя сказать, что это был дневник Лилы, хотя в тексте встречались упоминания о тех или иных событиях из ее жизни, начиная с первых лет школы. Но стиль изложения напоминал упражнение, словно Лила целенаправленно тренировалась в сочинительстве. Здесь было много описаний: ветвей дерева, пруда, камня, листка с белесыми прожилками, домашней утвари, деталей кофеварки, жаровни, корзины с углем, припорошенной черной пылью, двора – в мельчайших подробностях, – проезжей дороги, проржавелых автомобильных каркасов на той стороне прудов, палисадников, церкви, подстриженной живой изгороди вдоль железной дороги, новых многоэтажек, родительского дома, сапожных инструментов отца и брата и тонкостей их ремесла. Особое внимание уделялось цвету каждой вещи при разном освещении и в разное время суток. Тетради были заполнены не только описаниями, но и обведенными в кружок отдельными словами на итальянском и на диалекте, без всяких комментариев, и упражнениями по переводу с греческого и латыни. Попадались целые страницы на английском, посвященные описанию магазинчиков нашего квартала и товаров, которыми в них торговали, здесь в том числе фигурировала тележка с овощами и фруктами, которую Энцо Сканно каждый день возил от дома к дому, ведя под уздцы осла. Много внимания было уделено прочитанным книгам и фильмам, которые показывали в кинотеатре при церкви. Сюда же Лила заносила мысли, которые приходили ей в голову после разговоров с Паскуале или со мной. Несмотря на рваный характер этих записей и отсутствие в них какой-либо связности, они производили сильное впечатление, включая страницы, написанные ею лет в одиннадцать-двенадцать, – я не нашла в них ни следа детской наивности.
Отточенность каждой фразы, безупречная пунктуация, красивый ровный почерк – именно так учила нас писать учительница Оливьеро. Но порой Лила, словно поддавшись власти неведомого дурмана, вдруг нарушала заданный самой себе порядок. Тогда изложение приобретало какой-то нервный характер, его ритм сбивался, а знаки препинания пропадали вовсе. Правда, вскоре она возвращалась к прежней спокойной ясности. Кое-где текст резко обрывался, и нижнюю половину страницы заполняли рисунки деревьев с корявыми стволами, горбатых дымящихся гор и злобных рож. Пораженная чередованием строгой упорядоченности и неожиданной хаотичности текстов, я внезапно почувствовала себя обманутой: так значит, она долго тренировалась, прежде чем отправить мне на Искью письмо – вот почему оно показалось мне таким прекрасным. Я сложила тетради назад в коробку и сказала себе, что с меня довольно.
Но хватило меня ненадолго: от тетрадей исходила та же притягательная сила, какой с детства обладала сама Лила. Она описывала наш квартал, своих родных, семью Солара и Стефано, каждого человека и каждый предмет с беспощадной точностью. Мне тоже досталось – ничуть не стесняясь, Лила комментировала мои идеи и высказывания, мою внешность, давала оценки людям, которые были мне дороги. Для нее было важно, что происходит в ее собственной жизни – остальное она не принимала в расчет.
Тетрадь сохранила и радость, что переполняла Лилу, написавшую свой первый рассказ «Голубая фея», и обиду десятилетней девочки, не дождавшейся от учительницы ни слова похвалы – синьора Оливьеро сделала вид, что ничего особенного не произошло. Эти страницы помнили всё: и то, как Лила страдала и злилась на меня, потому что я пошла учиться дальше, в среднюю школу, бросив ее на произвол судьбы, и то, с каким неподдельным воодушевлением она училась работать с кожей, намеренная во что бы то ни стало доказать себе и окружающим, что чего-то стоит; и радость первой удачи, когда она с помощью Рино сшила ботинки по собственному эскизу, и боль, когда отец забраковал их, заявив, что ботинки никуда не годятся. Но главное, тетрадь дышала ненавистью Лилы к братьям Солара. В свое время она решительно отвергла ухаживания Марчелло, а вскоре после согласилась выйти замуж за владельца колбасной лавки Стефано Карраччи, который так ее любил, что купил первые сшитые ее руками ботинки и поклялся, что будет хранить их до своего последнего вздоха.
Как горда была пятнадцатилетняя Лила, почувствовав себя настоящей дамой! Тетрадь точно запечатлела память о тех днях, когда она, любуясь собой, прогуливалась по городу под ручку с по уши влюбленным в нее женихом, не жалевшим для нее ни денег, ни подарков и даже вложившим немалые средства в семейное дело Черулло.
Да, Лила чувствовала себя счастливой: мастерская шила обувь по ее эскизам, ее ждало удачное замужество и удобная красивая квартира в новом районе – это в шестнадцать лет!
Мысли о пышной свадьбе действовали на нее возбуждающе. И вдруг на эту свадьбу заявился Марчелло Солара вместе с Микеле и в тех самых ботинках, которые новоиспеченный муж Лилы поклялся беречь как зеницу ока. Ее муж. Кому же она отдала свою руку и сердце? Она увидела его истинное лицо и ужаснулась, но было уже слишком поздно. Я по многу раз, день за днем и неделя за неделей читала и перечитывала эти страницы. Под конец я уже могла наизусть цитировать особенно выразительные фрагменты, приводившие меня в восторг естественностью интонации. Однако за показной непосредственностью угадывались часы тренировки; я не знала наверняка, но подозревала, что весь этот блеск – результат долгого и кропотливого труда.
Однажды ноябрьским вечером я вышла из дома, прихватив с собой коробку. У меня больше не было сил жить чужой жизнью, и теперь, когда я давно обрела самостоятельность, мне не хотелось вновь и вновь окунаться в прошлое Лилы и копаться в ее чувствах.
Я остановилась на мосту Сольферино и посмотрела на холодное небо. Потом поставила коробку на парапет и слегка подтолкнула, потом еще раз и еще, пока та не упала в темную реку, унося с собой все слова и мысли девочки Лилы. У меня мелькнуло ощущение, что это она сама исчезает в толще вод. Река поглотила ее злобу, а меня охватило чувство свободы. Больше я не позволю себя использовать. Вещи, люди – все, к чему прикасалась Лила, подпадало под власть ее чар: книги, туфли, нежность, обида, свадьба, первая брачная ночь, новая социальная роль в качестве синьоры Рафаэллы Карраччи – Лила умело использовала все это в своих целях.
2
Мне не верилось, что Стефано – добрый, милый, влюбленный Стефано – подарил Марчелло Соларе ботинки, сшитые руками Лилы, тем самым перечеркнув и ее мечту, и тот труд, который она вложила в ее осуществление.
Я тут же забыла об Альфонсо и Маризе, которые сидели за столиком и о чем-то переговаривались, глядя друг на друга сияющими глазами. Я больше не слышала пьяного смеха мамы. Музыка, голос со сцены, танцующие пары, Антонио, в порыве ревности выскочивший на балкон и глядящий на город и море сквозь стекло, – все это отступало перед невероятностью произошедшего. Даже образ Нино, только что покинувшего зал для гостей, точно архангел, не принесший благой вести, поблек. Все заслонила бледная невеста-Лила, пылко шептавшая что-то на ухо нахмурившемуся молодожену-Стефано. Эта картина стояла передо мной, точно белое пятно карнавальной маски на вспыхнувшем краской лице. Что произошло между ними и какие будут последствия? Подруга тянула мужа к выходу, уцепившись за него обеими руками так сильно, что я чувствовала: будь то в ее власти, она бы сейчас оторвала эту руку от тела и прошла через зал с высоко поднятой головой, не обращая внимания на тянущийся позади кровавый шлейф. Будь то в ее власти, она бы избила несчастного Марчелло любым предметом, который попался ей под руку, точным ударом она бы повалила его на пол и добила ногами. Да, так бы она и сделала, и при мысли этой сердце мое рвалось как одержимое, а в горле пересохло. Потом она бы выцарапала глаза обоим – Марчелло и Стефано, вцепилась бы зубами в их плоть и разорвала бы ее в клочья. Да, я чувствовала, что хочу на это посмотреть.
Вот и все. Конец злополучной свадьбе, влюбленности, медовому месяцу в Амальфи! Хорошо бы порвать тут со всем и вся и бежать, далеко-далеко, только я и Лила. Бежать вдвоем в неведомые города, весело скатываясь вниз по старым ступенькам. Мне показалось, что для такого дня это был бы самый логичный конец. Если ничего не спасти – ни денег, ни мужа, ни работы, так не лучше ли разрушить все до основания, раз и навсегда?
Я ощутила, как в груди у меня проснулась не моя – Лилина – злоба, и мне захотелось раствориться в ней до конца. Мне хотелось, чтобы она росла – неведомая, чужая сила. Я поймала себя на том, что боюсь этого незнакомого чувства. Лишь много лет спустя я поняла, что все мои несчастья лишь оттого, что часто я не могу быть жесткой, боюсь показаться резкой и просто молчу, накапливая обиду и злобу.
Но Лила была не такой. Когда она решительно поднялась с места, от ее резкого движения задрожал стол, зазвенели тарелки, а ближайший бокал опрокинулся. Пока Стефано на автомате кинулся к синьоре Соларе, к платью которой подбирался красный поток, Лила быстро вышла в заднюю дверь, таща за собой тяжелый шлейф, путающийся между ног. Мне хотелось кинуться за ней, сжать ей руку, шепнуть: скорее, скорее отсюда. Но я не сдвинулась с места. Не я, но Стефано, после минутного колебания, ринулся за ней, протискиваясь меж танцующих пар.
Я оглянулась по сторонам. Все видели, что с невестой что-то не так. Но Марчелло продолжал с заговорщическим видом разговаривать с Рино, делая вид, что знать не знает, что на нем за ботинки. Пришло время тостов, и каждый следующий был пошлее предыдущего. Те, кто чувствовал себя обделенным местом за столом, натянуто улыбались. Никто, кроме меня, не понимал, что только что свершившийся брак, который мог бы длиться «пока смерть не разлучит их», в болезни и радости, богатстве и бедности, брак, в котором могли бы родиться дети и внуки, для Лилы – что бы там сейчас ни сказал новоиспеченный муж в попытке примирения – более ничего не значил. Для нее все было кончено раз и навсегда.
3
Однако ничего не случилось, и это сильно меня разочаровало. Я уселась с Альфонсо и Маризой, стараясь не слушать их болтовню. Я ждала, что будет, но ничего так и не произошло. Предсказать, как поступит Лила, было непросто: я не услышала ни криков, ни угроз. Через полчаса Стефано вернулся как ни в чем не бывало. Он уже успел переодеться, и белые тени на его лице куда-то исчезли. Он обошел родственников и гостей, поджидая жену, и, едва Лила вернулась (теперь она была одета в простое дорожное платье: светло-голубой костюм с белыми пуговицами и синюю шляпку), тут же к ней присоединился. Лила раздала детям традиционные миндальные конфеты, зачерпывая их из хрустальной вазы, а потом бонбоньерки гостям: сначала родным Стефано, потом всем прочим. Семью Солара она обошла стороной, как и своего брата, который притворно хмыкнул: «Ты что, меня разлюбила?» Лила не ответила и протянула бонбоньерку Пинучче. Взгляд ее витал где-то далеко, скулы проступили резче обыкновенного. Когда пришла моя очередь, Лила протянула мне маленькую корзиночку, завернутую в белое кружево, даже не улыбнувшись.
Ее демонстративное неуважение задело братьев Солара, но положение спас Стефано, дружески хлопнув каждого по плечу и чуть слышно прошептав:
– Она просто устала. Тяжелый день…
Рино он расцеловал в обе щеки. Тот недовольно скривился и процедил сквозь зубы:
– Усталость тут ни при чем. Стерва и есть стерва. Сочувствую тебе.
– Ничего, разберемся, – серьезно ответил Стефано.
Он быстрым шагом подошел к жене, уже стоявшей в дверях. Под нестройные звуки оркестра гости начали понемногу подниматься со своих мест и прощаться.
Значит, никакого разрыва не будет, и никуда мы не убежим, и прощайте, новые города. Я представила себе, как молодожены – красивые и нарядные – садятся в кабриолет. Скоро они прибудут на амальфитанское побережье, поселятся в шикарном отеле, и смертельная обида скукожится до легкой досады. И все останется как есть. Лила раз и навсегда оторвалась от меня. Я вдруг осознала, что трещина между нами гораздо шире, чем казалось мне раньше. Лила не просто вышла замуж. Ее брак – это не только супружеские обязанности и общая с мужем постель. Нет, нас раскололо что-то более существенное, о чем я раньше не думала, но что сейчас предстало передо мной во всей своей очевидности. Лила не знала, какие отношения связывали ее мужа с Марчелло Солара и почему он подарил ему те самые ботинки, но она смирилась с этим фактом, тем самым признав, что для нее важнее всех на свете муж. Если она сдалась в самом начале и проглотила обиду, значит, она дорожит Стефано больше, чем я предполагала. Значит, она его любит, любит по-настоящему, той любовью, о какой пишут в книгах. Ради него она пожертвовала всем, а он этого даже не заметил. Способность тонко чувствовать, острый ум, богатое воображение – все, чем Лила обладала с детства, – она вручила Стефано, который понятия не имел, что ему со всем этим делать – разве что сломать. Я подумала, что никого не смогу полюбить так, как она, – даже Нино. Все, на что я способна, – это сидеть над книгами. На долю секунды в памяти мелькнуло давнее воспоминание: моя сестренка Элиза кормила на лестнице котенка из старой щербатой миски. Потом котенок вырос и убежал, а пустая миска так и осталась стоять на лестничной площадке, покрываясь грязью и пылью. Вот и я – как та самая миска… Но в ту же секунду я с испугом поняла, что дальше так продолжаться не может. Я должна прекратить копаться в себе и стать такой, как все – как Кармела, Ада, Джильола, даже Лила. Отбросить гордыню, перестать судить других людей и свысока смотреть на тех, кто меня любит. Альфонсо с Маризой засобирались уходить – их ждал Нино, а я, обойдя зал, чтобы не попасться на глаза матери, вышла на террасу, где стоял мой парень.
На мне было легкое платье, а солнце уже село, и я немного замерзла. При виде меня Антонио закурил и снова уставился в окно, на море.
– Пойдем отсюда.
– Иди, если хочешь. Сарраторе будет просто счастлив.
– Я хочу уйти с тобой.
– Не ври.
– С чего ты взял, что я вру?
– Да он тебя одним пальцам поманит, и ты к нему полетишь как на крыльях.
Это была чистая правда, но мне не понравилась откровенность, с которой Антонио ее высказал.
– Ты что, не понимаешь, чего мне стоило прийти сюда к тебе? – возмутилась я. – Если мать увидит меня с тобой, она мне такое устроит! Но тебе-то что: ты только о себе и думаешь, а я ровным счетом ничего для тебя не значу.
Я говорила не на диалекте, а на литературном итальянском, и Антонио, выслушав меня, потер виски. Потом отшвырнул сигарету и, с плохо сдерживаемой яростью схватив меня за запястье, прохрипел, что он и пришел сюда ради меня, только ради меня, что я сама просила его и в церкви, и в ресторане сесть ко мне поближе и клятвенно, вот именно клятвенно обещала, что ни за что его не брошу, и он сшил себе этот чертов костюм и влез в кабалу к синьоре Соларе, и все это – лишь бы угодить мне, и он даже ни разу не подошел к матери, к сестрам и братьям, а я обращалась с ним как с последним дерьмом и все время любезничала с сынком этого поэта, а его выставила полным дураком перед друзьями, а все потому, что он для меня никто, я слишком образованная, а он неуч и не понимает половины слов, которые я говорю, и да, это сущая правда, он совсем меня не понимает, но, черт подери! Лену, сказал он, посмотри на меня, посмотри хорошенько, ты что, думаешь, я позволю тебе со мной играть? Ты думаешь, я буду и дальше это терпеть? Нет, милая, ты ошибаешься. Ты знаешь все на свете, но ты не знаешь одного. Если ты сейчас уйдешь со мной, все будет в порядке, но если до меня дойдет, что в школе или где еще ты по-прежнему встречаешься с этим ничтожеством, с этим Нино Сарраторе, я убью тебя, Лену, клянусь, я тебя убью. Подумай об этом, с отчаянием в голосе сказал он, а сейчас уходи, так будет лучше. Он смотрел на меня широко распахнутыми покрасневшими глазами, ужасные слова одно за другим вылетали у него изо рта, ноздри раздулись, он кричал, хотя голос его звучал еле слышно, а в лице было сколько страдания, словно каждое вырвавшееся из горла слово было железным осколком, изрезавшим его внутренности – легкие, грудь, гортань.
Меня поразила эта вспышка ярости, но, как ни странно, я нашла в ней утешение: хоть кому-то на меня не наплевать.
– Мне больно, – пробормотала я.
Он медленно разжал руку, но продолжал смотреть на меня с открытым ртом. Запястье у меня посинело – с такой силой он его все это время сжимал.
– Что ты решила? – спросил он.
– Я хочу быть с тобой, – угрюмо ответила я.
Он закрыл рот. В глазах блеснули слезы. Он опять уставился на море. Ему нужно было время, чтобы успокоиться.
Через несколько минут мы были на улице. Мы не стали ждать ни Паскуале, ни Энцо, ни девочек, и ушли, ни с кем не попрощавшись. Главное было проскочить мимо моей матери, что нам удалось. Мы решили идти пешком, хотя уже стемнело. Поначалу мы просто шагали рядом, но потом Антонио робким жестом положил руку мне на плечо, как будто чувствовал свою вину и просил прощания. Он и правда любил меня, а потому решил забыть, что я флиртовала с Нино, и считать все это игрой воображения.
– У тебя что, синяк? – спросил он, осторожно коснувшись моего запястья.
Я промолчала. Он притянул меня к себе, но я инстинктивно отстранилась, и он не стал настаивать. Оба мы чего-то ждали. Когда он в знак примирения вновь потянулся ко мне, я обняла его за талию.
4
Потом мы долго целовались: за деревом, в подъезде, посреди темной улицы. Наконец сели в автобус, пересели на другой и доехали до вокзала. По пустынной улочке, тянувшейся вдоль железной дороги, мы пошли к прудам, не переставая целоваться.
На мне было легкое платье, а на улице заметно похолодало, но мне было жарко, только от вечернего ветерка по коже пробегали мурашки.
Иногда Антонио так сильно прижимал меня к себе, что мне становилось больно. Его губы были горячими, как угли, и этот жар распалял мое воображение. Наверное, Лила и Стефано уже в отеле, думала я. Ужинают. Наверное, готовятся лечь в постель.
Наверное, спать в одной постели с мужчиной тепло. Антонио жарко целовал меня, его ладонь жадно сжимала мою грудь под хлопком платья, а я, сунув руку ему в карман брюк, поглаживала его член.
На темном небе вспыхнули светлые искорки звезд. Сквозь запах мха и прелой земли по берегам прудов пробивался сладкий аромат весны. Трава была влажной, от пруда доносились чавкающие звуки, как будто кто-то кидал в воду то желудь, то камень – или это прыгали лягушки? Мы шли по знакомой тропинке, в конце которой стояли тесной группкой засохшие деревья с тонкими стволами и кривыми ветками. Неподалеку располагалась старая консервная фабрика: покореженное здание с проломленной крышей – голый скелет, покрытый проржавелыми железными листами. Я почувствовала, как внутри меня что-то напряглось, натянулось, как шелковая нить: мне захотелось наслаждений, захотелось ласки, способной стереть из памяти события сегодняшнего дня. Желание, острое как игла, зародилось внизу живота – еще никогда я не испытывала ничего подобного. Антонио шептал мне нежные слова и все настойчивее целовал меня в губы и в шею. Я не говорила ничего. Я никогда ничего не говорила в минуты наших объятий, только тихо постанывала.
– Скажи, что ты меня любишь! – прошептал он.
– Угу.
– Скажи!
– Угу.
Больше я ничего не сказала и крепко, что было сил, прижалась к нему. Мне хотелось еще больше ласк, хотелось, чтобы он покрыл поцелуями все мое тело, каждую его клеточку, хотелось задохнуться от наслаждения. Антонио чуть отстранился, и его рука скользнула в вырез моего платья и дальше, под бюстгальтер. Но и этого мне сегодня было мало. Все, что мы позволяли себе до сих пор, все его осторожные прикосновения, сейчас казались мне жалкими, недостаточными, торопливыми. Но я не знала, как сказать ему о том, чего хочу на самом деле, у меня не было для этого подходящих слов. Каждое из наших тайных свиданий всегда завершалось немым ритуалом. Он гладил мою грудь, задирал юбку, ласкал меня между ног и прижимался ко мне своей горячей и нежной плотью. Но сегодня я не спешила ему помогать; я понимала, что, едва я коснусь рукой его члена, Антонио забудет все на свете. Ни моя грудь, ни крепкие бедра, ни гладкий живот, ни лобок больше не вызовут в нем интереса; он положит свою руку поверх моей и станет направлять меня, добиваясь нужного ритма. А потом он достанет платок, из груди у него вырвется слабый стон, а из члена брызнет опасная белесая жидкость. Потом он, словно стыдясь чего-то, отстранится от меня и мы пойдем домой. Так было всегда, но сегодня мне требовалось что-то другое. Я не боялась, что могу забеременеть – я, незамужняя девушка, – не думала о том, что это грех, меня не смущали мысли о Духе Святом и глядящих на меня с небес ангелах… Антонио почувствовал это и растерялся. Он взял было меня за руку и потянул вниз, к заветному месту, но я вырвалась, прижалась к его руке лобком и принялась тереться о нее, тяжело дыша. Он отдернул руку и стал судорожно расстегивать пуговицу на брюках.
– Подожди, – шепнула я.
Я потянула его к развалинам консервной фабрики. Внутри было темно и пусто, тишину нарушало лишь тихое осторожное шуршанье, выдававшее присутствие мышей. У меня заколотилось сердце. Я боялась пустой фабрики, боялась себя и того невыносимого желания, которое овладело мной без остатка, заставив забыть голос разума, звучавший во мне еще пару часов назад. Мое место – в сточной канаве родного квартала. Зачем мне учеба, зачем проклятые тетради? Что они мне принесут? Тень Лилы всегда будет висеть надо мной, указывая на мое ничтожество. Разве я смогу с ней сравниться? Я представила себе Лилу в роскошном подвенечном платье, в светлом дорожном костюме и элегантной синей шляпке… А я украдкой целуюсь с Антонио посреди ржавых балок и крысиной возни. Я стою с задранной юбкой и приспущенными трусами, охваченная чувством вины, а Лила раскинулась на льняных простынях в номере с видом на море, она не стыдится своей наготы и отдается Стефано, без страха и сомнений позволяя ему излить в себя его семя. Антонио справился наконец со своими пуговицами и, пристроив меня у себя между ног, прижимался ко мне большим мясистым пенисом, крепко сжимал мои ягодицы, ритмичными движениями терся о мой лобок и тяжело дышал. Где я и где Лила, подумала я. Я уже ничего не понимала, знала только одно: сейчас я хочу совсем другого. Мне мало того, что предлагает Антонио. Я готова идти до конца. А когда Лила вернется, я скажу ей, что я тоже уже не девочка, я делала то же, что делала ты, так что не думай, что ты меня опередила. Я обняла Антонио за шею и, приподнявшись на цыпочки, впилась в его губы поцелуем; я двигалась наугад, стараясь встать как надо. Он понял и рукой подтянул меня к себе; я почувствовала, что он немного проник внутрь меня, и вздрогнула от страха и любопытства. Но чувствовала я и другое – что он изо всех сил сдерживается, чтобы не ринуться вперед со всей страстью, которая разрывала его изнутри с самого утра. Я поняла, что он вот-вот остановится, и прижалась к нему еще крепче, отрезая себе путь к отступлению.
Но Антонио с тяжким вздохом отстранил меня и сказал на диалекте:
– Нет, Лену, нет. Я хочу, чтобы все было как положено, а не так. После свадьбы, когда ты станешь моей женой.
Он взял мою руку в свою, положил ее на свой член и вздрогнул, точно икнул; я сделала то, что он хотел.
Потом, пока мы шли вдоль прудов, он сказал, что слишком уважает меня и не хочет, чтобы из-за него я совершила то, о чем потом буду жалеть, что все должно быть не так, не в этой грязи. Он говорил так, как будто обвинял себя в том, что чуть не произошло из-за его настойчивости. Возможно, он действительно в это верил.
Я шла молча и, прощаясь с Антонио, испытала чувство облегчения. Когда я постучала домой, дверь мне открыла мать. Братья и сестра пытались ее удержать, но она, не сказав ни слова, с порога влепила мне пощечину. Очки полетели на пол, и я что было мочи закричала:
– Что ты наделала? Ты мне очки разбила! Теперь из-за тебя я не смогу учиться! И в школу больше не пойду!
Мать застыла на месте. Рука, которую она уже занесла для следующего удара, повисла в воздухе, похожая на лезвие топора.
Моя сестренка Элиза подобрала очки и тихо сказала:
– Держи, Лену. Они не разбились.
5
После событий того вечера я пребывала в таком подавленном состоянии, что у меня ни на что не было сил. Впервые я прогуливала занятия. В школе не появлялась недели две, но не сказала об этом даже Антонио. В положенный час я выходила из дома и бродила по улицам. За те несколько дней Неаполь раскрылся передо мной по-новому.
Я разглядывала витрины букинистических лавок на виа Порт-Альба, невольно запоминая авторов и названия книг, а потом по виа Толедо шла к морю или по виа Сальватор-Роза поднималась к району Вомеро, доходила до монастыря Сан-Мартино, а потом брела назад. Иногда ноги несли меня в сторону транспортной развязки Доганелла, за которой расположено кладбище, и я прохаживалась по его тихим аллеям, читая имена покойников. Иногда меня окликали молодые бездельники, старые дураки или прилично одетые мужчины среднего возраста и предлагали свою компанию. Я опускала глаза и ускоряла шаг, чуя опасность; я никогда ни с кем не заговаривала, но и домой возвращаться не спешила. Напротив, чем больше я шлялась по городу, тем больше мне нравились эти долгие прогулки, благодаря которым я вырывалась из паутины обязанностей, опутывавших меня с первых школьных лет. Я приходила домой в положенное время, и никто даже не подозревал, что я (это я-то!) не была в школе. До вечера я читала романы, а потом бежала на пруды на свидание с Антонио, который радовался, что у меня наконец-то появилось для него время. Он хотел спросить, виделась ли я с Нино; этот вопрос читался в его глазах, но он не решался его задать, боясь со мной поссориться; он боялся, что я разозлюсь и откажу ему в минутах недолгого счастья. Когда он обнимал меня и прижимал к себе, его сомнения рассеивались. В эти минуты он верил, что я его не подведу и не стану встречаться ни с кем другим.
Антонио ошибался: на самом деле я думала только о Нино, хоть и чувствовала себя виноватой. Я мечтала увидеться и поговорить с ним и одновременно страшилась этой встречи. Меня пугало его высокомерие. Что, если он снова вспомнит про мою статью о стычке с преподавателем богословия, так и не опубликованную? Вдруг он начнет рассказывать, что в редакции ее жестоко раскритиковали? Этого я бы уже не вынесла. В своих скитаниях по городу или без сна ворочаясь по вечерам в постели, я внушала себе, что статью отвергли только потому, что в газете на нее не хватило места. Я пыталась заглушить свое разочарование, но это давалось мне нелегко. Я никогда не смогу дотянуться до Нино, увлечь его своими мыслями, а значит, мы никогда не будем вместе, думала я. Да и чем я могла бы его заинтересовать? В голове у меня царила полная пустота. Не лучше ли бросить все это – учебу, книги, забыть об оценках и грамотах? И надеяться, что рано или поздно все знания, распирающие мою голову, живые и мертвые языки, включая литературный итальянский, на котором уже все чаще говорили мои сестра и братья, улетучатся сами собой? Это все из-за Лилы, твердила я себе, она толкнула меня на этот путь, а значит, мне надо забыть и ее; она всегда знала, чего хотела, и добилась своего, а я не хотела ничего, вот и осталась ни с чем. Вот бы проснуться однажды и почувствовать, что мне ничего не надо. Пусть со мной будет только любовь Антонио – а больше мне ничего для жизни не нужно.
Однажды по дороге домой я встретила сестру Стефано, Пинуччу. От нее я узнала, что Лила вернулась из свадебного путешествия и устроила прием в честь помолвки брата с Пинуччей.
– Так вы с Рино наконец-то обручились? – спросила я, изображая удивление.
– Да, – гордо сообщила Пинучча и продемонстрировала мне кольцо.
Пока она говорила, у меня в голове крутилась одна-единственная мысль: Лила устроила в новом доме прием, а меня не пригласила! А впрочем, оно и к лучшему. Хватит уже с меня ее общества, видеть ее не желаю. Когда тема помолвки была исчерпана, я все же осторожно поинтересовалась, как поживает Лила. Губы Пинуччи растянулись в тонкую ухмылку:
– Учится помаленьку.
Я не стала уточнять, чему именно. Вернувшись домой, я легла и проспала до вечера.
На следующее утро я, как обычно, встала в семь, как будто собиралась в школу.
Я только вышла на шоссе, как увидела Лилу: она выскользнула из машины и направилась в наш двор, даже не оглянувшись на Стефано, который сидел за рулем. Она была нарядно одета, но почему-то в темных очках, хотя день выдался пасмурный. На голове у нее был голубой шарф, повязанный так, что закрывал подбородок и губы – помню, это меня удивило. Я с горечью подумала о том, что теперь она похожа не на Жаклин Кеннеди, а на таинственную даму, какой мы с ней обе мечтали стать в детстве. Я быстро пошла вперед.
Однако через несколько шагов я передумала и вернулась. Я не знала зачем, просто вернулась, и все. Сердце у меня забилось быстрее, все мысли перепутались. Может, я хотела, чтобы она прямо в лицо сказала мне, что мы больше не подруги. Может, собиралась сообщить ей, что брошу учебу и тоже выйду замуж, перееду к Антонио и вместе с сумасшедшей Мелиной буду мыть лестницы. Я устремилась во двор и успела заметить, как она входит в подъезд, где жила ее свекровь. Я взбежала по лестнице – той самой, по которой мы девчонками карабкались к дверям дона Акилле, чтобы упросить его вернуть нам наших кукол. Я окликнула ее, и она обернулась.
– Ты пришла?
– Ну да.
– А почему ко мне не зашла?
– Я не хотела, чтобы ты меня видела.
– Другим можно, а мне нельзя?
– До других мне нет дела.
Я неуверенно посмотрела на нее. Что она от меня скрывает? Что такого я не должна видеть? Я поднялась к ней и осторожно развязала ее шарф и сняла с нее темные очки.
6
Когда я пишу о ее свадебном путешествии, я снова переживаю его в памяти. Я расскажу не о том, что услышала тогда на площадке, но о том, что прочла гораздо позже в ее тетрадях. Я была несправедлива к Лиле, я думала, что она сдалась слишком легко и позволила унизить себя, думала, что она чувствует себя так же, как чувствовала себя я, когда Нино ушел с праздника, и мне хотелось так думать, чтобы ослабить чувство потери, разрывавшей мое существо. На самом-то деле, едва закончился праздник, Лила в своем светлом костюме и синей шляпке оказалась в автомобиле. Глаза ее сверкали злостью, и, едва машина тронулась, она набросилась на Стефано, оскорбляя его самыми страшными словами, какие только могла придумать.
Он по привычке молчал и спокойно улыбался, так что в конце концов она устала и замолкла. Но молчание длилось недолго. Едва переведя дыхание, Лила вновь бросилась в атаку. Она заявила мужу, что ей противно дышать с ним одним воздухом и что она не в силах оставаться в автомобиле, после чего потребовала остановить машину. Стефано заметил выражение ее лица, на котором читались злоба и отвращение, но продолжал спокойно и молча ехать вперед. Лила не выдержала и закричала, чтобы он немедленно остановился.
Он не отреагировал, но, когда Лила попыталась открыть дверь, резко схватил ее за руку.
– А теперь слушай, – спокойно сказал Стефано, – да, я это сделал, но тому были серьезные причины.
И он рассказал, как все было. Чтобы сапожная лавка не разорилась на следующий же день после открытия, пришлось подключить к делу Сильвио Солару и его сыновей, – они могли обеспечить не только сбыт товара в лучшие магазины города, но и открытие собственного магазина Черулло на пьяцце Мартири.
– А мне какое дело до твоих трудностей, – заявила Лила, крутясь на сиденье.
– Мои трудности теперь и твои, ты моя жена.
– Это я-то? Да я тебе никто, и ты мне тоже, отпусти меня!
Стефано разжал руку.
– А твои отец и брат тоже никто?
– Закрой рот и не смей говорить о них.
Однако Стефано заговорил. И сказал, что Фернандо лично настоял на том, чтобы он заключил договор с Сильвио Соларой. Это было не так-то просто, учитывая, что Марчелло почти ненавидел Лилу, семью Черулло и в особенности Паскуале, Антонио и Энцо, которые разбили его машину. Но Рино удалось его успокоить, на что ушло немало усилий. Тогда Марчелло заявил, мол, хотите сделку – отдайте туфли, что сделала Лина, и Рино согласился.
Эти слова больно ранили Лилу, внутри у нее все сжалось, но она все равно грубо бросила мужу:
– А ты? Просто стоял и смотрел?
– А что мне было делать, – смутился Стефано. – Устроить ссору с твоим братом, пустить по миру твою семью, стать причиной вражды семей, потерять все вложенные средства?
Слова Стефано и тон, каким они были сказаны, показались Лиле лицемерными, он обвинял ее отца и брата. Она не позволила ему закончить фразу и принялась лупить его кулаками и кричать:
– И ты согласился, ты взял мои туфли и сам отдал ему!
Стефано не сопротивлялся, вот только когда она снова потянулась к ручке двери, холодно сказал:
– Успокойся.
Лила резко обернулась: успокоиться? Когда он только что переложил всю вину на ее родных? Успокоиться, когда они обошлись с ней как с тряпкой, игрушкой?
– Нет, я не успокоюсь! – закричала она. – Не успокоюсь, подонок, сейчас же отвези меня домой! Тебе придется повторить то, что ты сказал, в присутствии тех двух подонков. – И, только произнеся на диалекте «подонки», Лила спохватилась, что тон Стефано изменился и что она перешла границы. В следующую минуту Стефано влепил ей тяжелую пощечину. От неожиданности и боли Лила подскочила. Не веря своим глазам, она смотрела на мужа, а он продолжал вести машину; впервые с тех пор, как он стал ухаживать за ней, его голос дрожал:
– Видишь, до чего ты меня довела? Ты понимаешь, что ты перешла все границы?
– Все было сплошной ошибкой, – пробормотала Лила.
Но Стефано не обратил внимания на ее замечание, словно не хотел даже думать о чем-то подобном, и медленно, грозно и немного пафосно произнес следующую речь:
– Нет, ничего подобного. Нам нужно просто кое-что прояснить. Теперь ты уже не Черулло, Лина. Ты теперь синьора Карраччи, и придется тебе меня слушаться. Я понимаю, что тебе пока не хватает опыта, коммерческой жилки, ты, видимо, думаешь, что деньги на деревьях растут. Вот только это не так. Мне приходится каждый день работать на умножение капитала. Ты умеешь придумывать модели, твой отец и брат в поте лица зарабатывают свой хлеб, и никто из вас не знает, как из одной лиры сделать десять. А вот Солара знают. Так что послушай меня внимательно: мне нет никакого дела, нравятся они тебе или нет. Меня самого от Марчелло воротит и, когда он на тебя смотрит и я думаю о тех словах, которые тебе пришлось от него услышать, меня так и тянет вспороть ему живот. Но так уж вышло, что Марчелло нам нужен, чтобы заработать, и если благодаря Марчелло наш капитал возрастет, то парень вмиг станет для меня лучшим другом. Потому что, если у нас не будет денег, у нас не будет ни машины, ни приличной одежды, и я не смогу купить тебе даже платья, нам придется распроститься с домом и обстановкой, и ты не будешь шикарной синьорой, а станешь грязной побирушкой, и дети наши вырастут в нищете. Так что в следующий раз подумай, прежде чем обливать меня грязью, а не то я так разукрашу твое прекрасное личико, что ты нос из дома высунуть не посмеешь. Надеюсь, мы поняли друг друга? Отвечай!
Лила зажмурилась. Щеки ее раскраснелись, но остальное лицо побелело как мел. Она ничего не ответила.
7
Вечером они прибыли в Амальфи. Ни Лила, ни Стефано никогда не ночевали в отеле и чувствовали себя крайне неловко. Небрежно-ироничный тон портье смутил Стефано; услышав просьбу показать документы, он залился густой краской. К ним вышел носильщик – мужчина лет пятидесяти с тоненькими усиками, но Стефано, испугавшись за сохранность багажа, отказался от его услуг, чтобы, спохватившись, наделить того сверхщедрыми чаевыми. В результате Стефано сам тащил чемоданы, а Лила шла за ним и с каждым шагом все яснее сознавала, что человек, за которого она вышла замуж, вероятно, потерялся где-то по дороге, а рядом с ней оказался чужой и незнакомый мужчина. Неужели это он, Стефано? Коренастый, коротконогий, с длинными руками и белеющими костяшками кистей? С кем она связала свою жизнь? Злость, владевшая ею по дороге сюда, сменилась страхом.
В номере Стефано сделал попытку заговорить с Лилой ласково, но усталость и память о недавней пощечине мешали ему это сделать. Когда он нахваливал просторный номер, голос его звучал фальшиво. Он открыл балконную дверь и вышел на балкон.
– Иди сюда, – позвал он Лилу. – Посмотри, какое море! А воздух здесь какой!
Но Лила только небрежно мотнула головой. Ее сейчас занимало одно: как выбраться из ловушки, в которую она сама себя загнала. Стефано решил, что ей холодно, и тут же закрыл балкон. Если она хочет прогуляться и поужинать, пусть оденется потеплее:
– И мне заодно достань жилет. – Он сказал это так, словно они прожили вместе уже много лет и Лила прекрасно разбиралась в его вещах, чтобы вместе со своим свитером без труда отыскать и его жилет.
Лила вроде бы кивнула ему, но даже не прикоснулась к чемоданам, и жилет со свитером так и остались лежать где лежали. Вместо этого она вышла в коридор, как будто ей было противно находиться с ним в номере. Стефано поспешил за ней, бормоча на ходу:
– Мне-то что, вот ты как бы не простудилась.
Они прогулялись по Амальфи, дошли до собора и вернулись назад, к фонтану. Стефано пытался развлекать Лилу шутками, но и в лучшие времена это плохо ему удавалось – слащавые комплименты или веские заявления, сделанные тоном уверенного в себе человека, который точно знает чего хочет, звучали в его устах гораздо убедительнее. Но Лила по большей части молчала, так что в конце концов Стефано просто тыкал пальцем в очередную достопримечательность, повторяя: «Посмотри!» Если прежняя Лила бросилась бы с интересом разглядывать каждый камень, то нынешнюю не занимало ничто: ни красота узких улочек, ни благоухание садов, ни шедевры архитектуры, запечатлевшие богатую историю Амальфи, ни, тем более, голос мужа, с однообразием попугая твердившего: «Ух ты, красотища!»
Вскоре Лилу начала бить дрожь, но не потому, что она замерзла; это была нервная дрожь. Стефано заметил, что ее трясет, и предложил вернуться в отель, рискнув пообещать, что сумеет ее согреть. Но она не хотела в отель и продолжала шагать по улицам, пока не заболели ноги; тогда она, ни слова не сказав мужу, толкнула дверь ресторана, хотя есть не хотела. Он терпеливо последовал за ней.
Они заказали кучу еды, к которой почти не прикоснулись, зато выпили не одну бутылку вина. Стефано надоело ее молчание, и он спросил:
– Ты все еще злишься?
Она отрицательно помотала головой. И правда, ее злость куда-то ушла. Она с удивлением поняла, что больше не испытывает гнева ни на Солара, ни на отца с братом, ни на Стефано. Ей вдруг стало плевать на эти ботинки, и она сама поражалась, с какой стати так взъярилась, увидев их на ногах Марчелло. Теперь ее ужасало и приводило в смятение совсем другое: широкое обручальное кольцо у нее на пальце. Лила мысленно перебирала события этого дня: церковь, венчание, свадьбу… Что я натворила, слегка охмелев от вина, думала она, и зачем это золотое кольцо, эта блестящая безделушка, в которую я добровольно сунула палец. Такое же кольцо красовалось на пальце Стефано, поросшем черными волосками. Лила вспомнила, каким видела Стефано на пляже, в плавках. Широкая грудь, выступающие вперед колени, похожие на перевернутые чашки. В его облике не было ничего, совсем ничего, что могло бы ей понравиться. Чужое и неприятное существо, он сидел сейчас напротив нее, в пиджаке и при галстуке, шевеля толстыми губами, то и дело почесывая ухо и беспрестанно тыкая вилкой в ее тарелку, чтобы попробовать из нее то одно, то другое. Этот Стефано не имел ничего общего с симпатичным торговцем из колбасной лавки, чье честолюбие и самоуверенность сочетались с вежливыми манерами, как не имел ничего общего с тем человеком, с которым ее обвенчали сегодня утром в церкви. Когда он двигал белозубой челюстью, ей становился виден огромный розовый язык в темном проеме его рта, и она не могла отделаться от ощущения, что что-то в нем и вокруг него не так. Сидя за столом, мимо которого сновали официанты, она размышляла о том, как оказалась здесь, в Амальфи, и понимала, что этого просто не могло быть, но это все же случилось. Потом лицо чужака за столиком просветлело: он понял, что буря миновала, что она прислушалась к его резонам и признала его правоту, а значит, он может обсудить с ней свои грандиозные планы, а Лила вдруг подумала, что надо незаметно стащить со стола нож; если в номере он попробует к ней сунуться, она перережет ему глотку.
Но она не взяла нож. В этом ресторане, за этим столом, в ее затуманенном вином сознании весь этот брак, от подвенечного платья до обручального кольца, представлялся ей полным бредом, как и предположение о том, что Стефано полезет к ней с сексуальными домогательствами. Она уже придумала, как унести нож (прикрыла его салфеткой, салфетку уронила себе на колени и уже собиралась открыть сумочку, чтобы спрятать нож в нее), но в конце концов отказалась от своей затеи. Связи, объединившие ее замужество с этим рестораном и с Амальфи, казались ей настолько призрачными, что к концу ужина она уже почти не слышала голоса Стефано; в ушах у нее стоял какой-то неясный гул, а перед глазами все плыло.
По дороге в отель Стефано снова пустился в рассуждения о том, что Солара не так уж плохи. У них есть влиятельные знакомые в кругах городских властей и связи с заправилами монархистской и фашистской партий. Ему нравилось строить из себя посвященного, он говорил так, как будто действительно в чем-то разбирался: да, политика – грязное дело, но, если хочешь делать деньги, без нее не обойтись. Лила вспомнила свои давние разговоры с Паскуале да и с тем же Стефано, когда они только начали встречаться; тогда они строили планы, как навсегда порвут с родителями, с жестокостью и лицемерием мира, в котором выросли. Он поддакивал ей и во всем с ней соглашался, но на самом деле даже не слушал ее. С кем я тогда говорила, думала она. Кто он вообще такой? Я не знаю этого человека.
И все же, когда Стефано взял ее за руку и шепнул ей на ушко, что любит ее, она его не оттолкнула. Быть может, она хотела внушить ему, что все идет как надо, что они действительно обычные молодожены и у них медовый месяц, чтобы потом, когда она скажет ему, до чего он ей отвратителен и что она не видит разницы, с кем лечь в постель – с ним или с гостиничным носильщиком: у обоих одинаково желтые от табака пальцы, – он прочувствовал всю глубину ее омерзения к себе. А может – и это моя личная версия, – Лила была так напугана, что просто тянула время.
Едва они вернулись в номер, Стефано набросился на нее с поцелуями, но она отпрянула, открыла чемодан, достала ночную рубашку и протянула ему пижаму. Этот знак внимания вызвал у него довольную улыбку, и он снова попытался ее поцеловать, но Лила вырвалась и заперлась в ванной комнате.
Оставшись одна, Лила долго умывалась, стараясь избавиться от винных паров и ощущения, что мир вокруг потерял четкие очертания. Но оно не проходило, хуже того, ей казалось, что ее не слушаются собственные руки. Что мне делать, думала она. Буду сидеть здесь всю ночь. Но что потом?
Теперь она жалела, что не взяла в ресторане нож; и даже попыталась себя убедить, что он лежит у нее в сумочке, хотя точно знала, что это не так. Сидя на краешке ванны, она сравнила ее с той, что была установлена в их новой квартире, и пришла к выводу, что ее ванна лучше. И полотенца у нее были качеством выше. У нее? Но разве это все – ванна, полотенца и прочее – принадлежит ей? Нет, все эти красивые вещи принадлежат тому человеку, что поджидает ее за дверью. Все это – собственность Карраччи. И она теперь – собственность Карраччи. Раздался стук в дверь.
– Что ты там делаешь? С тобой все в порядке?
Лила ничего не ответила.
Ее муж немного помедлил и постучал снова. Без результата. Тогда он начал нервно дергать ручку и с фальшивой веселостью в голосе крикнул:
– Мне что, дверь высадить?
Лила не сомневалась, что так он и сделает, – карауливший ее под дверью незнакомец был способен на все. Но и я, подумала Лила, способна на все. Она разделась, включила воду, вымылась и надела ночную рубашку, с отвращением вспоминая, как тщательно выбирала ее несколько месяцев назад. Стефано – просто имя, не имеющее никакого отношения к человеку, чьи привычки и чувства она знала и понимала еще несколько часов назад, – сидел на краешке кровати и при виде Лилы вскочил на ноги.
– Сколько можно?..
– Столько, сколько нужно.
– Ты прямо красавица!
– Я устала и хочу спать.
– Успеем выспаться.
– Нет, я ложусь спать. На свою половину. А ты на свою.
– Брось, иди ко мне.
– Я серьезно говорю.
– Я тоже не шучу.
Стефано рассмеялся и потянулся к ней. Лила отпрянула, и он помрачнел.
– Что с тобой?
Лила колебалась, подбирая точные слова, и наконец медленно произнесла:
– Я не хочу.
Стефано недоуменно покачал головой, словно она говорила на незнакомом ему языке. Он так долго ждал этой минуты, забормотал он, мечтал о ней день и ночь.
– Ну пожалуйста, – настойчиво сказал он, беспомощным жестом указал на пижамные штаны цвета красного вина и, криво улыбнувшись, добавил: – Сама посмотри, что ты со мной делаешь.
Лила невольно опустила взгляд, но от отвращения ее чуть не вывернуло, и она тут же отвела глаза.
Стефано увидел, как она отступает к дверям ванной, звериным прыжком бросился ей наперерез, подхватил ее на руки и бросил на кровать. Что он делает? Он что, не понимает? Он и правда ничего не понимал. Ему казалось, что, пока они сидели в ресторане, между ними все прояснилось. Почему Лина так странно себя ведет? Ну да, она же еще совсем девчонка. Он рассмеялся и попытался ее успокоить.
– Вот увидишь, тебе понравится, – сказал он. – Не бойся. Я так тебя люблю, больше всех на свете.
Но Лила уже спустила ноги с кровати, готовая убежать. Как же с ней сложно. Все у нее не как у людей: «да» означает «нет», а «нет» – «да».
– Ну, с меня хватит, – пробормотал Стефано и прижал ее запястья к кровати.
Лила принялась брыкаться.
– Ты хотела подождать, и я терпеливо ждал. Мне было нелегко быть с тобой рядом и ни разу до тебя не дотронуться, но я терпел. Теперь мы муж и жена, так что будь умницей. Вот увидишь, это совсем не страшно.
Он наклонился ее поцеловать, но Лила замотала головой из стороны в сторону, повторяя:
– Оставь меня в покое! Я не хочу, не хочу, не хочу!
Стефано не выдержал. Его голос против воли сорвался на крик:
– Лина, хватит! Не зли меня!
Он повторил это дважды или трижды, с каждым разом все громче, как будто исполнял чей-то приказ, доносившийся неизвестно откуда, возможно, из тех времен, когда его еще не было на свете. Приказ звучал так: «Стефано, будь мужчиной. Если не сломаешь ее сейчас, не сломаешь уже никогда. Покажи ей, кто здесь главный. Она женщина, а женщина должна быть послушной». «Не зли меня, не зли меня», – слышала Лила. Глядя на него, всей своей тяжестью навалившегося на ее хрупкое тело, чувствуя его твердый пенис, натянувший ткань пижамы, Лила вдруг вспомнила, как много лет назад Стефано поймал ее и, ухватив пальцами за язык, пригрозил, что проткнет его булавкой – за то, что она посмела обойти Альфонсо в школьном состязании. Она внезапно осознала, что перед ней не Стефано, а старший сын дона Акилле. В тот же миг в лице ее молодого мужа проглянули черты, которые он долгое время скрывал от нее, но сейчас они явственно проступили. О да, чтобы нравиться ей и другим, Стефано очень старался: придавал лицу кроткое выражение, смотрел ласково и говорил мягким голосом; он приучил свои пальцы, руки и все тело прятать таящуюся в них силу. Но сейчас необходимость пускать ей пыль в глаза отпала, и Лилу охватил забытый детский ужас, испытанный давным-давно, когда мы спускались в подвал за куклами. Дон Акилле восстал из праха, чтобы пожрать собственного сына и завладеть его телом. Отец натянул на себя его кожу, заменил его глаза своими, вселился в него, изгнав прочь доброго и милого Стефано. Это не Стефано, а дон Акилле рвал на ней шелк рубашки, грубо мял ее грудь и кусал соски, не давая ей пошевелиться. Она собрала последние силы и, преодолев свой страх – она всегда была отважной, – вцепилась ему в волосы, одновременно впившись зубами в его мясистую руку. Стефано отпрянул, но тут же схватил ее за руки, своими огромными кривыми ногами прижал их к кровати и прошипел:
– Будешь дергаться, сломаю тебе пару ребер.
Лила не сдавалась и продолжала изо всех сил крутиться на постели, пытаясь сбросить его с себя, но все было бесполезно. Теперь, когда руки у Стефано освободились, он начал легонько пощипывать ее кончиками пальцев и, нависая над ней, бормотал:
– Посмотри, какой большой! Хочешь его? Скажи, что хочешь! Скажи, что хочешь! Скажи, что хочешь!
С этими словами он вытащил из штанов свой пенис, показавшийся Лиле странной безрукой и безногой куклой, которая покачивалась над ней, словно пыталась оторваться от другой, огромной куклы с широко разинутым ртом, изрыгавшим хриплые звуки:
– Сейчас ты его попробуешь, Лина, и тебе понравится. Ни у кого в городе нет такого…
Она все еще сопротивлялась, и Стефано хлестнул ее по щекам, сначала наотмашь, а потом тыльной стороной ладони. Удары были такими сильными, что она поняла: если она будет упорствовать, Стефано ее убьет. Или это был дон Акилле? Весь квартал боялся дона Акилле: ему ничего не стоило схватить человека и стукнуть его о стену или о дерево, и Лила сдалась. Бунтарство в ней сменилось чистым ужасом. Пока Стефано задирал на ней рубашку, шепча ей на ухо: «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю, но я тебе покажу, завтра будешь меня умолять, чтобы я опять сделал с тобой то же, что сейчас, и даже больше, ты на коленях передо мной будешь стоять, а я скажу, хорошо, но только если ты будешь меня слушаться, да, если ты всегда будешь меня слушаться», – пока он все это бормотал, Лила была уже далеко.
Когда после нескольких неловких попыток он грубо и нетерпеливо вошел в нее, она уже не видела и не ощущала ничего: ночь, гостиничный номер, поцелуи Стефано и его руки на ее теле – все исчезло, затопленное чувством ненависти. Она ненавидела Стефано Карраччи, ненавидела его силу, ненавидела его тяжелое тело; она ненавидела самое его имя.
8
Четыре дня спустя молодожены вернулись в город. В тот же вечер Стефано пригласил в гости родителей и брата Лилы и с несвойственной ему робостью попросил Фернандо рассказать Лиле про соглашение с Сильвио Соларой. Фернандо недовольно скривился и хоть и путано, но подтвердил дочери версию Стефано. Затем Карраччи обратился к Рино, и тот признался, что действительно отдал Марчелло те самые ботинки – иначе было никак нельзя. Свою речь Рино, напустивший на себя вид человека, знающего что почем, заключил напыщенным выводом: «Бывают ситуации, когда мы вынуждены считаться с обстоятельствами», после чего напомнил историю о том, как Паскуале, Антонио и Энцо избили братьев Солара и расколотили их автомобиль.
– Знаешь, чем они рисковали? – повысив тон, сказал Рино. – Твои друзья, твои рыцари в сверкающих доспехах? Марчелло их узнал. Он был уверен, что это ты их подослала. Что нам было делать? Позволить Солара расправиться с нами? Они же могли нас по миру пустить! И ради чего? Из-за каких-то ботинок сорок третьего размера, которые твой муж все равно никогда не наденет, потому что они ему малы и к тому же промокают при первом дожде? Мы хотели помириться с Солара, а раз уж Марчелло так мечтал об этих ботинках, отдали их ему, да и дело с концом.
Слова… С их помощью можно выстроить что угодно и что угодно разрушить. Лила никогда не лезла за словом в карман, но, вопреки опасениям брата, сейчас промолчала. Приободрившись, Рино напомнил ей, что это она с малых лет внушала ему, как важно во что бы то ни стало разбогатеть.
– Вот и помогай нам разбогатеть, – смеясь, добавил он. – Не устраивай лишних проблем, их в жизни и без тебя хватает.
В этот момент в дверь позвонили – для хозяйки дома это был сюрприз, но только для нее. На пороге стояли Пинучча, Альфонсо и свекровь Лилы, Мария, которая держала в руках поднос с пирожными, испеченными самим Спаньюоло – лучшим у Солара кондитером.
Поначалу Лила решила, что они пришли отпраздновать возвращение молодоженов, тем более что Стефано пустил по кругу пачку только что полученных от фотографа свадебных фотографий (фильм, объяснил он, будет готов чуть позже). Но скоро ей стало ясно, что об их свадьбе все уже забыли, а пирожные появились по случаю нового счастливого события – помолвки Рино и Пинуччи. Обсуждение болезненной темы прекратилось само собой. Рино, перейдя на диалект, сказал, что сделал Пинучче предложение, получил согласие и захотел отметить эту радостную новость в прекрасной квартире своей сестры. Затем он театральным жестом достал из кармана сверток, развернул бумагу и показал Лиле черную бархатную коробочку, в которой лежало бриллиантовое кольцо.
Лила заметила, что кольцо было похоже на ее собственное, которое она носила рядом с обручальным, и удивилась, откуда у Рино такие деньги. Последовали поздравления, объятия и поцелуи. Все говорили о будущем. Обсуждали, кто будет управлять фирменным обувным магазином «Черулло», который осенью должен открыться на пьяцца Мартири – во всяком случае, так обещал Солара. Рино предположил, что этим могла бы заняться Пинучча, одна или вместе с Джильолой Спаньюоло, которая обручилась с Микеле и тоже хотела быть в деле. Глаза у всех горели надеждой и радостным предвкушением.
Лила весь вечер провела на ногах. Сидеть ей было больно. Никто, даже ее родная мать, не обратил внимания на то, что она ни разу не раскрыла рта. Правый глаз у нее припух, верхняя губа была поцарапана, а на руках темнели синяки.
9
Когда я встретила ее на лестнице возле квартиры свекрови и сняла с нее шарф, то увидела следы побоев. Кожа под глазом было иссиня-желтой, на верхней губе запеклась кровь от ссадины.
Родным и друзьям Лила сказала, что поскользнулась на скалах в Амальфи, когда они с мужем брали лодку, чтобы отправиться на морскую прогулку. За обедом по случаю помолвки брата с Пинуччей она разговаривала в своей обычной насмешливой манере, и все делали вид, что поверили ей, особенно женщины, которые знали, как следует себя вести после того, как любящий муж изобьет тебя до потери сознания.
Мало того, во всем квартале не было ни одного человека, особенно среди женского населения, который не считал, что Лила давно заслужила хорошую трепку. Поэтому слух о том, что Стефано лупит молодую жену, не только не повредил его репутации, но, напротив, приподнял его в глазах соседей: вот настоящий мужчина, который умеет себя поставить.
Но я, увидев Лилу в таком жалком состоянии, почувствовала ком в горле и крепко обняла ее. Когда она сказала, что не пригласила меня потому, что не хотела показываться в таком виде, у меня на глаза навернулись слезы. О своем медовом месяце она говорила коротко, холодно и сухо, и я сначала обиделась, а потом, признаюсь, даже слегка обрадовалась. Мне было приятно думать, что Лила нуждается в помощи и защите, что она не скрыла передо мной свою слабость, как скрывала ее перед всеми остальными. Я почувствовала, что дистанция, разделявшая нас, исчезла, и призналась ей, что решила бросить учебу, потому что это бессмысленно – кто я такая и что собой представляю? Мне показалось, что мои слова обрадовали Лилу. Но тут на верхнем этаже появилась ее свекровь и крикнула, чтобы Лила поднималась. Она успела только шепнуть мне, что Стефано обвел ее вокруг пальца и что он такой же, как его отец.
– Помнишь, как вместо кукол дон Акилле дал нам денег?
– Конечно.
– Не надо было нам их брать.
– Но мы купили «Маленьких женщин».
– Мы сделали глупость. С тех пор вся моя жизнь превратилась в череду сплошных ошибок.
Лила выглядела спокойной, но очень грустной. Она снова надела очки и повязала шарф. Меня порадовало это «мы»: «не надо было нам», «мы сделали глупость»… Но под конец она сказала «моя жизнь», и это меня огорчило. «Не твоя, а наша жизнь!» – хотелось мне крикнуть, но я промолчала. У меня сложилось впечатление, что она пытается осознать себя в новом статусе и ищет хоть каких-то зацепок, чтобы не впасть в отчаяние.
Прежде чем подняться на следующий этаж, она предложила:
– Хочешь, приходи ко мне заниматься?
– Когда?
– Хоть сегодня, хоть завтра. Всегда.
– А Стефано не будет против? Все же он хозяин…
– А я хозяйка.
– Лила, я даже не знаю.
– Я выделю тебе комнату, можешь в ней закрыться.
– Зачем тебе это?
Она пожала плечами.
– Чтобы знать, что ты рядом.
Я ничего не ответила. И, как всегда в этот час, пошла гулять по городу. Лила была уверена, что я никогда не осмелюсь бросить учебу. Она привыкла к тому, что я прыщавая очкастая зубрила, которая не вылезает из книг, и даже не представляла себе, как я изменилась. Но эта роль перестала меня устраивать. Из-за того что мою статью так и не опубликовали, я убеждала себя, что должна знать свое место. Нино, как и мы с Лилой, родился и вырос в бедности, но, в отличие от меня, подходил к учебе с умом. А с меня довольно. Пора кончать с иллюзиями и с бессмысленным трудом. Надо принять судьбу, как это сделали Кармела, Ада, Джильола, а по-своему даже Лила. Я не пошла к ней ни назавтра, ни на следующий день и, терзаясь сомнениями, продолжала прогуливать школу.
Как-то утром я бродила неподалеку от лицея и вышла на виа Ветеринариа, что тянется вдоль Ботанического сада. Мысли крутились вокруг недавнего разговора с Антонио: сын вдовы и единственный кормилец семьи, он надеялся избежать призыва в армию, вытребовать прибавку к жалованью и начать копить деньги, чтобы приобрести бензозаправку. Когда мы поженимся, мечтал он, я буду работать на ней вместе с ним. Простая, немудреная жизнь – моя мать такую одобрила бы. Сколько можно зависеть от мнения Лилы, твердила я себе. Но выкинуть из головы мечты, связанные с учебой, было не так просто. Ноги сами понесли меня в сторону школы. Уроки как раз заканчивались, и я боялась, что меня увидят, но одновременно хотела этого. Пусть кто-нибудь наконец скажет мне, что я ни на что не гожусь! Или наоборот, поможет начать все сначала? Показались первые группки учеников. Кто-то меня окликнул. Это был Альфонсо, который поджидал Маризу.
– Вы что, теперь вместе? – с усмешкой спросила я.
– Еще чего! Это она вбила себе в голову.
– Врешь.
– Кто из нас врет, так это ты. Говоришь, что болеешь, а сама… Галиани про тебя каждый день спрашивает. Я отвечаю, что ты с температурой лежишь.
– Так и есть.
– Оно и видно.
Под мышкой он держал стянутые резинкой книги, лицо было усталым. Интересно, в хрупком Альфонсо тоже скрывается дон Акилле? Неужели родители никогда не умирают, а из сыновей всегда проступают отцы? Неужели и во мне рано или поздно проснется моя мать? И я тоже буду ходить прихрамывая? Неужели это моя судьба?
– Ты видел, что сделал с Линой твой брат? – спросила я.
Альфонсо помрачнел.
– Да.
– И ты ничего ему не сказал?
– Надо еще посмотреть, что она с ним сделала.
– А ты собираешься так же поступать с Маризой?
– Нет, ты что! – хмыкнул он.
– Уверен?
– Да.
– И почему же ты так уверен?
– Потому что я знаю тебя, потому что мы с тобой разговариваем, потому что учимся в одной школе…
В тот момент я не поняла, что он имеет в виду. При чем тут я? При чем тут наши разговоры и учеба в одной школе? В конце улицы показалась Мариза; она опаздывала и потому бежала.
– Вот и твоя девушка, – сказала я.
Альфонсо даже не обернулся, лишь пожал плечами и тихо сказал:
– Возвращайся в школу. Прошу тебя.
– Я болею, – отрезала я и пошла прочь.
Мне не хотелось встречаться с сестрой Нино, даже чтобы просто бросить ей: «Привет». Меня приводило в смятение все, что напоминало о нем. Но странные рассуждения Альфонсо оказали на меня благотворное воздействие. По дороге домой я все время вспоминала его слова. Он сказал, что никогда не поднимет руку на жену потому, что знаком со мной, потому, что мы разговариваем, и потому, что сидим за одной партой. Он говорил искренне, в этом я не сомневалась, нисколько не боясь показаться передо мной слабаком. Я была благодарна ему за это путаное признание, которое принесло мне утешение и заставило задуматься. Мои и без того не слишком твердые убеждения рассыпались в прах. Наутро я подделала мамину подпись и пошла в школу. Вечером у прудов, прижимаясь к Антонио – было очень холодно, – я дала ему слово, что после окончания школы выйду за него замуж.
10
Но нагнать потерянное время оказалось трудно, особенно по естественно-научным предметам, и я стала реже встречаться с Антонио, чтобы не отвлекаться от учебы. Несколько раз я даже пропустила свидание, потому что не успевала с домашними заданиями. Антонио недовольно хмурился:
– Что случилось?
– Мне уроки надо делать.
– С чего это у тебя вдруг так много уроков?
– Не вдруг, а как всегда.
– Раньше что-то не замечал.
– Так совпало.
– Ты что-то от меня скрываешь, Лену?
– Ничего.
– Ты меня любишь?
Я уверяла, что да, но время, проведенное с ним, пролетало слишком быстро, и я возвращалась домой, злясь на себя, потому что уроков меньше не становилось.
Антонио по-прежнему был одержим ревностью к тому, кого он называл сыном Сарраторе. Он боялся, что в школе я буду разговаривать с Нино и даже просто видеться с ним. Разумеется, я умалчивала о том, что постоянно сталкиваюсь с Нино в школьных коридорах. Ничем особенным эти встречи не заканчивались – мы кивали друг другу и расходились в разные стороны; я могла бы с чистым сердцем рассказать об этом Антонио, но понимала, что даже такая ерунда приведет его в бешенство. Антонио не желал слушать голос разума, как, впрочем, и я. И хотя Нино вел себя скорее отчужденно, мысли о нем отвлекали меня от занятий. Зная о том, что он где-то совсем рядом, в соседнем классе, – реальный, живой, знающий больше, чем некоторые учителя, смелый и независимый, – я не могла сосредоточиться на лекциях и учебниках, не говоря уже о планах замужества и бензозаправке.
Дома дела обстояли не лучше. Мне и так стоило немалых трудов не думать об Антонио, Нино и собственном будущем, а тут еще мать без конца требовала, чтобы я сделала то одно, то другое, да и младшие постоянно приставали, прося помочь с домашними заданиями. Конечно, для меня в этом не было ничего нового, я привыкла, что дома вечный кавардак, но моя решимость быстро нагнать упущенное время угасала на глазах: совмещать упорные занятия с домашними делами никак не получалось. Сначала я помогала матери, потом проверяла уроки у братьев и сестры, а потом наступал поздний вечер и надо было ложиться спать. Если раньше я охотно жертвовала сном ради учебы, то сейчас у меня не было на это сил: глаза слипались, я закрывала книги и падала в постель.
В школу я приходила неподготовленной и на уроках сидела, дрожа от страха, что меня вызовут к доске. Разумеется, долго так продолжаться не могло. Как-то раз я в один и тот же день получила двойки по химии, истории и философии; последняя меня доконала, и я расплакалась перед всем классом. Это было ужасно – ощущение кошмара, смешанного с удовольствием: страх от того, что я натворила, и одновременно дерзкую гордость – я сумела выскочить из накатанной колеи.
После уроков ко мне подошел Альфонсо. Лила просила его передать, что ждет меня у себя. «Не отказывайся, – убеждал он меня, – там хоть сможешь нормально позаниматься». Я решила прислушаться к его совету и в тот же день отправилась в новый район. Впрочем, я шла к Лиле вовсе не затем, чтобы сидеть на учебниками; я надеялась, что мы с ней наконец обо всем подробно поговорим; гибнущая репутация отличницы больше меня не волновала. Уж лучше целый вечер проболтать с Лилой, чем терпеть придирки матери и приставания младших, думать про Нино и выслушивать упреки Антонио. По крайней мере, узнаю хоть что-то о замужней жизни, которая скоро – в этом я не сомневалась – ждет и меня.
Лила обрадовалась моему появлению и не скрывала этого. Отек у нее под глазом почти прошел, губа зажила. Она была красиво одета, причесана и накрашена, а по квартире ходила так, словно была не у себя дома, а пришла в гости. В прихожей все еще высилась груда коробок со свадебными подарками, в комнатах пахло штукатуркой, свежей краской и – слегка – спиртом от новой мебели в гостиной: стола и зеркального буфета с резными украшениями в виде листвы, в котором стоял серебряный сундучок со столовыми приборами, а полки ломились от тарелок, бокалов и бутылок с напитками всех цветов радуги.
Лила сварила кофе. Мне нравилось сидеть с ней в просторной кухне и строить из себя важную даму, как когда-то в детстве, когда мы играли возле подвальной решетки. Здесь было тихо, и я жалела, что не приходила раньше. У меня есть подруга-ровесница, обладательница целой квартиры, полной прекрасных дорогих вещей. Подруге совершенно нечем заняться, и она искренне мне рада. Пусть мы обе изменились – и продолжаем меняться, – взаимная симпатия никуда не делась. Так почему бы мне не расслабиться? Впервые со дня свадьбы Лилы я чувствовала себя спокойно.
– Как у тебя со Стефано?
– Нормально.
– Выяснили отношения?
– Мне с ним давно все ясно, – ухмыльнулась Лила.
– Что именно?
– Меня от него воротит.
– Как в Амальфи?
– Угу.
– Он тебя бьет?
Она провела рукой по лицу.
– Нет, больше не бьет.
– Так в чем же дело?
– В унижении.
– А ты что?
– Делаю, что он хочет.
Я поколебалась, но все же спросила:
– По крайней мере, в постели тебе с ним хорошо?
Лила сморщилась и сразу посерьезнела. Когда она говорила о муже, на ее лице возникало выражение покорной гадливости. Не враждебности, не неприязни, даже не отвращения, а пренебрежительного презрения, как от чего-то грязного и невероятно противного.
Я слушала, пытаясь ее понять, но все же не понимала. Много лет назад Лила замахнулась на Марчелло сапожным ножом, угрожая убить его только за то, что он посмел схватить меня за руку и сломал мой браслет. Я была уверена: попробуй Марчелло сунуться к Лиле, она перерезала бы ему глотку. Но к Стефано она никогда не проявляла никакой агрессии. Конечно, это объяснялось тем, что мы выросли в похожих семьях и с детства привыкли, что отцы лупят матерей. Мы знали, что никто из посторонних не имеет права и пальцем нас тронуть, зато отец, муж или жених может распускать руки сколько хочет, и не важно, с какой целью – отомстить за обиду, проучить и еще раз проучить. Стефано, в отличие от ненавистного ей Марчелло, был человеком, которого она полюбила, с которым связала себя браком и поселилась под одной крышей; иначе говоря, Лила знала, на что шла. И все же что-то в моих рассуждениях не сходилось. Для меня она была не просто соседской девчонкой – она была Лилой. На лицах наших матерей, регулярно поколачиваемых мужьями, я никогда не видела этого выражения холодного презрения. Они плакали, угрюмо огрызались, жаловались друг другу и охотно перемывали мужьям кости у них за спиной, но в глубине души хранили к ним уважение (моя мать, например, очень гордилась умением отца проворачивать кое-какие темные делишки). Лила вроде бы смирилась со своей участью, но было ясно, что она ни в грош не ставит Стефано.
– А мне с Антонио хорошо, – сказала я, – хоть я его и не люблю.
Я надеялась, что Лила, как в старые добрые времена, услышит в моих словах скрытый подтекст. Я любила Нино – мне казалось, она должна об этом догадываться, – но мысли об Антонио, его поцелуях и наших свиданиях на прудах приятно щекотали мои чувства. Любовь в моем понимании была связана не с удовольствием, а с уважением. Но, может быть, то, о чем говорила Лила, – отвращение к мужчине и чувство унижения — неизбежно возникает после того, как он вынудит тебя делать то, что приносит удовольствие ему, не слушая твоих возражений просто потому, что отныне считает тебя своей собственностью, вне зависимости от того, любишь ты его или нет, уважаешь или нет? Что происходит, когда ты оказываешься в постели с мужчиной, бессильная ему противостоять? Лила это уже пережила, и мне хотелось расспросить ее, как это было. Но она лишь насмешливо бросила:
– Значит, тебе с ним хорошо? Тем лучше для тебя.
Потом встала и отвела меня в комнату с окнами, выходящими на железную дорогу. Из всей мебели здесь был только письменный стол, стул и кушетка. И голые стены – ни картин, ни фотографий.
– Нравится?
– Да.
– Тогда садись и занимайся.
Она вышла и закрыла за собой дверь.
В комнате еще сильнее, чем в остальной квартире, пахло сырой штукатуркой. Я выглянула в окно. Будь моя воля, я бы предпочла и дальше болтать с Лилой. Очевидно, Альфонсо рассказал ей, что я прогуливала школу и скатилась на двойки, и Лила решила, что должна вернуть меня на путь истинный, даже против моего желания – она всегда верила в мой разум. Ну что ж, так тому и быть. Я слышала, как она ходит по квартире. Потом зазвонил телефон, и она сняла трубку. Меня поразило, что она не сказала: «Алло, это Лина» или хотя бы: «Алло, это Лина Черулло». Нет, она сказала: «Алло, это синьора Карраччи». Я села за стол, раскрыла учебник истории и погрузилась в чтение.
11
Последние месяцы учебного года превратились в пытку. Здание, в котором располагался лицей, было старым, крыша в нем протекала, и классные комнаты без конца заливало. После особенно сильной грозы дорогу размыло так, что по ней было не пройти. В школу мы теперь ходили через день, но на дом задавали столько, что было не продохнуть. Несмотря на возмущение матери, я взяла за правило сразу после уроков идти к Лиле.
Я появлялась у нее около двух, бросала сумку с книгами и шла на кухню. Лила делала мне бутерброд – с прошутто, сыром, салями. У нее всегда находилось все, чего ни попроси, – не то что у меня дома. Как вкусно у нее пахло свежим хлебом и какими восхитительными были тающие на языке лаковые красноватые ломтики прошутто с тонкими полосками белого сала! Я жадно проглатывала угощение, а Лила варила мне кофе. Мы едва успевали обменяться парой коротких фраз, как она закрывала меня в маленькой комнате и почти не заглядывала ко мне, разве что изредка, чтобы принести что-нибудь перекусить и выпить вместе со мной кофе. Встречаться со Стефано, который возвращался домой около восьми вечера, мне хотелось меньше всего на свете, и около семи я уходила.
Я быстро освоилась в их квартире, привыкла к ее освещению и звукам поездов. Каждая вещица, каждый предмет сиял здесь новизной и чистотой, но особенно меня восхищали белоснежные ванна, биде, раковина и унитаз. Однажды, осмелев, я спросила Лилу, нельзя ли мне принять у нее ванну – дома мне приходилось мыться над раковиной или в медном тазу. Она ответила, что у нее я могу делать все что угодно, и принесла мне полотенца. Я наполнила ванну горячей водой, разделась и погрузилась по самую шею.
Приятное тепло обволокло тело неожиданной лаской. На краю ванны стояло множество флаконов и бутылочек. Я перепробовала их все, и вскоре жаркий воздух в ванной наполнился пьянящими цветочными ароматами. И все эти прекрасные вещи теперь принадлежали Лиле! Она заходила в ванную не просто для того, чтобы смыть с тела грязь, – она наслаждалась этими роскошествами. Я с восторгом рассматривала тюбики губной помады, коробки пудры, большое зеркало, которое не искажало изображения… Здесь нашелся даже фен. После купания моя кожа стала непривычно гладкой, а высушенные под горячим воздухом волосы распушились, посветлели и приобрели блеск. Вот оно, богатство, о котором мы мечтали в детстве, думала я. Не сундуки с золотыми монетами и бриллиантами, а прекрасная ванна, в которой можно нежиться хоть каждый день, свежий хлеб с салями и прошутто, простор, собственный телефон, забитый продуктами холодильник, а на буфете – фотография в серебряной рамке, запечатлевшая тебя в подвенечном платье. Разве это не счастье – иметь такую квартиру, с такой кухней, столовой, двумя балконами и маленькой комнатой, где сейчас сижу над книгами я и где скоро, когда придет время (хотя Лила не обмолвилась об этом ни словом), будет спать младенец.
Вечером я поспешила к прудам. Мне не терпелось показаться Антонио. Мне хотелось, чтобы он потрогал меня, такую чистую и благоухающую неземными ароматами, и восхитился моей по-новому засиявшей красотой. Я несла ему себя как драгоценный дар, но он при виде меня не обрадовался, а испугался и сказал, что никогда не сможет окружить меня такими же прекрасными вещами. «С чего ты взял, что они мне нужны?» – вспыхнула я. «С того, что ты всегда все повторяешь за Линой», – ответил он. Я разозлилась, и мы поссорились. Я – сама по себе. Я делаю только то, чего сама хочу и на что не способны ни он, ни Лила. Я хожу в школу, я учусь как проклятая, я скоро сдохну над этими книгами! Я крикнула ему, что он никогда меня не понимал, что его слова для меня оскорбительны, и убежала от него.
Конечно, Антонио меня понимал, даже слишком хорошо понимал. С каждым днем квартира подруги как будто все больше околдовывала меня, я попадала в нее как в волшебную сказку, где к моим услугам было все, чего ни пожелай, где я спасалась от серого убожества нищего квартала, в котором выросла, от его облупленных стен и разбитых дверей, от вечного старья, заполнявшего наши дома. Лила старалась мне не мешать, но я сама постоянно ее дергала: можно попить, можно что-нибудь съесть, можно включить телевизор, можно посмотреть то, можно потрогать это? Заниматься мне совсем не хотелось, это было скучно и трудно. Порой я просила ее меня проверить. Она устраивалась на кушетке, а я, сидя за столом, открывала книгу на нужной странице, протягивала ей и пересказывала содержание параграфа.
Вскоре я поняла, что ее отношение к учебникам изменилось. Теперь они ее немного пугали. Она больше не пыталась ничего мне объяснять или поправлять меня, разве что иногда, уловив по паре предложений суть излагаемой проблемы, говорила: «Лучше начни прямо с этого, это тут самое важное». Если ей казалось, что я что-то напутала – она следила за моим рассказом по книге, – она прерывала меня и, сто раз извинившись, добавляла: «Не уверена, что я все правильно понимаю, взгляни сама, в чем тут дело». У меня складывалось впечатление, что она забыла про свою способность на лету схватывать любую мысль. Зато я про нее не забыла. Я видела, что химия, наводившая на меня тоску, у нее вызывала живое любопытство, и нескольких ее замечаний хватало, чтобы и меня заразить тем же азартом. Ей было достаточно прочитать полстраницы учебника философии, чтобы обнаружить связь между Анаксагором, склонностью человеческого разума к упорядочению окружающего хаоса и таблицей Менделеева. Но чаще всего Лила просто стеснялась высказываться, считая свои рассуждения наивными, а выводы ошибочными. Стоило ей поймать себя на том, что она слишком углубилась в тему, она как будто шарахалась в сторону, опасаясь ловушки, и бормотала себе под нос: «Ты хоть в этом разбираешься, а я вообще не понимаю, о чем речь».
Однажды она резко захлопнула книгу и недовольно сказала:
– Все, с меня хватит.
– Почему?
– Надоело. Везде одно и то же. Внутри одной малости – другая, еще меньше, которая рвется наружу, а снаружи – что-то большое, что пытается поймать и запереть то, что еще больше. Пойду ужин готовить.
Но в моих учебниках ничего не говорилось ни о малом, ни о большом. Мне было ясно: Лилу раздражали, а то и пугали собственные способности, и она предпочитала отступить.
Но куда?
Готовить ужин, наводить порядок в квартире, смотреть, приглушив звук, чтобы не мешать мне, телевизор или на проходящие мимо поезда, разглядывать нечеткий силуэт Везувия и глазеть на улицу этого нового квартала, где еще не было ни деревьев, ни магазинов, где иногда проезжала редкая машина да проходили мамаши с сумками продуктов и выводком детей. Время от времени она по просьбе Стефано или вместе с ним ходила проверять, как движется строительство новой лавки – она располагалась метрах в пятистах от дома. Однажды я пошла с ней. Она взяла с собой рулетку и промерила стены, чтобы заказать полки для будущего товара.
В общем, делать ей было особенно нечего. Я быстро поняла, что в замужестве Лила чувствовала свое одиночество еще острее, чем раньше. Я все-таки гуляла – с Кармелой, с Адой, даже с Джильолой, в школе общалась с девчонками из своего и параллельного класса, и мы иногда ходили поесть мороженого на виа Фория. Лила виделась только со мной и своей золовкой Пинуччей. Наши парни, которые и до свадьбы старались не вступать с ней в разговоры, теперь, даже столкнувшись с ней на улице, проходили мимо, не здороваясь. Между тем красота Лилы расцвела еще больше, в том числе благодаря одежде – точь-в-точь как на картинках из модных журналов, которые она покупала в огромных количествах. Но после замужества она оказалась в какой-то стеклянной клетке, напоминая корабль с обвисшими парусами, заключенный в замкнутом пространстве и лишенный надежды увидеть море. Паскуале, Энцо и Антонио никогда не заглядывали в новый квартал с пустынными улицами; никто из них не приближался к ее дому и ее квартире; им бы и в голову не пришло позвать ее прогуляться или просто поболтать. Даже телефон – черный аппарат, висевший на стене кухни, – казался бесполезным украшением. За все время, что я провела у Лилы, он звонил всего несколько раз. Обычно это был Стефано, который установил телефон и в лавке, чтобы принимать заказы у клиентов. Разговоры молодоженов были короткими; Лила скучным голосом говорила: «да», «нет», и все.
В основном она пользовалась телефоном, чтобы делать заказы. Из дома она почти не выходила – не хотела показываться с синяками на лице, – но покупки делать не перестала. Например, после моего блаженного купания и громких восторгов по поводу фена она позвонила и заказала новый фен – мне в подарок. Подняв трубку, она произносила волшебные слова: «Алло, говорит синьора Карраччи» и начинала торговаться и выяснять подробности, после чего соглашалась или отказывалась. Ей даже не приходилось платить – все местные торговцы прекрасно знали Стефано. Получая заказ, она с чуть заметной усмешкой расписывалась, выводя «Лина Карраччи» ровным, как учила нас синьора Оливьеро, почерком, и никогда не проверяла покупку, словно значение имели эти несколько букв на бумаге, а не приобретенный товар.
Лила купила несколько больших фотоальбомов в зеленых обложках с изображением цветов и наклеила в них свадебные снимки. Она и мне подарила довольно много фотографий, запечатлевших меня, моих родителей, братьев, сестру и даже Антонио. Эти фото она тоже заказывала по телефону. Как-то на одном из них я обнаружила Нино: на переднем плане стояли Альфонсо и Мариза, а справа от них, в углу, виднелось обрезанное лицо Нино: часть шевелюры, нос и рот.
– Можно мне вот эту? – неуверенно спросила я.
– Но тебя же на ней нет.
– Да вот я, стою спиной.
– Хорошо, я тебе напечатаю.
Но я уже передумала:
– Пожалуй, не стоит.
– Да ладно, мне не трудно.
– Не надо.
Но больше всего меня впечатлило приобретение кинопроектора. Когда фильм со свадьбы наконец смонтировали, оператор принес пленку и как-то вечером показал его молодоженам и их родственникам. Лила узнала, сколько стоит аппарат, заказала его и пригласила меня на просмотр. Она поставила проектор на стол в столовой, сняла со стены картину с морским штормом, ловко заправила пленку, задернула шторы, и на белой стене появились картины свадьбы. Это было настоящее чудо: фильм, снятый на цветную пленку, длился всего несколько минут, но заставил меня застыть с разинутым ртом. Я снова увидела, как Лила под руку с отцом заходит в церковь, как приближается к алтарю, где уже стоит Стефано, как они торжественно шествуют через парк Римембранце, долго целуются, входят в ресторан, танцуют… Я смотрела, как едят и танцуют родственники и друзья, как молодожены режут торт, как дарят бонбоньерки, как, оба уже в дорожных костюмах, прощаются на камеру: Стефано – весело, Лила – нахмурившись.
Я впервые видела себя со стороны и была поражена. В кадр я попала два раза. Сначала у алтаря, где стояла рядом с Антонио, – неуклюжая, нервная, очкастая девчонка, потом – за столом, рядом с Нино. Здесь меня было не узнать: я смеялась, поправляла волосы, крутила на руке материн браслет, двигалась легко и изящно и сама себе показалась милой и даже красивой.
– Смотри, как здорово ты вышла, – воскликнула Лила.
– Да брось, – слукавила я.
– Ты всегда хорошеешь, когда тебе весело.
Второй поразивший меня фрагмент фильма (я даже попросила Лилу отмотать пленку назад, чтобы посмотреть его еще раз, и она, не споря, исполнила мою просьбу) был связан с появлением братьев Солара. Оператор поймал момент, когда Нино выходил из зала, а Марчелло и Микеле в него входили. Братья держались рядом, плечом к плечу, оба в праздничных костюмах, оба высокие и мускулистые – результат многочасовых тренировок в спортзале. Нино проскользнул мимо них, задев рукав Марчелло; тот резко обернулся, скорчив злобную мину, но Нино уже исчез за дверью.
Разительный контраст между ним и братьями Солара больно ранил меня. И не потому, что Нино был бедно одет – в отличие от братьев, увешанных золотом: золотые цепи на шее, золотые браслеты на руках и золотые перстни на пальцах… Не потому, что Нино был худощав, и его худоба при высоком росте казалась хрупкостью: он и правда был выше крепких и коренастых, но отнюдь не низкорослых братьев. Дело было в другом. В том, как он ушел. Спесь Солара выглядела привычной и не удивляла, но рассеянность Нино, который толкнул Марчелло и даже не заметил этого, – вот что было странно. Даже Паскуале, Энцо и Антонио, которые ненавидели Солара, были вынуждены так или иначе с ними считаться. Но Нино прошел мимо них, не то что не извинившись, но не удостоив Марчелло и взглядом.
Эта сцена стала документальным доказательством того, что интуитивно я ощущала давно. Нино Сарраторе – тот самый, что рос рядом с нами в нашем бедном квартале и трясся от страха, обойдя в школьном состязании Альфонсо, – вдруг показался мне бесконечно далеким от того мира, где тон задавали Солара. Как будто он существовал в какой-то иной системе ценностей, и законы иерархии, вознесшие Солара над всеми нами, настолько его не интересовали, что потеряли над ним власть.
Я завороженно смотрела на него. Он предстал передо мной прекрасным принцем, способным одним только взглядом поставить на место и Микеле, и Марчелло: он их просто не замечал. В эту самую секунду во мне мелькнула надежда, что сказочный принц из фильма сделает то, чего не сделал настоящий Нино: возьмет меня за руку и уведет прочь отсюда.
Теперь и Лила обратила внимание на Нино.
– А, это тот самый парень, с которым ты сидела за столом? – с любопытством спросила она.
– Да, ты что, его не узнала? Это же Нино, старший из братьев Сарраторе.
– Тот, с которым ты целовалась на Искье?
– Это были детские глупости.
– Слава богу.
– Почему?
– Сразу видно, что он мнит о себе невесть что.
Мне захотелось защитить Нино.
– Он в этом году заканчивает лицей. И учится лучше всех.
– Так он поэтому тебе нравится?
– Нет.
– Забудь о нем, Лену. Антонио лучше.
– Ты так думаешь?
– Конечно. Посмотри на него: тощий, уродливый, да еще с кучей амбиций.
Это были оскорбительные слова, и я уже открыла было рот, чтобы воскликнуть: ничего подобного, он очень красивый, и жаль, что ты этого не понимаешь, такого, как он, не встретишь ни в кино, ни в книжках, ни по телевизору, я люблю его с детства, и это великое счастье, и даже если мне не на что надеяться, если мне суждено выйти замуж за Антонио и всю жизнь заправлять машины бензином, я все равно всегда буду любить его больше всех на свете, больше, чем себя.
Но вместо этого я сказала:
– Да, в детстве он мне нравился, но теперь он меня не интересует.
12
В следующие месяцы произошло много всяких мелких событий, в которых мне и сегодня нелегко разобраться. Я старалась казаться уверенной в себе и подчиненной железной дисциплине, но на самом деле у меня плохо получалось, отчего я постоянно испытывала приступы какого-то горького удовлетворения. Все вокруг как будто ополчились против меня. Я старалась упорно заниматься, но прежних хороших оценок мне больше не ставили. Так проходил день за днем, а меня не покидало чувство, что я словно и не живу. Утром – в школу, из школы – к Лиле, вечером – на пруды, и все это в состоянии бесцветного отупения. Дерганая, обиженная на весь свет, я часто ловила себя на том, что пытаюсь вину за все свои неприятности свалить на Антонио.
Ему тоже приходилось несладко. Он ждал наших свиданий, иногда даже убегал с работы и, краснея от смущения, подкарауливал меня возле лицея. Его все больше тревожило поведение матери, свихнувшейся Мелины, и он боялся, что его забреют в армию. Он сдал в призывную комиссию груду документов – свидетельство о смерти отца, справку о состоянии здоровья матери, подтверждение того, что он в семье единственный кормилец, – и вроде бы его оставили в покое. Но вскоре Энцо Сканно сообщил ему, что осенью идет служить, и Антонио испугался, что его тоже заберут. «Как я оставлю мать, Аду и мелюзгу без гроша? Кто о них позаботится?» – горестно вздыхал он.
Однажды он прибежал к лицею запыхавшийся: ему передали, что к ним приходили карабинеры, расспрашивали про него.
– Поговори с Линой, – взмолился он, – разузнай, как Стефано удалось отмазаться от призыва – как сыну вдовы или еще как.
Я старалась отвлечь его от мрачных мыслей и даже пригласила в пиццерию всю нашу компанию: его, Паскуале с Энцо и Аду с Кармелой. Я надеялась, что среди друзей Антонио хоть немного расслабится, но просчиталась. Энцо по обыкновению демонстрировал полнейшее спокойствие: службы в армии он не боялся, огорчался только, что отцу придется самому возить по улицам тележку, а здоровье у него уже не то, что прежде. Что до Паскуале, то он угрюмо поведал нам, что его забраковали из-за перенесенного в детстве туберкулеза. Он-то как раз хотел в солдаты, правда, вовсе не потому, что мечтал защищать родину. «Таким, как мы, – тихо говорил он, – надо научиться владеть оружием, потому что близится время, когда кое-кто за все нам заплатит». После этих его слов все заговорили о политике, вернее, о ней заговорил Паскуале, и выражений он не выбирал. Он утверждал, что фашисты хотят вернуться к власти с помощью христианских демократов и уже перетянули на свою сторону полицию и армию. Пора, говорил он, готовиться к решительным действиям. Обращался он в основном к Энцо, который согласно кивал головой. Обычно молчаливый, Энцо в ответ на его тираду хмыкнул и сказал: «Не волнуйся, вернусь и научу тебя стрелять».
На Аду и Кармелу этот разговор произвел большое впечатление: обеим льстило, что у них такие серьезные и опасные парни. Мне тоже хотелось принять в нем участие, но я понятия не имела, что это за сговор между фашистами, христианскими демократами и полицией, и никакого своего мнения у меня на этот счет не было. Время от времени я поглядывала на Антонио, надеясь, что эта тема захватит и его, но он думал только о своем и все выпытывал у Паскуале, каково это, служить в армии. Тот, хоть никогда не служил, ответил: «Жуть. Не согнешься – сломают, как соломинку». Энцо промолчал, словно его это все не касалось. Антонио прекратил жевать и, отодвинув тарелку с пиццей, пробормотал: «Они еще не знают, кого собрались гнуть. Пусть только попробуют, я их сам на куски разломаю».
Когда мы остались одни, он вдруг с тоской в голосе сказал:
– Я знаю, если меня заберут, ты ждать не станешь. Уйдешь к другому.
И тут я поняла: дело не в матери, не в Аде, не в младших братьях и сестре, которые остались бы без средств к существованию, и даже не в ужасных нравах, царящих в казарме. Дело было во мне. Антонио боялся надолго расставаться со мной, и я знала: никакие мои обещания и поступки не внушат ему доверия. Я предпочла сделать вид, что обиделась, и привела ему в пример Энцо.
– Он-то верит своей девушке, – прошипела я. – Призовут – пойдет и отслужит, и ныть не станет, хотя обручился с Кармелой. А ты подозреваешь меня неизвестно почему, тем более что ни в какую армию ты не попадешь. Стефано Карраччи не забрали, и тебя не заберут, а у вас обоих матери вдовы.
Мой напористый, но в то же время сочувственный тон немного его успокоил. И все же, обнимая меня на прощанье, он сказал:
– Смотри не забудь спросить у своей подруги.
– Она такая же моя, как твоя.
– Ясно, ясно, но ты все-таки спроси.
Назавтра я заговорила об этом с Лилой, но оказалось, что она понятия не имеет, почему Стефано не взяли в армию. Не слишком охотно, но она пообещала мне все разузнать.
Я рассчитывала получить ответ в тот же день, но мои надежды не оправдались. Отношения Лилы с мужем и его родней были далеки от идеальных. Мария жаловалась сыну, что его жена тратит слишком много денег. Пинучча что ни день устраивала скандалы и кричала, что ни за что не станет работать в новой лавке; у Стефано, возмущалась она, есть жена, вот пусть она и торчит за кассой. Стефано пытался усмирить мать и сестру, но в конце концов тоже начал попрекать Лилу за мотовство и все чаще намекал ей, что вскоре она должна будет подключиться к семейному предприятию.
Лила, которая, по моим наблюдениям, в этот период стала особенно скрытной, никогда не вступала с мужем в споры. На все его упреки она неизменно отвечала, что сократит расходы, и обещала, что, конечно, будет работать. При этом она тратила больше, чем прежде, а в новую лавку, куда раньше хоть изредка заглядывала, теперь не казала и носу. Ее синяки прошли, и она стала выбираться из дома, в основном по утрам, когда я была в школе.
Она гуляла с Пинуччей, и каждая из них старалась перещеголять другую в нарядах и расточительстве. Обычно побеждала Пина, умевшая с самым невинным видом вытянуть из Рино как можно больше денег. Тому деваться было некуда – приходилось доказывать, что он не хуже Стефано.
– Ладно я вкалываю день и ночь, – говорил он невесте, – хоть ты за меня развлечешься.
И на глазах у отца и рабочих небрежно доставал из кармана свернутую пачку купюр и протягивал Пине. Потом он лез в другой карман, как будто собирался одарить и сестру, но на полдороге «забывал» довести дело до конца.
Его поведение бесило Лилу, как бесит ворвавшийся с улицы через распахнутую дверь порыв ветра, от которого летят на пол вещи. В то же время это был верный знак, что обувная мастерская заработала по-настоящему и обувь марки «Черулло» появилась во многих магазинах города. И правда, весенняя коллекция продавалась хорошо и новых заказов поступало все больше. Стефано даже арендовал подвал под лавкой, где устроили склад и еще один цех. Фернандо и Рино трудились не покладая рук и наняли еще одного работника, но все равно засиживались в мастерской допоздна.
Само собой, не обходилось и без конфликтов. Оборудование в обещанный магазин на пьяцца Мартири пришлось покупать Стефано, что вызывало у него беспокойство – договоренность с Солара была только устная, и он не на шутку сцепился с Микеле и Марчелло. В конце концов они подписали конфиденциальное соглашение, в котором черным по белому было написано, что оборудование для магазина финансирует Карраччи. Рино прямо лучился от самодовольства: из-за того что деньги вложил его зять, он чувствовал себя хозяином, как будто они были его собственные.
– Если и дальше так пойдет, на будущий год мы поженимся, – пообещал он невесте, и вскоре после этого Пина собралась наведаться к портнихе, у которой Лила шила подвенечное платье, – просто так, посмотреть что почем.
Портниха встретила их с распростертыми объятьями. Она помнила Лилу, долго расспрашивала ее о свадьбе и попросила подарить фотографию. Лила распечатала свой большой снимок в свадебном платье и вместе с Пиной снова пошла к портнихе. По пути она решила воспользоваться случаем и выведать у золовки, каким образом Стефано добился освобождения от военной службы. Ее интересовали детали: приходили ли к ним карабинеры проверить, правда ли его мать – вдова, посылал он документы по почте или носил их на призывной пункт лично.
– Мать вдова? – фыркнула Пинучча. – Ты что, смеешься, что ли?
– Антонио говорит, если парень в семье единственный кормилец, его освобождают от призыва.
– От призыва освобождают, это верно, – если подмажешь кого надо.
– Кого?
– Призывную комиссию, кого ж еще.
– И Стефано заплатил?
– Ну да. Только об этом – никому ни гу-гу.
– И сколько надо отвалить?
– Не знаю. Он через Солара договаривался.
Лила похолодела.
– В каком смысле?
– В прямом! Ты что, не знаешь, что ни Микеле, ни Марчелло в армии не служили? Их по здоровью отмазали. Вроде как у них сердечная недостаточность.
– У них? Не может быть!
– С хорошими связями все может быть.
– А Стефано?
– Братья Солара свели его с нужными людьми. Плати денежки, и дело в шляпе.
В тот же вечер Лила передала мне свой разговор с Пинуччей, но с таким видом, будто не понимала, что подобные новости означают для Антонио. Она была в шоке – в буквальном смысле слова – оттого, что ее муж связался с Солара вовсе не ради спасения сапожной мастерской, и произошло это намного раньше, еще до их обручения.
– Он с самого начала врал мне, – с непонятным удовлетворением повторяла она, словно история с освобождением Стефано от службы в армии окончательно доказывала, что он за фрукт, тем самым снимая с нее всякие обязательства. Немного погодя я набралась храбрости и спросила:
– Как ты думаешь, если Антонио все-таки призовут и он обратится к Солара, они ему помогут?
Она окинула меня презрительным взглядом, точно я ляпнула несусветную глупость, и сказала как отрезала:
– Антонио никогда и ни о чем не станет просить Солара.
13
Я ни словом не обмолвилась Антонио об этом разговоре. Избегала встреч с ним, говорила, что нам много задают и мне надо готовиться к экзаменам.
Я его не обманывала – в школе творился сущий ад. Местные власти терзали администрацию, администрация терзала учителей, учителя терзали учеников, ученики терзали друг друга. Большинство из нас не успевали делать домашние задания, но все, как один, радовались, что в школу теперь надо ходить через день. Правда, находились отдельные личности – их было явное меньшинство, – которые возмущались ужасным состоянием школьного здания и требовали возвращения к нормальной посещаемости. Во главе этой группки стоял Нино Сарраторе, что только осложняло мне жизнь.
Как-то я увидела его в коридоре; он разговаривал с профессором Галиани. Я специально прошла мимо, надеясь, что учительница меня окликнет. Она не обратила на меня никакого внимания. Я надеялась, что меня окликнет и Нино, но и этого не случилось. Я чувствовала себя ничтожеством. Я перестала получать хорошие оценки, к которым привыкла, с тоской думала я, и сразу потеряла даже ту малую долю уважения, с которой все окружающие относились ко мне прежде. С другой стороны, обратись ко мне профессор Галиани или Нино, что я им отвечу? У меня не было собственного мнения по поводу разрухи в школе и немыслимого количества домашних заданий. В один из ближайших дней ко мне вдруг подошел Нино. В руках он держал лист бумаги с напечатанным на пишущей машинке текстом.
– Прочти, – коротко сказал он и протянул мне листок.
Сердце подпрыгнуло у меня в груди, и я пробормотала:
– Что, прямо сейчас?
– Нет, вернешь после уроков.
Меня захлестнуло волнение. Я побежала в туалет и начала читать написанное. В тексте было много цифр, но его смысл от меня ускользал. Помню, там говорилось о планах городского строительства и о школьном образовании; цитировались статьи Конституции. Поняла я только то, что и так давно знала: Нино требовал немедленного возвращения к нормальному расписанию.
У себя в классе я протянула листок Альфонсо.
– Забудь, – посоветовал он, даже не пытаясь прочесть листок. – Учебный год кончается, скоро экзамены. Зачем тебе лишние неприятности?
Но я никак не могла успокоиться; кровь стучала у меня в висках, было трудно дышать. Никто из нашей школы не вел себя так смело, как Нино, который не боялся ни учителей, ни даже директора. Он не только лучше всех учился по всем предметам, он знал то, чему нас никогда не учили и чего кроме него не знал никто. Он был сильный. И красивый. Я сидела на уроках и считала часы, минуты и секунды. Мне хотелось бежать к нему, вернуть ему листок, поблагодарить его и сказать, что я со всем согласна и готова ему помогать.
Ни на лестнице, по которой толпой спускались ученики, ни на улице возле школы Нино было не видать. Он вышел одним из последних и выглядел мрачнее тучи. Я бросилась ему навстречу, размахивая листком, и излила на него поток восторженных слов. Он молча выслушал меня, взял листок, скомкал его и швырнул на землю.
– Галиани сказала, что это никуда не годится, – пробурчал он.
– Почему? – смутилась я. – Что ей не понравилось?
Он только скривился и махнул рукой, явно не настроенный обсуждать со мной содержание листка.
– Но все равно, спасибо, – как будто через силу выдавил он, а потом наклонился и поцеловал меня в щеку.
После поцелуя на Искье между нами не было ничего, даже простого рукопожатия, и сейчас я растерялась. Он не попросил меня пройтись с ним, он даже не попрощался со мной – просто развернулся и ушел. Онемев от изумления, я долго смотрела ему вслед.
Сразу после этого случились две вещи, одна ужаснее другой. Сначала я увидела, как из-за угла показалась девчонка явно моложе меня, лет пятнадцати, не просто хорошенькая, а настоящая красавица. Точеная фигурка, рассыпанные по спине длинные черные волосы… Двигалась она легко и изящно. Она подошла к Нино, он обнял ее за плечи, она подняла к нему лицо, и они стали целоваться. Это был совсем не тот поцелуй, какой только что достался мне. В ту же секунду я увидела Антонио, который стоял на углу и поджидал меня, хотя в этот час должен был находиться на работе. Я понятия не имела, как давно он здесь стоял.
14
Мне стоило немалых трудов убедить его, что картина, которую он наблюдал собственными глазами, вовсе не означала, что его подозрения насчет меня и Нино верны. Нас связывают исключительно дружеские отношения, твердила я, к тому же у него есть девушка и он сам ее видел. Но он почуял в моих словах плохо скрытую боль и разозлился так, что у него затряслись руки и губы. Тогда я прошипела, что с меня хватит и что нам лучше расстаться. Он опомнился, и мы помирились. Но с того самого дня он верил мне все меньше, а его страх перед призывом в армию делался все больше: он не сомневался, что я променяю его на Нино. Он все чаще уходил с работы, чтобы, как он говорил, встретить меня после школы. На самом деле он предполагал, что застигнет меня с поличным и окончательно убедится, что я вожу его за нос. Что он станет делать, окажись это правдой, он и сам не знал.
Как-то раз я шла мимо колбасной лавки Стефано. Сестра Антонио, Ада, которая теперь в ней работала – к собственной радости и к радости владельца, – увидела меня и выбежала на улицу. На ней был длинный белый халат, спускавшийся ниже колен, но даже в этой одежде она была очень хороша. От меня не укрылось, что она накрасила глаза и губы и воткнула в волосы красивые заколки. Наверняка под халатом на ней было нарядное платье – видимо, собиралась после работы на вечеринку. Ада сказала, что нам нужно поговорить, и мы решили, что перед ужином встретимся у нас во дворе. Я пришла первая. Вскоре появилась запыхавшаяся Ада. С ней был Паскуале, провожавший ее после работы.
Перебивая друг друга, они начали жаловаться мне на Антонио. Он стал жутко нервный, срывается на Мелину, прогуливает работу. Горрезио, его начальник, знавший его с детства, серьезно забеспокоился: что происходит с парнем?
– Он боится, что его призовут в армию, – сказала я.
– Если призовут, придется идти, – заметил Паскуале, – иначе объявят дезертиром.
– Когда с ним ты, он совсем другой, – вздохнула Ада.
– У меня нет на него времени.
– Что важнее, человек или учеба? – возмутился Паскуале.
– Поменьше ходи к Лине, – поддакнула Ада, – тогда и время появится.
– Я и так делаю, что могу, – с оскорбленным видом ответила я.
– Он слишком нервный, вот и переживает, – сказал Паскуале.
– Я с детства за матерью ухаживаю, – добавила Ада, – еще одного сумасшедшего в доме я не вынесу.
Я и рассердилась, и испугалась. Чувствуя себя виноватой, я стала чаще видеться с Антонио, хотя задавали по-прежнему много, да и не было у меня особенного желания бегать к нему на свидания. Но он все равно был недоволен. Как-то вечером, когда мы встретились на прудах, он показал мне повестку и расплакался. Его призвали, как и Энцо; осенью они должен были вместе отбыть к месту службы. Вот тут он меня действительно напугал: упал и принялся набивать себе рот землей. Я крепко прижала его к себе, шепча, что люблю его, и вытирая землю руками.
Во что я вляпалась, думала я вечером, ворочаясь без сна, и вдруг поняла, что не хочу бросать школу, не хочу выходить замуж за Антонио, не хочу жить с его матерью, братьями и сестрой, не хочу работать на бензозаправке. Я решила, что помогу ему чем смогу, но потом честно скажу, что между нами все кончено.
На следующий день я пошла к Лиле. Настроение было хуже некуда. Лила встретила меня непривычно бодрой, хотя в последнее время мы обе не видели причин особенно радоваться. Я рассказала ей о том, что Антонио получил повестку, и призналась, что хочу втайне от него обратиться за помощью к Марчелло или Микеле.
Честно говоря, я сильно преувеличивала свою решимость. На самом деле я была в растерянности: с одной стороны, мне казалось, что я обязана испробовать все средства – ведь это из-за меня Антонио так страдал, но с другой, посвящая в это дело Лилу, я в глубине души надеялась, что она меня отговорит. Погруженная в свои мысли, я не обратила внимания на то, в каком состоянии была Лилы.
Она восприняла мои слова странно. Сначала назвала меня вруньей: если я готова унижаться перед Солара, значит, по-настоящему люблю Антонио, ведь все знают, что Солара за просто так никому не помогают. Потом принялась расхаживать туда-сюда по комнате, то усмехаясь, то хмурясь, то снова издавая нервный смешок. Наконец она остановилась и сказала:
– Ну что ж, сходи поговори. Посмотрим, что из этого выйдет. – И тут же добавила: – А ты знаешь, Лену, в чем разница между моим братом и Микеле Соларой? Или между Стефано и Марчелло?
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду, что лучше бы я вышла за Марчелло.
– Я тебя не понимаю.
– Марчелло хотя бы ни от кого не зависит. И делает что хочет.
– Ты что, с ума сошла?
Она засмеялась и замотала головой, но я видела, что она не шутит. Мне не верилось, что она может серьезно рассуждать о браке с Марчелло. И потом, этот странный смех, от которого за милю несло фальшью… Наверно, поссорилась со Стефано, подумала я, вот и болтает всякую чушь.
Мои подозрения тут же нашли подтверждение. Лила вдруг отбросила свою натужную веселость, прищурилась и заявила:
– Вместе пойдем.
– Куда?
– К Солара.
– Это еще зачем?
– Узнать, согласятся ли они помочь Антонио.
– Не надо.
– Почему?
– Стефано разозлится.
– К черту Стефано. Он с ними общается, а почему мне нельзя? В конце концов, я его жена.
15
Я так и не сумела ее отговорить. В следующее воскресенье – Стефано по воскресеньям спал до полудня – мы пошли прогуляться, и Лила потянула меня к бару Солара. Выглядела она сногсшибательно – когда я ее увидела, у меня аж дух перехватило. Куда подевалась бедно одетая девчонка, моя детская подружка? На Жаклин Кеннеди, фотографии которой мы рассматривали в журналах, она тоже больше не походила. Скорее уж на Дженнифер Джонс в фильме «Дуэль под солнцем» или на Аву Гарднер в «И восходит солнце».
Я немного стеснялась и даже побаивалась идти рядом с ней. Она рисковала показаться нелепой и дать пищу сплетням, что с неизбежностью отразилось бы и на мне, ее бесцветной компаньонке, сопровождавшей ее с покорностью собачонки. Всем своим обликом Лила – прической, серьгами, облегающей блузкой и узкой юбкой, даже походкой – выделялась на фоне окружающей нас серости. Проходящие мимо мужчины с трудом удерживались, чтобы не свистнуть ей вслед, а женщины, особенно те, что постарше, провожали ее изумленным взглядом – некоторые останавливались посреди тротуара и принимались хихикать себе под нос, как иногда делала сумасшедшая Мелина.
Но когда мы вошли в бар-кондитерскую Солара, где было полно мужчин, покупавших воскресные сласти, на нас посмотрели с уважением; кое-кто из посетителей кивнул нам в знак приветствия, а стоявшая за стойкой Джильола Спаньюоло окинула Лилу восхищенным взглядом. За кассой сидел Микеле. Он громко сказал нам: «Добрый день!», как мне показалось, с искренней радостью. Их с Лилой дальнейший обмен репликами шел на диалекте; видимо, оба были так напряжены, что не нашли в себе сил строить правильные фразы на литературном итальянском.
– Что вам угодно?
– Дюжину булочек.
Микеле обернулся к Джильоле и с оттенком сарказма в голосе крикнул:
– Дюжину булочек для синьоры Карраччи.
Едва прозвучало это имя, как штора, отделявшая зал от конторы, раздвинулась и из-за нее возник Марчелло. Увидев Лилу, он побледнел и отступил назад, но через пару секунд взял себя в руки и подошел к нам поздороваться.
– Чудно слышать, как тебя называют «синьора Карраччи», – обратился он к Лиле.
– Как ни странно, мне тоже, – заметила Лила с добродушной улыбкой, до глубины души поразив не только меня, но и обоих братьев.
Микеле внимательно смотрел на Лилу. Голову он немного наклонил, точно изучал картину.
– А мы тебя вчера видели, – сказал он и обернулся к Джильоле: – Правда, Джи, это ведь вчера было? После обеда?
Джильола неохотно кивнула.
– Точно, видели, – поддакнул Марчелло, но в его голосе не было ни следа насмешки. Он стоял точно загипнотизированный и смотрел на Лилу, как зрители смотрят на фокусника.
– Вчера? После обеда? – удивилась Лила.
– Да, – подтвердил Микеле. – В Реттифило.
Марчелло, которому надоело, что брат говорит намеками, не выдержал:
– Твоя фотография в свадебном платье висит в витрине ателье.
Следующие несколько минут они говорили о фотографии: Марчелло – с восхищением, Микеле – все с той же иронией, но оба сошлись на том, что Лила на ней – настоящая красавица. Лила притворно нахмурилась: дескать, знала бы, что портниха выставит фотографию в витрине, ни за что бы ей ее не подарила.
– А я хочу, чтобы в витрине была моя фотография! – нарочито капризным тоном крикнула из-за стойки Джильола.
– Сначала надо, чтобы на тебе кто-нибудь женился, – сказал Микеле.
– На мне женишься ты, – веско ответила она и собралась развить свою мысль, когда ее внезапно перебила Лила.
– Вот и Ленучча собирается замуж, – выдала она.
Внимание братьев Солара переключилось на меня. До этой минуты я чувствовала себя невидимкой и не произнесла ни слова.
– Ничего подобного! – вспыхнула я.
– Почему же? Я бы на тебе с удовольствием женился, – сказал Микеле и мрачно посмотрел на Джильолу.
– Поздно спохватился, у нее уже есть жених, – ответила Лила.
И заговорила об Антонио, рассказав и про его повестку, и про то, как трудно придется его семье, если он уйдет в армию. Меня удивило не столько ее красноречие – оно не было для меня секретом, – сколько ее тон, уверенный и нахальный одновременно. На ее губах алела яркая помада. Она намекала Марчелло, что прошлое позабыто, а Микеле давала понять, что его враждебность ее скорее веселит, чем отталкивает. Но самое поразительное, она разговаривала с братьями как опытная женщина, хорошо знающая, что такое мужчины; ей уже нечему было учиться, напротив, она сама могла кого угодно кое-чему поучить. Она не играла, не повторяла, как мы делали в детстве, слова из романов о падших женщинах, она говорила так, что всем становилось ясно: она и правда знает, о чем говорит, и это ничуть ее не смущало. Потом она вдруг резко меняла тон на равнодушный, словно давала братьям понять: ей известно, что она им нравится, но они ее не интересуют. Так она лавировала, смутив братьев до того, что они уже не знали, как себя повести. Марчелло уставился в пол, и даже Микеле растерялся, лишь блеск глаз на помрачневшем лице выдавал его мысли: пусть ты и синьора Карраччи, но я тебя, шлюха, отделаю. Тогда она снова меняла тембр голоса на игривый, делая вид, что ей очень весело и приятно в компании братьев. Микеле оказался крепким орешком, зато Марчелло продержался недолго.
– Антонио того не стоит, – сказал он, – но Ленучча – хорошая девушка. Ради нее я могу поговорить с одним другом, спрошу, что тут можно сделать.
Обрадованная, я поблагодарила его.
Лила выбрала булочки, перебросилась парой дружеских реплик с Джильолой и ее отцом, который высунул из-за шторы голову и сказал: «Кланяйся от меня Стефано». Лила подошла к кассе и стала доставать деньги, но Марчелло отрицательно помотал головой, и даже Микеле, хоть и не сразу, последовал примеру брата.
Мы собирались уходить, когда Микеле, чеканя каждое слово, произнес своим не терпящим возражений тоном:
– Ты хорошо вышла на той фотографии.
– Спасибо.
– И туфли хорошо видны.
– Я уже не помню.
– Зато я прекрасно помню. И хотел тебя кое о чем попросить.
– Ты что, тоже хочешь мою фотографию? Чтобы в баре повесить, что ли?
Микеле рассмеялся коротким холодным смешком.
– Нет. Но тебе известно, что мы открываем магазин на пьяцца Мартири.
– Я в ваши дела не вмешиваюсь.
– А должна бы. Дело это важное, а ты – неглупая женщина. Если портниха использует твое фото для рекламы, то почему бы нам не сделать то же, только лучше? Марке «Черулло» нужна реклама.
– Ты что, хочешь поместить мое фото в витрине магазина на пьяцца Мартири? – рассмеялась Лила.
– Нет. Я хочу сделать твой огромный фотопортрет и повесить его внутри магазина.
Лила на минутку задумалась.
– Спроси у Стефано, – равнодушно сказала она. – Я ничего не решаю.
Братья обменялись недоуменными взглядами. Я поняла, что они уже обсуждали эту идею и, судя по всему, пришли к выводу, что Лила ни за что не согласится. Теперь они не верили своим ушам: Лила не взбунтовалась и спокойно сослалась на авторитет мужа. Они ее не узнавали. Да я и сама уже засомневалась, та ли она, что была раньше.
Марчелло проводил нас до дверей. На улице он торжественно произнес:
– Лина, мы давно не разговаривали, и я волнуюсь. У нас с тобой не вышло, но тут уж ничего не поделаешь. Но я не хочу, чтобы между нами оставалось недопонимание. Я не хочу, чтобы на меня возлагали вину за то, чего я не делал. Я знаю, что тебе сказал твой муж насчет этих ботинок. Клянусь тебе перед Лену: они сами. Стефано и твой брат сами подарили мне эти ботинки, чтобы показать, что мы не враги, а партнеры. Я тут ни при чем.
Лила слушала его молча; с ее лица не сходило благодушное выражение. Но как только Марчелло договорил, она вдруг снова стала прежней.
– Вы как дети, – со знакомым презрением в голосе сказала она. – Валите все друг на друга.
– Ты что, мне не веришь?
– Да нет, верю. Только, видишь ли, мне на это плевать. И ты, и они можете говорить что хотите. Мне на это глубоко плевать.
16
Я потащила Лилу к нам во двор. Мне не терпелось рассказать Антонио, что мы для него сделали. По дороге я поделилась с Лилой своим планом расстаться с Антонио, как только у него все наладится. Лила шла молча, погруженная в свои мысли.
Я окликнула Антонио. Он выглянул в окно и спустился вниз. Поздоровался с Лилой, демонстративно не обратив внимания ни на ее шикарный наряд, ни на ее прическу, и вообще стараясь на нее не смотреть; возможно, боялся, что я его приревную. Я сказала, что у меня мало времени и я пришла только для того, чтобы сообщить ему хорошие новости. Он слушал меня, но с каждым моим словом менялся в лице.
– Он обещал тебе помочь, – радостно воскликнула я и повернулась к Лиле за подтверждением: – Ведь правда, Марчелло пообещал?
Лила кивнула. Антонио побледнел. Если до того он смотрел в землю, то сейчас медленно поднял глаза и хрипло спросил:
– Кто просил тебя ходить к Солара?
– Вообще-то это была моя идея, – соврала Лила.
– Спасибо, но ты зря беспокоилась, – ответил он, не глядя на нас.
Он попрощался с Лилой и, не сказав мне ни слова, развернулся и ушел.
У меня скрутило живот. Почему он на меня разозлился? Что я сделала не так? Я начала жаловаться Лиле на Антонио, который стал вести себя хуже Мелины, своей матери, говорить, что у него дурная наследственность и что я больше с ним не могу. Лила выслушала меня и предложила проводить ее до дома. Когда мы подошли к ее подъезду, она пригласила меня подняться.
– Но ведь Стефано дома, – отказалась я, хотя дело было не в Стефано. После разговора с Антонио мне хотелось побыть одной, обдумать случившееся и понять, в чем я ошиблась.
– Всего на пять минут, – сказала Лила.
Мы поднялись. Стефано расхаживал по квартире в пижаме, небритый и нечесаный. Он вежливо поздоровался со мной, посмотрел сначала на жену, потом на пакет с булочками.
– Ты ходила к Солара?
– Да.
– В таком виде?
– А что, мне не идет?
Стефано мрачно покачал головой и развернул пакет.
– Хочешь, Лену?
– Нет, спасибо, я дома поем.
Стефано надкусил булочку.
– Кого ты видела в баре? – спросил он у Лилы.
– Твоих друзей, – ответила та. – Наслушалась от них комплиментов. Правда, Лену?
Она в подробностях передала ему разговор с Солара, не упомянув только об Антонио и цели нашего визита, и самодовольно заявила:
– Микеле хочет разместить мой портрет в магазине на пьяцца Мартири.
– А ты что?
– Я сказала, пусть спрашивает у тебя.
Стефано в один присест доел булочку и облизал пальцы.
– Ты хоть понимаешь, к чему меня вынуждаешь? Завтра мне придется тащиться к этой портнихе на Реттифило, – озабоченно сказал он, сделал глубокий вздох и повернулся ко мне: – Лену, ты разумный человек, объясни, пожалуйста, своей подруге, что мне нужно работать и у меня нет времени на ее идиотские выходки. Хороших выходных, передавай привет родителям.
И он скрылся в ванной комнате.
Лила насмешливо усмехнулась ему вслед и проводила меня до двери.
– Если хочешь, я останусь, – сказала я.
– Он подонок, но ты не волнуйся.
И, коверкая голос, повторила:
– Объясни, пожалуйста, своей подруге, что у меня нет времени на ее идиотские выходки.
Глаза ее повеселели.
– Он тебя бьет?
– А что мне его побои? Подумаешь! Они быстро проходят, а я становлюсь еще красивей.
На площадке она снова передразнила мужа:
– Лену, мне нужно работать.
Потом вдруг понизила голос и повторила еще раз:
– Лену, мне нужно работать!
Не знаю почему, но мне вдруг захотелось передразнить Антонио, и я прошипела:
– Кто просил тебя ходить к Солара?
В ту минуту мы словно увидели себя со стороны: стоят на пороге две девчонки, наломавшие дров, и обсуждают своих хахалей, и расхохотались.
– Что ни сделаешь, все невпопад, – сказала я. – Этих мужчин вообще не поймешь. От них одни проблемы.
Я крепко обняла Лилу и пошла прочь. Но не успела еще дойти до первого этажа, как до меня донеслись крики. Орал Стефано, осыпая Лилу самыми жуткими оскорблениями. Его голос напоминал голос людоеда – точь-в-точь, как у его отца.
17
Пока я шла к дому, мне стало страшно. За Лилу и за себя. А что, если Стефано убьет ее? А что, если Антонио тоже меня убьет? Я разволновалась и ускорила шаг. Я быстро шла по пыльным воскресным улицам, в этот предобеденный час почти безлюдным. До чего же сложно с мужчинами, думала я. Как надо себя вести, чтобы не задеть их самолюбие, не наступить ненароком на больную мозоль? Я допускала, что у Лилы были свои резоны унизить мужа, у всех на глазах затеяв флирт с бывшим ухажером. Или она – теперь синьора Караччи – просто срывала свою злость на Стефано? Но я-то ни в малейшей степени не хотела обидеть Антонио, как раз наоборот: обращаясь без его ведома к человеку, который много лет назад нанес оскорбление его сестре, избил его самого, а потом получил от него сдачи, я действовала из лучших побуждений. Войдя во двор, я услышала, как кто-то зовет меня по имени, и подскочила от неожиданности. Антонио стоял возле окна; он меня ждал.
Он спустился во двор, и я испугалась: вдруг он сейчас выхватит нож? Но он заговорил со мной медленно и спокойно, глядя мне в глаза и держа руки в карманах. Он сказал, что я унизила и оскорбила его перед теми, кого он ненавидел сильнее всего на свете. Что моя выходка выглядит так, будто он отправил свою женщину выпрашивать для него подачку. Что он никогда ни перед кем не стоял на коленях и лучше сто раз отслужит и даже умрет, но не станет лизать задницу Марчелло Соларе. Что если об этом узнают Паскуале и Энцо, они плюнут ему в лицо. Что между нами все кончено, потому что он наконец понял: мне нет дела ни до него, ни до его чувств. Что я могу бежать к своему Нино и делать с ним что захочу, а он не желает больше меня видеть.
Я и слова вставить не успела. Антонио вдруг выдернул руки из карманов, прижал меня к двери и впился в меня поцелуем. Потом отстранился, отвернулся и ушел прочь.
В полном смятении я поднималась по лестнице, думая, что мне повезло больше, чем Лиле. Антонио – не такой, как Стефано. Он не способен причинить мне боль. Единственный, кому он может навредить, – это он сам.
18
Назавтра мы с Лилой не виделись, зато я неожиданно пересеклась с ее мужем.
Утром я пошла в школу в отвратительном настроении: стояла жара, я не подготовилась и не выспалась. Не день, а сплошной кошмар. Мне хотелось увидеть Нино, чтобы поговорить с ним хотя бы минуту, и я искала его по всей школе, но его не было. Наверное, гулял по городу со своей девушкой, или сидел с ней в кино, и они целовались в темноте, а может, увел ее в парк Каподимонте и заставлял делать то, что все последние месяцы я делала с Антонио. На первом же уроке – это была химия – меня вызвали к доске, я что-то такое мямлила, без конца ошибаясь и понимая, что мне светит очередная двойка, исправлять которую будет уже некогда; мне реально грозила осенняя переэкзаменовка. В коридоре меня поймала профессор Галиани и начала озабоченно выспрашивать: «Греко, что с тобой происходит? Почему ты перестала учиться?» Я не знала, что ей ответить, и лишь пролепетала: «Честное слово, я целыми днями занимаюсь, я стараюсь изо всех сил». Галиани выслушала меня и, ни слова не говоря, развернулась и пошла в учительскую. Я заперлась в туалете и долго плакала, жалея себя и понимая, что потеряла все, что имела: из отличницы я превратилась в двоечницу; Антонио, которого я давно хотела бросить, бросил меня сам, и мне его уже не хватало; Лила, став синьорой Карраччи, изменилась так, что я ее уже не узнавала. У меня разболелась голова, и я пошла домой, думая о Лиле и о том, что она меня использовала, ну да, просто использовала, чтобы подразнить Солара, отомстить мужу и показать мне его в самом неприглядном виде. Я шла и думала: как она могла так сильно измениться, неужели она теперь ничем не лучше Джильолы?
Но дома меня ждал сюрприз. Мать вопреки обыкновению не набросилась на меня с упреками: где так долго шлялась, небось опять бегала к своему Антонио, почему не сделала то-то и то-то…
– Заходил Стефано, – почти ласково сказала она. – Спрашивал, не сможешь ли ты сходить с ним к портнихе на Реттифило.
Я даже не сразу поняла, о чем она. Может, у меня от усталости и огорчений совсем мозг отключился? Стефано? Стефано Карраччи? Просит меня сходить с ним к портнихе?
– А что ж он с женой не идет? – рассмеялся из соседней комнаты отец. Он остался дома, якобы по болезни, но на самом деле сидел и разбирал какие-то свои запутанные записи. – Чем они там с ней занимаются? В карты играют?
Мать досадливо махнула рукой. Наверно, Лина занята, ответила она, а нам надо быть полюбезнее с Карраччи, и ей непонятно, почему кое-кто вечно чем-то недоволен. На самом деле отец был очень даже доволен: дружба с Карраччи означала долгосрочный кредит в колбасной лавке. Просто ему нравилось блеснуть остроумием. С недавних пор излюбленной темой его шуточек стала импотенция Стефано. Когда мы сидели за столом, он мог вдруг ни с того ни с сего спросить: «Интересно, что эти Карраччи по вечерам делают? Неужели только в телевизор пялятся?» – и заходился смехом. Намек был более чем прозрачный: если Лила до сих пор не забеременела, очевидно, что-то не так со Стефано. Мать, у которой по этим вопросам было с отцом полное взаимопонимание, вроде бы пыталась его урезонить: «Так рано еще, куда ты торопишься?» Но я видела, что ее тоже веселит мысль, что колбасник Карраччи со всем своим богатством беспомощен в постели.
Ужин уже стоял на столе, ждали только меня. Отец уселся на свое место и, игриво подмигнув матери, с притворной озабоченностью в голосе сказал:
– Не помню, говорил я тебе или нет: что-то я сегодня устал, может, в карты поиграем?
– Нет, не говорил. Ты вообще безответственный.
– А ты хочешь, чтобы я стал ответственным?
– Не помешало бы. Но в меру, в меру.
– Ну ладно, с сегодняшнего дня обещаю стать ответственным. Как Карраччи.
– Я сказала: в меру.
Как же я ненавидела такие разговоры! Они вели их, делая вид, что мы, дети, не понимаем их смысла, а может, наоборот: знали, что мы все прекрасно понимаем, но считали, что нам будет полезно с младых ногтей усвоить, что значит быть мужчиной и что значит быть женщиной. Раздавленная своими проблемами, я с трудом сдерживалась, чтобы не разреветься; мне хотелось выскочить из-за стола, убежать куда-нибудь подальше, чтобы больше никогда не видеть ни родителей, ни потеков сырости на потолке, ни этих обшарпанных стен; меня мутило от запаха еды. Какая же я дура, что потеряла Антонио. Я уже жалела о нем и была готова просить у него прощения. Если меня оставят на осень, я брошу школу, решила я. Лучше выйду замуж. Потом я вспомнила о Лиле, о том, как она вырядилась для разговора с Солара. Что она задумала? Я видела, как она изменилась, и понимала почему: ей пришлось перенести слишком много страданий и унижений. Эти мысли не отпускали меня до позднего вечера. Роскошная ванная в квартире Лилы, непонятный визит Стефано – как мне рассказать о нем своей подруге, что ему от меня надо? А еще химия. А еще Эмпедокл. Школа. Мой план бросить школу. Все ужасно. Выхода нет. Нам с Лилой никогда не оказаться на месте той девушки, что ждала Нино у школы. Нам обеим не хватало чего-то трудноуловимого, но чрезвычайно важного, чем была наделена эта девочка и что бросалось в глаза даже на расстоянии. В ней было что-то такое, чего нельзя приобрести зубрежкой латыни, греческого и философии или купить на деньги, полученные благодаря колбасной лавке или сапожной мастерской.
Со двора послышался голос Стефано. Я быстро сбежала вниз. Он выглядел расстроенным. Сказал, что просит меня сходить с ним к портнихе, которая без разрешения выставила фотографию Лилы в витрине. «Будь добра, прокатись со мной», – вкрадчиво промурлыкал он и без дальнейших объяснений распахнул передо мной дверцу автомобиля с откидным верхом. Я села в машину, и мы помчались, овеваемые горячим ветром. Не успели мы выбраться за пределы нашего квартала, как Стефано заговорил и не умолкал до самого ателье. Говорил он на диалекте, но сдержанно и не позволяя себе ни одного грубого слова. Для начала он попросил меня об одолжении, хотя не уточнил, о каком именно, напирая на то, что, если я соглашусь, тем самым окажу услугу своей подруге. Потом он пустился в рассуждения о Лиле: дескать, она и красавица, и умница… Проблема в том, что она по натуре бунтарка и ей невозможно угодить. «Ты даже не представляешь, Лену, через что мне пришлось пройти. Если ты что-то и слышала, то только от нее. Но выслушай и меня. Лина уверена, что меня интересуют только деньги, и в чем-то она права, но я ведь стараюсь ради семьи, ради ее брата, отца, других родственников. Что, мне на них плюнуть? Вот ты образованная, скажи мне, что я делаю не так? Чего она от меня хочет? Чтобы мы впали в нищету, из которой я ее вытащил? Разве только Солара должны богатеть? Мы что, весь квартал хотим им отдать? Если ты скажешь, что я не прав, я даже спорить с тобой не стану, сделаю, как ты скажешь. Но с ней мне приходится спорить с утра и до ночи. Она меня терпеть не может и постоянно мне об этом твердит. Но я ей муж! Почему я должен силой доказывать ей, что у меня на нее права? С тех пор как мы поженились, я живу в аду. Видеться с ней утром и вечером, спать в одной постели и не иметь возможности показать ей свою любовь! Разве это не кошмар?»
Я смотрела то на его широкие ладони, сжимающие руль, то на его лицо. В глазах у него блестели слезы. Он признался, что в первую брачную ночь избил жену, потому что она вынудила его к этому, а теперь она каждое утро и каждый вечер награждает его пощечинами – нарочно, чтобы его унизить и заставить делать то, чего ему меньше всего на свете хочется делать. «Недавно я опять ее отлупил, – тихо и горько сказал он. – Как она посмела пойти к Солара в таком виде? Но я не могу ее сломить. В ней есть какая-то злая сила, с которой нельзя справиться лаской. Да и ничем нельзя. Это как яд. Ты заметила, что она все еще не забеременела? Проходит месяц за месяцем – и ничего. Друзья, знакомые, посетители в лавке, все меня спрашивают: новости есть? И смеются мне в лицо. А я как дурак делаю вид, что не понимаю, о чем они. Какие такие новости? Потому что иначе я должен им что-то ответить, а что я отвечу? Разве такое объяснишь? Говорю тебе, Лену, ее силы хватает, чтобы убить ребенка еще в утробе, и так она и делает – специально, чтобы люди думали, что я не мужчина, чтобы выставить меня посмешищем. Что ты на это скажешь? Думаешь, я преувеличиваю? Ты даже не представляешь, как я тебе благодарен за то, что ты меня выслушала!»
Я не знала, что сказать. Я была в шоке. Ни один мужчина никогда не раскрывался передо мной с этой стороны. Из-за того что он говорил на диалекте, даже его признание о том, что он бьет Лилу, звучало не так страшно, словно пересказ какой-нибудь народной песни. Я до сих пор не знаю, почему он все это передо мной вывалил. Разумеется, облегчив душу, он перешел к делу. Попросил меня ему помочь – ради Лилы. Убедить ее, что она должна стать ему женой, а не врагом. Уговорить ее начать работать в новой лавке, вести счета. Правда, я не поняла: если дело было только в этом, зачем ему надо было так со мной откровенничать? Или он думал, что Лила успела настроить меня против него, и хотел выдвинуть свою версию? А может, он и не собирался со мной откровенничать и просто поддался эмоциям? Или надеялся меня растрогать, чтобы я рассказала Лиле, как он ее любит? Как бы то ни было, пока он говорил, я чувствовала, как во мне растет симпатия к этому человеку. Мне льстила его прямота, его готовность поделиться со мной подробностями своей семейной жизни… Тот факт, что он придавал такое значение моему влиянию на Лилу, тоже не оставил меня равнодушной. Когда он упомянул о своих подозрениях насчет того, что Лила обладает какой-то особой силой (сама я никогда в этом не сомневалась), способной убивать зародыш в утробе, я восприняла это как намек на то, что только я могу снять с нее это проклятие, и это наполнило меня ощущением собственной значимости. Мы вышли из машины и направились в ателье. Я была благодарна Стефано за его слова и торжественно, на литературном итальянском, объявила ему, что сделаю все от меня зависящее, чтобы они были счастливы.
Но перед самой витриной ателье меня охватило волнение. Мы остановились и стали разглядывать фотографию в рамке, задрапированную по бокам цветными отрезами ткани. Лила сидела скрестив ноги; из-под свадебного платья выглядывали туфли и щиколотки. Она оперлась подбородком о ладонь и смотрела в объектив серьезно и сосредоточенно. В волосах у нее белел венок из флердоранжа. Фотографу посчастливилось уловить и запечатлеть на снимке ту самую силу, о которой только что рассуждал Стефано; силу, с которой – в тот миг это стало мне ясно – и сама Лила ничего не могла поделать. В некотором смятении я обернулась к Стефано, намереваясь сказать ему: вот оно, подтверждение всего, о чем ты говорил, – но он уже толкнул дверь, пропуская меня вперед.
От его недавно мягкого тона не осталось и следа, он сменился на жесткий и решительный. Он представился портнихе мужем Лины – именно так – и сказал, что сам занимается торговлей, но ему бы и в голову не пришло использовать рекламу подобного рода. «Вот вы красивая женщина, – продолжил он, – подумайте, как бы отнесся ваш муж к тому, что я выставил бы ваш портрет у себя в лавке, между батонами салями и головками проволоне?» Затем он потребовал вернуть ему фотографию.
Портниха смутилась, принялась оправдываться, но в конце концов сдалась. Она не скрывала своего огорчения – фото в витрине делало свое дело – и даже пересказала несколько произошедших в последние дни любопытных случаев. Впоследствии им было суждено переродиться в настоящую легенду, ходившую по району еще много лет. Пока фотография стояла в витрине, в ателье поочередно побывали: знаменитый певец Ренато Карозоне, египетский принц, режиссер Витторио Де Сика и один римский журналист, который хотел предложить Лиле принять участие в фотосессии для журнала мод. Разумеется, портниха сказала просителям, что не может дать им адрес модели, хотя отказать Де Сике и Карозоне ей было нелегко – подумать только, такие люди!
Я заметила, что рассказ портнихи произвел на Стефано впечатление. Он оставил свой напористый тон, задавал ей вопросы, интересуясь подробностями. Мы ушли, забрав с собой фотографию, и он заметно повеселел. Теперь он говорил о Лиле как коллекционер говорит о раритете, ставшем жемчужиной его собрания. Он гордился собой и жаждал признания окружающих. Потом он еще раз повторил мне свою просьбу о помощи. Перед тем как проститься, он заставил меня дать обещание, что я постараюсь повлиять на Лилу и объясню ей, что она должна изменить свое отношение к мужу. Слушая его, можно было подумать, что Лила – не живой человек, не желающий, чтобы им командовали, а принадлежащая ему драгоценность, которую он хранит запертой в шкатулке. В последующие дни Стефано только и делал, что рассказывал всем подряд, включая посетителей лавки, про Карозоне и Де Сику. Мать Лилы, Нунция, потом до конца своих дней повторяла, что ее дочь могла бы прославиться как актриса или певица, сняться в фильме «Брак по-итальянски», выступать по телевизору, а то и стать египетской принцессой – если бы только портниха с Реттифило оказалась поумней, а Лила не выскочила в шестнадцать лет за Стефано Карраччи.
19
Учительница химии сжалилась надо мной (может, это Галиани постаралась) и поставила мне проходной бал. В итоге я получила семерки по гуманитарным предметам, шестерки по естественно-научным и богословию и – впервые в жизни – восемь баллов по поведению, чего наш священник и большая часть преподавателей так никогда мне и не простили. Я была недовольна и чувствовала, что давний спор с преподавателем богословия о Духе Святом не прошел для меня без последствий. Зря я не послушала Альфонсо – ведь он предостерегал не делать глупостей. Стипендии я, разумеется, лишилась; мать пришла в ярость и орала, что нечего мне было бегать на свидания к Антонио. Я разозлилась и сказала, что вообще хочу бросить школу. Мать уже замахнулась влепить мне пощечину, но испугалась, что очки разобьются, и побежала за выбивалкой для ковров. Короче говоря, обстановка дома была ужасной и с каждым днем становилась только хуже. Единственным приятным событием стало то, что в последний день учебы меня нашел школьный сторож и передал мне пакет от профессора Галиани. В нем были книги, но не романы, а труды по философии и другим гуманитарным наукам – своего рода знак поддержки, к сожалению, запоздалый, чтобы вернуть мне веру в себя.
Я стала бояться ошибок; мне казалось, что я ни предприму, все только напорчу. Я искала встречи с Антонио, подкарауливала его возле дома, ходила к нему на работу, но он старательно меня избегал. Тогда я пошла в колбасную лавку, поговорить с Адой. Она обдала меня холодом и сообщила, что ее брат не желает меня видеть. С тех пор, сталкиваясь со мной на улице, она отворачивалась и переходила на другую сторону. Теперь, когда занятия закончились и не надо было вскакивать по будильнику, я просыпалась с тяжелой головой. Вначале я хотела почитать книги, которые передала мне профессор Галиани, но они показались мне скучными и малопонятными. Я брала в передвижной библиотеке романы, которые глотала один за другим, но скоро и они мне надоели. Герои этих романов жили насыщенной жизнью и вели глубокие беседы – их призрачное существование было полнокровнее моей реальной жизни. Иногда я сама себе казалась призраком. В этом сумрачном состоянии я несколько раз ходила к школе, надеясь встретиться с Нино, который сдавал выпускные экзамены. В день письменного экзамена по греческому я терпеливо ждала его несколько часов. Когда на ступеньках школы появились первые школьники с учебниками под мышкой, из-за угла вышла та самая красивая и ухоженная девушка, которая целовалась с Нино. Она встала в нескольких шагах от меня, я на минуту представила себе, какой уродливой нищенкой выгляжу рядом с ней, и быстро ушла.
Мне нужна была хоть какая-то поддержка, и я побрела к Лиле, хоть и понимала, что совершаю очередную глупость. Я ведь даже не рассказала ей, что вместе со Стефано была у портнихи. Почему? Может, мне нравилась роль миротворца, навязанная мне Стефано, и я думала, что, сохранив в тайне наш визит на Реттифило, сумею в ней преуспеть? Или я боялась обмануть доверие Стефано и предпочитала предать подругу? На этот вопрос у меня не было ответа. Не то чтобы я сознательно приняла решение молчать. Просто сначала я поддалась сомнениям, а потом стало поздно: раз уж не призналась сразу, что толку к этому возвращаться, только все усложнишь. Совершить ошибку легко. Я искала оправданий, которые убедили бы ее, но беда в том, что меня-то они не убеждали. В глубине души я понимала, что поступила подло, и продолжала молчать.
По поведению Лилы нельзя было догадаться, знает она об этом эпизоде или нет. Она принимала меня у себя, словно ничего не произошло, я по-прежнему мылась у нее в ванной, красилась ее косметикой. Когда я пересказывала ей прочитанные романы, она не проявляла к ним интереса, зато охотно делилась со мной сплетнями о знаменитых артистах и певцах, почерпнутыми из журналов. О себе она предпочитала не говорить вовсе. Порой я замечала у нее новый синяк и пыталась навести ее на разговор о ее отношениях со Стефано: может быть, он бьет ее по каким-то своим причинам, может, у него трудности и ему нужна помощь… Она смотрела на меня с насмешкой, пожимала плечами и переводила разговор на другую тему. Вскоре я поняла, что, хоть она и решила не прогонять меня, с откровенностью между нами было покончено. Неужели она все знала и считала меня предательницей? Я стала бывать у нее реже, надеясь, что она будет по мне скучать, спросит, почему я не прихожу, и мы наконец объяснимся. Она не спросила. Я не выдержала и снова зачастила к ней – она и тут не выразила ни радости, ни недовольства.
В тот жаркий июльский день я пришла к ней в особенно подавленном настроении, но ни слова не сказала о Нино и той девушке. Почему-то – такие вещи всегда происходят сами собой – постепенно я тоже перестала посвящать ее в свои личные дела. Лила была приветлива, как всегда, приготовила оршад и пригласила меня в гостиную. Я устроилась на диване, потягивая холодный миндальный напиток и злясь на грохот поездов, невыносимую жару и на все на свете.
Я наблюдала, как Лила молча передвигается по дому; меня бесила ее способность находить выход в самых запутанных лабиринтах отчаяния, вынашивать самые воинственные замыслы и не выдать себя ни жестом, ни словом. Я вспомнила, что мне говорил Стефано о ее внутренней силе, похожей на запрятанную в ней бомбу с часовым механизмом. Я косилась на ее живот и представляла, как она день и ночь ведет смертельную борьбу против новой жизни, которую Стефано силой пытается в нее внедрить. Как долго она сможет сопротивляться? Спросить ее об этом вслух я не осмеливалась, понимая, что ей не понравится мой вопрос.
Вскоре в дверь позвонила Пинучча, вроде бы забежавшая проведать невестку. Минут через десять заявился и Рино, и они с Пиной принялись целоваться чуть ли не у нас на глазах, да так демонстративно, что мы с Лилой обменялись недоуменными взглядами.
Потом Пина заявила, что хочет взглянуть на город с балкона, Рино потащился за ней, они закрылись в соседней комнате и не появлялись добрых полчаса.
Они выделывали подобное уже не в первый раз. Лила говорила о них с насмешкой и раздражением, а я им просто завидовала: они никого не боялись, ничего не стеснялись, а выходя наконец из комнаты, выглядели довольными донельзя. Рино отправился на кухню, поискать, чего бы пожевать; вернувшись в гостиную, он заговорил с сестрой про мастерскую. Дела у него шли все лучше, и он старался вытянуть из Лилы какую-нибудь новую идею, чтобы потом блеснуть перед Солара.
– А ты знаешь, что Марчелло и Микеле хотят повесить твой портрет в магазине на пьяцца Мартири? – внезапно спросил он.
– Мне кажется, ему там не место, – скривилась Пинучча.
– Это еще почему? – удивился Рино.
– Потому что! Если Лина хочет вешать свои портреты, у нее скоро будет новая колбасная лавка! Она в ней хозяйка, вот пусть и распоряжается. А в магазине на пьяцца Мартири командую я, и я буду решать, что там к месту, а что нет.
На словах она вроде бы защищала интересы Лилы, но все прекрасно понимали, что ее заботит исключительно собственная судьба и собственное будущее. Ей надоело во всем зависеть от Стефано, надоела работа в колбасной лавке; она мечтала стать хозяйкой большого магазина в центре города. По этой самой причине Рино и Микеле с недавнего времени вели негласную войну за права своих невест: Рино настаивал, чтобы магазином занималась Пинучча, Микеле предлагал Джильолу. Пинучча боролась активней и не сомневалась в победе: на ее стороне выступал не только жених, но и брат. Вот почему она при любой возможности подчеркивала: дело это решенное, ей недолго осталось прозябать в нашем старом квартале и никто лучше ее не знает, каким должен быть магазин, чтобы угодить вкусам капризных клиентов из центральных районов города.
От меня не укрылось, что Рино поглядывает на сестру с опаской, ожидая с ее стороны возмущения, но Лила не проявила к теме спора никакого интереса. Тогда он с озабоченным видом делового человека посмотрел на часы и пророческим тоном изрек:
– На мой взгляд, у этого портрета огромный коммерческий потенциал.
С этими словами он поцеловал Пину, которая от него отстранилась – его последнее замечание ей явно не понравилось, – и откланялся.
Мы остались втроем. Пинучча повернулась ко мне и немного обиженно спросила:
– Лену, а ты как думаешь? Ты тоже считаешь, что портрет Лины должен стоять в магазине на пьяцца Мартири?
– Это Стефано решать, а не нам. Он специально ездил к портнихе и потребовал, чтобы она убрала портрет с витрины. Мне кажется, вряд ли он согласится отдать портрет в магазин.
Пинучча, не скрывая радости, воскликнула:
– Ну конечно! Какая же ты умная, Лену!
Я ждала, что скажет Лила. Она долго молчала, но наконец, обращаясь исключительно ко мне, выдала:
– Спорим, ты ошибаешься? Стефано согласится.
– Нет!
– Да.
– На что поспорим?
– Если проиграешь, будешь сдавать все экзамены не меньше чем на восьмерки.
Я посмотрела на нее в недоумении. Мы никогда не говорили о моих оценках, и я была уверена, что она не в курсе моего позора. И вот выяснилось, что Лила обо всем знает. Ее слова прозвучали упреком мне, скатившейся ниже некуда. Она требовала от меня сделать то, что сделала бы сама на моем месте. Она хотела, чтобы я всю жизнь провела обложенная книжками, тогда как она будет купаться в деньгах, менять наряды, смотреть телевизор, кататься в автомобиле, – короче говоря, брать от жизни все.
– А если ты проиграешь? – зло спросила я.
Она обожгла меня взглядом.
– Тогда я запишусь в частную школу, – сказала она, – снова возьмусь за учебу и получу аттестат в один день с тобой, только лучше твоего.
«Получу аттестат в один день с тобой, только лучше твоего»… Так вот о чем она думала? Я почувствовала, что все, что меня волновало в последнее время, – Антонио, Нино, мое недовольство собой, – вдруг куда-то исчезло, растворилось в одном глубоком вздохе.
– Ты серьезно?
– А ты что, споришь только в шутку?
Тут в разговор вмешалась Пинучча:
– Лина, не сходи с ума! Тебе надо заниматься новым магазином! Стефано один не справится.
Впрочем, она тут же спохватилась и слащаво проворковала:
– Кстати, хотелось знать, когда вы со Стефано наконец сделаете меня тетей?
В этих вроде бы обычных словах мне послышалась скрытая обида и, как ни странно, я ее отчасти разделяла. На самом деле Пинучча хотела сказать следующее: ты вышла замуж за моего брата, он дал тебе все, почему же ты отказываешься делать то, что должна? И правда, какой смысл быть синьорой Карраччи, если ты запираешься от мужа на ключ, не даешь ему до себя дотронуться и только копишь в душе злобу и яд? Сколько можно вредить тем, кто тебя окружает, Лила? Когда ты остановишься? Когда выдохнешься, сдашься и откажешься от борьбы, как заснувший на посту часовой? Когда ты одумаешься, сядешь за кассу в новой лавке, продемонстрируешь соседям свой округлившийся живот, сделаешь Пинуччу тетей, а меня отпустишь и дашь мне идти своей дорогой?
– Не знаю, – ответила Лила и широко распахнула свои сузившиеся было до щелочек глаза.
– А то смотри, я тебя обгоню, – хихикнула Пина.
– Если будешь и дальше так вешаться на Рино, то я не удивлюсь.
Они сцепились в перепалке, но я их уже не слушала.
20
Чтобы задобрить мать, я принялась искать работу на лето. Первым делом я направилась в канцелярский магазин. Хозяйка встретила меня, как встречают доктора или учительницу: кликнула дочек, которые играли в подсобке, и те бросились обнимать меня и целовать, упрашивая поиграть с ними. Я сказала, что вообще-то ищу работу, и хозяйка ответила, что хоть сейчас отпустит девочек со мной на пляж и наймет меня, не дожидаясь августа, чтобы они проводили время с такой умной и доброй девушкой, как я.
– Хоть сейчас – это когда? – уточнила я.
– Со следующей недели?
– Отлично.
– Я буду платить тебе немножко больше, чем в том году.
Это была первая хорошая новость за весь день. Домой я вернулась довольная, и даже матери не удалось испортить мне настроение, заявив, что мне, как всегда, повезло, потому что какая же это работа – купаться и загорать.
Воодушевленная, на следующий день я отправилась к учительнице Оливьеро. Я немножко волновалась, ведь особенно хвалиться мне было нечем, но не повидаться с ней я не могла: она обещала мне помочь с учебниками на следующий год. Кроме того, мне казалось, что ей будет приятно узнать, что Лила удачно вышла замуж и теперь, когда у нее много свободного времени, подумывает вернуться к учебе. Мне было интересно посмотреть, как она воспримет эту новость, меня, честно говоря, огорошившую.
Я несколько раз постучала в дверь, но никто не открывал. Я поспрашивала у соседей, побродила по району и примерно через час снова вернулась и постучала, но и на этот раз мне никто не открыл. Соседи не видели, чтобы синьора Оливьеро выходила из дома, да и я обошла весь район, но ее так и не встретила. Человеком она была немолодым, жила одна, и я забеспокоилась. Ее ближайшая соседка согласилась позвать своего сына, и тот пробрался в квартиру Оливьеро через балкон. Учительница в ночной сорочке лежала на полу без сознания. Мы вызвали врача, и он сказал, что ее нужно срочно везти в больницу. По лестнице ее вели, с двух сторон придерживая под руки. Я смотрела на нее – растрепанную, с опухшим лицом и испуганным взглядом – и вспоминала, какой аккуратно одетой она всегда приходила в школу. Я кивнула ей в знак приветствия, и она отвела глаза. Ее усадили в машину скорой помощи, и та сорвалась с места, оглашая окрестности завыванием сирены.
Страшная жара, которая стояла в то лето, не щадила самых слабых. Однажды после обеда наш двор огласился криками – это дети Мелины звали мать. Поскольку крики не стихали, я решила выйти посмотреть, в чем дело, и столкнулась с Адой. Ада взволнованно объяснила мне, что Мелина пропала. Прибежал запыхавшийся Антонио, даже не взглянул в мою сторону и тут же куда-то умчался. Через несколько минут Мелину разыскивала уже половина квартала; даже Стефано, как был в рабочем халате, прыгнул в машину, посадил на пассажирское сиденье Аду и отправился медленно объезжать улицы. Я по пятам следовала за Антонио, мы обходили улицу за улицей, но не сказали друг другу ни слова. Наконец мы вышли к прудам, берега которых заросли высокой травой. Мы шли, выкрикивая имя Мелины. Антонио плохо выглядел: щеки ввалились, под глазами залегли круги. Я взяла его за руку, просто чтобы поддержать, но он оттолкнул меня и крикнул: «Оставь меня, ты даже не женщина!» Внутри у меня словно что-то лопнуло, причинив острую боль, и как раз в этот миг мы увидели Мелину. Она сидела в пруду и умывалась. Из подернутой ряской водной глади выступала только ее голова. Волосы у нее намокли и растрепались, глаза покраснели, рот был в грязи, на лицо налип зеленый листок. Она молчала, что было довольно странно, поскольку последние лет десять она постоянно либо напевала, либо что-то бормотала.
Мы повели ее домой. Антонио поддерживал ее с одной стороны, я – с другой. Увидев нас, соседи обрадовались, стали подходить к Мелине и здороваться с ней за руку. У ворот я увидела Лилу, которая не участвовала в поисках. Должно быть, в новый район новость долетела нескоро. Я знала, что когда-то Лила была очень привязана к Мелине, но сейчас, когда все дружно приветствовали ее возвращение (Ада с криком «Мама!» бросилась ей на шею, а Стефано остановил машину посреди дороги и сидел на водительском сиденье со счастливым видом человека, ожидавшего печальных новостей, а получившего добрые), Лила стояла в стороне с очень странным выражением лица, которое я не берусь описать. Наверняка ее тронул жалкий вид сумасшедшей вдовы – та шла грязная, взлохмаченная, в испачканной мокрой одежде, под которой проступало тощее тело. На губах Мелины играла растерянная улыбка, и она протягивала руку, здороваясь с соседями. Но дело было не только в жалости. Мне показалось, что Лила испугалась, как будто и у нее в душе в этот миг что-то сломалось. Я кивнула ей, но она не ответила. Я передала Мелину Аде и побежала к подруге. Мне хотелось рассказать ей о том, что случилось с синьорой Оливьеро, и поделиться ужасными словами, которые сказал мне Антонио. Но Лилу я не нашла – на улице ее уже не было.
21
Когда мы в следующий раз увиделись с Лилой, я сразу поняла, что ей паршиво и она лезет из кожи вон, чтобы так же паршиво стало и мне. Мы провели у нее все утро, старательно делая вид, что нам весело. Она заставила меня мерять свои тряпки, хотя они совершенно мне не шли. Игра в примерку обернулась сущим наказанием. Лила была выше меня ростом и стройнее, и на мне ее наряды смотрелись нелепо. Но она не желала этого признавать и уверяла меня, что все это ерунда, достаточно чуть-чуть расставить и укоротить, и все будет отлично. При этом она смотрела на меня мрачно, точно обижаясь, почему я такая нескладеха.
– Ну ладно, хватит, – вдруг выкрикнула она, изменившись в лице, словно увидела призрак. Но тут же взяла себя в руки и беззаботным тоном сказала, что пару дней назад ходила с Паскуале и Адой в кафе-мороженое.
Я стояла в одних трусах и помогала ей развешивать одежду на плечики.
– С Паскуале и Адой?
– Ага.
– И со Стефано?
– Нет, одна.
– Они тебя пригласили?
– Нет, это я их пригласила.
И, чтобы поразить меня еще больше, добавила, что этим походом ее попытка вернуться в далекие дни детства не ограничилась, потому что на следующий день она позвала Энцо и Кармелу в пиццерию.
– Опять одна?
– Ну да.
– А что Стефано?
Она скорчила недовольную мину.
– Если ты замужем, – бесцветным голосом сказала она, – это еще не значит, что ты должна сидеть в четырех стенах. Захотел бы он пойти с нами – пожалуйста. Но он слишком устает на работе. Поэтому я хожу одна.
– И как посидели?
– Отлично.
Я надеялась, что мне удалось скрыть от нее свое огорчение. Мы виделись почти каждый день, и она ни разу не сказала: «Сегодня вечером я встречаюсь с Адой, Паскуале, Энцо и Кармелой. Хочешь пойти с нами?» Она промолчала, ни словом не обмолвилась мне о своих планах и устроила все так, словно наши друзья были только ее друзьями. А теперь с самодовольным видом пересказывала мне, о чем они там говорили: Ада волнуется за Мелину, потому что та почти ничего не ест и ее все время рвет, а Паскуале за свою мать, Джузеппину, которой по ночам не дают спать боли в ногах и тахикардия, а вернувшись со свидания с мужем в тюрьме, она подолгу плачет. Я слушала ее молча, но не могла не заметить, что Лила говорит гораздо эмоциональнее, чем обычно. Описывая Мелину Капуччо и Джузеппину Пелузо, она выбирала такие слова и выражения, как будто сама испытывала их боль и страдания, и показывала их на себе, хватаясь то за голову, то за грудь, то за живот, то за ноги. Можно было подумать, что ей известно об этих женщинах абсолютно все, потому что, в отличие от меня, с ней они готовы были делиться мельчайшими подробностями своей жизни. Хуже того, у меня возникло ощущение, что Лила пытается внушить мне, что я витаю в облаках и не обращаю внимания на то, чем живут и что чувствуют другие люди. О Джузеппине она говорила так, словно, несмотря на предсвадебные хлопоты, никогда не теряла ее из виду, а о Мелине – так, словно день и ночь только и делала, что думала о матери Ады и Паскуале, и была в курсе всех ее неприятностей. Потом она переключилась на других жителей нашего квартала, чьи имена я когда-то слышала, но ничего особенного о них не знала; зато Лила продолжала следить за ними, пусть и на расстоянии, и испытывать к ним сочувствие. Под конец она вдруг заявила:
– Еще я ходила есть мороженое с Антонио.
Меня как будто ударили под дых.
– Как он?
– Нормально.
– Обо мне что-нибудь говорил?
– Ничего.
– Когда он уезжает?
– В сентябре.
– Значит, Марчелло так ничего для него и не сделал.
– Кто б сомневался.
Что это значило? Что она с самого начала не верила, что Солара помогут Антонио? Зачем тогда она к ним ходила? И почему она, замужняя женщина, позволяет себе ходить по кафе с друзьями одна, без Стефано? Почему она пригласила в кафе Антонио, а мне ничего не сказала, хотя знала, что он мой бывший парень, что я мечтаю с ним поговорить, но он не желает меня видеть? Неужели это была просто месть за то, что я ездила с ее мужем к портнихе и утаила от нее это событие? Я быстро оделась, пробормотала, что мне пора, и поднялась уходить.
– Это еще не все.
И она сообщила, что Рино, Марчелло и Микеле обратились к Стефано с просьбой зайти в строящийся на пьяцца Мартири магазин, взглянуть, как там обстоят дела, и уже на месте, прямо посреди мешков с цементом, бидонов с краской и тому подобного, указали ему на стену напротив входной двери, на которой намеревались повесить ее портрет. Стефано осмотрелся и сказал, что это действительно неплохая идея – использовать портрет для рекламы, но все же ему она кажется не вполне удачной. Партнеры продолжали настаивать, но он им отказал: и Марчелло, и Микеле, и даже Рино. В общем, я выиграла пари: ее муж не сдался под напором Солара.
– Вот видишь? – воскликнула я с фальшивым воодушевлением. – Ты все нападаешь на Стефано, а ведь я оказалась права. Придется тебе теперь идти учиться.
– Подожди.
– Чего ждать? Пари есть пари, и ты его проиграла.
– Подожди, – повторила Лила.
Настроение у меня окончательно испортилось. Она сама не знает, чего хочет, думала я. Злится, что ошиблась насчет мужа. А может, все-таки оценила отказ Стефано, но огорчилась, что Солара так быстро сдались. Еще бы – столько мужчин спорили из-за ее портрета. Впрочем, не уверена; возможно, я преувеличивала… Тем временем она в каком-то оцепенении провела рукой вдоль бедра, словно сама себе дарила последнюю ласку, и в ее глазах появилось то же смешанное выражение боли, страха и отвращения, которое я уловила на ее лице в вечер исчезновения Мелины. Что, если она и правда мечтала о том, чтобы ее портрет красовался в магазине, в самом центре города, и ей жалко, что Микеле не сумел принудить Стефано к согласию? Почему бы и нет? Она всегда хотела быть самой красивой, самой элегантной, самой богатой – первой всегда и во всем. И самой умной – как я могла об этом забыть? Мысль о том, что Лила снова пойдет учиться, резанула мое самолюбие. Разумеется, она быстро нагонит упущенное время, и на выпускных экзаменах мы с ней окажемся за одной партой. Думать об этом было невыносимо. Но еще ужаснее было осознать, что мной владеют подобные чувства. Меня охватил стыд, и я принялась с увлечением расписывать, как будет здорово, если мы снова будем вместе учиться, так что ей надо срочно выяснить, как это лучше сделать. Лила только пожала плечами, и тогда я сказала:
– Ладно, мне и правда уже пора.
На сей раз она не стала меня удерживать.
22
Как обычно, спускаясь по лестнице, я вновь и вновь возвращалась мыслями к нашему разговору, и пришла к следующим выводам. Лила целыми днями сидела дома одна, знакомых в новом районе у нее не было, Стефано ее поколачивал, она постоянно боролась со своим телом, сопротивляясь зачатию, и до такой степени завидовала моим школьным успехам, что предложила это безумное пари, чтобы иметь повод снова сесть за парту. Не исключено, что она завидовала и моей свободе. Мои проблемы – размолвка с Антонио и недостаточно хорошие оценки – по сравнению с ее собственными представлялись ей сущими пустяками. Постепенно я, сама того не замечая, нашла ей оправдание, через несколько минут перешедшее в восхищение. Ведь и правда, как было бы хорошо, если бы она снова стала учиться! Мы вернулись бы в детские годы, когда она всегда была первой, а я второй. Учеба вновь наполнилась бы смыслом, потому что Лила умела находить в ней смысл. Я бы существовала в ее тени и чувствовала себя сильной и защищенной. Да, да! Надо все начать сначала.
Пока я шла домой, мне вспомнилось то странное выражение на лице подруги – смесь страха, страдания и отвращения. Что оно значило? Я снова мысленно увидела растрепанную учительницу Оливьеро, плохо владеющую собой Мелину и, сама не знаю почему, начала приглядываться к проходящим мимо женщинам. С глаз как будто спала пелена, и я поняла, что до сих пор смотрела на них, но на самом деле их не видела. В центре моего внимания были только девчонки, мои подруги – Ада, Джильола, Кармела, Мариза, Пинучча, Лила, – я сама, мои одноклассницы, но мне и в голову не приходило задуматься, как выглядят Мелина, или Джузеппина Пелузо, или Нунция Черулло, или Мария Карраччи. Единственная взрослая женщина, за которой я наблюдала вблизи, была моя хромая мать; ее облик отталкивал и пугал меня, я боялась, что стану такой же, как она. Но в ту минуту я ясно представила себе их всех – матерей семейств, живших в нашем квартала. Все они были измученные, затурканные, нервные. Они или молчали, поджав губы, или орали на детей, которые выводили их из себя. Худые, с запавшими глазами и щеками, или слишком толстые, с огромными задницами, распухшими ногами и тяжелыми обвисшими грудями, они тащились по улицам, навьюченные сумками с продуктами, а за ними семенили, вцепившись им в юбки, младшие дети, с ревом требуя взять их на руки. Господи боже, они ведь были всего на десять, максимум на двадцать лет старше меня. И уже потеряли всякую женскую привлекательность, которую мы, девчонки, старались подчеркнуть нарядами и макияжем. Эти женщины растратили себя, угождая мужьям, отцам и братьям, и становились все больше похожими на своих мужчин, подточенные болезнями, возрастом и непосильным трудом. Когда в них начались эти страшные перемены? Когда они взвалили на себя домашние хлопоты? Когда родили первого ребенка? Когда получили первую затрещину от мужа? Неужели и Лила станет такой же, как Нунция? Неужели на ее нежном лице проступят грубые черты Фернандо, а легкая походка сменится неуклюжей поступью Рино, с его широким шагом и безвольно свисающими вдоль тела руками? А что станет со мной? Неужели и мое тело однажды исчезнет, а вместо него появится не только уродливое тело матери, но и тело отца? И все, чему учили меня в школе, растает как дым, и наш квартал с его говором и повадками опять победит, и все потонет в этом вязком болоте, все вперемешку – Анаксимандр и мой отец, фирма «Фольгоре» и дон Акилле, валентности и пруды, аорист, Гесиод и грубая народная речь братьев Солара, все это, повторившись в тысячный раз, растворится в хаосе нашего опустившегося города?
Я вдруг поняла, что помимо собственной воли испытывала сейчас те же чувства, что владели Лилой. Так вот почему у нее на лице появилось это выражение горечи и боли! Вот почему она поглаживала себя по бедру, словно прощаясь с собой! Она ощупывала свое тело, догадываясь, что скоро в него вселятся Мелина или Джузеппина, и предчувствие этого ужасало ее и вызывало в ней отвращение. Вот почему она пыталась собрать вокруг себя друзей детства, с которым не желала расставаться!
Я вспомнила, каким взглядом она смотрела на учительницу Оливьеро, когда та, споткнувшись, упала в классе, точно сломанная кукла. Я вспомнила, как она не могла оторвать глаз от Мелины, которая шла по улице и жевала только что купленное мыло. Еще я вспомнила, как Лила рассказывала нам, подружкам, об убийстве, о следах крови на медной кастрюле, и уверяла нас, что дона Акилле убил не мужчина, а женщина. Она настаивала на этом, словно своими глазами видела на месте убийства женскую фигуру. Дона Акилле должна была убить женщина, чтобы выместить на нем всю ненависть к мужчинам, и она сделала это во имя торжества справедливости.
23
С конца июля я каждый день, даже по воскресеньям, ходила с дочками владелицы магазина канцтоваров на пляж в Sea Garden. С собой я брала не только разные мелочи, которые могли понадобиться моим подопечным, но и книги, полученные от профессора Галиани. Авторы этих не слишком толстых томиков рассуждали о прошлом и настоящем и пытались представить, каким станет наш мир в будущем. По стилю изложения они напоминали учебники, но были сложнее и интереснее. Я не привыкла к чтению текстов подобного рода и довольно быстро от них уставала, да и девочки требовали моего внимания. Рядом плескалось спокойное море, солнце заливало город зноем, в голове роились безумные фантазии, я ловила себя на желании поскорее перескочить через строчку, поскорее добраться до конца страницы и вернуться к тому, что находилось на расстоянии вытянутой руки: к незамысловатому существованию между морем и небом. Накануне своего семнадцатого дня рождения я сидела на пляже, переводя взгляд со своих воспитанниц на страницы «Рассуждения о происхождении неравенства между людьми».
В одно особенно жаркое воскресенье кто-то подошел ко мне сзади и закрыл мне глаза руками.
– Угадай, кто это?
По голосу я сразу узнала Маризу, и во мне всколыхнулась надежда, что сейчас я увижу Нино. Вот бы посмотрел он на меня сейчас: загоревшую, с гладкой от соленой воды кожей, склоненную над серьезной книгой.
– Мариза! – радостно воскликнула я и обернулась. Но Нино с ней не было – рядом с ней стоял Альфонсо с голубым полотенцем на плече, держа в руках зажигалку, кошелек и пачку сигарет. Он был в черных плавках с белой полосой, такой бледный, словно в жизни не бывал под солнцем.
Я удивилась, что он здесь. Альфонсо не сдал экзамены по двум предметам, и в октябре его ждала переэкзаменовка; кроме того, я знала, что он работает в колбасной лавке, и по идее в выходные должен был корпеть над учебниками. Да и Мариза, по моим представлениям, должна была уехать с родителями на каникулы в Барано. Но она рассказала, что родители поссорились с хозяйкой тамошнего дома и в складчину с римскими друзьями сняли домик в Кастель-Вольтурно. Она вернулась в Неаполь всего на несколько дней – забрать учебники и… кое с кем увидеться. С этими словами Мариза кокетливо улыбнулась Альфонсо, но для меня и так не было секретом, что она имела в виду именно его.
Я не сдержалась и спросила, как Нино сдал выпускные экзамены. Мариза недовольно поморщилась.
– Две девятки, остальные восьмерки. Узнал результаты и тут же уехал в Англию. Один. Без гроша в кармане. Собрался искать работу. Пробудет там, пока не выучит английский.
– А потом?
– Не знаю, наверное, будет в университет поступать, на экономический.
У меня в голове роились тысячи новых вопросов; я искала предлог, чтобы выспросить, что за девушка поджидала его возле школы. Меня интересовало, с ней он уехал или один. Но тут Альфонсо вдруг смущенно пробормотал:
– С нами Лина приехала. Нас Антонио привез. На машине.
Антонио?
Должно быть, Альфонсо заметил, как изменилось мое лицо, на котором вспыхнуло ревнивое удивление, улыбнулся и сказал:
– Стефано занят в новой лавке и поехать с нами не смог. Но Лина хотела с тобой увидеться. Ей надо тебе что-то сказать. Это она попросила Антонио нас отвезти.
– Точно! Она сказала, что ей срочно надо с тобой поговорить, – подтвердила Мариза и весело захлопала в ладоши, показывая свою осведомленность.
Что такого она собиралась мне сказать? Судя по выражению лица Маризы, что-то хорошее. Может, Лила уговорила Антонио простить меня? Или Солара сдержал слово и устроил Антонио освобождение от службы? Именно эти мысли первыми пришли мне в голову. Но от них пришлось отказаться, едва на горизонте показались Лила и Антонио. Мне сразу стало ясно, что Антонио подвез Лилу только потому, что ему нечем было заняться в воскресенье, а дружбу с ней он рассматривал как редкую удачу. Он плохо выглядел: несчастный и какой-то испуганный. Холодно бросил мне: «Привет» – и отошел в сторону. Я спросила, как чувствует себя Мелина, он нехотя выдавил пару слов, обеспокоенно огляделся и позвал девочек купаться – им только того и надо было. Лила показалась мне бледной, правда, она была без косметики, и настороженной. Не знаю насчет срочного дела, но она села рядом со мной, взяла книгу, которую я читала, и молча принялась ее листать.
Мариза смотрела на нее с недоумением. Потом, застеснявшись собственного недавнего энтузиазма, побрела к воде. Альфонсо устроился подальше от нас, растянулся на солнце и стал с необъяснимым интересом смотреть на полуголых купальщиков, как будто никогда не видел картины занимательней.
– Кто дал тебе эту книгу? – спросила Лила.
– Преподавательница латыни и греческого.
– А почему ты мне ничего не сказала?
– Не думала, что тебе это интересно.
– Откуда ты знаешь, что мне интересно, а что нет?
– Когда дочитаю, дам ее тебе. Такие книги дают только лучшим ученикам. Нино тоже их читал, – примирительно сказала я.
– Какой еще Нино?
Она что, нарочно притворялась, что не помнит Нино? Но зачем? Чтобы унизить его в моих глазах?
– Он был в том фильме со свадьбы. Старший брат Маризы, Нино Сарраторе.
– А, тот урод, в которого ты влюблена?
– Я тебе уже говорила, что ничего я в него не влюблена. Просто он делает потрясающие вещи!
– Например?
– Например, сейчас уехал в Англию. Путешествует, работает, учит английский.
Даже просто повторяя то, что я только что узнала от Маризы, я почувствовала, как у меня сильнее забилось сердце.
– Слушай, а ведь мы тоже можем путешествовать! Устроимся официантками, выучим английский лучше самих англичан. Почему ему можно, а нам нельзя?
– Он окончил школу?
– Да, получил аттестат. Собирается поступать в университет, на трудный факультет.
– Он умный?
– Как ты.
– Я бросила учебу.
– Ну и что? Ты проиграла пари и должна пойти учиться.
– Прекрати, Лену!
– Что, Стефано не разрешает?
– У нас новая лавка, я должна в ней распоряжаться.
– Ты можешь учиться и работать.
– Нет.
– Но ты же обещала. Сказала, мы получим аттестат в один день.
– Нет.
– Но почему?
Лила несколько раз провела рукой по книжной обложке, точно разглаживая ее.
– Я жду ребенка, – сказала она. И, не дожидаясь от меня ответа, пробормотала: – Как жарко. – Положила книгу, пробежала по бетонному волнорезу и вдруг сиганула в воду, успев крикнуть Антонио, который возился с Маризой и девочками, поднимая фонтаны брызг: – Тони, спасай меня!
Несколько секунд она летела вперед, широко раскинув руки, а потом неловко плюхнулась в воду. Плавать она не умела.
24
Лила вступила в период бешеной активности. Всю свою энергию она обратила на новую колбасную лавку и занималась ею с таким рвением, словно ничего важнее в жизни не существовало. Она просыпалась чуть свет, пока Стефано еще спал. Ее рвало, потом она варила кофе и снова бежала в туалет. Стефано стал необыкновенно заботливым, настаивал, что отвезет ее на машине, но Лила говорила, что ей лучше прогуляться, и выходила из дома, пока не начало палить солнце. Она шла пустынными улицами, мимо только что построенных и большей частью еще незаселенных домов. Отпирала лавку, протирала запачканный краской пол и поджидала рабочих и поставщиков, которые привозили весы, ломтерезки и прочее оборудование. Она раздавала указания, куда что ставить, и, сообразуясь со своими представлениями, сама двигала то одно, то другое. Рабочие, здоровенные грубые парни, безропотно подчинялись ее приказам, как оркестранты подчиняются дирижеру. Иногда, не желая объяснять, что ей надо, Лила пыталась перетащить на новое место что-то тяжелое. Рабочие в ужасе кричали:
– Синьора Карраччи, что вы делаете? – и всем скопом бросались ей на помощь.
Хотя стояла жара и Лила плохо себя чувствовала, она не ограничилась одной лавкой. Время от времени она увязывалась за Пинуччей в магазин на пьяцца Мартири, где стройкой командовал Микеле, но где часто бывал и Рино. Она наблюдала, как движется работа, поскольку производство обуви марки «Черулло» касалось не только ее брата, но и Стефано, который был в доле с Солара.
Здесь Лила тоже никому не давала скучать. Она забиралась на стремянку, оглядывала будущий магазин сверху, соскакивала вниз и принималась переставлять мебель. Сначала все сопротивлялись, но постепенно, один за другим, начали сдаваться под ее напором. Микеле, настроенный к Лиле особенно саркастично, первым оценил пользу ее советов.
– Дорогуша! – поддразнивал он ее. – Может, заглянешь как-нибудь к нам в бар? Он нуждается в обновлении, а я хорошо тебе заплачу.
Перспектива обновления бара Солара Лилу привлекала мало, зато, поняв, что на пьяцца Мартири достаточно всех перебаламутила, она переместилась на следующий объект, которым стала старая колбасная лавка, в которой царствововало семейство Карраччи. Она заставила Стефано отправить Альфонсо домой – пусть готовится к переэкзаменовке, – и убедила Пинуччу, что ей, как и ее матери, куда важнее находиться в магазине на пьяцца Мартири. Понемногу она навела в старой колбасной порядок, упростив работу и повысив продажи. Мало того, она доказала Стефано, что его матери и сестре вообще нечего делать в лавке, со всем справится Ада, надо только побольше ей платить.
Возвращаясь к вечеру с моря, я отводила девочек к матери, а потом заходила к Лиле в лавку – узнать, как у нее дела, и посмотреть, растет ли живот. Лила была какой-то дерганой; мне не нравилось, как она выглядит. На мои осторожные вопросы: как протекает беременность – она не отвечала, а то и вовсе выпроваживала меня из лавки, бормоча себе под нос: «Не желаю об этом говорить, это хуже болезни, внутри какая-то пустота, и она тянет меня к земле». Потом она переключалась на свои лавки, старую и новую, или на магазин на пьяцца Мартири, и в своей обычной манере превозносила их, как будто там творились настоящие чудеса, и только я, недотепа, оставалась от них в стороне.
Но я уже хорошо выучила все ее приемчики; я слушала и не верила ни единому ее слову, хотя мне было трудно не восхищаться энтузиазмом, с каким она играла и служанку, и хозяйку одновременно: она болтала со мной, беседовала с покупателями, перебрасывалась репликами с Адой, и все это – не прекращая отрезать, взвешивать, заворачивать, получать деньги и отсчитывать сдачу. Она крутилась и фонтанировала, не жалея себя, словно вела беспрестанную схватку, позволявшую хоть на время забыть о той тяжести, которую она почему-то называла пустотой.
Но больше всего меня поражало, как небрежно она обращалась с деньгами. Она подходила к кассе и брала из нее сколько хотела. Касса была для нее тем самым волшебным сундуком из нашего детства, наполненным сокровищами. В тех редких случаях, когда денег в кассе было недостаточно, она просто бросала в сторону Стефано выразительный взгляд. Тот, казалось, вернулся в те времена, когда за ней ухаживал, и, задрав халат, доставал из заднего кармана брюк увесистый кошелек. «Сколько тебе надо?» – спрашивал он. Лила показывала ему на пальцах, и муж правой рукой протягивал ей требуемую сумму; она в ответ протягивала ему свою тоненькую руку.
Ада наблюдала за этой картиной из-за стойки. На Лилу она взирала с тем же нескрываемым восхищением, с каким рассматривала фотографии кинозвезд в журналах. Подозреваю, что в тот период жизни сестра Антонио чувствовала себя так, будто попала в сказку. Когда Лила открывала кассу и давала ей деньги, глаза у нее загорались. А Лила проделывала это частенько, если Стефано не видел. Она дала Аде денег для Антонио, который вот-вот должен был отбыть в армию, дала денег Паскуале, которому понадобилось срочно залечить три зуба. В начале сентября она отвела меня в сторонку и спросила, не нужны ли мне деньги на книги.
– Какие книги? – удивилась я.
– Учебники. И не только учебники.
Я ответила, что синьора Оливьеро еще не выписалась из больницы, и я не знаю, сможет ли она, как обычно, помочь мне с учебниками. Лила попыталась сунуть мне в карман пачку купюр. Я отскочила и замотала головой – роль бедной родственницы, вынужденной побираться, абсолютно меня не привлекала. Я сказала, что вообще-то занятия еще не начались, что я работаю до середины сентября и платят мне в этом году немного больше, так что я справлюсь сама. Лила огорчилась и еще раз предложила, если учительница не поможет, обратиться к ней.
Не только я, но и все остальные чувствовали неловкость от того, как легко Лила расставалась с деньгами. Паскуале не хотел их брать, считая это унизительным, но, когда у него разнесло пол-лица так, что заплыл глаз, и, сколько он ни прикладывал листья салата, ничего не помогало, все-таки согласился. Антонио вначале тоже воспринял щедрость Лилы как оскорбление, но потом убедил себя, что Стефано слишком долго недоплачивал его сестре за работу в лавке, и взял деньги. Ни у кого из нас никогда не было много денег, мы привыкли считать десять лир крупной суммой и радовались, если находили на улице монетку. Поэтому отношение Лилы к деньгам как к резаной бумаге казалось нам смертным грехом. Она раздавала их молча, не принимая возражений, как в детстве указывала, кто за кого будет играть. И сразу переводила разговор на другую тему, как будто ничего особенного не произошло.
– С другой стороны, – как-то вечером сказал мне Паскуале, – лавка процветает, да и обувь хорошо продается, а Лина – наш старый товарищ, она всегда на нашей стороне. То, что она разбогатела, – ее личная заслуга. У нее полно денег не потому, что она стала синьорой Карраччи, а скоро станет матерью будущего наследника лавки, а потому, что придумала марку «Черулло»; все делают вид, что забыли про это, но мы, ее друзья, мы все помним.
Истинная правда. Сколько событий случилось в жизни Лилы в последний год! Нам только-только исполнилось по семнадцать лет, и время, которое раньше плавно текло, теперь как будто уплотнилось – так вдруг густеет крем, когда взбиваешь его в миске. Об этом с горечью сказала мне и Лила, когда однажды в жаркое воскресенье, часа в три, неожиданно появилась на пляже – против обыкновения одна. Она приехала на метро и двух автобусах и вдруг возникла передо мной – в ярком купальнике, бледная до зелени, с россыпью прыщей на лбу. «Семнадцать – поганый возраст», – сказала она на диалекте, сверкнув глазами, и в ее голосе слышался и сарказм, и одобрение.
Она опять поссорилась с мужем. Тот каждый день встречался с Солара, и они горячо спорили, кто станет распоряжаться в магазине на пьяцца Мартири. Микеле настаивал на кандидатуре Джильолы и вдрызг разругался с Рино, который проталкивал Пинуччу; к переговорам привлекли Стефано, и дело едва не дошло до драки. В конце концов нашли компромисс: пусть Джильола и Пинучча управляют магазином сообща. Но Стефано должен пересмотреть свое решение по одному важному вопросу.
– Какому вопросу?
– Сама догадайся.
Я не догадалась. Микеле с присущей ему напористостью потребовал от Стефано, чтобы в магазине висел портрет Лилы в подвенечном платье. И на сей раз ее муж подчинился.
– Что, правда?
– Правда. Я же тебе говорила: подожди. Они вывесят меня на самом видном месте. Так что пари выиграла я, а не ты. Давай, налегай на книжки. Экзамены ты должна сдать не ниже чем на восьмерки.
Потом она оставила шутливый тон и заговорила серьезно. Дело не в фотографии, сказала она, для нее давно не секрет, что этот подонок, ее муж, всегда смотрел на нее как на разменную монету. Она приехала поговорить про свою беременность и говорила долго и раздраженно, с холодной решимостью перемалывая до основания каждую тщательно продуманную мысль.
– Отвратителен не процесс зачатия, – рассуждала она. – Мужик засовывает в тебя свое хозяйство, и ты становишься мясным ящиком с живой куклой внутри. Именно это со мной и произошло, и мне это омерзительно. Меня каждые пять минут выворачивает, потому что мое тело отказывается с этим мириться. Я знаю, что должна думать о красивых вещах, настраивать себя на позитивный лад, но я не могу и не понимаю, почему обязана все это терпеть. Кроме того, – добавила она, – я чувствую, что не способна возиться с ребенком. Вот у тебя бы точно получилось – достаточно посмотреть, как ты справляешься с чужими девчонками. Но мне это не дано.
Ее слова смутили меня. Что я могла ей ответить?
– Откуда ты знаешь, что тебе дано, а что не дано? Пока не попробуешь, не поймешь, – пожала плечами я и указала на дочек владелицы магазина канцтоваров, которые неподалеку от нас играли в песке. – Иди поиграй с ними или просто поболтай.
Лила засмеялась и сказала, что я уже успела научиться у наших мамаш манере сюсюкать с детьми. Но все же поднялась, подошла к девочкам, что-то им сказала и сразу вернулась ко мне. Я стояла на своем и подтолкнула ее в сторону Линды, младшей из девочек.
– Иди поиграй с ней в ее любимую игру. Линда обожает пить воду из фонтанчика. А потом затыкает фонтанчик большим пальцем и брызгается.
Лила нехотя взяла Линду за руку и повела к бару, рядом с которым был установлен фонтанчик. Прошло несколько минут, а они все не возвращались. Я испугалась, позвала сестер Линды, и мы пошли узнать, куда они пропали. Но все было в полном порядке: Линда захватила Лилу в плен, но та не возражала. Она держала девочку на руках возле самой струи, и та брызгалась в свое удовольствие. Обе весело смеялись, как мне показалось, вполне искренне.
Я немного приободрилась, разрешила сестрам тоже бежать к фонтанчику, а сама зашла в бар и села за столик, чтобы наблюдать за происходящим и одновременно читать. Глядя на Лилу, я понимала, какой матерью она станет. То, что сейчас представляется ей невыносимым, станет для нее источником радости. Наверное, надо сказать ей, что в мире нет ничего лучше простых вещей. Отличная мысль, ей понравится. Везучая она, Лила, у нее есть все, о чем только можно мечтать.
Я попыталась сосредоточиться на рассуждениях Руссо, но, в очередной раз подняв глаза на девочек, поняла, что дело плохо. Линда громко плакала. То ли она слишком далеко вытянулась, то ли одна из сестер ее толкнула, но она выскользнула из рук Лилы и ударилась подбородком о край фонтанчика. Я со всех ног бросилась к ним. Увидев меня, Лила крикнула тонким детским голоском, какого я не слышала от нее, даже когда мы были маленькими:
– Я не виновата, это сестра ее толкнула!
Лила держала Линду за руку, по подбородку у малышки текла кровь вперемешку со слезами, а ее сестры испуганно переглядывались и в то же время натянуто улыбались, всем своим видом показывая, что они тут ни при чем.
Я подхватила Линду на руки и быстро умыла ей лицо. Под подбородком алела длинная тонкая полоса. Мне ничего не заплатят, и мать меня убьет, мелькнуло у меня, пока я с ребенком на руках бежала к спасателю. Он начал с ней шутить, чтобы она перестала плакать, а сам ловкими движениями продезинфицировал рану, отчего Линда разрыдалась пуще прежнего. Спасатель сделал ей марлевую повязку и снова чем-то отвлек. В общем, ничего страшного не случилось. Я купила всем троим мороженого, и мы вернулась на пляж.
Лила успела исчезнуть.
25
Мать девочек не слишком разволновалась, узнав, что Линда поранилась, но, когда я спросила, в котором часу мне приходить завтра, ответила, что дочки этим летом достаточно накупались, так что мои услуги ей больше не понадобятся.
Я не стала говорить Лиле, что потеряла работу, а она ни о чем меня не спрашивала, не поинтересовалась даже, как себя чувствует Линда. Когда мы увиделись с Лилой в следующий раз, она была поглощена подготовкой к открытию новой лавки, напомнив мне спортсмена, изнуряющего себя тренировками перед важным соревнованием.
Она потащила меня в типографию, где по ее заказу в огромном количестве печатали рекламные листовки, и попросила зайти в церковь, договориться со священником, чтобы пришел освятить помещение и товар. Рассказала, что наняла Кармелу Пелузо и положила ей хорошее жалованье, гораздо выше, чем обычно платят простой продавщице. Но главное, она затеяла настоящую войну против мужа, Пинуччи, свекрови и родного брата. Правда, рассказывая мне об этом, она не проявляла особой агрессии, говорила тихим голосом, почти все время на диалекте, и попутно успевала переделать тысячу других дел, вроде бы занимавших ее гораздо больше, чем предмет разговора. Она спокойно перечисляла гадости, которые ей уже сделали и продолжали делать родственники, как кровные, так и благоприобретенные. «Они пресмыкаются перед Микеле, – говорила она, – как раньше пресмыкались перед Марчелло. Меня они просто используют, как будто я не человек, а вещь. Отдадим им Лину, повесим ее на стену… Для них я ноль без палочки». Глаза у нее блестели, под ними залегли темные круги, скулы на похудевшем лице выпирали, уголки губ подергивались в нервной усмешке, открывая белоснежные зубы. Но ее слова меня не убеждали, как и ее показная деловитость. Я догадывалась, что она мечется в поисках выхода, и эти метания изрядно ее изнурили.
– И что ты собираешься делать? – спросила я.
– Ничего. Но мой портрет они повесят на стену только через мой труп.
– Да ладно тебе, Лила. В конце концов, что тут такого? Даже приятно – будешь красоваться в рекламе, как какая-нибудь артистка.
– Я не артистка.
– Это правда.
– Тогда о чем мы говорим? Если мой муж продался Солара с потрохами, по-твоему, пусть и меня продаст?
Я пыталась ее образумить: может, не надо выводить Стефано из терпения? Как бы он опять не начал распускать руки! Но Лила только рассмеялась: после того как муж узнал, что она беременна, он и пальцем ее не тронул. Но едва она это сказала, как меня озарила догадка: а что, если фотография – это не больше чем повод? Что, если Лила нарочно дразнит всю эту компанию – Стефано, Солара, Рино, – нарочно их провоцирует, чтобы кто-нибудь из них отлупил ее до полусмерти и избавил от другой боли – той, что причинял ей живой комочек, зреющий у нее в животе?
Мои опасения подтвердились в тот вечер, когда состоялось открытие новой лавки. Лила оделась в какое-то убогое тряпье, а с мужем у всех на глазах обращалась как с лакеем. Священника, которого сама же просила меня пригласить, выпроводила еще до того, как он освятил магазин, демонстративно сунув ему в руку пачку денег. Затем она принялась нарезать ветчину и делать бутерброды, которые раздавала всем желающим, каждому наливая еще и по стаканчику вина. Народ повалил в лавку валом, Лила с Кармелой не успевали обслуживать покупателей, и Стефано, который по торжественному случаю надел свой лучший костюм, пришлось встать за прилавок даже без фартука.
Дома Стефано наорал на жену. Лила, которой только того и надо было, не осталась в долгу: если он мечтал заполучить рабыню, орала она в ответ, то не на ту напал, она ему не мать и не сестра и, стоит ей захотеть, устроит ему веселую жизнь. Она припомнила ему все, начиная со сделки с Солара и махинаций вокруг ее портрета, и не скупилась на выражения. Стефано дал ей выговориться, а потом ответил потоком еще более грязных оскорблений, но поднять на нее руку так и не решился. На следующий день, когда Лила пересказала мне эту сцену, я предположила, что Стефано, несмотря на все свои недостатки, действительно ее любит. Лила отрицательно помотала головой.
– Вот что он любит, – сказала она и красноречиво потерла друг о друга большой и указательный пальцы.
Новая лавка быстро завоевала популярность в своем квартале; от покупателей отбою не было.
– Касса лопается от денег, – говорила Лила. – А все благодаря мне. Я помогаю ему разбогатеть, я собираюсь родить ему сына. Чего еще ему от меня надо?
– А тебе самой чего еще надо? – спросила я, не в силах скрыть досаду, но тут же поспешно улыбнулась, надеясь, что Лила ничего не заметит.
Помню, что мой вопрос ее смутил. Она задумчиво потерла лоб. Возможно, она сама не знала, чего хочет, и это мучило ее и не давало ей покоя.
Приближалось открытие магазина на пьяцца Мартири, и Лила словно с цепи сорвалась. Впрочем, может, я и преувеличиваю. Но факт остается фактом: она извела всех, включая меня, срывая на нас свою злость и недовольство. Жизнь мужа она превратила в ад, кидалась на свекровь и золовку и бранилась на брата на глазах у рабочих сапожной мастерской; Фернандо делал вид, что ничего не слышит, и лишь ниже склонялся над верстаком. С другой стороны, Лила не могла не чувствовать, что, сколько бы она ни сопротивлялась, ее все глубже затягивает в воронку несчастья; в те редкие разы, когда я заставала ее в новой колбасной лавке одну, не осаждаемую покупателями или поставщиками, она с потерянным видом стояла за прилавком, держась рукой за лоб, словно зажимала рану, и силясь вдохнуть.
Однажды после обеда я сидела дома. Сентябрь подходил к концу, но жара на улице стояла страшная. Приближалось начало учебного года; пролетали последние вольные деньки. Мать с утра до ночи пилила меня, называя бездельницей. Где сейчас Нино, я не знала: то ли в Англии, то ли в загадочном месте под названием университет. С Антонио я так и не помирилась и потеряла на это последнюю надежду: они с Энцо отбыли на военную службу. Перед отъездом он попрощался со всеми, кроме меня. Вдруг я услышала, как кто-то окликает меня с улицы. Это была Лила. Глаза у нее лихорадочно блестели. Она сказала мне, что наконец-то нашла решение.
– Какое решение?
– Насчет портрета. Если они хотят его выставить, пусть сделают так, как я скажу.
– И что ты скажешь?
Она не объяснила; возможно, еще сама не все продумала. Но я знала ее достаточно хорошо, чтобы понять: у нее зреет какой-то план. Такое выражение всегда появлялось у нее на лице, когда в темных глубинах ее души рождался сигнал, запускающий бешеную работу мозга. Она попросила сходить с ней вечером на пьяцца Мартири, где должны были собраться все: братья Солара, Джильола, Пинучча и Рино. Ей нужна была моя помощь и поддержка. Я понимала, что она затевает нечто особенное, что позволит ей одним махом переломить ситуацию в свою пользу, заодно выплеснув скопившееся напряжение.
– Ну хорошо, – согласилась я. – Только обещай не сходить с ума.
– Ладно.
После закрытия магазина Лила и Стефано заехали за мной на машине. Из коротких реплик, которыми они обменивались по дороге, мне стало ясно, что муж понятия не имеет, что задумала жена, и мое присутствие его скорей беспокоит, чем успокаивает. Лила наконец-то снизошла до переговоров. Если уж твердо решено, что фотография должна висеть в магазине, она оставляет за собой право самой выбрать, куда и как ее поместить.
– Ты про раму? Или про подсветку? – спросил Стефано.
– Там видно будет.
– Но больше ни во что не вмешивайся.
– Не буду.
Вечер выдался теплый и приятный; в витрине магазина горели лампы, освещая близлежащее пространство. Еще издалека мы заметили огромный портрет Лилы в подвенечном платье, прислоненный к стене. Стефано припарковал машину, и мы вошли в магазин, пробираясь между грудами коробок с обувью, банками краски и стремянками. Марчелло, Рино, Джильола и Пинучча нашему приходу не обрадовались: у каждого из них были на то свои причины, но всех объединяло нежелание в очередной раз вступать с Лилой в споры по пустякам. Единственным, кто изобразил сердечность, был Микеле, который обратился к Лиле в своей обычной издевательской манере:
– Достопочтенная синьора! Вы объясните нам, зачем пожаловали? Надеюсь, не только для того, чтобы испортить нам вечер?
Лила посмотрела на прислоненный к стене портрет и попросила положить его на пол.
– Зачем? – осторожно поинтересовался Марчелло, преодолев смущение, которое всегда охватывало его в присутствии моей подруги.
– Сейчас покажу.
– Не дури, Лина. Знаешь, сколько мы за него отвалили? – вмешался Рино. – Если испортишь, тебе несдобровать.
Солара разложили портрет на полу. Лила, нахмурив брови, огляделась вокруг. Глаза у нее превратились в узенькие щелочки. Она что-то искала, точно зная, что это «что-то» здесь, скорее всего, потому, что сама это купила. Наконец в углу она обнаружила рулон черной бумаги, взяла большие ножницы и коробку с канцелярскими кнопками. На ее лице появилось выражение невероятной сосредоточенности, свидетельствующее о том, что в данный момент внешний мир перестал для нее существовать. Никто из нас и охнуть не успел, а она уже со своей обычной ловкостью нарезала черную бумагу на полосы. Затем, взглядом попросив меня помочь, начала прикреплять эти полосы к портрету.
Я помогала ей с воодушевлением, как в детстве, когда вместе с Лилой участвовала в ее затеях. Мне нравилось быть рядом с ней, понимать ее с полуслова, а порой даже опережать ее намерения. Я чувствовала, что она видит что-то такое, чего не видит никто из нас, и сейчас старается раскрыть нам на это глаза. Меня охватила та же радость, которая переполняла Лилу, струилась у нее из пальцев, сжимавших ножницы и втыкавших в бумагу кнопки.
Наконец она попыталась поднять портрет, словно забыв, что мы здесь не одни, но, конечно, не смогла. Мы с Марчелло бросились к ней на помощь и совместными усилиями прислонили портрет к стене. Затем все мы дружно попятились назад, кто хмыкая, кто хмурясь, кто содрогаясь от ужаса. Фигура Лилы в подвенечном платье исчезла – из-под черных полос проступали часть головы с одним глазом, рука, на которую опирался подбородок, яркое пятно рта и кусок груди, четко прорисованная линия скрещенных ног и полностью открытые взорам туфли.
Первой в атаку кинулась Джильола.
– Я не позволю повесить это у себя в магазине! – сквозь зубы прошипела она.
– Я с ней согласна, – поддакнула Пинучча. – Нам товар продавать, а от этого кошмара все клиенты разбегутся. Рино, поговори хоть ты с сестрой, прошу тебя!
Рино не обратил на нее никакого внимания. Он повернулся к Стефано и тоном обвинителя произнес:
– Говорил я тебе, нечего ее слушать. Потакаешь ей во всем, а потом удивляешься, что она выделывает. Только время зря потеряли…
Стефано молча смотрел на прислоненный к стене портрет, мучительно ища выход из положения.
– А ты что думаешь, Лену? – спросил он меня.
– Мне нравится. Конечно, у нас в квартале я бы такое вешать не рискнула, но здесь – совсем другое дело. Внимание привлечет, это уж точно. Недавно в журнале «Конфиденце» я видела фотографии квартиры Россано Брацци. У него похожая картина висела.
– Что ты хочешь этим сказать? – возмутилась Джильола. – При чем тут Россано Брацци? Значит, вы обе такие умные, а мы с Пинуччей дуры тупые?
В этот миг меня охватило предчувствие опасности. Достаточно было одного взгляда на Лилу, чтобы это понять. Если раньше, когда мы только появились в магазине, она не исключала возможности, что ее демарш не принесет успеха, то сейчас, когда картина была готова, она не собиралась отступаться. Работая над портретом, Лила освободилась от сковывавших ее пут и достигла такой степени самовыражения, что теперь нескоро смогла бы вернуться к жалкой роли жены колбасника. Она не собиралась слушать никаких возражений. И правда, не успела еще Джильола договорить, а Лила уже бросила ей и всем остальным: «Или возьмете эту, или не получите никакой». Она сознательно искала ссоры, ее распирало от желания ломать и крушить, казалось, еще чуть-чуть, и она бросится на Джильолу с ножницами.
Я надеялась, что хотя бы Марчелло поддержит Лилу. Но он стоял понурив голову и молчал, и я поняла, что его былые чувства к Лиле пропали, а в эту минуту исчезали их последние остатки; и то сказать, сколько можно пылать безответной страстью? Зато в дело вмешался его брат, грубовато приказавший своей невесте Джильоле: «Помолчи-ка!» Та возмутилась было, но он, глядя не на нее, а на портрет, рявкнул: «Я сказал, заткнись, Джил!» – и повернулся к Лиле:
– Мне жутко нравится, дорогуша. Твоего лица практически не видно, и я понимаю почему: чтобы переключить внимание на ножки и показать, как они прекрасны в этих туфлях. Превосходно. Ты, конечно, та еще стерва, но если уж ты что-то делаешь, то делаешь как надо.
Стало тихо.
Джильола ладонью утирала катившиеся по щекам слезы. Пинучча переводила взгляд с Рино на брата, безмолвно взывая к ним: скажите же что-нибудь, защитите меня от этой суки, не позволяйте ей меня топтать.
Но Стефано нерешительно пробормотал:
– Мне, пожалуй, тоже нравится.
– Это еще не все, – тут же заявила Лила.
– Чего тебе еще не хватает? – взвизгнула Пинучча.
– Надо добавить цвета.
– Цвета? – ошарашенно повторил Марчелло. – Но мы же открываемся буквально на днях.
– Если надо немножко подождать, мы подождем, – засмеялся Микеле. – Давай, красотка, делай как знаешь.
Стефано задел его хозяйский тон – так говорит человек, который не привык, чтобы с ним спорили.
– Но ей надо работать в новой лавке! – возразил он, желая подчеркнуть, что это все-таки его жена.
– Разберешься как-нибудь, – отмахнулся Микеле. – Тут дела поважнее.
26
Последние дни сентября мы с Лилой провели в магазине, не пуская внутрь никого, кроме рабочих. Это было восхитительное время игры, свободы и фантазии, напомнившее мне наше детство. Лила заразила меня своей увлеченностью. Мы накупили клея, красок, кисточек. С превеликой аккуратностью (Лила была очень требовательна) мы наклеивали на портрет полосы черной бумаги и обводили их красным или синим контуром. Лиле всегда нравилось экспериментировать с цветом и линиями, и у нее здорово получалось, но тогда она превзошла самое себя; я не могла бы даже сформулировать, что именно она творила, но была околдована ее азартом.
Сначала мне казалось, что Лила ухватилась за эту работу как за повод поставить эмоциональную точку в немаловажном периоде своей жизни, который начался для нее в тот день, когда она, девочка по имени Лина Черулло, нарисовала свою первую модель обуви. Еще и сегодня я склоняюсь к мысли, что воодушевление, владевшее нами в те дни, в значительной мере объяснялось этим возвращением в детство, возможностью снова почувствовать себя единым целым, отстраниться от всего остального мира и с головой погрузиться в чистое созидание. Антонио, Нино, Стефано, братья Солара, мои школьные неудачи, ее беременность, наши взаимные упреки – все это было забыто. Время как будто остановилось, а пространство вокруг нас сузилось до захватывающей игры с клеем, ножницами, бумагой и красками.
