Философия осознания происходящего в стране: поиск метапозиции бесплатное чтение
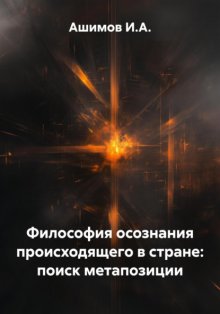
От авторов
В конце 2024 года выше Указ Президента Кыргызской Республики «О Доктрине (Унгужол) «Национальный дух – мировые высоты». В преамбуле говорится о том, что кыргызы имеют долгую и интересную историю, богатый общественно-политический опыт, глубокие духовные ценности, однако история так распорядилась, что многое из всего этого было предано забвению в годы нашего суверенного существования, мы никак не могли определить свой путь, не всегда придавая должное значение своим национальным ценностям, общественные институты, основанные на превалировании чести и достоинства, перестали выполнять свои прежние функции, снизились уважение к национальным ценностям, национальная гордость, вера людей в будущее, гражданское чувство притупилось и государство переживало не лучшие времена.
Кыргызы относятся к «глубинным» народам, имеющим полноценную традицию, которая содержит истину, т.е. собственную суть и историческую миссию. Однако все дело в том, что эта истина скрыта, она до сих пор не обнаружена и не трансформирована в кыргызскую картину мира, кыргызское миропонимание, кыргызское мировоззрение. Следовательно, не имея кыргызской картины мира, мы не можем говорить о кыргызской философии, кыргызской идеологии, и, соответственно, о кыргызских политике, экономике, образовании, здравоохранении, и, наконец, полноценном кыргызском государстве. Для того, чтобы построить собственную картину мира нам необходимо создать собственный кыргызский понятийный и категориальный аппарат в отношении фундаментальных основ бытия. Иными словами, нам нужно ответить на целый ряд вопросов и выстроить «Унгужол» – идеологию, стратегию, пробуждающих веру в будущее, направляющей созидательные возможности общества, которая укрепила бы способность народа к самоорганизации, его единство.
В связи с этой инициативой в стране заметно активизировались многие процессы в направлении: во-первых, выработки идеи, которые будут способствовать объединению граждан нашей страны в единое целое; во-вторых, целевые работы по возрождению веры в светлое будущее, усиления гражданского патриотизма; в-третьих, укрепления национального духа, которые дадут кыргызскому народу новое дыхание, откроют путь к новым инициативам. Сейчас все чаще начали говорить о «кыргызоведении», «кыргыз таануу», «манасоведении», «Манас илими», «кыргыз илими», кыргыз тарыхы», «кыргыз этнофилософиясы». Выходит большое количество публикаций на эту тему. Однако все это вкупе представляет собой лишь фольклор, «почвенничество», простую передачу отдельных традиционных знаний и элементов культуры. Эти знания не систематизированы, фрагментарны и еще подлежат критическому анализу и разбору с извлечением самого ценного материала и применением принципа целостности кыргызской традиции.
Нужно отметить, что в стране уже сформировался экспертный корпус по обозначенным выше направлениям. Однако, в большинстве своем кыргызский народ, по сути, продолжает находиться в пассивном пребывании в этой традиции, и могли бы проживать в таком состоянии еще сотни лет, если бы не такие инициативы «сверху», а также идеологическое и информационное давление внешнего мира, его глобальных структур управления. В таких условиях для нас единственным выходом является переход к активной позиции по отношению к кыргызской традиции, этноистории, этнофилософии, этнописхологии. Выработка неких метапозиций в отношении многих, сугубо кыргызских феноменов, обычаев, нравов.
Активная позиция подразумевает собой, прежде всего, возникновение некоего внутреннего душевного беспокойства и тотального сомнения по отношению ко всему, что предлагается внешней средой в качестве истины. Сомнение и беспокойство должны побудить такого человека идти внутрь себя, и попытаться извлечь в «тоннах бесполезной руды – крупинку золота». Мы – авторы ранее обращались к новым вопросам в спорадическом порядке, но сейчас мы все больше понимаем, что на новом пути, прежде всего, нужно провести философский анализ противоречивости кыргызского этноса, духовного кризиса, поиска своего пути, направлений развития в будущем. Анализ большого фактологического материала позволяет выявить глубокую и многогранную противоречивость кыргызского этноса, которая является источником нынешнего духовного беспокойства и страха перед будущим в мире технологий. Эта противоречивость проистекает из столкновения традиционного кочевого сознания с вызовами современности, что создаёт экзистенциальный кризис, описываемый в текстах как потеря идентичности и «жидкость души». В этом контексте необходимо, как нам кажется, развивать философию понимания парадоксов и противоречий, философию осознания происходящего, но при одном условии, искать и формировать «метапозицию», доводить их до сведения широкой общественности.
В чем заключается, противоречивость кыргызского этноса?
Во-первых, прошлое против будущего. Кыргызский менталитет глубоко укоренён в прошлом, в отличие от европейского мировосприятия, ориентированного на настоящее и будущее. Эта приверженность традициям, которая, с одной стороны, является основой идентичности, с другой, воспринимается как препятствие для развития. Этот разрыв создаёт внутреннее напряжение между желанием сохранить наследие и необходимостью двигаться вперёд.
Во-вторых, «кыргызчылык» как двойственный феномен, ибо, само понятие вызывает противоречивые оценки. Для одних это основа самоидентичности, а для других – тормоз в развитии, ассоциирующийся с «социальным паразитизмом». Эта амбивалентность отражает глубокий внутренний конфликт, когда гордость за свою культуру и традиции сочетается с критическим самовосприятием.
В-третьих, единство и разобщённость. Согласно теории Л.Гумилёва, этнос внутренне неоднороден и состоит из субэтносов, которые делают его структуру гибкой. Однако историческое разделение кыргызов на оседлых и кочевых, а также на «северян» и «южан», до сих пор ощущается как болезненная проблема. Что касается одной из главных болезней кыргызов – трайбализм, рассматриваемый как искажение изначальной этики родства, является одной из главных причин политической и социальной дисфункции, что подрывает единство этноса.
В-четвертых, «Батыры» трансформировались в «приспособленцов». Прошлое кыргызского народа как локальной цивилизации, существование в былые времена «Кыргызского каганата» создаёт высокий идеал, с которым сравнивается современное состояние. Критические голоса оплакивают «вырождение» потомков батыров, видя в них сейчас не воинов, а «приспособленцев». Это отражает фундаментальный кризис самовосприятия, где утрата государственности в прошлом воспринимается как признак внутреннего упадка.
Если говорить о духовном беспокойстве и страхе перед будущим в мире технологий, то нынешние их причины проистекают из этих же противоречий. Они, как нам кажется, могут быть осмыслены через следующие аспекты:
Во-первых, потеря пассионарности кыргызов и нынешняя их «жидкость души». Современный кыргызский этнос ощущает утрату внутренней движущей силы – пассионарности. Эта потеря метафорически описывается как «потухший взор» и «жидкость души», которая, в отличие от «огня» в глазах и взорах других народов, не имеет твёрдой формы и легко поддаётся внешним влияниям. «Жидкость души» является метафорой экзистенциального кризиса, где народ перестаёт быть субъектом своей истории. Во-вторых, кризис идеологии и медиасуверенитета. Отсутствие устойчивой национальной идеологии, которая служила бы «коллективной картиной мира» и «моральной навигацией», делает народ уязвимым перед лицом глобальных вызовов. Внешние информационные центры, по нашему мнению, формируют общественное мнение и могут не совпадать с национальными интересами, что воспринимается как новая форма колонизации. В этом контексте, новые технологии и информация воспринимаются не как инструмент для развития, а как угроза, способная окончательно разрушить остатки национальной идентичности.
В-третьих, несоответствие стратегий государства и менталитета народа. Есть страх кыргызов перед будущим, которая усугубляется ощущением, что государство и власть не раз и не два показывали себя лишь инструментом для реализации интересов узких, алчных, лжепатритических, олигархических либо криминализированных групп. Эта ситуация, называемая «захватом государства», что порождает чувство бессилия и безнадёжности. В результате, народ не видит в государстве защитника и проводника к лучшему будущему, а воспринимает его как источник паразитизма.
Таким образом, духовное беспокойство и страх перед будущим в глобализированном и технологическом мире – это не просто реакция на внешние изменения, а отражение и внутреннего кризиса. Это борьба за обретение целостности между прошлым и будущим, традицией и современностью, внутренним духом и внешней формой. Народ боится еще раз потерять себя в пути, если не сможет найти свой «собственный огонь» и новую, объединяющую идеологию.
В преамбуле Указа Президента записано: «Кыргызский народ тысячелетиями сохранял свою идентичность и вновь обрел независимость благодаря присущим только ему ценностям и принципам, умению ценить и хранить исторический опыт. Великая трилогия «Манас» воодушевляла кыргызов, объединяла верой в то, что можно построить сильное государство. Во все века в народе были великие мудрецы, их мысли и заветы, народные пословицы и поговорки, крылатые выражения давали людям надежду, поддерживали дух, служа путеводной нитью, ведущей в будущее».
Разумеется, кыргызский народ сделает свой выбор. В пользу правового правления, свято хранимых национальных ценностей и понятий о чести и достоинстве, о языке и самобытной культуре, передовой науке и системы образования. В противном случае, нашему народу вновь грозят концептуальные заблуждение и иллюзии. В порядке поддержки президентской инициативы, мы решили начать разработку некоторых «кыргызоведческих» тематик в рамках новой серии «Электронная переписка ученых».
Введение
§1. Оправдание издания серии «Электронная переписка ученых» как современного научно-философского жанра
Открывая серию «Электронные переписка ученых» сообщаем о том, что на сегодня издаются первые 2 тома из этой серии: «Философия осознания происходящего: поиск метапозиции» и «Философия понимания парадоксов и противоречий: поиск метапозиции». Хотим подчеркнуть, что электронная переписка ученых – это новый научно-философский жанр, а серия будет иметь свое продолжение. В чем заключается мотивы создания такого жанра? Дело в том, что когда-то письма, запечатанные в конверт были единственными ниточками, которые связывали людей. Теперь же, люди, в особенности творческие – ученые, писатели, поэты, философы продолжают общаться в электронном формате.
Если раньше по сохраненным письмам все же была возможность открыть неожиданные стороны деятельности переписывающихся между собой творческих людей, то сейчас изъять и опубликовать электронные письма можно либо путем несанкционированного взлома E-mail, либо когда они сами (авторы) решаются на публикацию подборки своих электронных переписок, следуя принципу: «А что если перед нами встанет истина…?». Ф.Петрарка писал: «В делах спорных суждения различны, но истина всегда одна».
Безусловно, переписка видных ученых и философов часто является бесценным источником информации об их мыслях, идеях, развитиях теорий, личных взаимоотношений. К примеру, переписка Ибн Сино и Ибн Бируни – два великих средневековых ученых, которые обменивались письмами, книгами, суждениями, через которых обсуждали многие вопросы мироздания, физики, медицины, философии. Их дискуссии часто носили полемический характер, где Ибн Сино отстаивал позиции Аристотеля, а Бируни – Демокрита. Эта переписка демонстрирует глубокие научные и философские дебаты того времени. Ибн Сино много лет скитался по всей Центральной Азии и Среднему Востоку и, надо полагать, были у него хранители, переносчики и распространители его книг.
В книгах «Клон дервиша» (Ашимов И. А., 2014) и «Воскрешенное имя» (Ашимов И. А., 2023) есть главный персонаж – дервиш Хиссо Хошм, который многие годы скитался по дорогам Средней Азии и Ближнего Востока, доставляя книги и письма этих великих личностей, став, таким образом, свидетелем их исторической жизни, труда и переписок. Эти книги посвящены именно таким вот, вероятным, но безымянным помощникам Ибн Сино, благодаря которых и состоялась своеобразная «перекличка веков» в мировой научной сфере.
История также помнит переписку философа Вольтера и императрицы Екатериной II, в которых затрагивались широкий круг тем, включая политику, философию, искусство и общественные реформы. У.Хэзлитт писал: «Перестав быть спорной, мысль перестаёт быть интересной». Однако, в переписках с целью поиска и детализации истина, наоборот, становилась сверхинтересной, вот в чем заключается, как нам кажется, значимость со-размышления великих личностей. В указанном аспекте, к числу примечательных можно отнести переписки: ученого-физика А.Эйнштейна с ученым-философом Э. Б.Гуткинди, писателей И.Бунина и А.Чехова, ученого-лингвиста Р.Якобсона и ученого-антрополога К.Леви-Стросса. Их письма, охватывающие несколько десятилетий, отражают развитие их идей и взаимное влияние на становление структуралистского подхода в гуманитарных науках.
Так или иначе эти примеры показывают, что переписка ученых и философов служила не только средством общения, но и платформой для развития идей, обмена знаниями, а иногда и для ожесточенных дебатов, которые формировали ход интеллектуальной истории. В целом, переписка между собой великих людей составляла в мире особый разряд эпистолярного жанра. Они часто становились ценными источниками информации о жизни, взглядах, позициях великих умов. По опубликованным перепискам: ученого А.Эйнштейна и писателя М.Марича, философов Ж.-Ж.Руссо и Д.Дидро, писателя В.Шаламова и поэта Б.Пастернака, писателя А.Белого и поэта А.Блока, писателя Ч. Т.Айтматова и поэта М.Шаханова, ученых-этнографов П. Н.Савицкого и ученого-этнографа Л. Н.Гумилева, шло образование и воспитание целого поколения творческих людей. Более того, эти переписки, запечатленные в архивных фондах еще долго могут влиять на идейный потенциал последующих поколений.
В век информатизации появилась новая творческая ниша – общение ученых через e-mail. Однако, при нынешней избыточной волне информатизации, такие переписки ученых тонут в океане облачной информации. Более того, боясь взлома электронной почты ученые уже научились на всякий случай аккуратно «чистить» свои электронные почты и разве можно тут говорить об архивах переписок? К сожалению, даже утвердилась тенденция закрытости научных коллективов и ученых. К примеру, зачастую на работе от ученых требуют дать «подписку о неразглашении» и если, скажем, учёный обменивается мнениями со своими коллегами, особенно зарубежными по принципу «одна голова хорошо, а две лучше», то его могут даже привлечь к ответственности. «Ученый без права переписки» – это нонсенс.
Как известно, недавно в России отменен приказ, ограничивающий контакты ученых с зарубежными коллегами. «Подобные нелепые приказы не улучшат безопасность нашей страны, а приведут только к росту ее изоляции от развитых стран и к дискредитации власти, затруднив решение задачи попадания в число самых передовых в науке», – говорилось в открытом письме РАН. Безусловно, для людей, увлечённых наукой, творчеством, искусством, литературой любые запреты общения убийственны, ибо, их сферы деятельности должны быть и открытыми, и ответственными. Лишь в этом случае можно говорить о доказательных результатах и признаниях творческих личностей.
С другой стороны, возникает опасность другого рода – приобщение и абсолютизация электронного взаимоотношения творческих людей, о чем предупреждают нас социологи и психологи. Дж.Холл приводит доказательства того, что социальные сети не смогут стать полноценной заменой живого общения людей. Это очевидно, но реальность сейчас другая – порою огромные расстояния, ограничения во времени, постоянная занятость и прочие обстоятельства. Между тем, реальность таков, что из-за очевидных преимуществ онлайн-коммуникации ученые, философы, писатели, поэты в скором времени полностью отдадут свое предпочтение именно онлайн-взаимоотношениям через e-mail, о чем пишет М.Керни и Чонг Синг. По их мнению социальное перемещение в виртуальное пространство приведет к оптимизации взаимообщения людей, став гораздо удобной и безграничной платформой.
Действительно, на интернет-пространствах и на страницах электронной почты людям оставаться на связи стало проще, а реагировать на новые уведомления – быстрее. Между тем, для улучшения общественного фона развития науки, научно-познавательного процесса, как нам кажется, нужно использовать переписку ученых, как технологию высвечивания метапозиции по многим, особенно спорным вопросам науки, познания, мировоззрения, культуры. Электронная и почтовая переписка имеют ряд существенных отличий, которые определяют их особенности и сферы применения. В чем заключаются основные особенности онлайн-переписки? Во-первых, скорость доставки, что, пожалуй, главное отличие. Тексты доставляются практически мгновенно, независимо от расстояния. Во-вторых, удобство и доступность, ибо, отправить или получить электронное письмо можно с любого устройства, подключенного к интернету (компьютер, смартфон, планшет), в режиме «24/7». В-третьих, облегченная работа с вложениями, ибо, электронные письма легко позволяют прикреплять файлы любого формата и объема (книги, изображения), что значительно расширяет возможности обмена информацией. В-четвертых, поиск и хранение. Тексты письма хранятся на серверах и в облаке, не занимая физического пространства, и могут быть доступны с любого устройства. Электронная почта позволяет отправлять тексты одновременно большому количеству адресатов.
Мы уже давно практикуем электронную переписку между собой и убеждаемся в безусловной результативности такой технологии, придающий самому процессу общения, прежде всего, динамичность, что обуславливает в свою очередь непрерывность обсуждения практически любого актуального вопроса. Что вынудило нас, некогда довольно тесно общавшихся между собой ученых, выбрать теперь онлайн-переписку? «Старость – не радость», – говорится в народе. Возраст берет свое, нам в связи с болезными врачами предписан полупостельный режим. Вот-так, мы нашли утешение в виртуальном общений и реализации своих исследовательских замыслов через e-mail. Для нас интернет стал своеобразной дискуссионной платформой для обмена мнениями, идеями, мыслями, суждениями, касавшиеся, главным образом, вопросов гуманологии.
Анализируя проблему переписок мы приходим к такому заключению. В историческом плане переписка между выдающимися учеными и философами является бесценным источником для понимания их мыслей, идей, развития теорий и личных отношений. С уходом в историю традиционных (бумажных) писем, его место заняла электронная переписка. Однако, для того, чтобы и она стала тем самым бесценным источником для понимания ученых мыслей, идей, теорий нужно их публиковать в виде сборников. Мы, составив такой сборник для публикации, разумеется понимаем, что «не велики», то есть не входим в категорию выдающихся личностей, словами которых воспитывались и воспитываются целые поколения людей. Однако, как нам кажется, важен сам процесс и пример. Сегодня, практически вся переписка между учеными осуществляется в электронном формате по онлайн-почте. Письма такого формата продолжают содержать множество ума, мудрости, чувств и эмоций. Несомненно, такая технология должна служить своеобразной платформой для развития идей и обмена знаниями, а также для дебатов, формирующих интеллектуальную историю, метапозицию, а потому должна стать особым эпистолярным жанром, служащим ценным источником информации о жизни, взглядах, позициях.
Почему Каракулов и Токтошев – два старых ученых и философов перебрались в интернет? Совсем не для того чтобы каждый из них с пеной у рта отстаивать некую эфемерную «общую позицию», а для того, чтобы выразить свою «метапозицию» по отношению к сущностным вопросам национальной истории, его прошлого, настоящего и будущего, а также по отношению к спорным высказываниям, пословицам и поговоркам, в том числе принадлежащих самобытному кыргызскому народу. В условиях, когда идет идентификационный процесс народа, трудно кому-либо из нас растолковать, что надо меняться согласно современности, а не ударятся в архаику, в прошлое, которого сейчас нет, что нужно творить, мечтать, действовать по-новому, идти в ногу с новым веком. То есть перестать жить грёзами тысячелетней давности. Метапозиция этих персонажей – это точка в пространстве, позиция «над», то есть безусловный взгляд одного, а также позиция другого, как результат работы их сознания. По сути, речь идет о мыслительных конфликтах и поиска через них нового решения. Прежде всего, метапозиция – это позиция, выводящая человека за пределы привычного обращения с трудными жизненными ситуациями, то есть определенное состояние сознания, позволяющее выйти за пределы привычного функционирования сознания и перейти на другой его уровень. Они убеждают нас в том, что тот самый новый уровень сознания даст возможность человеку выбирать способ реагирования и поведения в трудной жизненной ситуации.
В целом, серия – есть размышление о метапозиции и поиске истины. В эпоху, когда информация стала мгновенной, а общение – мимолетным, идея серийных электронных переписок ученых обретает особую философскую значимость. Она возвращает нас к первоначальному смыслу обмена мыслями, когда письма были не просто средством коммуникации, а нитями, связывающими умы и эпохи. Эта серия – не просто сборник текстов, а своего рода археологический раскоп, позволяющий извлечь из цифрового потока подлинную историю идей, их развитие и полемику.
В чем заключаются ключевые аспекты и роль переписок?
Во-первых, источник истины, ибо, переписка ученых и философов является бесценным источником информации об их мыслях, идеях и теориях. Принцип публикации таких писем – «А что если перед нами встанет истина…?». Этот принцип отражает веру в то, что в спорах и дискуссиях рождается объективное знание. Историческим примером такой полемики служит переписки великих личностей, что демонстрирует глубину их научных и философских дебатов.
Во-вторых, пространство для метапозиции, так как сама форма переписки способствует формированию метапозиции – особого интеллектуального состояния, которое позволяет человеку выйти за пределы своей сиюминутной ситуации и субъективных переживаний. Метапозиция по своей сути является более высоким уровнем абстракции. Она дает возможность субъекту дистанцироваться от своих эмоций, бездействовать, но при этом оценивать и контролировать ситуацию. В процессе переписки, где каждый вынужден не просто высказаться, но и внимательно проанализировать аргументы оппонента, и формируется эта способность к самодистанцированию и надситуативности. Такой жанр демонстрирует, как через диалог сознание ученых поднимается над конкретными мнениями, создавая динамическую модель объектного уровня, что является сутью метапознания и контроля.
В-третьих, роль безымянных хранителей. Серия подчеркивает важность не только самих авторов идей, но и их безымянных хранителей и распространителей. Это напоминание о том, что даже самые высокие философские мысли существуют не в вакууме, а в живой цепи человеческой деятельности, где каждый участник – от автора до переносчика или переводчика – играет свою роль в формировании коллективного разума.
В конечном счёте, эта серия переписок – это больше, чем исторический документ. Это философский манифест, утверждающий, что истина рождается в диалоге, что самопознание возможно через конфронтацию идей, и что метапозиция – способность видеть целое, не теряя из виду деталей, что является высшей целью любого интеллектуального поиска.
§2. Характеристика предмета и технологий философского анализа (тт. I,II)
В данной серии мы попытались выстроить нашу переписку через e-mail, касательно актуальных на наш взгляд вопросов науки, медицины, национальной идеологии, государственного устройства, морали, этики, философии. Из всех рассмотренных вопросов мы остановились на публикацию пока двух тем: 1) «Философия осознания происходящего: поиск метапозиции», в которой речь идет о философском анализе экспертных мнений по вопросам национального развития (I том). 2) «Философия понимания парадоксов и противоречий: поиск метапозиции», в которой речь идет о философской интерпретации парадоксальных и противоречивых пословиц, поговорок, афоризмов и высказываний известных ученых, философов, мудрецов (II том). При этом мы преследовали лишь одну цель – обосновать общую метапозицию по отношению к вышеуказанным тематикам, провести некий «анализ-синтез» философского их потенциала.
«Метапозиция» – это позиция «над» чем-либо, что считается позицией. Неоднозначность термина заключается в том, что первая часть – «мета», имеет значения «вслед», «за», «после», «через», «над», «выход за пределы чего-либо». Вторая часть слова «позиция», свидетельствует о некоторой зависимости (от предмета, контекста, аспекта). Метапозиция в философии – это способность философствующего обратить внимание на свой философский акт и осмыслить его, а вот в теории креативности – это не только способность рассматривать реальность с иной точки зрения, но и возможность увидеть, что множественные точки зрения существуют. Таким образом, занимать метапозицию – равно заниматься возможным. Такое понятие особенно важно при таком контексте, как трудная жизненная ситуация.
Для реализации вышеуказанной цели, а именно формирования нашей метапозиции, мы использовали три исследовательских метода – анализ, синтез, комментарии. Причем, анализ и синтез в кантовском их понимании: «анализ – как прояснения» и «синтез – как расширения знания». Что касается комментарий, то это метод интерпретации, позволяющий нам выйти за границы комментируемого, то есть обеспечивающий реальную невозможность пересечения этих границ. Согласно наивной трактовки: анализ – это суждение, предикат которого либо дублирует, либо проясняет содержание субъекта, а синтез – это суждение, предикат которого увеличивает, расширяет содержание субъекта, тогда как комментарии – это обеспечение повторяемости смысла суждения. Согласно критической трактовке: анализ – это реальное разложение целого на части, разрушающее отношения между ними, а синтез – это реальное восстановление этих отношений. Соответственно, мысленный анализ есть мысленное разложение целого на части, а мысленный синтез – мысленное восстановление отношений между ними.
Без таких технологий разве можно разобраться в таких парадоксальных высказываний, как У Ф.Ницще: «Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем.» А ведь лишь при глубоком размышлении можно понять, что речь идет о предостережении от того, что борьба с негативными явлениями может привести к усвоению их черт. Или другое высказывание автора: «Познавший самого себя – собственный палач». Можно понять, что познание себя необходимо для личностного роста и развития, но не так-то просто понять, что самоанализ может привести к болезненным открытиям о себе, которые могут причинять страдания. К такой же категории сложности можно отнести аристотелевский афоризм: «Мы работаем, чтобы иметь свободное время, и воюем, чтобы жить мирно».
С точки зрения обобщенной теории анализа и синтеза: предмет анализа – это части целого, а предмет синтеза – те отношения между ними, которые образуют структуру целого. Следовательно, «часть целого» – это «носитель отношения», а «отношение между частями целого» – это «отношение вообще». Но различив эти две процедуры, мы оказываемся перед новыми вопросами: как они связаны с акцентами проблем? Каковы позиции автора в понимании и разрешении проблем? Вот тут и возникает необходимость в комментировании, как одного из методов научной верификации: во-первых, согласование характеристик выделенных частей, а также согласование обобщений их в единое целое, а, во-вторых, позиционирование освещаемых проблем, а также позиционирование хода авторской мысли.
По словарю С. И.Ожегова, «комментарий» имеет два значения: во-первых, объяснение, толкование к какому-нибудь тексту, а, во-вторых, рассуждения, пояснения и критические замечания о чем-нибудь. По сути, комментарий – это перевод произведения с языка автора на тот язык, который комментатор считает релевантным для своей аудитории. В целях выравнивания фоновых знаний (автора и адресата), автором комментариев могут быть и сами авторы произведений. Основные намерения комментария, как оценочно-императивного жанра, направлены на выражение своего мнения, своего отношения, своих оценок. Многие афоризмы загадочны и необъяснимы, как только пытаешься ее разгадать и объяснить. Поначалу люди влюбляются в загадочную неизвестность, а после комментарий, проясняющие суть афоризма, разочаровываются в ее банальности и простоте.
На наш взгляд, существенной особенностью комментариев является их полемичность, так как автор комментария апеллирует к мнению читателя. В нашей книге, комментируя высказывания друг друга, стороны не только реагируют на предмет суждения, с которым они не всегда согласны, но и выявляют логические нестыковки в них, а с другой стороны, восстанавливают справедливость в цитировании. Нужно отметить, что монологи построены не просто на анализе-синтезе, но и с учетом мнения комментирующего ученого по поводу прочитанного, это грамотные его логико-философские рассуждения о затрагиваемых вопросах, его замечания и размышления по существу мыслей, идей и концепций. По комментарию можно сделать вывод о том, как нужно понимать: во-первых, саму проблему и сущность той или иной истины; во-вторых, траекторию авторской мысли по ходу его суждения; в-третьих, механизмы и прогнозную линию формирования метапозиции.
Нужно отметить, что логико-философский анализ и комментарий – это всегда концептуальные, по сути. Так или иначе важно понимание того, что мало просто логически проанализировать и прокомментировать новые знания, категории и понятия, что нужно написать размышления об их смысле и прогнозных последствиях, которую еще нужно правильно донести читателям, чтобы они поняли их суть. Нужно изложить и то, в каких фразах и деталях текста прослеживаются авторские мысли, что пытается подчеркнуть автор, рассматривая эту проблему, к каким умозаключением он подводит своего читателя. Безусловно, при написании логико-философского комментария нужно опираться на контекст, связывать свои формулировки с авторской позицией, отразить ход мыслей и позицию автора и приводить примеры из текста, возможно цитирование.
Хайдеггер М. (2003) считает, что логико-философский комментарий («разъяснение», «толкованием») – это диалог философского мышления (разъясняющий) и научного творчества (неясного). Ведь не всегда текст теории признается самодостаточным для ориентации смысла. В этом плане, для философского комментария характерно оперирование с текстом научной теории как с единым понятием, что позволяет отказаться от пословной интерпретации. Важно понимание того, что философ дешифрует невольно закодированный авторский текст, моделируя категории и понятия именем феномена, опознаваемой как философская мысль. То есть задача философа – это конструкция сущности теории как объекта мысли. Это дает возможность философу в ходе дальнейшего текста пользоваться: во-первых, семантическим комплексом «парадоксальное, противоречивое, спорное»; во-вторых, идейной базой и стратегией лежащих в основе формирования той или иной метапозиции в отношении восприятия парадоксальных, противоречивых, спорных высказываний.
Логико-философский комментарий, как и любой философский текст, инкорпорируя научный текст, стремится избавиться от роли метатекста. Авторы маркируют новые категории и понятия кавычками, однако в процессе логико-философского комментария происходит постепенное «раскавычивание» их. Так как логико-философский комментарий не ставит задачей полное декодирование научного текста и создает параллельный, равноположенный текст, философам необязательно выходить за рамки отдельного феномена или категории и обращаться к научному творчеству ученого в целом.
В Кыргызстане уже давно сложился высококлассный экспертный корпус, представители которых (Ж.Сааданбеков, Д. А.Акималиев, З.Курманов, Ж.Урманбетова, И.Даиров, А.Мамбеталиев, Э.Битикчи, С.Абдрасулов, О.Ибраимов, М.Мусабаев, У.Дуйшеналы, К.Маликов, Б.Эркимбаев, А.Кыпчаков, И.Курманов, И.Раимбердиева, Б.Игамбердиев, А.Атаханов, А.Айдосов, А.Мамат и др.) активно выступают в прессе со своими мнениями, формируя ту саму метапозицию в отношении многих вопросов жизнедеятельности Кыргызстана, реально позиционируя место и роль страны в мировой системе, высказывая актуальные предложения для развития различных отраслей науки и практики, поднимая злободневные вопросы отечественной истории, философии, социологии, психологии, этнографии, этнофилософии, кыргызоведения.
По сути, наш труд во многом является философским анализом мнений этих великолепных экспертов касательно прошлого, настоящего и будущего Кыргызстана. Логика книги такова, что Каракулов и Токтошев не только выражают мнение вышеприведенных экспертов, но и обобщают их на философском уровне. У кыргызов есть мудрое изречение: «Бодонону сойсо да – касап сойсун», что в переводе звучит так: «Если и разделывать тушу перепелки, пусть это сделает мясник». В этом аспекте, каждый из экспертов являются знатоками проблемы и их слова всегда весомы и правдивы. Однако, к сожалению, даже они не могут выразить «общую позицию», ибо, «обнять необъятного – не возможно», уж слишком обширна и многозначна сама обсуждаемая ими проблема.
Следует подчеркнуть, что цитирование экспертов с комментариями – это продуманный стиль изложения письма. Иначе говоря вышеуказанные эксперты выговаривают «недосказанное» уже словами главных персонажей – Каракулова и Токтошева. А с другой стороны, нужно учесть, что они являются в той или иной степени прототипами самих авторов, которые через них высказывают свои философские заключения. Признаем, что иногда они высказывают критику, но философия без критики и критического анализа не бывает.
Хотелось бы обратить внимание на то, что недавно республиканское телевидение начал примечательную программу «Кыргыз-таануу» (Изучение кыргызов). В одной из телепередач в студию собрали ведущих ученых из среды философов, историков, этнографов. Однако, к сожалению, обсуждение сразу же скатилось в пафосное русло: «Мы – кыргызы – лучшие потому что это – мы – кыргызы!». Заговорили об этнофилософии кыргызов, которая оказывается опередила по времени даже греческую и европейскую философию. Участники грешили высказываясь о том, что наши кыргызские мудрецы чуть ли оперировали такими же философскими понятиями и категориями, как у Сократа, Платона, Аристотеля. Человек со стороны, наслышавшийся этих слов невольно задастся вопросом – где же все это? Ответа не будет. Да. Кыргызы всегда были духовно богатыми, но если под философией понимать онтологический уровень мышления, то, разумеется, его не было у кыргызов не только в древности, но и до недавнего времени.
В основе этнофилософии кыргызов лежит тенгиранство – поклонение Тенгри, олицетворяющего тесную взаимосвязь народа с природой. В этом контексте это даже не протофилософия, основанная на логике. Это нужно было осмыслить и понять, а затем всячески впитывать классическую философию, литературу, искусство, чтобы обогатить свою этнофилософию «примечательными узорами» настоящей философии. Но нет же, кыргызы, будучи довольно архаичным народом в прошлом, даже сегодня показывают себя в свете еще более архаичного – полушаманизм. Теперь для него протомодерн – это мусульманство. Практически каждый участник того самого круглого стола философов, историков и этнографов, так или иначе проявляли себя приверженцами ислама. Разумеется в их суждениях был в той или иной степени онтический уровень – в мифах, в жизни, в ритуалистике, в самом Бытии, которое в онтическом еще не падает в оптику сущего, следовательно не рождает того, что принято понимать под философией.
Естественно, существуют разные взгляды на факт наличия смысла в момент выбора стратегии поведения и в действиях человека в общем. Согласно одному взгляду – смысл есть априори, его просто нужно найти (Франкл В.), когда как согласно другому взгляду – не все формы обращения с тяжелыми жизненными ситуациями изначально осмыслены (В.А.Петровский). Нашим рассуждениям в рамках данной работы максимально близка позиция, в которой априорная осмысленность ставится под сомнение. Более того, мы разовьем эту мысль и кроме спорности наличия смысла в выборе истины и стратегии поведения, также обратим внимание на неоднозначность самого выбора как истины, так и поведения, поступка.
Так или иначе первый круглый стол получился неадекватным, иначе и не могло быть, ибо картина напоминала крыловскую басню «Рак, лебедь и щука». Историки невольно втянули в свою тему философов, юристов, этнографов и разговор пошел в русле возвеличивания кыргызского народа, его мудрости, стойкости, историчности. Историки убеждали всех, в том числе и телезрителей о том, что в историческом плане киргизы – самый древний народ, под его могуществом которого в свое время был чуть ли не половина Азии, что Атилла, Чингисхан и даже некоторые китайские императоры являются предками кыргызов.
Помнится, наши сатирики и юмористы пародируя такую ситуацию с возвеличиванием кыргызов говорили о том, что в давние времена кыргызы даже покорили Америку и якобы название южноамериканской страны Парагвай произошло от имени одного из кыргызских завоевателей Баракбая, а название другой страны по соседству Уругвай – от Урукбая. Но, что не отнять у кыргызов, это то, что за свою долгую историческую судьбу кыргызский народ накопил огромный опыт выживания предков и их жизненную мудрость. У нас создалось впечатление, что сохраняется неоднозначность в подобных толкованиях. Причем, в том смысле, что участники круглого стола как деятельные субъекты, находясь в осознанном состоянии, не могут в полной мере быть уверен, что выбрали правильный путь философского комментария нашего прошлого, настоящего и будущего. Кстати, об этом иногда грешат и некоторые эксперты.
Вторая тема, которую мы поднимаем, это кыргызские пословицы как короткие выразительные фразы, содержащие эту мудрость веков, передают ценные уроки и наставления, ставшее народным наследием. Да. Они учат нас смотреть на мир и жизнь с умением и мудростью, которые приходят с опытом и временем, но среди них есть парадоксальные и противоречивые, суть которых до сих пор остается спорной и загадочной. В. И.Даль писал: «…пословицы не сочиняются, а вынуждаются силою обстоятельств, как крик или возглас, невольно сорвавшейся с души. Это целые изречения, сбитые в один ком, в одно междометье». Но при прочтении и осмыслении любой читатель убедится в том, что противоречия в них сохраняются – какая часть пословиц и поговорок более понятная и правдивая, а какая – непонятной, загадочной и не соответствующей здравому смыслу. Очевидно, что линейное рассмотрение этих пословиц и поговорок приводит их в тупик – есть личностный смысл, который может противоречить жизненному (здравому) смыслу и наоборот. Поэтому, для разрешения данного противоречия между этими смыслами необходимо вводить новое измерение – метапозицию.
Приступая к философской интерпретации мнений экспертного корпуса страны, а также парадоксальных и противоречивых выражений (афоризмы, пословицы, поговорки) мы понимаем, что «на каждую умную загогулину одного философа есть не менее умная загогулина второго философа, противоположная по смыслу», о чем будет судить третий философ со своей, не менее умной загогулиной. Вновь напоминаем о том, что электронная переписка предрасполагает к разнотемью, многожанровости, стилистической подвижности, конкретности адресации. Безусловно, такое письмо представляет запасы тематической и стилевой свободы, а их публикация в виде сборника сохраняют на будущее. Всеми этими возможностями мы и попытались воспользоваться.
Мы применили такой подход к тому, как можно было бы искать такие афоризмы, и какие критерии могли бы быть использованы: во-первых, поиск афоризмов, выражающих противоположные идеи, когда, к примеру, один афоризм говорит о важности коллективизма, а другой – о значимости индивидуальности; во-вторых, афоризмы с двойным смыслом, которые на первый взгляд кажутся простыми, но при более глубоком осмыслении открывают неожиданные или противоположные толкования; в-третьих, афоризмы, противоречащие общепринятой логике, когда высказывания, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными или абсурдными, но при этом несут глубокий смысл; в-четвертых, афоризмы, отражающие амбивалентность человеческой природы или бытия. К примеру, о том, как добро может порождать зло, или как слабость может обернуться силой.
В указанном аспекте, позиция «над ситуацией» – это возможность для внутреннего наблюдателя особым образом взглянуть на ситуацию со стороны. С помощью такого «особого» взгляда можно максимально адекватно осмыслить сущность афоризма, а также попробовать разрешить на этой основе противоречие между личностным и жизненным смыслами. Процесс осмысления требует непредвзятого взгляда, схожего с оценкой ситуации экспертом. Но, экспертом в данном случае будет сам субъект, находящийся в метапозиции по отношению к ситуации.
Итак, метапознание – это процесс более высокого уровня абстракции по отношению к процессу познания. При этом метапознание разделяется на: метакогнитивное знание – понимание о знаниях и мышлении (например, знание о том, что раньше знал, но забыл); метакогнитивный опыт – чувственные переживания о том, что мы знаем (например, ощущение, что слово находится «на кончике языка»). Мы в своей книге сделали так, что все эти моменты подвластны нашим персонажам, которые выступают в качестве исследователей, интеграторов, экспертов, аналитиков в одном лице. В их письмах-монологах мы намеренно опустили приветствия, реплики, сконцентрировав внимание лишь на содержания.
Метапозиция по своей сути не является функциональным состоянием, то есть субъект, находящийся в метапозиции не может совершать каких-то действий. Кроме этого, в метапозиции субъект не испытывает никаких эмоций, но может оценить их. Из вышесказанного получаем два свойств метапозиции – бездейственность и безэмоциональность. С точки зрения оценки дистанций между Я и Объектом, а также расстояния между точкой взгляда и ситуацией, можно выделить еще два свойства метапозиции – самодистанцирование (Франкл В.) и надситуативность (Петровский В. А.). С точки зрения уровней абстракции всё, что происходит в метапозиции – это более высокий уровень по сравнению с самой ситуацией, с самим объектом. Итак, на наш взгляд, метапознание позволяет создавать на метауровне динамическую модель объектного уровня. Метауровень не только располагает информацией о том, что происходит на объектном уровне, но также, с помощью имеющейся модели, имеет возможность изменять состояние нижнего уровня – этот механизм и есть контроль.
Таким образом, ключевые цели и аспекты серии состоят в следующем: Во-первых, речь идет о новом жанре. Электронная переписка рассматривается как новый научно-философский жанр. Она сохраняет мысли, идеи, развитие теорий и личные отношения видных учёных и философов, подобно традиционным письмам. Во-вторых, речь идет о важности публикации переписок ученых. В этом аспекте, наша серия призвана публиковать электронные переписки в виде сборников, чтобы они стали источником для понимания идей и теорий учёных. В-третьих, речь идет о поиске истины и метапозиции. Цель серии – поиск истины и формирование «метапозиции» по отношению к спорным вопросам в науке, познании, мировоззрении и культуре. Метапозиция – это позиция «над» чем-либо, позволяющая выйти за пределы привычного восприятия и перейти на другой уровень сознания. В-четвертых, речь идет о значимости диалога. Серия подчёркивает, что истина рождается в диалоге. Она возвращает к первоначальному смыслу обмена мыслями, где письма связывали умы и эпохи. В-пятых, речь идет о роли безымянных помощников. Серия обращает внимание на важность не только самих авторов идей, но и их безымянных хранителей и распространителей. В-шестых, речь идет о философских технологиях. Для формирования метапозиции авторы используют три исследовательских метода: анализ, синтез и комментарий. Используется кантовское понимание анализа («прояснение») и синтеза («расширение знания»). Анализ – это мысленное разложение целого на части, а синтез – мысленное восстановление отношений между ними. Комментарий рассматривается как метод интерпретации, который позволяет выйти за границы комментируемого текста. Его основная цель – выражение собственного мнения, отношения и оценок. Он позволяет не только реагировать на предмет суждения, но и выявлять логические нестыковки, а также восстанавливать справедливость цитирования.
В чем заключаются свойства метапозиции? Во-первых, бездейственность и безэмоциональность, когда субъект в метапозиции не может совершать действий и не испытывает эмоций, но может их оценивать. Во-вторых, самодистанцирование и надситуативность, когда оценивание ситуации со стороны предстает как высший уровень абстрагирования – метапознание, которое создаёт динамическую модель на метауровне, позволяюая не только получать информацию о происходящем на объектном уровне, но и изменять его состояние, что и является механизмом контроля.
Глава I. Кыргызский менталитет: между традицией и вызовами модерности
Токтошев. Вот мы с тобой кыргызы. Что нас – кыргызов отличает от других этносов? На мой взгляд, кыргызов всегда отличает особый менталитет – это приверженность национальным традициям, ведь мы живем не только настоящим и будущим, как европейцы, а и прошлым, ибо, у нас особый менталитет, определенный склад ума, особенное мировоззрение и мировосприятие. Ментальный «портрет» кыргызов, видимо, сложился под влиянием иных факторов исторического развития. Давай взглянем на себя со стороны с позиции Л. Н.Гумилева. Я – северянин, родившейся среди гор, а ты – южанин, родившийся в Ферганской долине. У Л. Н.Гумилева есть теория, по которой этнос является порождением ландшафта и биосферных факторов, поскольку языковая интерпретация пространства и времени в разных языках отражает способ и формы существования определенного народа.
Просторы степей, гор оказывают прямое влияние на национальный менталитет кыргызов, он полон противоречий. Есть выражение Ч.Айтматова: «Мы живем в горах и в долинах среди гор». Есть суждение кыргызского ученого-философа А. Ч.Какеева – север и юг Кыргызстана – это две чаши и все различие южан и северян определены именно этим фактом. Мы долгое время находились в чаще и это конечно же отразилось на кыргызском менталитете северян и южан, но в моем письме – это не главное. Мы единый народ, несмотря на некоторые различия быта, наречия, обычаев, традиций. Нас должна интересовать как кыргызский менталитет отражается в ракурсе сопоставления традиций и вызовов модерности.
Безусловно, горы и долины между ними, среди которых жили многие поколения наших предков, кочевой образ жизни наложили свой отпечаток на национальный характер. Историки, этнографы, социологи показывают, что просторы гор, долин и степей наделили кыргызов открытостью, любознательностью, прямотой и откровенностью, сочетающийся с поэтичностью и широтой души. Широта души заключается у нас в великодушии и размахе – многолюдные тои, разорительные свадьбы и поминки, великодушие и человечность кыргызского этноса также не знают границ по отношению к своим родным, друзьям, соплеменникам. Менталитет отчетливо проявляется во всем, отражающих характерные черты национального характера народа, его миропонимание, предпочтения, ценности. Безусловно и то, что сформированный менталитет всегда обусловлен основной природной задачей – коллективным выживанием в определенной климатогеографической и политической среде.
По нашему мнению, менталитет как философская константа и исторический код. Менталитет – это не просто совокупность поведенческих стереотипов, а глубокая матрица культурного бытия народа. У кыргызов он сформирован под воздействием природы (горы, степи), кочевого образа жизни и коллективного способа выживания. Эта культурная прошивка – космоцентризм, природовосприимчивость, цикличность времени, коллективизм и духовная щедрость – составляет особый антропологический код кыргыза, отличающий его от западного антропоцентричного индивида. Здесь проявляется философия сопричастности с миром, а не господства над ним. «Мы живем не только настоящим и будущим, как европейцы, а и прошлым» – ключ к пониманию глубинной укорененности кыргызского менталитета.
Ментальные установки обычно воспринимаются человеком как нечто не вызывающее сомнения и естественное, и он не отдает себе отчета, почему мыслит и действует так, а не иначе. Хотя мы и сказали, что менталитет подвержен влиянию со стороны, тем не менее, в основе его лежат незыблемые ориентиры в виде системы ценностей, представлений и жизненных установок. В этом аспекте, есть ли у кыргызов какого-то особенного, прирожденного, национального порока, скажем в виде лени нет и быть не может. Со слов однако, еще тогда Президента страны А. Ш.Атамбаева для кыргызов в той или иной мере характерна лень. Помнится, в своей речи он говорил о том, что нам – кыргызам нужно избавиться от такого порока, нужно работать, а не ждать «алма туш – оозума туш», то есть «пока яблоко упадет в рот».
Одна местная журналистка в своем блоге посвящает статьи кыргызчылыку, пишет о лени как «социальном паразитизме» – о пресловутом «Сокур намысе» (слепая совесть). Почему же все объяснения «отсталости кыргызов», коррупции в государстве и другие беды любого общества очень часто объясняются кыргызчылыком или кыргызским менталитетом? Она пишет: «Для меня кыргызчылык – это все наше больное, некрасивое, гнилое – в самом неприкрытом виде смотрящее на весь мир мутными выпученными глазами и жадно вытянутыми руками». Слова бывшего Президента о том, что кыргызы – ленивый народ, пассивный как бараны, народ воспринимает по разному. Кто соглашается, а кто – нет, у каждого свое мнение. Однако, на эти пронзительные слова и сравнения народ встрепенулся. А почему? Да потому, что знает самого себя, свой менталитет.
Каракулов: Я бы обратил внимание на другой аспект этой проблемы. Историк Э.Битикчи пишет о том, что если спросить кыргыза, что было бы с ними, если бы не российское завоевание? То получит стандартный ответ: Кыргызов бы завоевал Китай либо Великобритания или же кыргызы бы стали феодалами как в как Афганистане. Кыргызы гордятся тем, что «лучшие сыны» приняли якобы мудрое решение о добровольном присоединении к России.
Таким образом, видно, что у кыргызов в колониальный период появляется какая-то излишняя самокритичность и комплекс неполноценности. Между тем, согласно постколониальной теории речь идет о явлении «ужасающая вторичность». И негативное восприятие кыргызчылыка и кыргызского менталитета как на уровне простолюдинов, так и на уровне образованных людей и даже на высшем, недоступном для первых двух типов людей, уровне, и есть отражение этой самой ужасной вторичности. Через систему образования, которая, казалось бы, несла свет цивилизации и просвещение, империи внушали покоренным народам их отсталость и свое превосходство, описывали свое трудолюбие и успехи и презирали своих новоподданных за их лень. Наши историк и правители так или иначе выступали как продюсеры данной реальности, включающей также «реальное прошлое».
Итак, что значит кыргызчылык: традиция или препятствие? Кыргызчылык, как социально-культурный феномен, вызывает противоречивые оценки: для одних – это форма самоидентичности и исторического наследия, для других – тормоз развития, форма лени и социального паразитизма. Но философски кыргызчылык – это не добро и не зло, а проявление культурной инерции. Его следует не отрицать, а реинтерпретировать, очищая от негативных наростов (клиентелизм, коррупция, регионализм) и сохраняя гуманистическое ядро: солидарность, этику родства, устойчивость бытия.
«Кто контролирует прошлое – тот контролирует настоящее; кто контролирует настоящее – тот контролирует будущее» (Джордж Оруэлл), и историческая наука в этой колонизации сознания играет не последнюю роль. Отсюда понятно, что «Новый период в культурной жизни киргизского народа начался после добровольного вхождения в состав России, которое явилось важным прогрессивным событием в историческом развитии киргизов. Киргизский народ навсегда связал свою судьбу с великим русским народом, познакомился с его передовой демократической культурой, которую несли представители передовой интеллигенции и рабочего класса.
Токтошев: Ты прав. Есть выражение наших современников, проживших еще в Советском Союзе: «Мы все из того времени». Полагаю, нам никак нельзя переиначивать свою «российско-советскую историю». С вхождением в состав России, вопреки колониальной политике царизма, в Киргизии начали пробиваться ростки культуры и просвещения, появились первые школы, лечебные и культурно-просветительные учреждения, заводы, шахты, стала развиваться торговля. Передовая русская культура послужила источником культурного прогресса киргизского народа, ее прогрессивное влияние коснулось всех сторон жизни».
Но есть и другая история. С развитием европейской исторической науки образ кочевников, живущих скотоводством и охотой, приводит к научно доказанному возникновению образа «грабителей-паразитов», «распутных кентавров», «трутней человечества». Может быть, в основе мыслей тот же кыргызчылык – паразитизм. И если лидер нации приписывает кыргызам лень, а кыргызчылык для него нечто ужасное, то пройдет немало времени, прежде чем кыргызчылык станет нормальным, а кыргызы избавятся от своей излишней самокритичности, от своей ужасающей вторичности.
Видный философ Ж.Урманбетова в своей статье «Специфика образа мышления кыргызов», как всегда «зрит в корень», сетует на то, почему в Кыргызстане не приживается демократия? Она считает, что в качестве основного тормоза в принятии демократических принципов выступает культура, исходящая в своем формировании и развитии из образа мышления. Для понимания причин нестыковки демократических стандартов и традиционного кыргызского образа мышления имеет смысл выяснить своеобразие этого самого образа мышления. По мнению автора, в развитии современной кыргызской культуры мышления можно выделить три наиболее важных этапа, обусловивших формирование традиционного образа мышления, соответственно менталитета.
По мнению автора, первый этап кочевого развития предопределил становление основополагающих критериев восприятия мира и, как следствие – специфику мировидения. Наиболее функциональными и, соответственно, судьбоносными чертами мышления номадов (кочевников) Центральной Азии явились следующие: космоцентризм, природовосприимчивость (экологичность), динамичность, пространственность (восприятие мира как бесконечное пространство), цикличность восприятия времени (природный цикл – от весне к весне), созерцательность, интуитивность, нерелигиозность (на тот момент исторического времени), контекстуальность (осознание себя в контексте рода, что обусловило проявление трайбализма), нерациональность, конкретность, формирование этнической (генетической) памяти в проекции горизонтальной преемственности (рядоположение предков в одну линию с собой).
Пожалуй, такая систематизация наиболее полная на сегодняшний день. По мнению практически всех отечественных историков, именно данные черты мышления заложили основу характера номада, передавались из поколения в поколение, образуя своеобразную традицию осознания себя, предопределили формирование инвариантной модели культуры (самостоятельной и независимой как следствие восприятия и понимания мира), на основе чего можно говорить о существовании номадической цивилизации в противовес оседлой. Данный образ мышления стал традиционным для кочевника, тем самым обусловливая своеобразие понимания себя в этом мире и существуя на протяжении веков. С течением исторического времени кочевники перешли к оседлому образу жизни, вследствие чего произошла первая сущностная трансформация культуры.
Безусловно, смена способа существования, несомненно, повлекла за собой преобразование некоторых характеристик мышления, на основе этого возник симбиоз основных кочевых черт мышления в преломлении к оседлым принципам мировидения. Но необходимо заметить, что функциональность традиционных черт кочевого мышления осталась на уровне подсознания как историческое предание. Все эти черты присущи и кыргызскому образу мышления.
Каракулов: На мой взгляд, не менее системной является характеристика второго этап развития Кыргызстана (соответственно кыргызской культуры), который начался с вхождением в эру советской идентичности, как следствие – вторая трансформация культуры в результате влияния советской идеологии. Этот этап наряду с позитивными моментами (определенный расцвет культуры) имел и негативные (национальное самосознание претерпело существенное влияние социалистических клише, специфика традиционного нашла свое отражение во внешних характеристиках, нежели внутренних). Ж.Урманбетова считает, что третий этап начался с обретением суверенитета, который обусловил всплеск национального самосознания, и, как реакция на идеологический пресс советского периода, возник процесс реидентификации по критерию традиционного.
Как нам кажется, именно поэтому возникла волна некоторой абсолютизации всего традиционного, а некоторые черты исторического мышления начали возрождаться по различным направлениям (в первую очередь это коснулось трайбализма, расцветшего всеми красками радуги). Одновременно с этим в качестве второй тенденции развития культуры выступила направленность на Запад (в виде вестернизации) как следствие ориентации на демократию. Соответственно, возник целый клубок противоречий, отразившихся на процессе идентификации, именно поэтому и возник кризис идентичности.
Согласен с мнением Ж.Урманбетовой о том, что многое зависит от специфики мышления. Действительно, учитывая, что основа традиционного мышления в массе осталась прежней, можно проиллюстрировать явные противоречия между традиционным и универсальным (прообразом которого выступает западный тип мышления, несущий с собой демократические ценности) образами мышления. Если основными характеристиками западного образа мышления являются следующие: во-первых, антропоцентризм, который выступает в противовес кыргызскому космоцентризму; во-вторых, технологичное мышление, подчиняющее себе природу, что в предстает как противовес органичной природовосприимчивости; в-третьих, превалирование временных критериев бытия, что входит в противовес явной пространственности мышления кыргызов; в-четвертых, время понимается прямолинейно в отличие от циклического восприятия у кыргызов; в-пятых, теоретичность мышления, что представляет противовес созерцательности и интуитивности у кыргызов; в-шестых, эгоизм и прагматизм, что входить в противовес контекстуализму кыргызов; в-седьмых, рациональность, что является противовесом эмоциональной нерациональности кыргызов; в-восьмых, абстрактность в отличие от конкретности кыргызов; в-девятых, вертикальная преемственность, когда память выстраивает предков по вертикали (в противовес горизонтальной); в-десятых, культура права в отличие от кыргызского трайбализма.
«Единственный момент, являющийся объединяющим кочевой центральноазиатский и западный образы мышления – это динамичность, позволяющая легко воспринимать изменения, происходящие в мире», – пишет автор и добавляет: – «Еще один момент – религиозность (явная нерелигиозность кочевого мышления с течением времени трансформировалась, когда ислам проявил религиозные предпочтения народов Центральной Азии».
Но, вместе с тем, необходимо отметить, что из всех центральноазиатских народов кыргызы и казахи наименее религиозны, причиной чего выступает все то же кочевое сознание. Скажем народы Узбекистана, Таджикистана заметно более религиозны. Однако, как нам кажется, эти государства и общества ведут более результативный диалог с религией, смогли наладить четкий контроль над религиозной деятельностью, ввели ряд новых требований к адаптации религии к интересам страны. У нас же, наоборот, контроля нет, отмечается всплеск религиозного сознания населения, а это когда-нибудь отзовется драмой. Таково наше мнение. Мы соглашаемся с тем, кто считает, что явное противоречие образов мышления (и, соответственно, норм культуры) выступает тормозом в восприятии и, главное, в укоренении демократических ценностей, взращенных на западном образе мышления.
Токтошев: Безусловно, демократия проецирует вектор государственного и общественного развития, соответственно, она может быть воспринята не только западными странами, но и другими в силу функциональности ее норм и стандартов в эпоху глобализации, именно поэтому и есть смысл не только провозглашать ее, но и внедрять. Однако либеральная демократия как отражение западного образа мышления и жизни, обнаруживает свою несостоятельность в традиционных обществах Центральной Азии. В любом случае универсальные ценности постепенно включаются и принимаются во всех обществах, это и есть проявление неизбежности потока глобализации.
«Наша динамичность и открытость (толерантность) должны послужить основанием для восприятия инноваций, а наша сдержанность и инстинкт самосохранения должны стать гарантом гармоничного баланса между традиционным и глобальным», – пишет Ж.Урманбетова. – «Естественно, что спецификой культуры мышления не исчерпывается неприятие демократических ценностей, и все же она составляет центральное противоречие в восприятии норм и стандартов западного, проекцией которого и выступают демократические ценности».
Да. Действительно, речь идет о кризисе идентичности: между традицией и демократией. Современная кыргызская культура мышления пребывает в состоянии гибридности: она пытается синтезировать традиционные установки с западными институтами. В этой точке пересечения возникает кризис идентичности. Кочевое мышление не сочетается напрямую с либеральной демократией: одно – циклично и контекстно, другое – линейно и абстрактно. Демократия как форма не может быть навязана. Она должна быть адаптирована под этнокультурный фундамент. В этом контексте Ж.Урманбетова верно подметила: сопротивление демократии исходит не из дикости, а из несоответствия культурных матриц.
Помнится эмоциональная статья О.Ибраимова «Пещерное сознание, пещерный патриотизм», в которой пишет о том, что Шопенгауэр, Фрейд правы, когда говорили о том, что в людях все еще крепко сидит неандерталец, тихо притаившись в каком-то темном углу нашего сознания, готовый выпрыгнуть в любой момент на арену, перечеркнув все достижения мировой цивилизации и человеческой эволюции с ее естественным отбором.
Да. Можно привести ряд примеров из жизни нашего кыргызского народа. Конечно обидно, когда китайцы, которые целый африканский континент поднимают с колен, не захотели иметь дело с нами, сокращая свои инвестиции в нашу страну. «С Америкой мы вообще разорвали дипломатические отношения. Это уму непостижимо! Мало того, что мы насквозь коррумпированы, еще и неугомонны. Нам бы ежегодно устраивать революции, заодно и вдоволь мародерствовать, на гуляй поле кыргызской свободы огромной толпой на площадях туда-сюда бегать, как «безбашенные». Как будем жить дальше?», – возмущается автор.
К сожалению, все это следствие не пещерного, то есть природного, а ужасающей вторичности и постколониального сознания. Мы лишь попытались вскрыть постколониальный синдром «ужасающей вторичности», где народ воспринимает себя через навязанные критерии «отсталости» и «лени». Колониальная власть формировала историческую подчиненность не только физическую, но и ментальную: формируя комплекс неполноценности у покорённого. И сегодня, когда лидер нации говорит о лени как о врожденном качестве, это отражает не действительность, а внутреннюю колонизированность мышления. «Кто контролирует прошлое – контролирует настоящее» (Оруэлл) – это не только о власти, но и о менталитете.
Молодой, но перспективный эксперт И.Курманов пишет, что среди ценностей кыргызского народа есть не только общемировые, характерные для всех, но и специфические. Например, уважение к старшим, к женщинам, младшим по возрасту, свои обычаи и традиции, коллективному мнению, отсутствие авторитарных традиций, коллективизм, право предков и т.д. Однако, вот с этим у нас проблемы. По мнению автор, это следствие того, что длительное время кыргызы проживали в составе чужих народов и цивилизаций и это отразилось неумением пользоваться своими ценностями. «Самым омерзительным является несправедливость при отборе кандидатов на госнаграды. Награждают не тех, кто заслуживает и заслужил, а тех, кто своевременно похлопотал. Так не может все время продолжаться.
«Наше государство должно взять политику в свои железные руки, а не пускать ее на самотёк», – высказывается эксперт. Ну, на самом деле есть у нас пробелы в справедливости. Справедливость в государственных делах, несомненно, должна быть, все должно обстоять в соответствии с государственными приоритетами и интересами, ибо, уже давно мы являемся современным государством, а не аморфным союзом племен и родов, или чьим-то феодальным уделом.
Каракулов: Кстати, такой же молодой, настырный и грамотный эксперт – У.Дуйшеналы в статье «Определение трайбализма, причины и программа её искоренения» акцентирует на создание единой психологии кыргызского народа – это всеобщая лексическая, традиционная, культурная и нравственно-этическая идентификация кыргызского народа с развитием географической и информационной мобильности для формирования единого национального самосознания, всеобщего патриотизма с искоренением трайбализма, который является одной из главных социально-психологических, а теперь уже и политической болезнью кыргызского сообщества.
Безусловно, трайбализм – это дискриминационное скрытое или открытое отношение к человеку по региональному и племенному признаку, основанное на стереотипно-ложных соображениях или обусловленное единично-случайными или многократно-системными наблюдениями за поведениями представителя противоположного региона или племени. Как известно, условием проявления трайбализма является внутренняя миграция, то есть приезд жителей регионов в столицу. И столица как бы собирает и сталкивает представителей всех регионов.
И здесь мы видим, что происходит столкновение различных факторов, незначительных особенностей традиций или обычаев и необоснованное стереотипное столкновение порочных взглядов. Отсюда следует, что минимизацию или искоренение трайбализма можно достичь откровенным признанием существования объективных причин межрегиональной критики и ликвидацией причин межрегиональных претензий и критики. при этом еще нужно понять и знать, что одним голословным призывом народа к сплоченности и наказанием человека за трайбализм, абсолютно искоренить трайбализм невозможно – нужно признать и ликвидировать и только ликвидировать причины межрегиональных претензий и критики (если причины будут доказаны).
Только правовая форма искоренения трайбализма не приведет к желаемому результату, так как человек не должен нарушать общепринятые правила жизни не только потому, что закона боится, но не должен нарушать осознанно, имея нравственно-этическое убеждение, тогда и не будет необходимости в законодательных запретах. Однако до определенной эпохи развития кыргызского общества, вполне допустимо одновременно пускать в ход обе формы искоренения: воспитательную и правовую.
Разумеется, образованные и воспитанные люди менее больны трагическим трайбализмом. Они менее стереотипны в сознании, потенциально умны и не судят по поступкам одного человека о целом регионе, они способны судить о человеке по его реально замеченным качествам и соответственно строить культурно-этическое отношение к человеку. Поэтому роль воспитания и образования поколения велика в свете Концепции педагогического сознания общегражданской идеологии Кыргызстана. Тем не менее создается впечатление, что такое «пещерное сознание» людей еще не скоро исчезнет, ибо еще много вздорных по сути, укороненных в народе «кухонных» трайбалистических суждений
Токтошев: Я знаком с этой статей и очень ценю автора (У.Дуйшеналы) как настоящего патриота своей страны. На мой взгляд, есть глубинная правда и рациональность в его предложениях. В итоге всеобщей традиционной идентификации искореняется столкновение элементов региональных обычаев и традиций, взаимная критика, споры и формируется общенациональная идентичность. Автор акцентирует внимание на значении географической мобильности людей. Ее значение заключается в том, что благодаря географической мобильности люди разных регионов теснее вступают в межрегиональный контакт, что обусловит ускорение всеобщей идентификации.
На наш взгляд, акцент выбран правильно. Речь идет об интенсификации коммуникации между народами севера и юга Кыргызстана. Следует учесть мнение академика А. Ч.Какеева о том, что юг и север Кыргызстана напоминают две чаши и во многом некоторая разобщенность народов проживающих в этих чашах объясняется тем, что протяженная и достаточно высокая горная кряжа служило препятствием к сближению и взаимной ассимиляции народов этих краев. В этом аспекте, строительство альтернативной дороги, связывающего юг и север является важной инициативой правительства. Речь идет о том, чтобы человек из одного края Кыргызстана легко перемешался в другой край.
«Теперь осмелимся справедливо объявить трайбалистов подлыми нелюдьми и предателями, которые грозно опасны единству народа и целостности государства, укреплению кыргызской государственности. Они враги собственного народа, тормозы прогресса, сеявшие смуту в сознание народа, зачинатели межрегионального злого стереотипа. Хотелось бы, чтобы следующее поколение не знало о том, что у нашего народа когда-то была проблема трайбализма и что народ когда-то страдал от этого. Поэтому очень важно основательно искоренить трайбализм и вообще вычеркнуть из истории», – эмоционально пишет У.Дуйшеналы. Несомненно, в таком разрушающем гармонию народности выработка единой психологии кыргызского народа, несомненно, станет ключевым шагом решения этой нелёгкой задачи. Самое неприятное то, что именно в среде национальной элиты сидят «отцы трайбализма» – идеологи этого явления.
Мы согласны с автором в том, что трайбализм следует рассматривать как философскую аномалию этноса. Трайбализм даже на сегодня является одним из наиболее болезненных тем кыргызского народа. Он проявляется там, где индивидуальность уступает место происхождению. Философски это не только политико-социальная дисфункция, но и извращение контекстуального мышления, которое изначально имело гуманистический характер (осознание себя через род, а не вместо личности). В этом аспекте, У.Дуйшеналы прав: трайбализм можно преодолеть только через воспитание и культивирование общей психологической культуры, а не одними запретами. Это требует не только гражданского, но и экзистенциального просвещения.
Известный религиовед К.Маликов в статье «Кто говорит с нашим народом?» заостряет внимание общества на вопросы информационной безопасности и медиасуверенитета Кыргызстана. Он рассуждает о том, что информационное пространство в Кыргызстане традиционно отличается открытостью и многоязычием. Благодаря культурно-языковому наследию, широкому использованию русского языка, значительная часть населения остаётся потребителем транснационального медиаконтента.
Тем не менее, важно понимать, что информационные потоки, поступающие извне, как официальные российские, так и оппозиционные, всё чаще сегодня несут в себе не только развлекательную и познавательную функцию, но и определённую идеологическую нагрузку. Они формируют взгляды, ценности и политические предпочтения, которые могут не всегда совпадать с потребностями и приоритетами самого Кыргызстана как независимого государства. И отсюда возникает резонный вопрос: кто же формирует повестку дня в кыргызстанских семьях?
В Кыргызстане уже давно звучат беспокойства, что значительная часть общественного мнения формируется не в результате внутреннего общественного диалога, а под влиянием разных и противостоящих друг другу внешних информационных центров. Это может сказываться на восприятии молодежью ключевых событий, на политической культуре, а также на отношении к самим институтам государства. Особенно это становится актуальным в моменты международных кризисов или конфликтов, когда восприятие событий через призму чужой повестки может не соответствовать национальным интересам Кыргызстана.
По мнению автора, особую роль в медиапейзаже играют телевизионные каналы зарубежных государств. Программы, производимые за пределами страны, становятся источником повседневной информации для миллионов кыргызстанцев. Но в последние годы наряду с телепередачами усиливается воздействие через цифровые каналы – Telegram, YouTube, TikTok, социальные сети. Это создает новую архитектуру информационного воздействия, где особенно уязвимыми становятся наша молодёжь, трудовые мигранты.
Действительно, в контексте информационной безопасность и медиасуверенитета, влияния медиа – это не что иное как новая форма колонизации. Как справедливо отмечает К.Маликов, информационные потоки сегодня – это идеологические каналы, формирующие ментальные ориентиры. Без медиасуверенитета невозможно построить устойчивое национальное самосознание. Здесь, на наш взгляд, перед нами стоит философская задача – создать медиапространство, где транслируются не только новости, но и ценности, укоренённые в культуре народа, адаптированные к вызовам глобализации.
Бесспорно, информационные нарративы, особенно связанные с военными действиями за рубежом, не должны затмевать гуманитарные, правовые и моральные основы внутренней стабильности. Уже зафиксированы случаи, когда отдельные граждане Кыргызстана, поддавшись внешней мотивации, принимали участие в военных конфликтах за пределами страны (Ливан, Сирия, Украина) без мандата нашего государства. Это вызывает вопросы не только юридического порядка, но и более глубокие – о границах гражданской лояльности, информационной податливости и национального самосознания. Автор призывает правительство и общество больше инвестировать в развитие национальных СМИ, создавая собственный высококачественный медиаконтент. «И это всё должно идти без нарушения свободы слова, без создания образа «врага», а напротив – через укрепление национального фундамента информационного пространства», – пишет автор.
Таким образом, наш краткий философско-культурологический обзор и анализ менталитета кыргызского народа – это попытка рассмотреть такой феномен в контексте исторического развития, социокультурных трансформаций и современных вызовов. Основное внимание нами уделено таким понятиям, как «кыргызчылык», номадическое сознание, постколониальное самовосприятие, трайбализм и влияние глобальной информационной среды. Рассмотрение этих феноменов через призму антропологии, культурной философии и постколониальной критики проводится переосмысление самоидентификации кыргызов в условиях давления универсальных (западных) и традиционных (локальных) ценностей.
По нашему мнению, в стране нужно акцентировать внимание нашего народа на философию синтеза вместо конфликта. Философия кыргызского менталитета требует нового подхода: во-первых, не конфронтации между традицией и модерностью, а поиска путей их диалога; во-вторых, кыргызчылык – не диагноз, а ресурс; в-третьих, демократия – не чуждый элемент, а форма, которую можно адаптировать; в-четвертых, постколониальное мышление – не приговор, а вызов к освобождению; в-пятых, трайбализм – не этничность, а искажение родовой культуры; в-шестых, информационная среда – не угроза, а возможность для самоформулирования. Рассуждая в этом ключе мы приходим к мнению о том, что нам нужен синтез – философский, образовательный и культурный. Только он способен вернуть кыргызскому народу уверенность в собственной ментальной ценности и сформировать модель устойчивого развития, в которой прошлое не тянет назад, а становится опорой для движения вперёд.
Каракулов: Некогда от одного, на мой взгляд, настоящего старца-мудреца я услышал такие слова. «Посмотри на глаза людей из числа наших соседей – таджиков, узбеков. Ты увидишь в них огонь. Загляни в их душу – ты увидишь тот же огонь. Теперь взгляни на глаза кыргыза. В них не найдешь искры, у многих они как бы потухли, потух их взор, а заглянув в их душу найдешь только жидкость. Кыргызы себя потеряют в пути, тогда как узбеки, таджики, как впрочем и другие «живые» народы – будут процветать».
Все больше узнавая о сказанном я начал убеждаться в правоте сказанных слов. И вот почему? Попробую выполнить философское осмысление метафоры о «жидкости души». С высоты своих лет и опыта понимаю, что слова старца-мудреца оказывается несут в себе не просто критику, а глубокий, метафорический диагноз. Разумеется, он говорит не о биологическом вырождении, а о духовном и ментальном состоянии, используя мощные образы «огня» и «жидкости». В этом высказывании заключена, пожалуй, самая острая боль современного кыргызского самосознания: ощущение утраты внутреннего стержня.
Давайте проанализируем эту метафору. «Огонь» в глазах и душе, о котором говорит старец, – это, с философской точки зрения, пассионарность в её активной, направленной вовне форме. Это энергия, которая проявляется в конкретных действиях, в стремлении к развитию, в строительстве, в коллективном проекте. «Огонь» – это воля к преобразованию мира, которая, как кажется, движет соседей. «Потухший взор» и «жидкость души» – это, напротив, состояние аномии, утраты смысла и твёрдой формы. «Жидкость» – это материя, которая принимает форму сосуда, но не имеет своей собственной.
Как нам думается, эти метафоры экзистенциального кризиса, когда народ перестает быть субъектом своей истории и становится объектом чужих влияний. Эта «жидкость души» – это потерянные ориентиры, размытые ценности, отсутствие ясного вектора движения. Это состояние отражает переходный период между двумя мирами: кочевым, с его строгим кодексом чести и традиций, и современным, с его западными институтами, которые ещё не стали подлинной частью кыргызской души.
Почему произошла эта трансформация? Прошлое кыргызского народа было историей выживания. После падения каганата народ сосредоточился не на внешней экспансии, а на сохранении своей идентичности в условиях враждебного окружения. Это была пассионарность другого рода – не «огненная», а «жидкостная»: способность обтекать препятствия, адаптироваться, уходить в горы, чтобы не быть ассимилированным. Этот исторический навык, с одной стороны, спас народ, но с другой – сегодня воспринимается как пассивность, как-то «приспособленчество», о котором звучали голоса.
На наш взгляд, слова старца – это не приговор, а вызов. Философия не допускает фатализма. «Жидкость души» не является окончательным состоянием. Она – это не гниль, а состояние потенциала. Ведь жидкость может превратиться в лёд – твердую форму, или стать паром – чистой энергией, или же, приняв форму, начать двигать колесо истории.
Будущая трансформация кыргызского народа, о которой мы размышляли ранее, заключается именно в этом: во-первых, обрести форму, то есть использовать свои культурные коды – «Манас», язык, традицию «санжыра» – как сосуд, который придаст «жидкости души» твёрдую, ясную форму; во-вторых, разогреть эту форму, что означает найти новый источник пассионарности, не в завоеваниях, а в созидании. Это должен быть не огонь войны, а огонь творчества, науки, предпринимательства, культуры; в-третьих, использовать силу, то есть превратить кажущуюся слабость «жидкости» в силу, свойственную воде – способность обтекать препятствия и находить путь даже там, где его нет. Так или иначе именно адаптивность должна стать стратегией, а не пассивностью в этом бушующем мире.
В целом, слова старца – это, по сути, крик души, который призывает к пробуждению. Его слова не должны вызывать уничижение, а должны стать отправной точкой для самопознания и действий. Задача кыргызского народа сегодня – не подражать «огню» соседей, а найти и разжечь свой собственный, уникальный огонь, который дремлет под толщей «жидкости души». Это путь к истинной субъектности, где прошлое перестаёт быть причиной упадка, а становится источником силы для нового, уверенного движения.
Итак, в контексте формирование «Метапозиции» мы с тобой предались свободному философскому размышлению о сути кыргызского менталитета, о его традициях и вызовах современности, о ключевых аспектах, формирующих национальное самосознание и на этом основании предложить переосмысление некоторых феноменов. На наш взгляд, менталитет кыргызов представляет собой сложный феномен, находящийся на пересечении традиций и вызовов модерности.
Нужно всегда учитывать тот факт, что в отличие от европейского мировосприятия, ориентированного на настоящее и будущее, кыргызский менталитет глубоко укоренён в прошлом, что отражает особенный склад ума и мировоззрения. Этот «ментальный портрет» сформировался под влиянием уникальных исторических факторов, ландшафта и биосферных условий, что подтверждает теория Л.Гумилёва о порождении этноса ландшафтом. Горные и степные просторы оказали прямое влияние на кыргызский национальный характер, сделав его открытым, любознательным, прямолинейным и сочетающимся с поэтичностью и широтой души.
Кыргызчылык: это традиция или препятствие? На наш взгляд и то и другое. Понятие «кыргызчылык» вызывает противоречивые оценки: для одних это основа самоидентичности и наследия, для других – тормоз в развитии, ассоциирующийся с ленью и «социальным паразитизмом». Эта амбивалентность отражает постколониальный комплекс «ужасающей вторичности», когда народ воспринимает себя через навязанные извне критерии отсталости. Бывший президент Кыргызстана, А. Ш. Атамбаев, отмечал склонность кыргызов к лени, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
С философской точки зрения, кыргызчылык – это не добро и не зло, а проявление культурной инерции. Как нам кажется, его следует не отвергать, а реинтерпретировать, очищая от негативных элементов вроде коррупции и регионализма, и сохраняя гуманистическое ядро, такое как солидарность и этика родства.
В чем заключается суть номадического сознания и кризиса идентичности кыргызов? На наш взгляд, кыргызский образ мышления прошёл два ключевых этапа трансформации: переход от кочевого к оседлому образу жизни и вхождение в советскую эпоху. Кочевой этап сформировал такие черты, как космоцентризм, цикличность времени, коллективизм и природовосприимчивость. Вхождение в советскую эпоху привело к второй трансформации культуры, а обретение суверенитета – к кризису идентичности, вызванному попытками синтезировать традиционные установки с западными институтами.
Нужно подчеркнуть тот факт, что кыргызский менталитет, сформированный кочевым прошлым, находится в противоречии с западным типом мышления, несущим демократические ценности. Ключевые различия включают: во-первых, космоцентризм против антропоцентризма; во-вторых, циклическое восприятие времени против линейного; в-третьих, контекстуализм (осознание себя через род) против эгоизма и прагматизма; в-четвертых, трайбализм против культуры права. Следует признать, что единственным объединяющим элементом является динамичность, позволяющая легко воспринимать изменения. В этом аспекте, кыргызы – быстро адаптирующий народ и в этом его будущее.
Безусловно, трайбализм как отрицательное явление у кыргызов нужно преодолеть. Как? Трайбализм, определяемый как дискриминационное отношение по региональному или племенному признаку, является одной из болезненных проблем кыргызского народа. Он проявляется в условиях внутренней миграции и столкновения региональных особенностей. Философски это не просто политическая дисфункция, а искажение контекстуального мышления, которое изначально имело гуманистический характер. Для искоренения трайбализма необходимо не только правовое регулирование, но и воспитание, а также формирование единой психологии народа и развитие межрегиональной мобильности.
Безусловно, огромная роль в адаптации кыргызов является информационная среда и медиасуверенитет. Нужно признать, что информационное пространство Кыргызстана отличается открытостью, но находится под влиянием внешних информационных центров, которые формируют общественное мнение и могут не совпадать с национальными интересами страны. Эта внешняя медиа-зависимость воспринимается как новая форма колонизации. Для построения устойчивого национального самосознания необходим медиасуверенитет, который заключается в создании собственного медиапространства, транслирующего ценности, укоренённые в культуре народа.
В целом, важно четко понимать, что кыргызский менталитет – это не приговор, а ресурс для развития. Кризис идентичности, вызванный столкновением традиционных и современных ценностей, требует не конфронтации, а диалога и синтеза. Адаптация демократических ценностей к уникальной культурной матрице, преодоление трайбализма через воспитание и формирование медиасуверенитета – вот ключевые задачи для формирования устойчивой модели развития. Кыргызский народ должен использовать свою динамичность, открытость и сдержанность для достижения гармоничного баланса между традиционным и глобальным, чтобы прошлое стало опорой для движения вперёд.
Глава II. Прошлое как вызов будущему: кыргызская идентичность между памятью и проектом
Токтошев: Хотелось бы поговорить о кыргызской идентичности, ибо прошлое есть вызов будущему. Один из ведущих экспертов страны по вопросам истории, права, государственного управления З.Курманов в статье «О кыргызской цивилизации: миф или реальность?!» пишет о том, что «цивилизация» – наиболее емкий термин для обозначения основных границ, разделяющих человечество в прошлом и настоящем. Цивилизации не может быть одной универсальной, существует множество цивилизаций, отличающихся друг от друга по верованиям, культуре, образу жизни и хозяйствования.
Автор делает реверс в сторону прошлого кыргызов. «Государство кыргызов во 2 в. до н.э. являлось первым государством в Сибири, огромная территория которой превышал территориальную протяженность Европы. Была государственность: письменность, законы, бюрократия, административный аппарат, армия, полиция, тюрьма, налоговая и таможенная системы, социальная иерархия, сложившейся структура общества, ценности, соответствующие экономика и культура. «Это и было «локальной цивилизацией» в рамках понятий плюрально-циклического подхода к истории, под общим понятием «цивилизации», – пишет автор.
Да. У кыргызов была трудная судьба. В свое время вышла статья Б.Эркимбаева, в котором говорится о пути Кыргызстана от прозябании к собственной судьбе. «У каждого человека, как и у каждого народа, есть своя собственная судьба, исходящая из его сути, из его идентичности. Игнорирование своей сути приводит к исчезновению судьбы, к простому инерциальному биологическому существованию», – пишет автор. Но в мире случается и довольно часто, когда какой-либо человек или народ избирает для себя чужую, навязанную судьбу. В этом случае, человека сопровождают дисгармония, болезни, невзгоды, а народ вынужден испытывать постоянные катаклизмы, приводящие к его распаду и исчезновению. Пожалуй именно это и происходит в настоящее время с кыргызами.
Эксперта волнует сущностные вопросы судьбы кыргызского народа. Он пишет: «Сегодня кыргызы – это всего лишь часть мировой толпы, управляемой глобальными элитами. Процесс исчезновения кыргызского народа, переход его в состояние этноса практически завершается. Народ разделен по региональным, родоплеменным, религиозным, социальным и другим признакам. Большинство населения Кыргызстана нищее во всех отношениях, и прежде всего, в духовном. Поголовная ориентация на материальные ценности, земные блага и наслаждения сделала нас крайне уязвимыми, ведомыми самыми низшими вегетативно-анимальными энергиями», – рассуждает автор.
Но важен вывод, сделанный экспертом, в котором говорится, что «мы должны четко усвоить, что человек, подразумевающий себя кыргызом, абсолютно не предназначен для существования в той социальной структуре, которую мы имеем сегодня, он должен войти и активно существовать в сложной духовной системе». В этом кроется истина. Мы согласны с тем, что наличие государственности у кыргызов не должно нас обманывать. Политическая и экономическая системы нашего государства, его структура и законодательство сейчас не в полной мере отражают кыргызскую идентичность и реализованы по универсальным «лекалам», которые Запад навязывает странам «третьего мира».
Полагаем, что можно понять тревогу автора, так как история свидетельствует, что, к примеру, евреи не имели своей государственности в течение тысячелетий, но умудрились при этом сохранить свою идентичность. Обретение внешних форм для своего благополучного существования в этом мире, было для них лишь делом времени. Они воссоздали свою территорию, государственность и за короткое время стали высокоразвитой страной.
Да. У истории нужно учится. Пример с Израилем очень характерный в нынешние времена, когда происходит новый передел мира, в том числе путем агрессии. Некогда на территории Палестины еврейский народ укоренился и путем проведения политики постепенной и последовательной автономизации добилась отчуждение чужой территории и, таким образом, создали свое государство – Израиль. И что случилось сейчас? Тезисом еврейской военной политики в рамках Израиль-Палестинской войны, является полный разгром Палестины. Исходя из такого предательского обстоятельства Израиля в отношении Палестины, нужно и нам задумываться – разве нет такой угрозы сепаратизма у нас в стране?
Когда-то мы, кыргызы приняли мировоззрение (назовем его условно, западным), объединяющее ценности ислама, иудаизма и христианства. Затем мы освоили ценности двух идеологий Модерна: социализма и либерализма, которые, по сути, являются продолжением и разновидностями иудео-христианской картины мира, с тем отличием, что сакральное уступило место рациональному, а человек был поставлен в центр бытия. Наши деды и прадеды сделали все правильно, – для них это был вопрос элементарного выживания. Переживание этого периода «ученичества» было крайне необходимым для нас, чтобы не только выжить, но и научиться ориентироваться в обновленной внешней среде.
Если взять во внимание тот факт, что кыргызы четырежды теряли свою государственность, то можно понять эмоцию эксперта: «Мы обучились грамоте, теперь настала пора писать собственную историю, нужно раскрывать и использовать внутренние источники энергии. В той истории, в которой мы проживаем сегодня, нам уготована роль рабов, бездушных механизмов, на сто процентов зависящих от источников внешней энергии, аналогично тому, как автомобилю для движения нужен бензин, нужна энергия извне», – пишет автор.
В этом аспекте, все активнее звучит мысль, как сохранить свою идентичность? Безусловно, для кыргызского народа главными источниками для обнаружения собственной сути, своего рода духовными «золотоносными жилами» являются кыргызский язык и четыре кыргызских эпоса – «Манас», «Эр-Төштүк», «Семетей» и «Сейтек». Многие ученые мира разных времен и разных народов пытались восстановить праязык, руководствуясь принципом, что познание изначального мирового языка означает познание всего сразу и навсегда, т.е. обладание абсолютным знанием. Сейчас нет необходимости доказывать, что кыргызский язык соответствует всем базовым характеристикам изначального протоязыка, определенным Германом Виртом.
Сюжеты и образы основных кыргызских эпосов во многом совпадают с сюжетами и героями древних эпосов, сказаний и легенд тюркских, монгольских и даже европейских народов. Вместе с тем, кыргызы сумели сохранить веру в «живость» и вневременной характер своего главного богатства – эпоса «Манас». Только у кыргызов все эти сюжеты и образы, присутствующие у других евразийских народов в качестве отдельных фрагментов, сведены в одну большую единую картину.
На наш взгляд, язык и эпос – это философские универсалии. Они представлены как не просто средство коммуникации, а как онтологический код. С опорой на Германа Вирта утверждается, что кыргызский язык содержит в себе реликтовые элементы праязыка – первоформы смысла. И это верно. Особое внимание автором уделено слову «Ак» – как синтезу антиномий (белое/черное, добро/зло, истина/ложь). Это понимание языка как сакральной метасистемы перекликается с концепциями Хайдеггера о языке как доме бытия. Что касается кыргызского эпоса «Манас», то он представлен не как историко-литературный артефакт, а как культурная «матрица» – сакральный код этноса. Это не просто миф, а метафизика народа.
Каракулов: Согласен с тобой и с экспертами в том, что вопрос о кыргызской идентичности сегодня даже актуализировалась еще больше. Вы правы в том, что прошлое – это залог и одновременно вызов будущему. Я с большим уважением отношусь к Б.Эркинбаеву, который выдвигает идею о том, что цивилизацию нужно рассматривать как уникальность, а не универсальность. То есть центральная философская идея – отказ от универсализма в пользу цивилизационного плюрализма. Автор апеллирует к идее локальной цивилизации кыргызов, существовавшей задолго до колониального давления. Это не просто апелляция к исторической гордости, но критика парадигмы «одноразвития», в которой измерение прогресса осуществляется по западным лекалам.
Безусловно, истинное освобождение начинается с признания своей истории как полноценной и самодостаточной формы цивилизации. В этом аспекте, историческая память – не ностальгия, а ресурс будущего. Именно из неё, по мысли авторов, должен черпаться проект национального возрождения. В этом контексте, сошлюсь не менее уважаемого мною талантливого эксперта – А.Мамбеталиева, который в статье «Прошлое и будущее: два аспекта развития народов» пишет о том, что кыргызы слишком много внимания уделяют истории и слишком мало будущему.
Получается, что мы бесконечно ищем свою идентичность в прошлом – в юрте, одежде, платке, обычаях, традициях, а современные стили считаем западными, русскими, то есть привнесенными. Да. В ходе исторического развития человечества народы имели различные ориентации: на прошлое и на будущее. Обе эти ориентации несут в себе уникальные особенности, которые определяют их культурный, социальный и экономический путь. Однако, существует необходимость в сбалансированном подходе к использованию прошлого и стремлении к будущему для создания устойчивого и гармоничного общества.
Осмысливая тенденции в истории, философии, языкознании, географии, культуры, невольно приходим к мнению, что кыргызы почему-то выбрали «прошлое», а не устремление к будущему, забыв о настоящем. Нужно понять, что прошлого уже нет, будущее – еще не наступило. Согласитесь, народы, ориентированные на прошлое, стремятся сохранить свою идентичность через изучение истории, культуры и языка. Это позволяет им чувствовать связь с предками, укрепляя свою самоидентификацию. Они также извлекают уроки из прошлых ошибок, что помогает избежать повторения негативных событий.
Но, согласитесь, с другой стороны, народы, ориентированные на будущее, стремятся к инновациям и прогрессу. Они активно исследуют новые технологии, развивают науку и экономику, стремясь к созданию лучшего будущего для себя и своих потомков. Этот подход может привести к экономическому и социальному развитию, а также к повышению качества жизни. Но у нас на сегодня все больше слагается тенденция «возвращение к корням». Почему? Зачем?
Понимаем, что обе ориентации имеют свои недостатки. Слишком сильное увлечение прошлым может привести к стагнации и сопротивлению изменениям. В то время как слишком сильное стремление к будущему может ускорить процесс глобализации и утраты культурной идентичности. Как решить эту дилемму? На наш взгляд, важно найти баланс между уважением к прошлому и стремлением к будущему. Народы должны использовать уроки и традиции прошлого как основу для развития и инноваций в будущем.
На наш взгляд, именно это позволит сохранить культурное наследие и одновременно обеспечить прогресс и процветание в будущем. Поэтому важно уважать и бережно сохранять прошлое, но при этом не забывать стремиться к лучшему будущему. Однако, нужно акцентировать внимание кыргызского общества на то, что в стране слишком много внимания, средств, ресурсов отвлекают к вопросам поиска идентичности в прошлом, в ущерб стремлению к будущему.
Итак, в суждениях автора речь идет о балансе памяти и устремлений: критика крайностей. Цитируя А.Мамбеталиева, можно выдвинуть идею баланса между ориентацией на прошлое и будущим. Погружение только в прошлое ведет к стагнации, а слепое устремление в будущее – к утрате корней. Только совмещение культурной памяти и проектного мышления дает возможность национальной устойчивости. Между тем, это и есть философия меры: не отказаться от традиции, но превратить её в ресурс инновации.
Токтошев: С такой позицией я согласен. Профессор З.Курманов в своей серии статей «Уроки истории» рассуждает о роли культа предков и роли традиций. «Предки никогда не спят, они все видят, от них не спрячешься ни в этом, ни в другом мире. Поэтому люди боялись совершать плохие поступки, чтобы тем самым не опозорить своих предков и свой род, навлечь проклятье», – пишет автор. Возможно ли у нас такое? У кыргызов позор был несмываемым! Сын вора, даже если он был хорошим человеком, навсегда оставался в общественном мнении «сыном вора», его сын – «внуком вора», а его семья – «семьей воров». Позор падал на весь род и даже племя! И не было в этом никакой героики и почета, как сейчас?».
К сожалению, мораль и нравственность нынешних кыргызов упали «ниже плинтуса». Умение «жить красиво», кичится бай-манапским происхождением, гордится богатством и властью – становится чуть-ли не стандартом. Если в пошлом тот или иной негативный статус навсегда закрывал членам опозорившегося рода путь к богатству и власти, то сейчас этого чувства у людей нет, они после очередного позора и даже изгнания из Родины вновь и вновь рвутся в власти и через неге к богатству, к ресурсам.
Это, прежде всего, говорит о том, что народ потерял свой исторический нюх, смысл, ценности, извратился принцип коллективной ответственности, регулировавший доступ к богатству, управлению и общественной жизни народа. Если ранее скрыться от позора не давала санжыра (кыргызская родословная), которая, по сути, определяла каждого – кто его предки и какими делами они занимались, то сейчас в условиях беззубого медиа, покорности общества люди перестали скрывать свое воровство.
Рассуждение можно продолжить в ракурсе «Идентичность как судьба: возвращение к себе». На мой взгляд, это достойный философский тезис – об идентичности как судьбе. Цитата Б. Эркимбаева звучит почти по-гегелевски: «Игнорирование своей сути приводит к исчезновению судьбы». Здесь идентичность – не просто принадлежность, а экзистенциальная программа бытия. Утрата идентичности равнозначна утрате смысла. Однако, не менее сакральным является правдивое высказывание видного историка, публициста и всесторонне подготовленного эксперта международного уровня – профессора З.Кураманова – «Сегодня кыргыз теряет себя не потому, что он слаб, а потому что вынужден жить по внешнему сценарию – чужой социально-политической архитектуре. Современный кыргыз, по метафоре автора, живёт как автомобиль без собственного двигателя – на внешнем бензине». Метафора жесткая, но правдивая.
Автор пишет о том, что кыргызская традиция недопущения позора с введением рыночных отношений забылась по вине слабых политиков и откровенных манкуртов-рвачей, дорвавшихся до власти. И коррупция, преступность и прочие отрицательные деяния захлестнули теперь всю страну от мала до велика и до такой степени, что серьезно встает вопрос о дальнейшем существовании нашей государственности и способности нынешнего поколения политиков сохранить ее для потомков. Слишком уж они увлечены собственным обогащением любой ценой.
Мы бы громко подчеркнули тезис о том, что «Из-за таких кыргызы уже неоднократно теряли свою государственность!». Актуален и такое суждение автора: «Государственные меры, взятые из опыта европейских стран, не дают нужного эффекта, а потому не пора ли начать сознательно бороться с пороками современного общества, взяв на вооружение наши выстраданные временем обычаи и традиции, продумав механизмы их реализации, которые восстановят нравственную и моральную чистоту в обществе?». Это стопудовая правда.
Профессор З.Курманов в своем рассуждении вокруг трагедий кыргызской усобицы акцентирует внимание на то, что еще в 840 г. возник «Кыргызский каганат», ажо Барс-бек был признан тюркскими правителями первым каганом кыргызов. Но из-за междоусобиц кыргызское великодержавие пало. В середине XIX в. Ормон Ниязбек уулу – незаурядный исторический деятель, автор законодательных декретов «Ормон окуу» («Учение Ормона») пытался возродить кыргызскую государственность, объединить все кыргызские рода и племена в единое ханство. Однако, опять же из-за междоусобиц кыргызских племен государственность не состоялась.
Итак, именно из-за отсутствия согласия в народе стали причиной потери государственности в тот период. Об этом должны понимать народ и сегодня. Цитаты З.Курманова о санжыра и клейме рода возвращают к мощной этико-философской традиции коллективной ответственности. В отличие от современного индивидуализма, кыргызская культура предлагает концепцию общественного долга, который не ограничивается одним поколением. По мнению автора, позор – это не частная аномалия, а общественная рана, передающаяся через память. При этом санжыра здесь выступает не только как биография рода, но и как этическая система социального отбора – своеобразный механизм «генеалогической этики.
Каракулов: На днях прочитал статью. Одного из активных «кыргызоведов» – Э.Битикчи. В своей статье «Концепция человека в кочевой культуре» заостряет внимание на то, что какие-то логические выводы, основанные на причинно-следственной связи почему-то работают только по вопросам объяснения прошлого. «И если бы они были верны, то они бы помогали понять будущее и каким-то образом предсказать его. Но предсказания сбываются только потому, что их миллионы и одно из них сбывается», – пишет автор.
Можно понять беспокойство этого человека. Современные концепции человека – это одни из тех идей, которые положили в основу строительства этого мира людей. Идея человека о самом себе металась от крайности в крайность. В Кыргызстане, как впрочем, везде в мире, научные или религиозные концепции мало чем отличаются друг от друга.
Как видно из табл.1., в обоих случаях человек выступает как существо особое, экзистециональное. То есть то же самое, только другими словами скажет обычный люд. Но нет. Есть в этих определениях глубокое противоречие. Если в религии человек – богоизбранное существо, то в науке он – венец эволюции. Такое противостояние между религиозным и научным создало порядок, где не учитывается одна маленькая деталь – место человека на Земле. И в случае с религиями, и в случае с наукой Земля становится всего лишь временным пристанищем человечества.
В религиях – это временное место испытания, пройдя которое можно заслужить рай. В научном свете Земля – это «колыбель человечества», из которого оно, как нам кажется, никогда и никуда не уйдет. Это его вечная колыбель, исходя из положений новых астрофизических и космологических теорий.
Таким образом, ни наука, ни религия так и не смогли урегулировать взаимоотношения человека и планеты Земля и его потребительское отношение к ней.
Греховная природа плоти людей в научной и религиозной концепциях человека становится средством для бесконечного чувства вины, используемого для управления обществами. Социальная иерархия со времен древнейшего бюрократического государства, возникшего в Китае, мало чем изменилась. В конфуцианстве общество было разделено на благородных (цзюнь-цзы) и не очень (сяо-жень – низкий, подлый человек), то есть на тех, кто должен был править, и тех, кто должен был подчиняться. И сейчас мы разделяем общество на элиту и остальной народ.
Что первично – греховно низкая концепция человека и идея о том, что им надо управлять, или эта концепция была создана правителями и подчиненными им религиозными деятелями? Сейчас уже трудно понять, но в кочевой среде можно найти совсем другую концепцию происхождения человека и его места в этом мире. В сущности, в кочевой мифологии человек также был соединением небесного и земного (божественного и земного). Также в качестве единой биосферной системы, в которой каждое звено занимает важную роль.
Как нам кажется, пересмотр концепции человека может идти как на основе древней мифологии кочевников, так и на основе научных знаний. Главное, чтобы идея человека связывалась с этой планетой, а сама планета рассматривалась как Мать-Земля. И чтобы это были не просто слова.
Итак, в настоящее время, концепция человека в контексте кочевого переосмысления приобретает все большую актуальность. Философский итог даёт статья Э.Битикчи, где проводится критика современных концепций человека (научной и религиозной), основанных на чувстве вины, управляемости и иерархии. Вместо них предлагается кочевая антропология, где человек – не вершина, а часть биосферной системы, соединяющая небо и землю. Это перекликается с идеями «deep ecology» и с культурой уважения к Матери-Земле. Человек в этом контексте выступает как узел смыслов в живом пространстве. Между тем, это и есть образ, предложенный кочевым мировоззрением.
Токтошев: Согласен с твоими суждениями о приоритете концепции человека прошлого как моста в будущее. Но давай зададимся простым вопросом: есть ли обнадеживающая на будущее реальная стратегия Кыргызстана? Один из известных публицистов, патриотов страны, признанных экспертов в делах государственного обустройства – И.Даиров, рассуждая в ключе о направлениях строительства нового Кыргызстана, пишет: «Есть в стране необходимость строить свою модель государственности, поскольку модель государства, внедренная у нас во времена правления первого президента в 90-е годы по рецептам западных советников и консультантов показала свою неэффективность и привела как к его сносу в результате так называемой «революции» или народного бунта, так и сносам других последующих президентов, которые придя ко власти ничего принципиального не меняли в уже выстроенной модели».
Действительно, все это привели к деградации и неэффективности работы государственного аппарата управления, обогащению небольшой кучки людей, за счет разгосударствления и приватизации, кормившихся тогда возле государственной кормушки, и массовому обнищанию и безработице среди населения, которая вынуждала молодых людей уезжать за границу в поисках лучшей доли. Ситуация во многом сохраняется и сегодня, многие высокопоставленные государственные чиновники сегодня работают из рук вон плохо, о чем свидетельствуют практика частой смены их в должностях. Однако, совершенно непонятным является то, что такие наказания ограничиваются перемещением слабых руководителей по горизонтали.
