Жаркие пески Карая бесплатное чтение
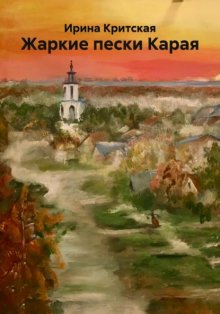
Глава 1. Батя
-– Чудушко, детка… Ты куда спряталась, дочушка, давай-ка домой, помоги папке. Гостья у нас. Алееенушка…
Голос отца был ласковым, впрочем Аленка никогда и не слышала его другим, сколько она себя помнила, добрее ее папы не было на свете. Но она этим и пользовалась, на нее находило иногда упрямство – нет и все! Вот и сейчас, услышав голос отца, она соскользнула с нагретого солнцем камня, наполовину утонувшего в теплой воде залива, тихонько, стараясь не шлепать босыми ногами пробралась к берегу, ящеркой шмыгнула было к иве, опустившей до самого песка свои грустные ветви, решив спрятаться под ее шатром, но не успела. Отец, как медведь, прохрустел сухими ветками в терновых зарослях, и высунул седоватую бороду, а потом вылез весь, сердито шевеля косматыми бровями.
– Здесь опять, озорница! Вечор тебе наказывал не ходить одной на реку, а ты прям в воду. Вот, теля бестолковая, неровен час соскользнешь, да в быстрину, а там омуты. Я что тогда делать-то буду? Алена! Поди сюда!
Аленушка неохотно раздвинула ветви, вышла на песок, сморщила конопатый носик, но к отцу пошла, послушалась.
– Я, батя, в воду-то не лезу. Я на камушке грелась. Там знаешь, как рыбки вертятся, прямо карусель, как на базаре. Смешно!
Алексей, кряхтя (уж очень болели кости сегодня, не иначе на дождик, вон оно небо, как насупонилось, аж черно за рекой) подошел к дочери, собрал рассыпавшиеся по худеньким плечам густые пшеничные пряди, покачал головой.
– Опять волосья распустила, балованная стала. Лента где твоя? По деревне пойдешь так, бабы потом языки стешут. Дай, повяжу.
Аленка вытащила ленту из карманчика сарафана, терпеливо ждала, пока отец заплетет ей косу, и мечтала. Она сегодня снова представляла себя русалкой. Хорошо, успела из волос кувшинку вытащить, да бросить в воду, а то батя бы отругал – уж очень он не любил эту игру. Ругал за нее. “Нечисть это, дочушка, русалки твои”, – говорил, – “А ты должна Бога чтить. Нехорошо”.
Аленка мать не помнила. Ей казалось, что они всегда с батяней вдвоем жили, никого другого в их хате отродясь не было. Правда, приезжала пару раз бабушка – худющая, высокая, злющая, настоящая оса с длинным острым носом-жалом, в чудно намотанном платке на некрасивой голове, их под которого торчали черные, аж угольные волосы без единой седой искорки. Она вглядывалась в Аленку острым немигающим взглядом, крутила её, мяла, шипела бате.
– Ты глянь, дурень. Я черная, отец твой, как цыган, да и ты в нас удался, смоляной. А она белесая, да еще с рыжиной. Как бы не твоя.
Аленка не понимала, как это она могла быть не батянина. А чья же? Он что, ее у чужих забрал, присвоил, как тетка Катерина чужого козленка, которого нашла в посадках? Глупость какая! Аленка даже помнила, как батя качал ее в кроватке. Всегда она была с ним. Так что пусть бабка не говорит, чего не понимает.
И лишь раз, копаясь в батином чемоданчике, который он запрятал на чердаке, она вдруг усомнилась, что больше с ними никогда и никого не было. Потому что с маленькой фотографии в резной деревянной рамочке, заботливо замотанной в тряпицу, на нее смотрела большеглазая женщина с косой, перекинутой на высокую грудь. У нее также вились кудряшки вокруг лица, как у Аленки, и даже на этой мутной фотографии было видно, какие густые и светлые у нее волосы. И смотрела она так на Аленку, что у нее защипало в носу – нежно, ласково, как будто хотела поцеловать. И Аленке тоже вдруг этого захотелось. И, не удержавшись, она коснулась фотографии губами, и ей показалось, что кто-то сзади подошел, положил теплую ладошку на ее темечко, погладил нежно, приласкал. А в старом пыльном зеркале, прислоненном к темным доскам чердачной стены, мелькнули большие серые глаза, они смотрели ласково, с любовью. Аленка обернулась – но никого не было, лишь легкий сквознячок, прорвавшись сквозь щели, озорно шевелил сухие листики прошлогодних березовых веников.
…
– Ты, Аленушка, чаю поможешь сделать, а то мне неловко, вдруг что не так. А у тебя ручки умелые, лучше тебя никто не заварит. Да и…
Алексей постеснялся сказать дочери, что он боится один принимать ту гостью. Уж больно мать настырно советовала – знакомься, да знакомься. Хорошая-красивая, да вот нужна ли – им с дочушкой и так хорошо вдвоем, вторгнется, как тать, и все сломает. А у Аленушки сердечко чуткое, ее не обмануть, сразу зло видит, у нее аж облачко на лицо светлое наползает, если что не так. Отвадит…
У дома уже стояла запряженная в крытую повозку лошадь. Повозка была нарядная, крытая ковром, прям, как у цыганей, Алексей даже испугался, уж не из табора ли та любава, уж больно имя чудное. Он подошел к повозке, похлопал взмыленную лошадь по холке, распряг, повел к сараю.
– Поить не буду, ишь, запарили животную. Потом выйду. А ты ступай, Алена, поприветствуй гостью.
Аленка открыла дверь в сени и разом столкнулась с гостем. Именно гостем, не гостьей – в сенях топтался здоровенный парень, с плечами почти от стены до стены, с темно-каштановым чубом, карими смешливыми глазами и пухлыми, как у девчонки губами. Аленка отскочила было, но вспомнила, что она хозяйка в доме, встала, подбоченившись, по боевому откинула косу назад, звонко крикнула
– Ты кто? Что сюда забрался, уж я тебя сейчас граблями. Небось, яблок залез наворовать, знаю я вас.
Парень чуть отшатнулся в сторону, потому что эта шмакодявка всерьез шарила за спиной, нащупывая грабли, а она хоть и мелкая, а шарахнет по ногам, беды не оберешься.
– Да окстись, Алена. Я ж Прокл, с мамкой приехал в гости. Не трожь грабли-то. Воды вышел попить, вас уж час как нет. Жарко.
Аленка чуть расслабилась, отпустила уже нашаренное грабловище, хмыкнула.
– Шаришь тут, как медведь. Мне батя не говорил, что у нас гость, говорил – гостья! Вот ведь!
Прокл улыбнулся, и от его белозубой улыбки в сенях даже светлее стало, как будто солнышко заглянуло. Коснулся локтя Аленки горячими пальцами, шепнул.
– Боевая какая, а, как воробышек. Есть и гостья. Мамка там, в доме, заждались уж мы. Пошли.
Худенькая женщина с забранными в тяжелый узел темными волосами, стояла у окна, глядя на улицу. Аленка удивленно подумала – надо же, без платка… Правда, вокруг узла волос была намотана какая-то ткань, расшитая бусинами и бисером, аж сверкала на солнце. Да и кофта у женщины выглядела непривычно – очень узкая в талии, расклешенная к бедрам, она широкими складками ложилась на прямую юбку, а та, в свою очередь расширялась книзу, красиво падая к маленьким ступням. Женщина повернулась и улыбнулась, у нее была такая же светлая, белозубая улыбка, как у парня, но глаза не такие – темные, как ночь.
– Здравствуй, Аленушка. Меня зовут Софья… А где твой папа?
И от этого вопроса, от этой улыбки и пронизывающего до костей взгляда у Аленки неприятно засосало под ложечкой, а по позвоночнику побежали острые мурашки, как будто кто-то насыпал колючек.
– До дворе батя. Лошадь вашу обихаживает, загнали вы ее. Будет сейчас.
И пошла мимо, как будто и не было этой Софьи, загремела чайником у печи, но где-то посреди спины, между лопаток чувствовала горячий уголек – на нее смотрел, чуть прищурясь этот дурной здоровенный Прокл.
Глава 2. Чиги
– Бесстыжая. Приперлась сама к мужику одинокому – бери меня, мол, вот она я. А говорят люди, мужик ейный живой, тока она от него сама ушла. И Бога не боятся такие, греховодники. А сама – прям цыганка, черная, уголь пережженный.
Аленка стола позади тетки Катерины и, спрятавшись за ее толстой спиной смотрела на пряники. Матвей-лавочник, видать только их привез из города, они лежали в красивой коробке под прозрачной маслянистой бумагой, и их мятно-сладкий дух наполнил всю лавку, кружил голову, лишая воли. Еще бы немного и Аленка не удержалась, схватила пряник, не дожидаясь своей очереди и впилась бы зубами в мягкий пахучий бочок. И мятная сахарная глазурь хрустнула бы, и свежая сладость залила бы ее рот, заставив замереть от наслаждения. Но Катерина двинула задом, как лошадь в которую вцепился овод, сделала шаг назад, сдвинув Аленку в сторону, и стало видно, что тетка там рассматривает. Матвей развернул перед ней сказочно красивый шелк – нежно-голубой, как сегодняшнее небо, переливающийся на солнце серебристыми нитями, а легкий такой, что, наверное даже небольшой сквознячок может сорвать его с прилавка, поднять в небо, и потом никто не найдет его – как будто он там и был. И лишь тоненькая вязь из темно-синих незабудок, окруженная серебрянной мережкой по краям ткани разрушала морок, давая понять, что это все-таки шелк – не небо. По другую сторону очереди около тетки стояла Любка – мелкая, как Жучка – соседская собачка, с такой же кудлатой головой, как у псины, и с ее куделей вечно спадала плохо стиранная косынка. Из расшитой маками кофты выпирала вперед мощная грудь, а неожиданную мощь коротких ног подчеркивала узковатая юбка. Любка часто кивала головой, вторя Катерининым словам, вздыхала, норовя погладить заскорузлой ладошкой шелк, но боялась, цепляла заусенцами ткань и дрожала редкими ресницами, дышала часто, как та же Жучка.
– Да ну, Катерин, какая цыганка. Она с Хопра, чига*. Вроде казачка, а акает, да лапти носит. Хоть в дому, а носит, лапотница. Гордячка.
Катерина всплеснула руками, кивнула Матвею, который уже отмотал шелка с версту, зашипела гусыней.
– Пссссс. Какая гордость, сама явилась. И осталась с мужиком незнакомым, да при дитях. Чига она и есть чига, с печкой на всю избу. Куда там – казааачка. Чучело!
Любка вдруг дернула своей кудлатой головой и даже подпрыгнула, стараясь заглянуть за здоровенное Катеринино плечо, и разглядела Аленку. Пырскнула глазами, прижала палец к синеватым губам, ляпнула ими дрябло, вроде вареник в миску швырнула, тоже шипанула
– Тссс. Алешкина Аленка здесь. Позади тебя стоит, уши развесила.
Катарина обернулась, ее толстое лицо-сковорода расплылось в елейной гримасе, она тоненько залебезила, как медом полила
– Деточка, миленькая! Ты чего в магазинчик пришла, папка послал? Так ты иди вперед, мы тебя пропустим, а то нам долго еще. Пряничек хочешь?
Аленка надулась, отрицательно помахала головой, но тетка все равно не унялась, схватила с прилавка здорового петушка на палочке в клейкой бумажке и сунула ей в карман.
– Ты папку -то спроси, готов мой шифонерчик? Уж месяц жду, чтой-то он задержался. А, деточка? Спросишь?
Аленка сердито кивнула, положила в авоську буханку хлеба, масло в коричневой бумажке, подождала пока Матвей отвесит в банку густой, стоящей колом сметаны, потом посчитала оставшиеся монетки, разжала вспотевшую ладошку.
– А на это пряников. Да ломаных не клади.
Потом ухватила толстый пакет, на дне которого болтались несколько пряников, вытащила из кармана петушка, бросила его на прилавок.
– Не надо нам. Мы и сами купим, да батя мне сахару не дает, больше меду все. До свиданья.
Она выскочила из лавки, вздохнула с облегчением, втянув полные легкие свежего аромата близкого августовского вечера, завернула за угол, и, метнув взглядом по сторонам выхватила пряник и со скрипом впилась в его долгожданную сладость, прижмурившись так, что уже спокойные лучи не смогли пробраться сквозь ее сжатые веки, и день превратился в ночь.
София и Прокл действительно поселились у них. Не в самой избе, а в другой, той, что батя выстроил из баньки, присоединив к ней пару комнат – получилось здорово, второй дом. Раньше Аленка обожала там играть, в комнатах пахло елкой и мылом, всегда было тепло и чисто, а теплый бочок печки, почти всегда натопленной тоже пах приятно – дымком и березовым поленом. А вот теперь туда и войдешь, там новая хозяйка. София в дом к ним с отцом не лезла, ходила гордо подняв голову, но чуть приопустив глаза, что-то все время мыла и чистила, а вчера привела корову. У них с батяней кроме кур в жизни никого не было, папке все приносили готовое – платили за работу. А столяр и плотник он был замечательный, Аленка всегда с открытым ртом встречала его новый шедевр, вот и сейчас огромный Катеринин шифоньер торжественно отливал отполированными стенками, гордо светил большим зеркалом на двери, а в батяниной мастерской из-за него было похоже на царские покои. И у них все всегда было – и молоко, и творог, бабы не скупились за шкаф или расписанный красками сундук. А тут…корова…
София встретила ее во дворе, чуть придержала у колодца, сунула в руки белоснежный узелок.
– Ты с магазина? Вот бате и передашь, скажешь от тети Софьи гостинец. Не все ж вам покупное есть…
Аленка взяла сверток, молча обошла новую жилицу и побежала по тропке к крыльцу. И встала, как вкопанная – за калиткой стоял казак из сказки. Он был на коне, свободная рубаха, туго стянутая в талии пузырем хлопала на спине, чудная кучерявая шапка была сбита набок. Но, тряханув головой, чтобы отогнать наваждение Аленка поняла – никакая это не сказка. За калиткой гарцевал Прокл. А у старой березы, что напротив у колодца, прижавшись в стволу спиной стояла соседская Машка. Тонкая, как хворостина, с мохнатой рыжей косой, она хлопала длинными ресницами, точно, как Софиина корова, и лыбилась красным ртом. Она держала в руках ведро и от нее на весь двор пахло сиренью.
…
Батя развернул узелок, что дала София, хмыкнул, отломил краешек румяного каравая, бросил в рот. На всю кухню пахло свежим хлебом, да так вкусно, что Аленка тоже не удержалась, куснула краюшку. И когда отец смущенно пробурчал, что жилица сегодня собралась их позвать на чай, поморщилась, но кивнула.
чиги – казаки, селившиеся на Хопре. Отличались от осталных Донских казаков более простым бытом, драли лыко, плели лапти, акали, за что основное казачество их недолюбливало.
Глава 3. Чаек
Батя стеснялся, чуть подталкивал Аленку перед собой, как будто хотел за нее спрятаться, его смуглый лоб покрылся испариной, он пыхтел, как медведь, и странно присгибал мощную шею, вроде лез в хомут. Аленке вдруг его стало так жалко, что она нашла его широкую ладонь, тоже взмокшую от волнения, сжала крепко накрепко и пошла вперед, ведя его за собой, как маленького. Они шли в дом, в который поселили пришлых, как в чужой, да оно так уже и было, с тех пор, как у них поселились София с Проклом Аленка ни разу не заходила в свою любимую баньку, забыла туда дорогу. Парились они теперь у батиной сестры Анны, а та за словом в карман не лезла, хихикала.
– Ты, брат любезный, коль не я – мохом б зарос, как тот пень в лесу. В свою ж баню не идут, вот смеху-то. А ты бы ее попросил баньку натопить, она б тя напарила. У нее глаз аж горит, как ты дрова рубишь, у тебя на заду еще ожогу нету?
Отец хмыкал в усы, двигал Анну в сторону, лез медведем на хлипкие ступеньки сестриной бани, но сдвинуть вредную сеструху было не так просто, она статью удалась в брата – настоящий шифоньер. Анна вздергивала плотной грудью, двигала плечом и отходила с дороги только когда натешится, а потом, прихлебывая на пару с братцем душистый чаек с чабрецом, двигала вазочку с медом поближе к Аленке, укладывала ей на тарелочку пирожок с вареньем, щурилась на Алексея, слушала. А тот сипел негромко, то ли нехотя, то ли тушуясь.
– Так, Аньк, мать же велела. Говорит – прими бабу, у нее дом погорел, а сынок еще несмышленыш, хоть и фигура здорова. Она ей крестница, Софья эта. Ну как отказать?
Анна с хлюпом допивала чай из здоровенного блюдца, кидала в рот половину пирога, щерилась.
– Ну-ну. Коль крестница… Иди уж, медведяка!
…
Софья стояла на крылечке бани, внимательно смотрела, как Аленка прячет за своим стрекозьим тельцем смущенного отца, улыбалась. Вечернее солнышко подожгло легкие пряди ее волос, свободно уложенных узлом на затылке, и они уже казались не черными, а медными. И такими же горячими искрами горели серьги в маленьких мочках ее чуть оттопыренных изящных ушек – крупные резные кольца отражали лучи каждой гранью. Аленка вдруг увидела, что Софья удивительно хороша. Атласная темно бордовая кофта плотно обтягивала тонкую талию, а потом резко расширялась книзу, подчеркивая крутые бедра. Бусы в несколько рядов скользили по груди и от этого движения нельзя было оторвать глаз. Софья снова сверкнула яркой улыбкой, показав мелкие, немного хищные, белоснежные зубы, пошла навстречу.
– Наконец-то. Мы вас ждем-ждем, уж чайник три раза кипятили. Боюсь, плюшки застыли, не такие вкусные будут. Алексей, Аленушка, давайте-ка к столу.
Она легко повернулась, слегка покачивая бедрами, от чего волной колыхалась юбка вокруг щиколоток, обтянутых темно-синей кожей нарядных ботинок, взлетела по ступенькам и скрылась за дверью, оставив ее открытой. А когда Аленка с батей вошли, Софья уж стояла посреди комнаты, спиной к накрытому столу, держала круглый поднос, на котором гордо высилась немаленькая чарка, клонила красивую набольшую голову.
– Прими, хозяин для веселья души. На травах моя водочка, как газ ароматный.
Софья сделала пару шагов навстречу, батя довольно крякнул, разом опрокинул чарку, кинул в рот крохотный бутерброд с копченым мясом и соленым огурчиком. Расплылся от удовольствия, было видно, что угощение понравилось. И разом напряженное выражение стерлось из его глаз, он расслабился, вытащил из-за спины кулек с конфетами, сунул Софье.
– Шоколадные. С этим, как его. Орехом греческим. Вкусные, бери.
Софья взяла кулек, чуть коснувшись тонкими пальцами батиной руки, вздохнула.
– Вот и слава Богу. Проходите, все на столе. Прокл! А Прооокл!
Ее голос был звонким, как у девчонки, аж в ушах зазвенело, но Прокл не отзывался.
– Вот ведь поганец. Семнадцать чуть стукнуло, а уж по девкам. Да и Марья эта – так и лезет, стыда у девки мало. Сбежал. Ну погоди, явишься, хворостиной поперек спину отхожу, я его от девок отважу.
На какое- то мгновенье сияющая улыбка Софьи погасла, и стало видно, как ей непросто, и как она устала. Но она быстро справилась с собой, снова засияла острыми зубками. Батя уселся за стол, положил плюшку, зачерпнул ложкой немало меду, залил плюшку до верху, потом опомнился, глянул на Софью.
– Ты на сына-то не серчай. Мальчишка, пусть гуляет. Чего он тут с нами сидеть-то будет, время придет, насидится. Чайку плеснешь, Софья?
Аленка с удовольствием отламывала по кусочку от необыкновенно вкусной плюшки, макала его то в смородиновое варенье, то в малиновое, то в мед, жмурилась от удовольствия, запивая чаем. У нее от тепла и вкусной еды слипались глаза, батя с Софьей казались то большими, близкими, гудели, как шмели, то вдруг отдалялись, становились маленькими, прямо гномиками, и их было неслышно, они впустую шевелили игрушечными губами. И когда Софья подошла, обдала ее запахом какого-то весеннего цветка, наглаженного шелка и сладкого вина, она совсем расслабилась, позволила ее поднять, отвести к печке, уложить на мягкую перину лежанки, укрыть одеялом. И, засыпая, она уже не пыталась разглядеть что там происходит за плотной занавеской, расшитой красными смешными зайцами.
…
Дождь лил с самого утра, как бешеный. Батя разрешил сегодня Аленке не ходить в курятник, велел только накормить Пушка и Шарика. Пушок лениво терся об Аленкину коленку, есть кашу не хотел, дождался, когда она кинет ему куриное крылышко и заурчал. Аленка положила в кастрюльку Шарика хлеба, налила бульона, положила когтистую лапку от курицы, пошла было на крыльцо, но вдруг остановилась, как будто перед ней выросла стена. На треугольном столике под божницей стояла фотография. Та самая – из батиного чемоданчика, с женщиной с Аленкиными глазами. Фотография стояла, подпертая толстой книгой, а на книге лежал цветочек. Уже подвялый, один из последних, как там из называла их Катерина – сентябринка. Но яркий – фиолетовый, аж светящийся в мути дождливого утра, а женщина с фото смотрела на него, улыбаясь.
– Мамка твоя, Ален. Вишь, как живая… Любила она таки цветы-то, говорила они последние, горькие.
Батя вошел неслышно, как тать, встал за спиной, дышал тяжело, прерываясь. Он смахнул что-то с лица, как будто паутину, аккуратно положил фотографию в сложенный платок, убрал в чемоданчик. Провел тяжелой ладонью по Аленкиным кудряшкам, вздохнул и сгорбившись пошел в сени.
…
Конец сентября в их местах часто был теплым, как будто вдруг возвращалось лето. А в этом году весь сентябрь лил дождь, прохудилось небо, Аленке уже казалось, что она сидит в доме безвылазно, и будет так сидеть всегда. А тут вдруг небесный свинец прорвали острые горячие не по-осеннему лучи, через полчаса небо стало ярко-голубым, как в мае, и плотная летняя жара ворвалась в дом, проникая сквозь толстые стены. В окно кто-то настырно стучал, Аленка сбросила сонную одурь, высунулась в открытое окно – там топталась телушкой Лушка – подружка не разлей вода.
– Что ты сидишь, как кура. Пошли к реке! Там хоть купайся, песок горячий, лето снова пришло. Давай, вылазь.
И Аленке и вправду вдруг захотелось окунуть ноги в горячий песок, коснуться теплой воды ладошками, поймать аромат уходящего лета.
Глава 4. Стремнина
– Глянь! Глянь! Ваш жилец-то! С Машкой, на лодке, на рыбалку что ли?
Лушка тыкала Аленку в бок острым кулачком, щебетала звонко, в ее мутновато-голубых глазках металась хитринка и что-то еще такое, от чего Аленке стало неприятно. Подружка была старше, ее уже взяли в школу, но казалось, что она не девчонка – девица. Может быть потому, что у нее были две старшие сестры, толстые томные девки, от которых вечно шел какой-то жар, как будто парило, и смотрели они так, как будто любили всех без исключения, и эта маслянистая любовь выделялась влажно из их маленьких глазок. Что-то они такое знали, чем-то таким делились с Лушкой, чего Аленке было неведомо, и поэтому ей всегда казалось, что подруга взрослая, не то что она. Аленка приставила ладошку к глазам, защищая их от солнца, и вправду увидела – за коровьим бродом, почти у поворота под нависающими над берегом ветвями ивы качается лодка. А в ней здоровенная фигура Прокла, он стоял широко расставив ноги, держал наперевес весло, а из-за его бедра, болтаясь, как хвост невиданного зверя, торчала рыжая растрепанная коса.
– Что ты, Лушк, кричишь так? Услышат же, нехорошо. Может и на рыбалку, тебе что за дело? Тише.
Лушка хрюкнула, как Софьин поросенок, которого она вчера приволокла с базара, пырскнула глазами, протянула.
– Нехооорошоооо. Это шлындрать с приезжими парнями нехорошо, коль у тебя жених есть. Валька вчерась обсказала, что к Машке этой сватов засылали. С Бобылевки, никак. А она, вишь, с Проклом этим вашим. А ты – нехорошо!
Аленка пожала худеньким плечиком, скинула тапки и осторожно ступила в воду. А вода была леденючая, да такая, что у нее внутри екнуло, и все подобралось от холода, аж нутро остыло. Она ойкнула, выскочила на песок, села, быстренько, как норушка прокопала две ямки, сунула в них застывшие ступни. А потом легла, прижалась спиной к горячему песку и долго смотрела, как несутся по высокому небу облака. И мысль о Прокле и Машке почему-то неприятно ворочалась у нее в голове, кололась, как будто в мозги забралась колючка, да застряла там…
– Глянь, совсем уплыли. Теперь рыбы, видать, Машка матери принесет в подоле кучу. Валька говорила, что у Машки этой самой мамка тоже рыбалку любила. С дядькой Василием, что на горке живет ездила. Рыбачила. Пока Машкин батя ей удочки не переломал…
Аленка дремала, и голос Лушки ей противно мешал, зудел у уха, вроде комар, и тихо и неприятно. Она даже отмахнулась от подружки, только что не попала ей по курносому носу, и Лушка отпрянула, неожиданно обидевшись.
– Дура ты, Аленка, тебе в куклы еще играть. С ней, как со взрослой, а она машет тут. Пойду я, сеструхи по шее надают, коль к ужину опоздаю, да и мамка врежет. Ты со мной? Иль жильца с зазнобой подождешь?
Аленка села на песке, посмотрела на подружку, и впервые в жизни ее широкое лицо с прозрачными щелками глаз показалось чужим и противным. Она отрицательно помотала головой потом кивнула, и, увидев, что Лушка ничего не поняла, сказала, шепотом, почему-то.
– Побуду. Вон погода какая, а батяня еще не скоро будет, он в город подался за зерном. Да и светло еще, какой ужин. Иди.
Лушка поднялась, постояла, потом развернулась и пошла, раскачиваясь, как утка, мотаясь из стороны в сторону толстой попой. И вот уже скрылась за прибрежными ивами, побежала по тропке в горку, вроде и не было ее. Аленка было прилегла снова, но песок быстро остывал, солнышко, торопясь скрыться за деревьями, как будто уводило летнее тепло с собой, еще чуть грело, но неспешно, стеснительно. Аленка вздохнула, встала, отряхнув ступни влезла в тапки, затянула потуже косицу и пошла к воде. Там, за мостиком, ведущим на ту сторону, в изгибе берега у нее было тайное местечко. Над быстриной нависал ствол старого дерева, он сиял в вечерних лучах, надраенный до блеска быстрой водой, по нему можно было забраться далеко, сесть верхом, смотреть в сверкающую глубину реки, представлять себя русалкой. Аленка так и сделала. Набрала чуть подале полузасохших цветов, мыльники еще цвели, ромашки кое-где, мальвы, быстренько сплела венок, больше похожий на мочало, распустила косицу и напялила свое творение на голову, точно как русалка. И, цепляясь руками и ногами за ствол, долезла почти до конца, села, поправила волосы и тихонько заныла песенку, которую слышала вчера – пели Лушкины сеструхи.
– Мы собирали их Олеее…
– Ох, васильки, василькиии… – Сколько вас выросло в пооооле – Помню у самой рекииии
И тут, на той стороне, в зарослях камыша мелькнуло что-то светлое. Вроде платье – длинное по пят, ажурное, красивое. Чьи-то легкие руки, белые, как будто вылепленные из снега раздвинули камыши, нежное лицо проявилось из небыли, но рассмотреть его не получилось – волны светлых волос скользнули, закрыв его полностью. Аленка вскрикнула, тряхнула от страха головой, венок съехал ей на глаза, она попыталась его скинуть, но не удержалась, вцепилась в отчаянной попытке за скользкие ветки, но озябшие пальцы разжались, и она рухнула в воду. От дикого холода у нее перехватило дыхание, она пару раз махнула ослабевшими руками, но стремнина была безжалостной. Она сковала ее, как тисками и понесла вперед, крутя легкое тело в водоворотах, как кукольное.
– Гляди, Прош, живая… Давай скорее, там в лодке тряпка какая-то была, сейчас я принесу. Три ее, растирай, она, вон, синяя. К тетке Фроське ее поволочем, она ближе всех. Да не стой ты!
Аленка плыла в чудном тумане…Он был белесым и холодным, как будто она попала в облако. В такое, как они бывают перед недалеким дождем, еще не тучи, но уже и не облака, тяжелые, плотные, серые. И было так зябко, что внутри все тряслось, ходило ходуном, но пошевелиться не получалось. Кое-как, с трудом она разлепила веки и увидела чьи-то глаза. Узкие, темные, растерянные, испуганные. Они смотрели ласково, с тревогой, и этот взгляд согревал Аленкино замерзшее нутро, как будто от них шел живой теплый ток.
Глава 5. Утопленница
– Все! Запрещаю тебе, дочка! Не пойдешь больше одна на реку, не проси даже! Ты что же удумала, бестолковая? Озорница! Ты что – папку решила одного на этом свете оставить? Вот я тебе!
Аленка забилась в угол, залезла на свою любимую лавку около печки, подобрала ноги, а хотела бы и совсем спрятаться, превратиться бы в вон в того котенка, играющего бумажкой у дверей, затаиться бы. Она никогда не видела батю таким сердитым. Мало того, что он кричал непохожим на свой голосом, стучал кулаком по старому дубовому столу, да так что подпрыгивал кувшин с водой, плеская из носика и разливая лужицы, так папка еще и шарил за собой, пытался нащупать стул, на спинку которого повесил ремень. Ремнем Аленка никогда не получала, и ей вдруг стало страшно. Папка разошелся не на шутку, так и влепит вдоль спины, мало не покажется. И Алексей увидел страх в глазах дочери, разом сдулся, без сил опустился на лавку рядом с Аленкой, странно всхлипнул, как будто захлебнулся. И у Аленки аж защипало внутри, так стало жалко батю, она прижалась к его твердому боку, обняла руку, как ствол дерева, промяукала тихонько
– Батянь… Не кричи же… Я не буду, правда. Я нечаянно.
Алексей отнял руку, сложил ладони лодочкой, провел по бордовому лицу, как будто отирая пот, и ладони и вправду стали у него мокрыми. Так посидел, потом обнял Аленку, чмокнул ее в темечко, погладил по спине
– Ничо, маленькая. Прости папку-то, испужался я до смерти. Ты б видела себя, как у тетки Фроси лежала. Синяя вся. До смерти не забуду.
Они посидели так, потом Алексей встал, накинул плащ-палатку, пошел к дверям
– В колхоз мне надо, Аленька. Председатель уж очень просил, в клубе сцену надо поправить, некому больше. А ты полежи еще денек, на улицу не ходи, дождь там. А я к подружке твоей заскочу, скажу пусть придет. Все не одна. Пирожков с черемухой поедите, Софья с Проклом передаст, да простокваши свежей. Пошел я.
Батя вышел, Аленка послонялась по кухне, подошла к зеркалу, задумчиво посмотрела на свое отражение. Вот ведь… Курносая да лупоглазая, веснушки еще эти! Лушка, вон, почти девушка, что спереди, что сзади, а она… В куличики только играть… Да и ладно.
И вдруг, сама от себя не ожидая, она потерла ладошкой беленую стену, и похлопала себя по лицу. А потом еще… Веснушки испугались и спрятались, но из зеркала на нее пялилась бледная, как смерть девчонка. И у этой девчонки косица, так туго заплетенная, что была похожа на жгут изогнулась чудно, и торчала из-за плеча, как будто ее подвесили на проволоке.
– Аленка! Аленк! Ты где, лягуша? Мамка тут пирогов прислала, вылазь!
Прокл стоял в дверях, перегородив своими плечищами полкухни, держал в руках узелок, и он, в принципе немаленький, казался в его лапах смешным и ненастоящим. Аленка быстро потерла рукавом лицо, повернулась и почувствовала, как краснеет – прямо, как варом плеснули.
– И что встал? Заходи, давай пирожки свои. Сейчас чаю вскипячу, Лушка придет. Будешь с нами чай пить?
Прокл лягнул ногой, как стреноженный конь, положил узелок на стол, и отскочил к дверям.
– Открой, там простокваша, как бы не пролилась. Не буду я чаю, пил уж. Да и ждут меня. Бывай, лягуха, не хворай. Ишь, конопатая.
Прокл скрылся, а у Аленке неприятно что-то завозилось в голове. И вроде, пусть бежит, на что он нужен. И вроде жалко…
Но пирожки были такими румяными и аппетитными, что Аленка не удержалась, откусила от одного, а потом и весь проглотила – он весь истекал сладостью и черемуховым ароматом, да еще и медом липовым, тетя Софья меду не жалела. Чай уже кипел, плевался на печке, Аленка расставила чашки, уселась у окошка ждать подругу. А дождь лил, как из ведра. Как будто кто разом сдернул летнюю картинку, смял ее и выбросил, а взамен развесил эту, серую, слякотную, мрачную. Улицы утонули в грязи, и девчонка, с трудом пробирающаяся среди луж чертыхалась, тянувшая за собой здоровенные боты, которые норовили соскочить и остаться в болоте, даже и не была похожа на Лушку – несчастная и промокшая. Наконец, она добралась до калитки, и уже через пару секунд копошилась в сенях.
– Тьху на тебя, Ален. Знала бы, что на улице такое, в жизни бы не пошла. Ужас.
Лушка стащила с себя промокшее пальтишко, пробежала босиком в мокрых чулках к печке, села прямо на пол, прижала ступни к печкиному нагретому бочку.
– Давай чай, утопленница. А то из-за тебя воспаление получу, вся грудь замерзла. И кофту давай свою, вишь моя промокла.
Лушка стащила промокшую одежду, бесстыдно повернулась к Аленке, и та с завистью оглядела подружку. Она прямо спереди была, как взрослая. Титьки торчали в разные стороны, беленькие, с розовыми штучками, даже смотреть было стыдно. И Аленка застыдилась, отвернулась, поволокла тяжелый чайник к столу
– И чего это я утопленница? Говоришь глупости. Я нечаянно упала.
Лушка засупонилась в Аленкину кофту, а та не сходилась, пупырилась спереди, трещала по швам. Но подружку это не смущало, она уселась за стол, отвалила себе сразу три пирога, подвинула варенье.
– Чего? Да как мамка твоя. Она ведь утопла, да прямо там где ты упала. В стремнине. Сеструхи говорят, сразу прямо на дно пошла, камнем. Это им Фроська сказала, та что на берегу.
Аленка молча смотрела на подружку. И в ее маленьком сердце загорался огненный, болючий огонек. Потому что она этого не знала… Потому что красивая и любимая женщина с фотки не должна была быть мертвой. И потому что она поняла – тогда, перед тем, как упасть, она ее видела. И, наверное, это она ее спасла…
Глава 6. Звезды-пушинки
С неба падали звезды… Они не были похожи на звезды, скорее на пушинки от одуванчиков, такие нежные и невесомые, дунь – их унесет. Но Аленка знала, что это звезды, потому что они сияли, переливались, как будто в их тоненькие лучи были вставлены бриллиантики, и это сияние отражалось в воде Карая. Струи в самом быстром месте, в той самой стремнине, которая чуть не убила Аленку срывались в бешеном темпе, сверкали, вроде их подожгли холодным серебристым огнем, и их журчание было похоже на пение. Вернее, оно так и было – струи пели. Пели на разные голоса, но этот хор сливался в одну мелодию, чистую, прекрасную, зовущую. Аленка не помнила, как она очутилась на берегу, батя ведь ей настрого запретил показываться даже на Ляпке, особенно вечером, когда темнеет. А сейчас темнеет рано – осень летит, как на парах, не успеешь пообедать, раз – и вечер. Пляж уже почти утонул в темноте, Аленка брела по холодному песку, ноги в полусапожках у нее вязли, но она не сдавалась, шаг за шагом приближалась к реке. Вот уже из темноты вынырнули прибрежные ивы, пение струй быстрого течения становилось все громче, почти оглушало, а звезды – пушинки начали тяжелеть, плотнеть, все больше серебриться, и над рекой выстроился мост из серебряных звезд, они встали коромыслом, а потом опустились ниже, первые и последние коснулись песка, и чуть качались, как будто приглашая. А с бархатного фиолетового неба посыпалась золотая крупа, Аленка даже зажмурилась, испугавшись, что крупа будет колоть ее щеки, но золотинки были мягкими, касались тихонько, оставляя золотую влагу на коже.
– Иди…Иди… Ступай на мост, он для тебя…
Вдруг, как будто неожиданно прозрев, Аленка увидела поющих. Это были вовсе не струи стремнины, как ей показалось вначале… Там, под звездным мостом, посреди самого быстрого течения откуда-то взялся островок. Он был покрыт по-весеннему яркой зеленой травой, а в траве, как горохом посыпано – столько ярких белых цветов Аленка никогда еще не видела. Хотя однажды, когда батя возил ее на лошади в Шульгу* – там на полянке, спрятавшейся среди высоких торжественных сосен цвели ромашки. Их головки были огромными, как блюдца, вот, может быть тогда Аленка и видела такую красоту. Только вот помнила она это смутно, слишком мала была, а еще ей казалось, что тогда в Шульге они с батяней были не одни. Был кто-то еще, а вот кто – она не помнила. Мелькали в памяти чьи-то ласковые серые глаза, но сразу как будто заслонка падала. Нет! Вдвоем они были. С кем же еще!
Поющие были как раз на этом островке. Их было немного, они сидели прямо на траве, расправив легкие юбки шелковых платьев вокруг себя, они чуть покачивали красивыми головками с распущенными волосами, и у каждой водопад волос сдерживал венок из этих белых цветов.
– Иди…Иди… Она ждет… Она ищет тебя…
Аленка вступила на сияющий мост. Ей было не капли не страшно, наоборот, весело и радостно. Она шла, почти не касаясь ступеней, просто перебирала сапожками, ей было легко подниматься, как будто ее соткали из воздуха. И когда она была уже на середине моста, остановилась, думая, как бы ей попасть на островок – хоть прыгай – одна из женщин встала, вышла в круг своих подруг, подняла голову и поманила Аленку к себе, подняв нежные, тонкие руки. Водопад светлых волос спадал вниз, касаясь босых ступней, полупрозрачное платье чуть развевалось по звездному ветру, а Аленка вдруг ясно и четко увидела ее лицо. Эта была женщина с батиной фотографии. Мама это была ее.
И Аленка, ничуть не сомневаясь, шагнула прямо в пустоту, но не упала, тихонько паря опустилась на островок прямо в руки матери.
– Девочка моя. Маленькая. Вот, наконец, я смогла увидеть тебя. Сколько я ждала твоего посвящения, и наконец. Река благословила нашу встречу, иди ко мне…
Аленка таяла от ласки матери, прижималась к ней всем слегка озябшим тельцем, и от мамы шло тепло. Все остальные были холодными, льдистыми, от них так и веяло холодом, а мама оказалась горячей. Она усадила Аленку рядом с собой на траву, тихонько шептала ласковые слова, гладила, касалась теплыми губами лба.
– У нас мало времени, заинька. Но ты послушай. Тебе трудно будет, обидно, солнышко мое, а ты терпи. Батиному счастью не противься, мачеху прими, она хорошая, правильная. Для тебя жить будет, сынок-то ее скоро упорхнет от матери, а ты ей дочкой станешь.
Аленка чуть отстранилась от матери, слова про то, что Прокл упорхнет ее почему-то больно укололи, неприятно, как будто иголкой
– Почему упорхнет? Он что – грач? Куда это?
Мама улыбнулась, щелкнула Аленку по носу невесомым шелковистым пальчиком, а потом погрозила.
– Ай-яй. Глупенькая ты еще, малышка больших судить. Не спеши, девочка, не торопи судьбу. Кого надо – отпусти, кого надо – прими… Жизнь она большая, сто раз в разную воду войдешь, сто раз из другой воды выйдешь. Но счастливой будешь, мать-река благословила тебя. Только не спеши.
Аленка снова прижалась к матери, ей вдруг захотелось просто уснуть, а проснуться уже дома. Только чтобы мама тоже была с ней, возилась по утру у печки, и в доме пахло блинчиками с творогом и кашей с вареньем. Откуда-то она помнила этот запах.
– Все детка… Мне пора. Держи. Это охранит тебя от беды, даст силы и мудрость.
Мама опустила руку в темную воду и вытащила тоненькую зеленую ленточку, похожую на стебель тонкой водоросли. И на ленточке слегка переливался в лучах луны серебристый цветок. Лилия водная. Только маленькая, с полноготка. Мама надела ленточку Аленке на шею, поправила слегка, встала. И пошла прямо в воду, увлекая за собой своих подруг.
– Мама. Мама, не уходи! Мама! Я с тобой!
Аленка заметалась, забилась в откуда-то взявшейся тяжелой, плотной жаре, и чьи-то руки ласково прижали ее, стараясь успокоить.
– Ну-ну, малышка. Сейчас узварчику* налью, кисленького. Со смородинкой красной, целебная она. Слава Богу, жар поутих, на поправку пойдешь, девочка. Сейчас…
Аленка с трудом разлепила глаза. У печки, спиной к ее кровати что-то делала у стола Софья. И когда она повернулась, держа в руках стакан чем-то розовым, в ее глазах плескалась жалость пополам с нежностью.
Шульга – огромный сосновый бор на берегах Карая
Узвар (взвар) компот из сушеных фруктов, в который добав
ляли и свежие ягоды (или варенье)
Глава 7. Новость
– Видишь, лягуша, дела какие. Кто б подумал, сам не ожидал. Ты только не ершись, колючки спрячь, не наше дело их судить. Наше понять. Как думаешь?
Аленка стояла спиной к гудящему шмелем Проклу и затылком чувствовала, что он не знает как себя вести. Топчется на месте, мнется, перебирает край выпущенной поверх штанов рубахи, краснеет. Она бы и сама краснела, было от чего, но ее спасала крошечная лилия, надетая под платье. Она грела ее сердце, подсказывала правильный путь, не давала поступать плохо, хранила. Вот и сейчас. Известие о том, что батя решил взять Софью в жены, наверное, превратило бы Аленку в злобную фурию, но теплый металл разливал по телу нежное тепло, касался ласково, как материнские руки, гасил обиду. Она еще раз коснулась пальцами лепестков, повернулась к Проклу, хмыкнула.
– Вот еще! И кто тебе сказал, что я ершусь? Сам ерш! Что ты набычился там сзади, выходи к столу, там чайник и ватрушка. Я батяне пекла, бери кусок, ешь.
Прокл еще потоптался у порога, вздохнул, прошел к столу, уселся прямо в тулупе, покомкал в руках шапку, аккуратно положил ее рядом на табурет. Аленка шипанула, стараясь сдержать смех, отрезала кусок ватрушки, ляпнула на тарелку, двинула по столу.
– И тулуп сними, ты бы еще в валенках сел. Медведище. Лягушкой меня хватит называть, надоело. Ишь, прилепил имечко.
Прокл стащил тулуп, поиграл мышцами крутых плеч, расправляя затекшую спину, смущенно взял ватрушку, кусанул. Аленка налила ему чаю, уселась рядом.
– Так мы с тобой теперь брат с сестрой будем, так что ли? Ты меня и в школу поведешь, ага? Мне скоро, с декабря, я пропустила же, болела.
Прокл доел ватрушку, разом махнул остывший чай, мотнул круглой большой головой, постриженной почти наголо, и Аленке показалось что оттопыренные уши хлопнули, тоже соглашаясь.
– И мамка сказала, что я тебя провожать буду пока. А то ты слабая, вон, качаешься, как былинка. Мы тебя с Машкой водить будем, как раз вместе ходим. Пойдет?
Аленка сморщилась от имени этой Машки поганой, как от кислого, но делать нечего, кивнула.
– Ага. Иди уж. Только помни ходить с тобой буду до весны. А там сама.
Прокл встал, напялил тулуп, крякнул, точно, как бятя, снова махнул ушами.
– Так я, лягуш, до весны и учусь. Да и то, потому что пропустил два года, не было у нас в селе школы. А там пойду в колхоз, работать надо. Пошел я, пора.
Прокл плотно притворил за собой дверь, а Аленка, спрятавшись за занавеску, смотрела втихаря, как он меряет своими ступнями – лыжами тропинку, вдавливая только выпавший снег в замерзшую землю. И когда из-за толстого ствола старой березы, нависшей над домом баб Клавы-ведьмы, выскочила Машка, сплюнула от досады, потерла тапком невидимое мокрое пятнышко на полу, и еще плотнее закуталась в занавеску. А Машка, сияя румяной физиономией, такой красной, как будто ее натерли свеклой. явно бахвалясь новеньким пальтишком, отороченным светло серым мехом, подскочила к Проклу, церемонно ухватила его пальчиками за рукав и пошла рядом, еле касаясь тугими сапожками снега.
…
– Ты как, Аленушка? Смотрю, хозяйничала, пирогов напекла? Кормила кого, признавайся, озорница?
Батя стаскивал в сенях телогрейку, заглядывал в кухню, шутил, покручивая пышный ус. Но Аленка видела, что ему не по себе. Заискивал, батя, засматривал тихонько ей в глаза, и тут же опускал ресницы, а они у него были, как у девчонки – длинные да пушистые. Наконец, он вошел в кухню, присел за стол, подождал, пока дочка нальет ему борща, отрезал краюху от буханки.
– Кормила, бать. Братика своего будущего. Приходил.
Аленка положила отцу ложку, чесночину почистила да луковку, тоже села рядом. Алексей совсем опустил свои речницы, сунул в рогт ложку борща, обжегся, закашлялся. Аленка постучала отца по спине, сунула ему полотенце, сказала
– Да ладно, бать. Знаю я уже все про теть Софью. Только мог бы и сам мне сказать, а не этого медведя слать. Что уж…
Аленка отошла к печке, постояла, ковыряя известку, чувствуя, как закипают слезы, но не дала им выступить, погладила цветочек на шее, шепнула.
– А когда, бать? До Рождества?
Алексей притянул дочку к себе, погладил по голове, расправил косицу.
– После, Аленушка. К февралю. А то потом страда пойдет, не до того будет. Да мы и праздновать не хотели, а председатель стыдит, говорит не по-людски. Что скажешь, доча?
Аленка молча посмотрела на потное батино лицо, помолчала. А потом старательно уложила ему на тарелку горку тушеной картошки, соленый огурец, вздохнула.
– Так ничего. Тетя Софья хорошая, да и мама велела. Женись.
И вздрогнула, потому что от этих ее слов батя съежился, как будто его ударили, подвинул картошку, молча ел, низко опустив голову.
…
– Аленка, дома, коза? Зайду!
Аленка быстренько сгребла со стола рисунки, не любила она, когда чужие в ее картинки носы совали, кинула поверх салфетку, вскочила навстречу. В кухню, закрыв толстым телом весь проем, лезла бабка Клава, та самая, соседка, которую все село считало ведьмой. Она и вправду была чудной. Из дома выходила редко, к себе никого не пускала, носила длинные черные юбки, из под которых и зимой и летом торчали носки блестящих калош, цветастые платки, и за ней всегда шел толстый черный кот, ходил, как привязанный. Вот и сейчас, он шнырнул из сеней, и Аленке показалось, что с ними в дом влетела вьюга, шумнула снеговым вихрем и притаилась у окна, испугавшись горячей печки.
Глава 8. Страшный кот
– Ты, давай, не стой телкой бестолковой, молока неси да пряника. Мачеха твоя обещала, а, вишь, наврала.
Бабка Клава лезла в кухню, как в берлогу, вместе с ее тучным телом в дом проник странный запах – то ли болота, то ли протухшей каши, не поймешь. Аленка сморщилась было, но вовремя опомнилась, бабка эта все понимала сходу, ее не провести было никогда и никому. Заметая подолом еле заметные мусоринки (Аленка не успела сегодня подмести, замоталась) она прошла к столу, двинула в сторону табурет, и уселась на крепкий стул, тот, что батя делал сам. Запах сначала сгустился, но потом как будто рассеялся, изменился, и в воздухе повеяло речными цветами, то ли лилиями, то ли кубышками.
– Грязищу развела, даром матери нет. Не метено. Да ладно, я тебе не указчица, большая девка-то уже. Молоко давай.
Аленка справилась со ступором, пошла к печи, достала оттуда крынку с молоком, которую принес батя от Софьи, плеснула в кружку, с сожалением заглянула внутрь. Теперь бате простокваши мало будет, а он ее уважает с хлебушком, особенно на ужин. Бабка хмыкнула, отняла у Аленки кружку, махнула разом.
– Ладно, пряник себе оставь, не голодная я. Мать-то где?
Аленка поежилась, как будто старуха коснулась ее голой шеи холодными пальцами, пожала плечами, не зная что ответить.
– Что жмешься-то. Конечно, мать, уж через месяцок окрутятся. Тебе и неплохо, все баба в дому. Бабу, подь ко мне, не таращься с сеней, холод в дом ползет. Дай коту молока, не жмись.
Аленка вздрогнула, поняв, что старуха обращается к ней, но безропотно снова достала крынку, блюдце, налила молока, опасливо подвинула его к коту, отдернула руку. Уж больно страшна морда была у этой сатаны, глаза ярко желтые, светящиеся, длинные белые усы, выделяющиеся толстыми проволоками на черной шерсти и торчащие зубы, которые не помещались в пасти, выглядывая наружу. Кот плавно, как тать, подобрался к блюдцу, муркнул, и через мгновение молока не осталось ни капли. Старуха удовлетворенно кивнула, щелкнула странно костлявыми при такой толщине тулова пальцами, и Бабу неуловимым движением взлетел ей на колени, умостился, прикрыл глаза, и Аленке показалось, что его больше нет – исчез, растворился. Бабка поводила ладонью по коленям, где только что сидел кот, медленно пропела.
– Я чего. Софка обещала мне кружев дать, вроде у нее лишние. А мне на воротник надо. Ты ей скажи, что бабка Клава приходила, пусть сама принесет. Да и должница она моя, знает за что. Скажи уж.
Бабка встала, поправила платок, сбившийся назад, и черные пряди, на удивление густые и блестящие, почти как шерсть Бабу, сверкнули вороньими перьями в свете ламп, развернулась, как царица, поплыла к дверям. Бабу тоже откуда-то взялся, скользнул змейкой в сени, раз и нет его. Аленка как стояла у печи, так и не двинулась, вроде ее околдовали. Старуха остановилась, повернулась, махнула рукой, и у Аленки отмякли руки-ноги, да так неожиданно, что она чуть не плюхнулась на лавку.
– А ты вот что, девка! С братцем названным осторожней, мала еще. Время настанет, наверстаешь. А пока нишкни, в школе вон учись. Егоза.
Бабка вышла, через минуту ее огромное тело проплыло в окне, кот бежал следом, и черный хвост струился за ним, теряясь в в совсем озверевшей пурге…
…
– Ох ты ж, бедненькая. Сиротинушка горькая, без мамки рОдной несладко ведь. А тут еще мачеха! Иди, Ленушка, конфетку дам.
Аленка стащила ведерко со скамеечки, плеснув водой на снег, глянула исподлобья, дернула упрямо подбородком, сделала шаг назад. Уж больно не нравилась ей эта тетка, противная, слащавая, после нее всегда хотелось попить воды, как будто переела варенья. “Ты меня Милой зови, какая я тебе тетя! Что ты как маленькая”, – так недавно отчитала ее тетя Мила в клубе, прямо при всех, когда продавала билетики в кино, она кассиром там работала. А какая она Мила… Пухлая, с двойным подбородком, мягкими подушками под вечно мятой блузкой с мокрыми кругами под мышками, с ярко и неровно накрашенным ртом и жирными черными ресницами, с которых свисали комья краски. Машка была похожа на мать, а может быть они были с ней бы на одно лицо, была бы тетя Мила помоложе. Да и батя говорил, что она вовсе не Мила… Меланья… Поновее имечко придумала, всех и заставляет ее так называть. Аленка подняла ведро, буркнула, выкручивая плечо из цепких пальцев.
– Не хочу я конфет. Не люблю. Пусти, теть Мила, меня батя ждет. Ему чаю надо.
Но тетка не унималась, лезла прямо в лицо, пищала громко.
– И мачеха-то нечестная. Наколдовали они с ведьмой этой старой, приворотили. Добра не будет так, как бы и ты не пострадала, птичка. Страдалица!
Аленка все-таки выкрутилась, побежала по скользкой дорожке, расплескивая воду. И она, наверное, не донесла бы ее даже на чай, но от палисадника соседкиного дома отделилась мощная фигура, одним шажком настигла Аленку, и медведь-Прокл отнял ведерко.
– Летишь, как воробей. А еще лягуша. Так бате и чаю не вскипятим, воды вон на дне. Пошли, доведу.
И Аленка вдруг почувствовала, как теплое солнышко пригрело ее, откуда ни возьмись. Вроде весна настала на секундочку, разогнала февральские тяжелые облака, растопила лед. Она отдала ведерко, послушно побрела за будущим сводным братцем. А из окна из дома внимательно и въедливо за ними следили чернущие глаза. Красивые, ласковые и… чужие…
Глава 9. Перед свадьбой
Река гудела…Обычно смирная, показывающая свой скрытый неуемный нрав лишь изредка, лишь там, где стремнины вдруг срывались с узды на поворотах и рвали донную траву, пуская ее обрывки лететь по темным глубинным потокам, а потом снова утихающая стыдливо, покорно стелющаяся тихими водами на песчаных отлогах под вековыми ивами, сегодня она сбесилась. И рано ведь так, еще пару дней назад февраль крутил мокрым, волглым снегом, ляпал ошметками на тропинки, ложился влажным покрывалом на скамьи, швырял вымокшим снеговым тряпьем в окна, но вдруг сдался, сдулся, утащил тяжелые тучи за дальний лес, и победное, как стяг, солнце встало над селом, расстреляло залпами сверкающих лучей последние зимние отряды, и… взорвало лед. Карай встал на дыбы, взревел, как вырвавшийся из стойла конь, поднял упругим крупом сковывающие мощное тело льды, и понесся в поля, ныряя в овраги и логи, устраивая там страшную круговерть серой, бунтующей воды.
Аленка любила это время и немного боялась его. С того случая, когда она чуть не утонула в непредсказуемых водах Карая, она сторожилась реки, опасалась немного, хотя любила по-прежнему. Тянула она ее к себе, притягивала. Лаской прибрежных струй, нежностью теплого песка, тайной стремительных потоков стремнин, ароматом желтых кубышек, загадкой фарфоровых лепестков лилий, тихим шепотом ивовых ветвей. А еще тем, что где-то там, в синей толще воды пряталась мама… Пряталась, таилась, но наблюдала за Аленкой, следила за каждым ее шагом, поддерживала, не давала упасть. Аленка чувствовала это. Она знала, что мама рядом. Всегда рядом!
Вот и сегодня она пришла к реке, к маме. Уже утих первый бешеный взрыв несвоевременного разлива, подморозило, Карай успокоился, задремал как будто, утих, смирился. Края разлившейся до самых огородов пены превратились в ажурное ледяное кружево, оно похрустывало под маленькими Аленкиными галошками, и становилось не страшно, как будто сказочно. Уже темнело, за рекой разливался оранжевый закат, он красил темные верхушки кленов и черемух в алый и бордовый, и казалось что кто-то поливает лес кровью. Но все равно было не страшно, далекие уханья филинов и зовущие голоса каких-то зверей делали мир живым и обитаемым, хотелось тихонько идти через мосток, слиться в этим сказочным миром, стать ему своей. Аленка прислонилась к теплому, нагретому за этот чудной февральский день стволу ивы, прижалась к нему всем телом, замерла, слушая. “Уггууу, ыыыы, ией-ю, фух, Угууу” – лес разговаривал с ней на своем языке, Карай отвечал журчанием и полными усталости вздохами. Плотно закрыв глаза, Аленка, как будто задремала, звуки приблизились, стали громкими, чуть тревожными. А потом вдруг стихли и тишина зазвенела тоненько, обморочно.
– Пришла, девочка… Я знала, что ты придешь. Ждала уж…
Аленка почувствовала тепло на своей застывшей руке, рука мигом согрелась, как будто она натянула варежку, ту самую, что забыла дома. А потом тепло стало еще жарче, Аленка открыла глаза, повернула руку ладошкой вверх, согнула пальцы, как будто боялась упустить этот жар, и увидела маму. Мама сегодня была еще прекраснее. Ее распущенные до пояса светлые волосы светились в закате золотом, венок из кубышек тоже казался золотым, и это теплое сияние удивительно красило ее, делало юной и нежной.
– Мама. Я хочу уйти с тобой. Завтра свадьба!
Мама чуть усмехнулась, обняла Аленку, притянула ее к себе, и они вместе опустились прямо на снег. Но снега не было. Они сидели на полянке, сзаросшей цветами, пахло летними травами и немного сеном, а еще, почему-то черемухой.
– Нет, Ленушка. Это не твоя пора. Ты все время бежишь, торопишь время. Торопыга.
Аленка положила голову маме на колени, жмурилась от удовольствия, замирала от ласки теплых пальцев, перебирающих пряди ее волос.
– У тебя, Ленушка, волосы мои. И глаза… Ты очень похожа на маму, вот только ты счастливой будешь, не то что я. Я знаю. А свадьба…
Она помолчала, собрала Аленкины волосы, заново заплела их в косу, коснулась губами темечка.
– Свадьба, это хорошо. Не так трудно папе будет, полегче тебе. Она хоть и наделала дел, но вам верной будет, женой хорошей, тебе матерью доброй. Ты не торопись.
Аленка молчала и слушала. У нее уже не болело так в груди при мысли о Софье. Она смирилась. Ей стало тепло и радостно. И она…уснула…
…
– Господи, дочка! Да что ж ты делаешь со мною, девчонка ты злая. Я ж чуть не помер, все село обежал, как пес. Ремнем бы тебя, бессовестная! Хорошо баба Клава подмогнула, навела. А то б не нашел.
Из радостного и теплого сна Аленку выдернул испуганный батин голос. Он тормошил ее, тер щеки, кутал в свой полушубок, причитал, как тетка Мила. И голос у него был тоненький, жалобный и срывающийся.
…
А зима снова вернулась в село. Утро даже и не было утром – свинцовое небо опустилось на крыши, с серых туч срывались заряды снега, и только прижавшись носом к стеклу можно было увидеть, как бело стало вокруг. Аленка, сев на кровати, натянула одеяло по самые уши, казалось, что метель ворвалась прямо в дом и шурует в кухне, гремит кастрюлями. Батя нервно теребил что-то на шее, и Аленка, присмотревшись, поняла – он пытается завязать галстук на белоснежной рубашке.
– Вот ведь черт! Говорила Соня, что б я узел не развязывал, хорошо же она наладила. А я, дурак! Аленк! Что делать -то?
Аленка хотела было подбежать к бате, попробовать хоть что-то сделать, но из кухни пулей вылетела тетка Мила, потыкала пухлыми колбасками пальцев у бати под подбородком, хыхыкнула.
– Ну вот! Как новенький! Спиджак помочь надеть, женишок? Давай, быстрее, а то у меня тесто поперло, сбежит. Ишь, красавец!
Батя смущенно оттопырил руки назад, тетка напялила на него пиджак, и так же мухой улетела в кухню. Правда, на пороге остановилась, крикнула в сторону Аленки
– Вставай, копуха! Там братан твой с моей Машкой уж упыхались, стол накрываючи. Помогай иди. Некогда вылеживать.
Тетка скрылась в кухне, батя, кхекнув, убежал следом, а Аленка вдруг подумала… Первый раз за всю жизнь он не обратил на нее внимания. Совсем. Никакого… Она встала, потянула платье, которое ей вчера принесла Софья, и, надев его кое-как, встала перед зеркалом. А там отражалась глупая растерянная девчонка со всколоченными волосами, в зеленом платье с растопыренными оборками, жалкая и одинокая. И у нее на тоненькой шейке чуть светился крошечный кулон – речной цветок маленький и скромный.
Глава 10. Повозки
– Вот ведь ерпыль*, все не как люди, посреди зимы ожениться решил. Холодрюга, кони стынут, куда там. А ты, свербигузка*, что растопырилась-то. Надевай пальту, да иди конфет на телеги накидай, чем шашу* вершить будут, олухи, ничего не помнят-не знают.
Бабка Динара пихала Аленку в бок сушеной лапкой, похожей на куриную, да больно пихала, сильно. Одной рукой толкала, другой совала ей здоровенный кулек из грубой коричневой бумаги, из которого торчали хвостики разноцветных фантиков. Сколько ей лет, какого она роду-племени толком никто и не знал в селе, говорили, вроде казашка, судачили, что ей сто лет уж, и даже больше перевалило, но старуха была бодра, весела, и совала свой короткий нос-картошку везде, все знала, во всем разбиралась. Почти спрятавшийся в складках задубело-смуглого лица рот улыбался, но в узких, черных, как ночь глазах улыбки не было, правда, может быть ее было не видно из под огромных, толстых очков. Как она попала к ним в дом именно сегодня – неизвестно, хотя не попасть куда-нибудь, а особо на свадебку бабка просто не могла, она находилась везде одновременно. Аленка нехотя взяла у старухи кулек, положила его на лавку, потянула к себе пальто
– БабДин, мне тетя Мила велела к Проклу идти, там им помочь надо. Куда я на улицу – то?
Бабка подпрыгнула, как вспугнутая наседка, да и глянула так же – остро, настырно, немного зло
– К Проклу? Ишь ты, зернышко. Не проклюнулось еще, а уж росточки тянешь. Бери кулек, беги к телеге, да и еще вернись. Три кулька тут, везде распихать надо. Да платок повяжи!
Аленка послушалась, натянула пальто, поплотнее повязала платок и потащила тяжеленный кулек на улицу. Но когда пробегала мимо зала, заглянула. Длиннющий стол, накрытый вышитыми скатертями тянулся от стены к стене, казалось нет ему ни конца ни края. И он ломился от наставленных тарелок – все стояло сплошь, впритирку, наверное между блюдами и ножа было не втиснуть. Вдоль всей этой красоты бегали бабы – но Аленка на них даже не посмотрела. Она увидела только Машку. Та, раскрасневшаяся так, что щеки отливали свекольно и блестяще, навалилась всем телом на угол стола, на котором еще ничего не успели поставить, распластала телеса по скатерти, а напротив стоял Прокл, тоже красный, как рак. Они держали за концы длинное полотенце, тянули каждый к себе, а Аннушка – одинокая вдовушка веселая и разбитная, хлопала Машку по круглому заду и кричала звонко
– Сильнее тяни! Сильнее! Что салом трясешь, большая ж девка! Мятое положили, бесстыжие, расправляйте, старайтесь. Ишь, телепни.
А когда, напрягшись так, что все ее не худенькое тело вытянулось в струнку, Машка выдернула из рук оторопевшего Прокла полотенце и полетела в сторону, как камешек из пращи, поймала ее, отобрала полотенце и что-то стала нашептывать прямо в розовое ухо. А Машка слушала, прищурив маслянистые глазки и похрюкивая.
…
На улице стояла невесть откуда взявшаяся прекрасная погода. Как всегда в феврале небо меняло свое настроение враз, неожиданно, безо всякого предупреждения. Только недавно валил снег, срывался колючий мокрый ветер, и вдруг как будто кто-то открыл заслонку. Вернее, распахнул створки окна, сначала отдернув серые тяжелые занавески, и там, в небесном окне рвануло яркой голубизной, ослепив, и даже, почему-то, оглушив. Аленка даже остановилась на крыльце, у нее заслезились глаза от этого белоснежного снизу и голубого сверху, она глотнула воздух, пахнущий лимонадом – точно таким, как батяня привозил из Мучкапа, и на мгновение даже забыла, куда бежала. Но дурацкий кулек тянул ей руки, она поудобнее перехватила ношу, скатилась с крыльца и побежала к лошадям. А там…
Такой красоты она даже не ожидала. Три повозки, не телеги, а именно повозки, укрытые яркими коврами, украшенные красными бумажными пионами и георгинами, стояли у дома. В них запрягли белых лошадей в расшитым попонах, и у каждой на голове красовался венок из шелковых ромашек и ландышей. Аленка постояла, раскрыв рот, потом подергала за штанину какого-то мужика, стоящего в повозке к ней спиной. Мужик обернулся, сверкнув белоснежной улыбкой и Аленка узнала Санко – соседа цыгана, веселого раздолбая и гитариста.
– Чего тебе, кагнори́? Вишь, народ работает?
Санко отнял у Аленки кулек, потом наклонился и втянул ее в повозку, как будто она и вправду была цыпленком маленьким и невесомым. Усадил на скамью, сыпанул конфеты в разрисованную красками коробку, свистнул углом рта – звонко, аж уши заложило
– Эй, Джура! Запрятался там, стервец, греешься? Иди, кульки девчонкины притащи, а не то ее бабка загоняет конфетами этими. А птичку эту – вон, как ниточку перервать можно.
Аленка радостно вертела головой по сторонам, и даже не заметила, как рядом очутился смуглый лохматый паренек. Он зыркал на нее исподлобья, как соседский козлик, и, если бы не веселая ухмылка, которую он сдерживал, Аленка бы подумала, что он сердится. Паренек сдвинул чудную высокую шапку на затылок, поправил мохнатую безрукавку и сиганул через край, мягко опустился на снег и рванул к дому.
– Сатаненок. Мамки нет, так он и балуется… Хоть вожжами дери.
Санко говорил куда-то в сторону, туда, где мужики обихаживали соседнюю повозку, но Аленка слышала и представляла, как этого чудного Джуру лупанули вожжами вдоль спины, а он взвизгнул, вскочил на коня и умчался прочь.
…
– Давай, дочушка, со мной садись, ехать пора. А то опоздаем же, нехорошо.
Батя ледяными руками вцепился в Аленкины кисти, тянул ее к себе, усаживая рядом, и Аленка видела, как он боится. Бледный, как стена, в новой меховой шапке, которая ему совсем не шла, и в какой он был похож на соседского Полкана, в тесноватом пальто с мохнатым воротником, он казался чужим и далеким. В руках у него был сверток, блестящая бумага сверкала в лучах по весеннему теплого солнца, он ерзал на сиденье, глядя в сторону. Тетка Мила подпирала его с другой стороны, напротив сидел прямой, как палка Прокл, а рядом с ним Машка в новой шубейке и белом платке в незабудки. Она облизывала такой масляный рот, как будто только что наелась сала, от нее пахло чесноком, капустой и сиренью. Батяня сунул сверток Аленке, поправил шапку, засипел, как простуженный.
– Меланья! Что там за выкуп еще, сваха говорила? Может хватит в игрушки -то играть, не девица Софья-то, куда нам. И чего мы по кругу поехали, нельзя было через двор что ли пойти?
Тетка Мила сморщилась, как от зубной боли, прошипела тоненько
– Не положено. Все будет как надо. Сиди и не трепыхайсь.. И не Меланья я. Мила, сколько раз говорить?
– ерпыль – торопыга
– свербигузка – непоседливая девчонка
–кагнори – цыпленок
–шиша – казахский праздничный обряд, когда кидают в толпу монеты, конфеты, пряники. Очень распространён был и в сёлах по берегам Карая
Глава 11. Выкуп
Повозка, в которой сидел жених браво пронеслась по узкой прибрежной улочке, пролетела мимо старой черемухи, наклонившейся над самым склоном, вырулила, чуть не свернув к берегу, но кучер вовремя опомнился, натянул вожжи, и притормозил у небольшого домика, в палисаднике которого росли три вишни. В этом доме жила тетя Аня, батина сестра, он был точно напротив их, соединялся задами огородов, и по тропке, ведущей вдоль “картох” Аленка всегда бегала на пляж купаться. Пробежит свой двор, потом по огороду, нырнет в теткин Аннин малинник, потом по саду – вот и ее дворик, маленький, уютный, заросший розами и флоксами, со смешной будкой Полкана, на которую кто-то прилепил флюгер. А там и калитка, толкнешь ее и несись, сломя голову, по небольшому склону к реке, скидывая по дороге опостылевшие сандалии, куная усталые ноги сначала в прогретую пыль дороги, а потом в горячий песок. А потом падай прямо в студеную воду, замирая от сладкого ужаса – вода в Карае никогда особым теплом не баловала, быстрая, чистая, в любую жару обдавала прохладой. Но сейчас до лета было далеко, двор замело февральским снегом до низких окошек дома, но тропинка была прочищена. А как же… Жених к невесте приехал, не из бани же ее забирать. Аленка не стала дожидаться. пока батя вылезет, как медведь со своей лавки, бесстрашно сиганула в протянутые руки Прокла, глянула мельком, как он тащит вниз Машку и побежала во двор.
В распахнутой, украшенной гирляндами белых сатиновых ромашек и шелковых роз (тетка Анна была мастерица искусственные цветы делать, все село ей заказывало и на свадьбу, и на крестины, и на похороны), перегородив проход тучным телом стояла баба Клава. Вокруг нее, как оса вокруг куска мяса вилась Любка, на лавке у палисадника, взобравшись на нее с ногами подпрыгивала Лушка, а у стола, выставленного прямо на улицу, накрытого белой скатертью топталась Катерина. Впрочем уже пол села толпилось вокруг, всем хотелось посмотреть, как чудаковатый вдовец Алешка будет невесту немолодую выкупать.
Аленка подбежала к лавке, стянула Лушку вниз, шепнула на ухо.
– Что будет- то? Батя, вон, белый со страху, места себе не находит. А там что?
Лушка покачала круглой головой, пискнула.
– Дурочка ты, Аленк. Все ж знают. Невесту выкупить надо, денежки за нее отдать. Коль денег хватит – ее в жениху выведут, ему чарку нальют и хлеб дадут. А коль нет – погонят метлою. Гляди!
Она отдернула Аленку в сторону, потому что батя шел по расчищенной дорожке прямо к столу. А из толпы выскочил его друг дядька Петр – длинный, как жердь, сутулый, но с лицом, как у артиста из газеты, в модном пальто с воротником и блестящих ботинках. Он ухватил батю за локоть, остановил, а сам гоголем пошел вперед, напирая на Катерину мощной грудью.
– Ну… Сколько хочешь, девка? Цену-то не ломи, женишок у нас не из царев!
Катерина хихикнула, подтерла мокрый рот варежкой, и от нее пахнуло водкой и колбасой.
– Много не мало, а невеста у нас пион алый, роза розовая, ромашка белоснежная, такой красоты твой женишок и не видывал. Давай. Не скупись, Петруша.
Что было дальше Аленка не видела. Во-первых стол загородили спинами, а во-вторых чья-то цепкая рука ухватила ее за воротник и протащила сквозь толпу в палисадник.
– Ты ж моя сладкая, внучечка родная, горькая моя. Пошли в дом, что на холоду топтаться, я тебе пирожка с яичком дам. Выросла-то как.
Аленка, ошалев, смотрела на бабушку. Та теребила ее за щеки, чмокала в нос. поправляла платок, говорила быстро и звонко. Аленка бы ее и не узнала, увидев на улице, бабушка была одета по-городскому, черная блестящая шубка отливала шелком на солнце, пушистый серый шарф искрил при каждом движении ее маленькой головы, потом вдруг сполз назад, открыв гладко причесанную голову и оттопыренные уши с золотыми сережками – кольцами. Бабушка выглядела молодой, у нее были накрашены красным узкие губы, а черные глаза подведены с вискам тонкой острой линией, и от нее пахло остро и сладко.
– Пошли, пошли, горемычка моя. Я тебе там платьишко привезла, сапожки теплые. Оденем, королевна станешь.
Оттолкнув толстую Катерину бабушка протащила Аленку в дом к Анне, сняла с нее в жарко натопленных сенях платок и пальтишко, подвела к низенькому и плотному, как пень дядьке. У дядьки светилась и отливала лаково лысая голова, круглый живот с трудом держался на ярких подтяжках, а круглые без ресниц глаза напоминали глаза петуха Яшки.
– Дедушка твой новый. Михал Сергееич. Он тебе шоколаду привез, настоящего с Балашова. Давай, не дичись. А то рассердится, с собой тебя в город не возьмет.
Аленка, открыв рот, смотрела, как Михал Сергеич роется в кармане необъятных штанов, несмело взяла из его толстых потных пальцев мятую шоколадку и вопросительно глянула на бабушку. Но та уже отвлеклась, забыла про внучку, рванула вперед – из-за печки вывели невесту.
Софья была похожа на сказочную бабочку. В светло-голубом платье, сплошь расшитом кружевами, она казалась совсем юной, трогательной и пугливой. Волосы, свободно зачесанные назад и убранные в пышный узел были кое-где украшены мелкими голубыми цветочками, то ли незабудками, то ли фиалками, сережки в виде таких же цветков, только крупнее удивительно красили ее нежное смуглое лицо, вот только всю эту красоту портил взгляд. Смотрела она напряженно и странно, как будто видела что-то такое, чего Аленке было видеть не дано. Увидев девочку, она улыбнулась, пошла было навстречу, но две Лушкины сестры, которые держали ее под руки не дали двинуться, задержали.
И тут в комнату ворвался дядька Петр, у него было красная, как пасхальное яйцо физиономия, он приплясывал и кричал.
– Давайте нам бумагу, которая не писана, не читана!
Тут как-то все замолчали, затихли, сестры разом отпрянули назад напуганными лошадьми, но дядька Петр не растерялся и снова заорал.
– Ну-ко, свашенька, давай хлеб-соль!
И тут выскочила бабушка, ткнула дядьку в грудь, ухватила Софью за руку, подвела ее к совершенно уже посиневшему бате и громко, четко сказала.
– Вот, отдаю тебе эту красавицу, держи ее честно-благородно, много не спрашивай. Христос с вами!
Батя взял за руку Софью, краска разом хлынула ему в лицо и он стал бордовый и мокрый. Сестры пришли в себя засуетились, зашептали.
– На ногу, на ногу ей ступай. Что стоишь, как пень?
Батя аж всхрапнул, тихонько, носком ботинка прикоснулся с лаковой туфельке Софьи, и от волнения уронил сверток.
И в ту же секунду кто-то выстрелил на улице из чего-то громкого, потом еще и еще, а Софья покачнулась, уперлась рукой о печку и заплакала.
Глава 12. Отъезд
– Ты, детка, сегодня со мной у тети Аннушки ляжешь, папе и маме нужно одним побыть, у них праздник большой. Да и разговор у меня есть, ты девочка умная, должна понять. Надевай шубку, что я тебе привезла, сапожки, пошли.
Бабушка шептала жарко, притянув Аленку к себе, она крепко держала ее за плечи, и от ее узкого синеватого рта со стершейся помадой пахло холодцом и вином. Михал Сергеич стоял за ее спиной, как столб, только вот у столба не бывает такого пуза, да и роста чуть повыше стола. Поэтому, он был, скорее, не столб, а пень, только широкий, кряжистый, как от дуба того, что в том году в дубраве за Федоровкой молнией свалило. Он ловил каждое бабушкино слово и при этом раскрывал рот, и Аленке казалось, что он их ел – слова эти бабушкины, лопал, причмокивая и щурясь от удовольствия. Аленка выпростала плечи из цепких бабушкиных рук, отошла на шаг в сторону, буркнула.
– Никакая она мне не мама. У меня есть мама.
Она помолчала, чувствуя, как тяжелеет горло и щиплет язык и глаза, но справилась, вскинула упрямо голову, сказала тихонько.
– Была. Мама! И есть!
Пенек за спиной бабушки вдруг ожил, покрутил круглой головой, поднял руки – обрубки, тронул жену за локоть, пробасил.
– Зачем ты, кисуша? Пусть мамку помнит, а Софка ей мачехой числится. Нельзя так уж сразу. Свыкнется. Не спеши, Зинушка.
Бабушка фыркнула и вправду, как кошка, сердито глянула через плечо, но промолчала, не спорила.
– Ладно. Давай, Алена, идти надо. Молодые спать собираются.
Аленка послушно разрешила натянуть на себя что-то легкое и пушистое, сунула ноги в тепленькое нутро красивых, расшитых серебристыми узорами сапожек, позволила бабушке надеть на голову шапочку-капор с такой же, как на сапожках вышивкой, и, увидя в мутноватом зеркале нарядную девочку в красивой одежде вдруг почувствовала странное и сладкое удовольствие, как будто проглотила ложку любимого гречишного меда. Бабушка не стала ее торопить, встала позади, смотрела тоже в зеркало, а потом вытащила Аленкину косицу, перекинула ее вперед, так, что она утонула в густом мехе беленькой шубки.
– Красотка. Маленькая куколка. А то все в валенках да пальто старом. Пошли!
Аленка павой поплыла вперед, и, проходя мимо Машки, которая уже ошалела от кокетства с Проклом и швыряла осоловевшим взглядом туда-сюда, не попадая в цель, остановилась, выпятила бочок, поправила край капора. Машка остановила на ней свои лупалки, потом опустила их вниз и замерла, разглядывая диковинные девчонкины сапоги. А Аленка подплыла к Проклу, потянула его за рукав, заставив наклониться.
– Проводи нас по огороду. Бабушка не знает дороги, а я боюсь, темно.
Прокл усмехнулся, поправил бантик на Аленкином капоре, сказал ласково.
– Ишь, Лягуша-хитруша. Небось, конфет со стола натаскала, вот и тяжело сумку тащить. Ну, пошли, провожу уж. Мне все равно до дому идти, да и Машке пора.
Машка подскочила, сунула ноги в валенки, радостно похлопала своими коровьими ресницами, запищала, как удавленная мышь.
– Сейчас, Проша. Только мамке скажу.
А Аленка подумала – хорошо бы взять вот ту чашку с вишневым киселем, да влепить поганой Машке по хихикающей физиономии. Может быть, тогда бы она не таскалась за Проклом, как тележка за вагоном.
…
– Ты, деточка, в Балашове будешь в хорошей школе учиться, не то что в этой деревне. Музыкам тебя обучим, художествам всяким. Дедушка везде друзей имеет, лучшие учителя у тебя будут. А папа к тебе в гости приезжать станет, каждую неделю, он обещал. Ты же умница, не упрямица? Понимаешь, что папе надо новую жизнь начинать, а с тобой трудно. А, красоточка?
Аленка лежала, утопая в душной перине, и ей казалось, что она качается на волнах. Бабушкин голос раздавался далеко, был незнакомым и чужим, маленькая комнатка в доме тети Анны вдруг сузилась до размеров собачьей будки, а в крошечное окно светила луна, похожая на перламутровую пуговицу. Аленка вообще не понимала, что говорит бабушка, почему так некрасиво раздвигаются ее тонкие губы, показывая желтоватые острия редких зубов. Каким музыкам? Художествам еще… Завтра братик Прокл отведет ее в школу, у нее там Лушка, Ксения Иванна – зачем ей какие-то другие учителя. А луна качала своей головой-бусиной, как будто укоряла Аленку за что-то…
…
Чемодан был таким огромным, что Аленка вполне могла бы спрятаться за ним, и даже не очень приседать, так – чуть наклонить голову. Мачеха, наверное, сложила туда все Аленкины пожитки, до последнего пупса – того самого, любимого, с облупленной лысой головой. Прокл, крякнув, приподнял чемодан, покачал головой, но видно было, что этому медведю такая ноша по плечу.
– Давай тебя, Лягуша, туда сунем, как раз поместишься. А я попру заодно уж, чего ногами зря грязь месить. Вон, до вокзала не дойдешь, грязину развезло по уши. Залезешь?
Аленка дула губы. Ей совсем не хотелось в этот проклятый Балашов, к этой чужой бабушке и пню – новому деду. Но мысль о том, что она поедет с Проклом, да на поезде, согревала ее душу и примиряла с отъездом. Вот только батю было жалко – как он теперь с этой “жаной”, как называла Софью толстая Катерина. Аленка подошла к бате, растерянно стоявшем на крыльце, успокаивающе погладила его по руке.
– Не грусти, бать. Скоро уж каникулы, а на каникулах баба Зина обещала меня домой отпустить. Полтора месяца всего. Сорок пять дней, Ксения Иванна сказала. Потерпи.
Алексей растерянно гладил Аленку по голове, бубнил в сторону Прокла.
– За руку ее держи, не отпускай. Да в поезде около себя только. Ишь ты – провожатый… Сеструха она тебе, теперь, помни. Братец…
…
Всю недалекую дорогу Аленка проспала, прижавшись щекой к твердому плечу Прокла. Тот боялся пошевелиться, сидел, выпрямив спину, смотрел перед собой, изредка скашивая взгляд в мутноватое окно. И лишь когда замелькали высокие окна серого здания, украшенного редкими шпилями и какими-то полосатыми штучками, он аккуратно двинул плечом, потеребил Аленку, зажужжал шмелем.
– Приехали, Лягуша. Вокзал уж. Давай-ка, побежали, а то так и укатим в Камышин.
И Аленка, нехотя отрывая разгоревшуюся щеку от уютного Проклового плеча, пробомотала.
– А от тебя табачищем несет. Уж я бате скажу…
А сама втягивала носом воздух – пряный, резкий, приправленный табаком, дегтем от Прокловых сапог и чем-то еще… То ли начинающей оттаивать землей, то ли черной гадостью, выступающей на шпалах от тепла и солнца…
Глава 13. Упрямая коза
– Опять с уроков сбежала, Алена! И опять на набережную тебя носило? Нет, это просто нет сил моих никаких с этой девицей. Хоть в деревню отправляй. Измучила!
Бабушка с силой дергала Аленку за волосы. Через полчаса должен был приехать дедов шофер Гринька – веселый парень с такой кучерявой головой, что кепка тонула в этих зарослях, теряясь полностью, и только ломаный козырек торчал вперед, неловко подпрыгивая на ухабах. Гриньку Михал Сергеич забрал из их села, “облагодетельствовал” , как говорила бабушка, но за эти пять лет парень так и не привык к городу, при малейшей возможности сбегал домой, зато когда возвращался – был полон деревенскими новостями, как осенняя корзинка грибами. Аленка обожала его приезды и его рассказы – за все время она ни разу не была дома, не получалось, да и ее особо и не звали. Батя сначала приезжал часто, потом реже, а в последний год и совсем ни разу – Софья родила ему дочь, и новая жизнь закрутила его колесом. И Гринька своими смешными и добрыми рассказами “про жизь” будил в памяти повзрослевшей Аленки что-то такое – забытое, милое, нежное.
– Бабуль! И отправь! Я что – думаешь переживать очень стану? С удовольствием уеду, там батя, друзья, там все мое осталось…
Из зеркала на Аленку смотрела упрямая коза. Так бабушка называла в последнее время внучку, как будто имя ее позабыла. Правда, у козы была довольно симпатичная внешность – очень светлые волосы стали густыми и искристыми, как будто на них все время светило солнышко, глаза странного цвета – и не голубые, и не зеленые, меняющие цвет, как аквамарин, в зависимости от освещения и настроения, трепетали длинными пушистыми ресницами, фигурка статуэтки, стоящей на старинном комоде в спальне, ломко клонилась под нетерпеливыми движениями бабы Зины, и взгляд! Взгляд у козы был козий – упрямый, настырный и неуспокоенный – того и гляди взбрыкнет, вырвется из стойла и понесется по горам, да долам весело вскидывая задом от восторга и воли. Бабушка доплела косу, скрутила ее натуго, завернув на затылке плотной улиткой, с силой воткнула шпильки, да так, что еще немного и проколола бы внучкин череп, натянула на узел сетку с бантиком. Потом поправила накрахмаленные крылышки фартука, близоруко всмотрелась в кружевной воротничок.
– Поменяла, лодырь? Ну, слава Богу. Каждый день хоть напоминай. Про сольфеджио помнишь? После музыки сегодня оно.
Аленка кивнула, в отвращением подумав о нудном противном пении нот в душном классе, подхватила папку и выскочила на улицу.
– Эей, принцэсса. Туточки я, сюда скочи.
От радостного Гринькиного голоса у Аленки разом улучшилось настроение. Она влетела в машину, зашвырнула папку на заднее сиденье, стащила с волос ненавистную сетку с бантом, выскользнула из колючей кофты, расправила плиссированную юбку. Глянула на Гриньку чуть кокетливо, но вовремя опомнилась, надула губы, буркнула.
– Что долго-то так? Пять дней не было, медом намазано тебе в селе? Как там?
Гринька красиво вырулил на дорогу, плавно увеличил скорость, и по сторонам поплыли серые городские дома, пыльные, несмотря на конец мая тополя и сирени, снулые люди и облезлые собаки. Аленка ненавидела Балашов. Ей вообще совершенно не нравилась городская жизнь, ее душа рвалась на волю – в степи, к ароматам цветов, полыни и подсолнечника, к теплым ветрам и прохладной воде Карая.
– А чего там! Все нормалек. Сеструха твоя растет, уж за мамкой, как мячик катается, батя довольный, Лушка на колобок стала похожа. Она там с Джурой на коняке к Хопру улепетнула, так мать ей зад так надрала, что та неделю сидеть не могла, стояла все. А сестры ее ржали, как те лошади.
Аленка невольно улыбалась, с открытым ртом ловила каждое слово Гриньки. Но главное… Главного он так и не сказал. А спросить она стеснялась.
Победа встала, как вкопанная перед каменным вычурным зданием. Там, за ажурным забором, за ровно выстриженными кустами гордо возвышалась ее музыкальная школа, и в накаленном за день, майском воздухе лениво и истомно плыли аккорды и гаммы, рождались, жили недолго, как бабочки и умирали, таяли где-то высоко, в белесых вечерних облаках. Аленка выпрыгнула из машины, кивнула Гриньке, проскакала на одной ножке по начерченным на потрескавшемся бетоне классикам, и влетела на крыльцо, чуть не в лоб столкнувшись с Евгешей.
– Привет, Алена! Я уж полчаса тебя жду.
Аленка недовольно нахмурила брови. Этот противный Евгеша – длинный, бледный, как глист, очкастый и привязчивый, как репей скрипач из старшей группы каждый день караулил ее у крыльца, отнимал папку с нотами, торжественно нес ее до класса, а потом обязательно что-нибудь совал в ладошку – то конфету, то печенюшку, то кусок шоколадки в фольге, а то и икру, размазанную по толстой коричневой бумаге. Аленка сначала и не поняла даже что это, сморщила нос, брезгливо протянув “фуууу”, но когда распробовала втихаря, дома, протерев бумажку кусочком белого хлеба, то фууу свое взяла обратно, навсегда запомнив этот нежный, солоноватый, изысканный вкус. Ребята на сольфеджио хихикали, здоровенная Аська – самая старшая и самая конопатая из их группы, картинно заводила мышиные глаза к потолку, а Аленка шипела на незваного провожатого
– Евгешка! Хватит таскаться за мной, стыдоба же. Все смеются.
Но Евгеша с достоинством поправлял очки, ставил Аленкину папку около ее стола, медленно произносил.
– Дураки смеются, умные промолчат. А я Евгений! Запомни, Елена, Евгений! Жду тебя после уроков!
Аленка уворачивалась от смешков, крутила пальцем у виска, но Евгеша не сдавался и не отступался от своей дамы сердца. И каждый раз стоял у крыльца, или у двери класса, вытянувшись, терпеливо, как стойкий оловянный солдатик…
…
– Алена, у меня к тебе непростой, серьезный разговор. Присядь.
Бабушка внимательно оглядела “воспитанницу” (так в последнее время она представляла внучку новым подружкам, уж больно не хотелось ей признаваться в том, что она уже “бабуля”, причем просила и Аленку не называть ее так, а просто – Зинаида), притянула ее к себе, а сама краем глаза поглядывала в зеркало, удостоверяясь, что новая кружевная кофточка сидит, как влитая.
– Ты сегодня просила отправить тебя в село. Так вот – ты как в воду глядела. Придется поехать.
Аленка вдруг почувствовала, как теплый и плотный поток чего-то радостного толканул ее в живот, разлился по телу, и от этого внутри стало светло и сладко. И имечко, почти забытое, стыдное, неправедное кликнуло в ее сердце птичкой, уколов до крови. “Прокл…Прокл…”.
– Тебе уже почти тринадцать, девочка, ты взрослая, сильная, помощница уже хорошая. Матери надо помочь. Сынок -то оперился, женится, ему теперь не до нее. Поедешь?
Поток тепла вдруг свернулся клубком, уменьшился, а потом и лопнул, сменившись холодом, и у Аленки заледенело нутро. Аж кишки зазвенели, как будто туда накидали снега. Бабушка всмотрелась в ее побледневшее лицо, поджала губы, покачала головой. Но Аленка не дала ей ничего сказать, быстро закивала головой, промямлила.
– Поеду. Когда?
– На третье число билет. Как раз каникулы, а свадьба в июле. Тут на поезд посадим, там отец встретит. Вещи собирай.
Глава 14. Сережки
– Вот ведь, отпускаю… Душа не спокойна за тебя, Алена! Привыкла, гляди-ко… Ну, обещай!
Баба Зина вдруг всхлипнула, покраснев худощавым лицом, вытерла глаза, которые непривычно для такой боевой дамы повлажнели, притянула Аленку к себе, зацеловала быстро – то в щеки, то в лоб, то в нос. Аленка вдыхала, ставший таким привычным запах гвоздики и роз, и впервые не воротила нос от этого сладковатого и душного шлейфа, вечно витающего вокруг бабушки, а таяла от жалости и нежности
– Ну ладно, бабуль… Я ж не надолго, в августе приеду. Ты сама говорила, что бате поддержка нужна, кто ж поддержит. Ну что ты переживаешь?
Она гладила бабушку по вздрагивающей спине, и по жестким налаченным волосам, успокаивала. Михал Сергеич топтался поодаль, старался не смотреть в их сторону, выговаривал что-то сердито смущенному Гриньке, и тот так энергично кивал, что вихры подпрыгивали, завивались в штопор еще круче, и, казалось, тихонько звенели. Бабушка чуть успокоилась, отстранила Аленку, покрутила ее, рассматривая все ли в порядке. Вчера она купила внучке новое платье – скромное, цвета какао, с расклешенной юбкой и белым воротничком, украшенным строгим бантиком, и в этом платье Аленка казалась совсем взрослой и немного чужой.
– Ты платье не помни, встречают по одежке. А то скажут, что бабка тут тебя в черном теле держала. И туфли, перед остановкой протри, я тебе салфетки положила в сумку, сверху. Ни с кем не знакомься, ни с кем не говори. Подарки не перепутай, на каждом записочка – что кому. И вот…
Стесняясь, хмыкнув куда-то в сгиб локтя, вроде это и не она, а какая-то глуповатая деревенская старуха, бабушка покопалась в кармане своего шикарного широкого пыльника, вытащила сверток, сунула его Аленке.
– В поезде раскроешь. Это тебе от меня и дедушки. На свадьбу наденешь. И вон, глянь-ка!
Бабушка отошла в сторону, и Аленка рассмотрела в глубине вокзальной площади – прямо у памятника Ленину долговязую, сутулую фигуру. Паренек переминался с ноги на ногу, поминутно поправлял очки и близоруко всматривался вдаль.
– Добеги уж, попрощайся. Давно уж трется тут, жених. Музыкант подслеповатый…
Бабушка подтолкнула Аленку, и та вприпрыжку поскакала через площадь, тихонько хихикая – уж больно Евгеша ожил, воспрял, заулыбался лучезарно, увидев кто к небу спешит.
– Я проводить, Елена. Вот…
Он вытащил из-за спины букетик – и где он набрал таких ромашек – огромных, упругих, солнечных. Аленка взяла букетик, постояла молча. Евгеша тоже молчал, ел ее глазами.
– Ладно, Женьк. Пойду я. А то поезд уйдет.
Евгеша кивнул, развернулся и пошел к автобусной остановке, сгорбившись, как будто нес что-то тяжелое. А Аленка, перебежав площадь, уложила букетик на столбик забора и забыла про него уже через секунду.
…
– Ты, детка, посиди здесь, в коридорчики, на откладном. Я там, на твоем месте инвалида уложила, ему до Москвы, а тебе ехать пару часов. А то купили ему в плацкарте, да на боковом, а у него от шума голова лопается. А хочешь, я тебя на его место отведу?
Толстенькая, как шарик, смешливая проводница лепетала ласково быстрые слова, потряхивала длинными сережками с голубыми камешками, сверкала глазами. И Аленка согласилась, и правда – человек нездоровый, а она и тут, в коридорчике пристроится… Доедет, что там…
Но круглая проводница не унималась, шебаршила ручками, как мушка, подталкивала Аленку в сторону своего купе.
– А лучше ко мне пойдем. Я тебе чайку налью, ты как раз к своей остановке и допьешь. Пошли, не стой.
Проводница и правда налила Аленке стакан чая, развернула пачку печенья, открыла коробку с рафинадом.
– Ты пей, я сейчас. Работа у меня.
Шарик укатился, а Аленка, со вкусом прихлебнув сладким чаем сдобное печенье, достала из кармана сверток, который ей дала бабушка, аккуратно развернула на столике.
В крошечном бархатном мешочке лежали сережки. Небольшие, овальные, как будто надутые изнутри, с выпуклыми цветочками с синим камушком- серединкой, они казались нежными, скромными, но при этом были шикарными. Аленка тихонько погладила их кончиками пальцев, потом прикрыла ладошкой и поняла, что в свертке есть что-то еще. Да не маленькое, весомое, наверное Аленка не заметила это сразу от волнения. В плотной бумаге была завернута красивая коробочка. А в ней – на шелковом кусочке ткани красовался флакон. И сквозь его таинственное, чуть переливающееся в мутноватом свете купе содержимое просвечивали цветы нарцисса.
– Ого! Самовары – сережки то! Сама мечтаю о таких, только с листиками. Красивые…Дашь померить?
Время пролетело незаметно, не успела Аленка оглянуться, как поезд притормозил у знакомой станции. И дальние тополя стояли, как солдаты, охраняя покой родного села.
Глава 15. Возвращение
– Давай, сумку подам. А то тебя не встречают, похоже. Сама дотащишь, хоть?
Проводница, пыхтя, дотащила Аленкину сумку до выхода, потопталась, как будто смущенно, потом сунула ей что-то холодное в руку.
– На, ворона. Хорошо, я тебе попалась, а другая бы…
Она свистнула мастерски сквозь зубы, красиво повертела флажком, с лязгом открыла двери и подняла ступеньку.
– Спускайся, сумку подам. И вот!
Она притянула Аленку к себе, быстро и щекотно зашептала ей в ухо.
– Ты сережки-то эти не теряй. Они не простые у тебя, я такие вещи вижу, у меня бабка ведьма. Они счастье приносят, только к ним кольцо еще нужно. Такие колечки есть, но они редкие, может, единицы. А вот как сойдутся они, так хозяйка на всю жизнь счастьем обеспечена, и думать ни о чем не надо. Хотела я их забрать, да страшно, вдруг чего… Так что береги. Давай, прыгай.
Аленка сунула сережки в карман, спрыгнула на платформу, с трудом стянула сумку и встала, растерянно – на вокзале никого не было. Никто ее не встречал, а, вроде, баба Зина телеграмму отбивала, срочную. И вот…
С трудом подтащив сумку к крутой, с кое-где обрушенными ступеньками лестнице, Аленка остановилась передохнуть и…залюбовалась своим селом. Внизу, как будто в чаше, слегка подернутой туманом, белые аккуратные домики плыли в разбавленном молоке. Вишни давно отцвели, но что-то еще клубилось белыми облачками, невероятно яркая зелень казалась шелком, наброшенным на жирно поблескивающую землю – она была вспахана, похоже уже засеяна, и ждала всходов жадно и нетерпеливо. Вниз сбегала дорога, и ей бы бежать к храму, но храма не было, и место, где должны были бы быть купола зияло. Аленка не понимала этого, но чувство, что там, внизу что-то должно было быть – очень важное, всегда возникало у нее, когда она стояла на горке и смотрела вниз. А вдалеке чуть парила вода, Карай своим быстрым и прохладным течением чуть остужал по- степному раскаленный воздух, горячие пески берегов, неширокая река ласково обнимала село, ласкала берега и бежала дальше, Аленка даже прижмурилась от удовольствия, она вернулась домой и разом забыла свою городскую жизнь пустую и ненужную. Решившись спускаться, она присела на ступеньку, стащила неудобные туфли, утопила босые ноги в горячей пыли и услышала легкий присвист.
– Фьюиии. Не скатись, брильянтовая, погоди, помогу.
Снизу, перескакивая разом через две ступеньки, взбирался парень. Присмотревшись, Аленка поняла, что это мальчишка, только высокий, очень худой, вернее стройный и мускулистый. Кучерявые косматые волосы трепал степной горячий ветерок, отдувая их с упрямого чуть выпуклого смуглого лба, и тот самый вид настырного козлика заставил Аленку вспомнить – это же Джура. Повзрослевший, почти неузнаваемый, но точно – он. И лошадь, запряженная в телегу тоже его, Аленка помнила ее, ту самую, в яблоках, на которой этот заполошный мальчишка носился по селу.
– Сумку давай, а то свалишься вслед за ней. Меня отец твой послал, сам не смог. Дите у них болеет. Ты здорова стала!
Аленка вприпрыжку слетела с лестницы вслед за Джурой, уселась на лавку, накрытую половиком, а когда лошадь тронулась, с удовольствием вертела по сторонам головой, стараясь вспомнить забытые улицы.
Село совсем не изменилось. Такое же сонное в полдень, с ленивыми курами, порскающимися в молодой зелени, с воздухом, звенящим от жары и ароматом нагретой, только что родившейся полыни. Джура молчал, правил лошадь, и, когда они повернули на Аленкину улицу, звонко чмокнул, натянув поводья.
– Гляди – нас сюда заселили, прям рядом с вами. Теперь в соседях будем, мамка говорит – хорошо. Я тут стану, а сумку тебе дотащу, вылазь.
Аленка спрыгнула с телеги, ойкнула – земля уже накалилась так. что жгла ноги, попрыгала на месте и перескочила на траву. Джура поволок сумку к калитке, и в этот момент калитка распахнулась и …
… У Аленки странно захолонуло внутри. Этот огромный, плечистый парень в ее памяти оставался совсем не таким. А сейчас. Настоящий богатырь из старых сказок, вот только коротко стриженный, слишком загорелый и слишком чумазый.
Прокл сделал шаг навстречу, разом преодолев расстояние от калитки к дороге, схватил Аленку здоровенными ручищами, оторвал от земли и влажно чмокнул в нос.
– Лягуша! Ты что ли? А мне не сказали, я б на вокзал пришел! Да ты какая стала!
Прокл поставил обалдевшую Аленку на травку, покрутил из стороны в сторону, погладил по растрепавшимся шелковым волнам белокурых волос и вдруг смутился.
– Взрослая прямо. Не узнать. Пошли в дом, Ален, там мамка ждет. А батя на работе, к вечеру будет.
Он забрал у открывшего рот Джуры сумку, сунул ему что-то в руку, и поддал слегка под зад.
– Не стой, беги. Мамка сказала, пусть твоя к вечеру зайдет, она ей молока даст. За работу.
Когда Аленка вошла во двор, присела на лавку, криво пристроенную между выросшими почти до небес вишнями, чуть отдышалась в их тени и пришла в себя, то в ее душе разлился такой теплый покой, такая легкая радость, что вдруг откуда не возьмись потекли слезы, глаза защипало и предательски набряк нос.
– Ну вот! Я думал ты бОльшенткая стала. А ты все та же лягуша. Ишь, расквасилась! В дом пошли.
Глава 16. Встречи
Аленка вдруг лишилась сил. Прямо вот вдруг, сразу подломились ноги, и хорошо, лавка оказалась тут, рядом, в то так бы и села на пол. Прошло-то всего ничего, и не заметила, как пролетело время, а эта комната – светлая, знакомая до последней трещинки на беленой стене показалась совсем маленькой, простенькой, как будто она увидела старое кино. Такие фильмы очень любил смотреть Михал Сергеич, открывал бутылочку пива, постукивал сухой рыбиной о край стола, и крякал прямо в экран, сочувствовал, переживал героям. А те ходили вот по таким половицам, как у Аленки в доме, подкидывали дрова в раззявленную дверку печки и переговаривались с ним о чем-то тихонько и доверительно. А вокруг Аленки стараниями бабушки сверкала новомодная мебель, подвески люстры чуть позвякивали над головой, а ноги утопали в пушистом ковре, по которому в строгом порядке ползли загогулины, похожие на червяков. И вот… Теперь и Аленка прыгнула в это кино…
– Заходи, Алена. Я сейчас.
Забытый, а теперь уже совсем незнакомый голос раздавался из-за тяжелого шифоньера, которым комната была перегорожена на две части. Аленка, конечно сразу вспомнила голос Софьи, но узнать его было трудно, таким надреснутым и усталым он казался. Прокл с треском поставил Аленкину сумку на лавку, потоптался немного, потом проворчал смущенно.
– Ну ты это…Лягуша. Разбирайся, да располагайся, меня Машка ждет. У нас там делов – невпроворот, лавки надо строгать к свадьбе, да еще… Там твою комнату освободили, я и вещи все унес. Так что не стесняйся.
Аленка уже собралась с силами, встала, стащила сумку на пол, покачала головой.
– Мог бы и не беспокоится, я и в бане прожила бы. Даже и лучше там, отдельно.
Прокл странно глянул на нее, протянул, вроде через силу.
– Так сгорела баня-то… Не вся, но плохо там. Я думал знаешь ты. Дядь Лексей и спалил…
Он чудно дернул головой, как будто его хлестнули по шее, и больше не глядел на Аленку, выскочил. И через секунду его мощная фигура пронеслась мимо по улице, только что не взбивая пыль, как конь копытами.
– Не говорили тебя, Алена. Думали, приедешь, сама все узнаешь, да поймешь. А, наверное, надо было.
Аленка повернулась на голос – Софья! Но если бы не эти знакомые нотки, она и не узнала бы в этой понурой, грустной женщине с потускневшим лицом ту светлую, яркую гордую казачку, которая когда -то потрясла ее своей внешностью. Софья стояла, чуть сгорбившись, устало вытирала руки о не очень чистый фартук, черные, плохо расчесанные пряди падали из-под платка, и мачеха мелко подрагивала головой, как будто хотела их отогнать, как мух.
– Ксюшка болеет, простыла. А батя твой веселится, вон в аптеку отправила, так с час уж нет. Может, пойдешь, поищешь?
Аленка не понимала, о чем это Софья… Но кивнула послушно, дотянула сумку до дверей в свою комнату, кое-как втащила ее, села на кровать передохнуть. Кровать приветливо скрипнула звонкими пружинками, Аленка хотела было попрыгать, но пружинки не поддавались, похоже тяжелое тело братца добило их полностью. Вздохнув, Аленка вытянула из сумки старенькую юбку по колено, свою любимую маечку с пышными рукавчиками, носки и косынку. С сожалением стянула платье, аккуратно развесила его на спинке стула, погладила пальцами бантик, потом впрыгнула в привычную одежду, плотно затянула волосы платком и выскочила на улицу.
– Мамочки! Вот это ж да! Кто это приезал-то? Аленища! Какая же ты здоровенная вымахала!
По тропинке, с силой вбивая крепкими пятками в тряпичных туфлях пышную пыль в сухую землю бежала девица. Высокая, не толстая, но плотная, как молодая корова, с накрученными по бокам головы косами, она была очень похожа именно на корову, но корову красивую, ладную, с витыми рогами и огромными печальными глазами. Аленка присмотрелась и бросилась наперерез девице.
– Лушка! А ты сама-то! В два раза выросла, жирафа настоящая.
Подружки встретились на полдороге, Лушка расставила длинные руки, как будто ловила Аленку в сети, и поймала, схватила крепко, прижала к каменной груди так сильно, что Аленка задохнулась.
– То-то мне сеструхи говорили, что Машка стойку сделала. Так и выпучила глозья свои, когти навострила, как бы кто женишка не увел. Ну как ты! Рассказывай!
Лушка утянула Аленку на лавку у палисадника бабки Динары, усадила, прижав с силой к доскам, шебетала что-то маловнятное, и Аленка наслаждалась этим – хрипатым голосом, крепкими лапками подружки, ее запахом, знакомым с детства – молока, малины и еще чего-то этакого.
– Да некогда мне, Лушк. Софья послала за батей, говорит он лекарство должен купить, а нет…
Лушка разом замерла, как будто ее выключили, села рядом, помолчала. Потом медленно повернулась, махнула в сторону бабкиного окна рукой.
– Ишь, клюв навострила, тут как тут. Ворона. Пошли…
Лушка протащила Аленку по улице. повернула в переулок к реке, остановилась под ветлой, перевела дух.
– У Горбатки его ищи. Она на Речной самогонкой торгует, там они и топчутся. Не знала ты…Скрывали…
Аленка прижала руку к груди – под рукой екнуло что-то неприятно, как будто треснуло.
– Что ты врешь! У какой еще Горбатки? Я про батю, ты дура, что ли?
Лушка жалостливо посмотрела на Аленку, отвела упавшую ей на лицо прядь волос
– Не вру… Он, как денег получит, всегда там. А седня платили им. Иди…
Глава 17. Горбатка
Пробежав по тропинке вдоль огорода, ласково тронув уже почти увядшие цветы сирени, потом миновав сад тетки Анны, Аленка вылетела на улицу. И сразу, как будто ворвалась в прошлое, в свое совсем забытое и такое светлое детство, которое она вдруг, так преждевременно совсем перестала ощущать. Лавочка у дома была все той же – широкой, корявой, немного покосившейся набок, но такой удобной, так бы и села, как раньше, поджав босые ноги, приткнула пятки сюда, в эти отполированные временем щели между досками, прижмурившись смотрела, как сквозь свисающие ветки вишен с уже набрякшими зелеными завязями проглядывает жаркое солнышко, а потом придремала уютно, чувствуя сквозь сон аромат прогретой воды и слыша смех ребят на Ляпке. Но не было больше детства этого, кто-то выдернул Аленку из ласкового прошлого, сделал совсем другой – не Аленкой, а Аленой, Еленой, не по годам взрослой, грустной, потерянной и чужой.
Аленка вздохнула, сорвала листик вишни, растерла его между пальцами, нюхнула… Эх, как сладко и горьковато запахло вишенкой, да так, что она не удержалась, нырнула в палисадник, воровато оглянулась, никто ли не видит, сковырнула янтарную капельку смолы и, сунув в рот, растаяла от удовольствия, куда там шоколаду, вечно лежавшему плотными стопками у бабушки в буфете. Вытерла руки о шершавую ткань юбки, снова огляделась и поймала взгляд тетки Анны сквозь мутноватое стекло окна. А та смотрела жалостно, как на сиротку.
Ляпка дышала жаром и беззаботностью. Разогретый июньским солнцем песок казался белым под лучами степного солнца, а вот вода Карая темнела прохладой, звала к себе, река узнала свою Аленку, манила под тени старых ветл, журчала призывно струями стремнины. Но Аленка не поддалась, дернула упрямо головой, так, что развалилась коса плотно скрученная в узел, и, стараясь не смотреть на пляж, пробежала мимо, выскочила на узкую дорожку между домами и берегом. Речная, как была, так и осталась улочкой-тайной, ничего не изменилось. Ветлы мели ломкими ветвями, касаясь пышной пыли дороги, темные кусты уже запыленной сирени подпирали палисадники, Аленке всегда казалось, что еще немного и она не протиснется в этих зарослях, или будет продираться сквозь кусты.
– Привет, снежинка. Вроде вот видел, а прям не узнать. Вез городскую барышню, а сейчас своя, деревенская. Ты куда – за батей?
Джура как будто проявился из воздуха – откуда-то из темных зарослей прибрежных кустов, вроде вышел из воды. Он стоял у края улицы, жевал пухлыми смуглыми губами тоненькую травинку, дрожал черными ресницами насмешливо, и Аленка увидела, что они у него такие густые и длинные, что отбрасывают тень на щеки. Она подбежала ближе, остановилась, кивнула.
– Ага. Говорят, он у Горбатки. Не знаешь, может врут?
Джура выплюнул травинку, прочесал пятерней спутанную гриву вороных волос, скривил рот.
– Там он. Я тоже туда бегал, папку искал. Моего нет, твой там. Иди, найдешь, коль не убег. Вести его надо, веселый уже.
Он сломил веточку черемухи, кусанул ее острыми белыми зубами, посторонился, пропуская Аленку. И когда она прошла мимо на нее пахнуло пряным черемуховым ароматом в смеси с чем-то еще – то ли с запахом воли, степи, конского пота, чего-то такого, от которого щемит сердце.
…
Дом Горбатки – не старой бабы, похожей на гнедую кобылу, вдовицу, перехоронившую уже не менее пяти мужей, отличался от остальных хаток Речной, как новая конюшня от собачьей будки. Высокий, недавно, явно по весне беленый известью с синькой, с новой блестящей крышей, окрашенным в ярко-синий цвет палисадником (“в голубец” – завистливо шептались бабы, глядя, как Горбатка размашисто елозит широкой кистью по новым штакетинам, а потом тоненько и мастерски рисует под ставнями букетики васильков) и здоровенными резными столбами широких ворот он стоял на самом краю улицы, деревянная мостовая спускалась к обрыву, перегораживая дорогу, а вниз к реке вели мощные ступени, заканчивающиеся крепкими мостками с перилами. Аленка несмело прошла по этой мостовой, дернула за крепкую веревицу, открывающую калитку изнутри и вошла во двор.
– Опа… Ты чья, красота? Чот я тебя не узнаю.
Горбатка стояла посреди двора, широко расставив крепкие коротковатые ноги и упершись загорелыми мужскими кулаками в крутые бедра. Расстегнутая розовая блузка бесстыдно открывала пышную, упругую грудь, и казалось, что большой золотой крестик на толстой цепочке кто-то засунул между двумя мячами. Горбатка и вправду была похожа на гнедую – туловище один в один, да и рыжевато-темный хвост гладких густых волос, собранных высоко на крепком затылке сходство лишь усиливал. Аленка вздрогнула, почему-то испугалась и поняла, что она напрочь не помнит ее имени. Фамилию – да, пожалуйста – Горбатова, а вот имя- хоть убей. Смущенно улыбнувшись, она тоненько и послушно проблеяла
– Я Аленка. Я за батей пришла… Он у тебя, Горбатка?
И поняв, что она ляпнула, покраснела, плотно прижала ладонь к губам, глянула виновато. Но Горбатка совершенно не рассердилась, хмыкнула для порядка, пробасила, смешно пуча накрашенные губы.
– А… Хыврычева…Знаю. А какая я тебе Горбатка? Для тебя, сопля, я Акулина Матвевна. А батя твой в хате дрыхнет, от жары привял. Иди, буди.
Она сдвинула в сторону свой лошадиный круп, пропуская Аленку в дом.
Дом у Горбатки изнутри был еще прекраснее, чем снаружи. Новомодная мебель, такую Аленка видела только в Балашове у бабушки, да у бабушкиных подруг, пушистые ковры вместо половиков, здоровенный телевизор, в полированных боках которого отражались яркие цветы шикарных занавесок. Аленка постояла, раскрыв рот, потом пошла через зал – туда, где зияла черным провалом открытая дверь.
За дверью, на застеленной велюровым покрывалом кушетке, раскинувшись, как дома спал батя. Рубаха, расстегнутая до пупа, открывала загорелый живот, ноги болтались не доставая пола, а из раззявленного,. какого-то смятого рта вырывались такие звуки, которых Аленка не слышала никогда.
– Батя…бать… Вставай… Это я…
– Да ты хоть из пушек пали, он не проснется. Как медведь в спячке, нажрется, так прям бревно. Щас…
Акулина Матвевна, крякнув, как утка, мотнулась куда-то внутрь дома, через секунду примчалась назад с ведром, и маханула из него прямо на кушетку, совершенно не смущаясь, что водой залило модное покрывало. Батя аж зашелся руганью, свился в клубок, вскочил … и…увидел Аленку…
Глава 18. Ксюшка
– Ты, доча, не части… Вишь, батя устал, не проснулся, не могет быстро. Погоди…
Алексей остановился, прижался спиной к покореженному стволу ветлы, как будто улегся, прикрыл глаза, замер, тяжело дыша. Потом выпрямился, постоял, чуть качаясь, и, наконец, поднял глаза на Аленку. А взгляд был бегающим, виноватым, как у пса побитого.
– Чего глядишь так, Ален? Не узнаешь батю? Так он и сам себя не узнает, вишь стал какой…
Алексей оторвался от ствола, медленно пошел вперед, как будто Аленки и не было рядом, прошел немного и вдруг свернул к пляжу, побрел, увязая в песке, и растоптанные ботинки, напяленные прямо на голые ноги так и норовили слететь, потеряться среди песчаных холмиков. Аленка шла следом, сначала стараясь просто не отставать, а потом догнала, дернула за вялую, повисшую плетью руку
– Ты лекарство купил? Тетя Софья ждет ведь, ты что – не помнишь?
Алексей выдернул руку, добрел до поваленного дерева, на котором так любила сидеть Аленка, но залезть не смог, рухнул рядом, как будто кто-то ударил его под коленки. Посидел, глядя на несущуюся куда-то темную воду стремнины, потом подобрался, поджав длинные, худые, похожие на костыли ноги, сказал сипло
– Здесь, доча, ты с мамкой говорить любишь? Как ты ее зовешь? Научи!
Аленка с ужасом смотрела на отца. Она только сейчас заметила, как он похудел – просто кожа да кости, поседевшие волосы клоками липли к угловатому черепу, щеки ввалились, и только глаза, взгляд вернее, почти не изменился, батя все так же смотрел на Аленку – ласково, нежно.
– Бать… Ну что ты говоришь-то… Пошли. Тетя Софья лекарство ждет…
Алексей с трудом поднялся, так встает с земли не молодой, еще сильный мужик, а старая баба. Сначала на карачки, потом раком, опершись на руки, и лишь потом выпрямился, разогнулся кое-как, еле удержавшись на ногах.
– Ишь ты. Взрослая какая ты стала. Погодь, я гляну.
Он отошел на пару шагов, внимательно оглядел Аленку, и ей показалось, что на его и так мутноватые глаза накинули пелену – то ли слез, то ли сгущающегося прибрежного тумана.
– Мамка вылитая. Скоро не отличишь… Нарочно делает родимая, хочет мою душу до донца выпить. Выгорел я, доча.
Алексей сгорбился, разом превратившись в старика, пошарил по карманам, вытащил смятую пачку, протянул Аленке
– Неси, доча. Ждет Софья, Ксюшка кашляет, прям жуть. А я тут побуду, не тянут ноги-то. Охолону…
Аленка взяла пачку, попыталась расправить картон, но не тут-то было, вроде жевали ее. Глянула на батю, прямо вот чужой человек, подменили вроде, обманом забрали того, сунули этого. Потрогала твердую ледяную руку, сказала строго
– В воду лезть не вздумай. И недолго. А лучше я сейчас лекарство отнесу и за тобой приду. Посиди.
Аленка легко побежала вверх по тропке к дому тетки Анны, и уже было добежала до палисадника, как прямо из пышных кустов сирени вынырнула старуха – да такая страшная, настоящая баба Яга.
– Стой, дева! Погодь. Чего шарахаешься, не узнала, иль чего? Забывчивые вы ныне, мозги с гузку курью. Сказать чего хочу.
Аленка узнала – Гаптариха. Жили здесь в конце улицы две чудные бабки, мать и дочь. Матери, Гаптарихе этой, никто и не знал сколько лет – не меньше ста, а то и больше, да и похожа она была на ведьму – скрюченная, седая, аж синяя. Всегда одна юбка, похожая на парусиновый мешок мела придорожную пыль оборванным подолом, платок с кистями, повязанный назад скрывал лоб, и из под его плотного валика выглядывали глубоко проваленные глазки, как мыши из норы. Узкие губы утопали в складках сморщенной кожи, да казалось, что их и не было, просто щель между носом-крючком и крючком-подбородком, если бы кто нарисовал Гаптариху красками и отправил рисунок куда-нибудь в редакцию, лучше бабы Яги и придумать трудно. Все ребята боялись, как огня, даже в сад к ней яблоки воровать не лазили, а уж яблоки в саду у старухи были отменные, лучше во всем селе не было. А вот Аленка не сторонилась ее когда-то, присядет с бабкой на лавочку, почтительно послушает ее россказни. Гаптариха помнила это и Аленку любила.
– Батю-то у речки забыла? Он кажный день туда ходит, к мосту-то. Иринка его гонит, а он идет, тоска его зовет, вишь дело какое. Не отвадить – пропадет батя твой. Да еще срань эта поганая – Клавка дел наворотила, приворот, гадина, сделала, а они и так бы с Сонькой этой сладили. Бедовая ты моя. Приди завтра к вечеру, помогу что ль. Стара уж на дела такие, но поправить надо бы. Давай, беги. Завтра, как заря утихнет.
Аленка хотела было что-то сказать, но Гаптариха исчезла, как будто куст проглотил ее, целиком, без остатка. Ошалев от этого всего, Аленка нырнула во двор, и через минуту была дома.
– Принесла? Ну, слава Богу! А то прям заходится Ксюшка, фельдшерица сказала по часам давать. А ему все равно.
Голос Софьи звучал, как надтреснутый колокол, низко, глухо, тоскливо. Она быстро пошла через кухню, мотнув головой Аленке – пошли, мол. И Аленка побежала следом.
В жарко натопленной спальне, в кроватке, укутанная по самый курносый нос пышным одеялом сопела малышка. Черные кудельки, мокрые от пота облепили бледный лобик, рот был приоткрыт, и маленькие губки дрожали, ловили воздух.
– Коклюш, Нина – фельдшерица сказала. А в больницу не дам везти. Угробят. Сама подниму!
Софья упрямо смотрела на Аленку, вроде та на чем-то настаивала. И Аленка вдруг почувствовала, как внутри у нее все набухло от злости – еще немного и угробит девочку.
– Теть Софья! Куда ты ее закутала так, тут дышать нечем. Задохнется она у тебя. А ну, дай!
Двинув Софью в сторону, Аленка открыла занавески, откинула одеяло и с трудом вытянула девочку, села на лавку, уложила ее на колени.
– Мокрая вся, как мышь. Неси одежду сухую, переоденем, да окна откроем. И капли неси, дадим. Большая ты, а глупая прямо, надо же.
И с удивлением смотрела, как Софья облегченно засуетилась, послушно принесла теплое платьице, чулки и шапочку, накапала капли, и с ее лица потихоньку спадала пелена черного горя. И через час порозовевшая Ксюшка лежала в кроватке, придвинутой к открытому окну и внимательно следила черными глазками за невесть откуда появившейся сестричкой-спасительницей.
Глава 19. Гаптариха
Назад к реке Аленка бежала уже не так живо. Как будто навалилось что-то, тянуло к земле, наливало свинцом усталое тело. Все, что она тут увидела казалось нехорошим сном, казалось, что она проснется, и в окошко ее комнатки – той, спрятавшейся в уголке за огромной кухней заглянет веселое солнышко, улыбнется сквозь ситцевые занавески, запляшет зайчиками по крутому боку беленой печки, и маленькая Аленушка сунет ноги в стоптанные сандальки, набросит сарафанчик, вышитый незабудками, и побежит по росистой тропке к курятнику искать батю. А батя подхватит ее на руки, подкинет высоко-высоко, и небо ярко голубое опрокинется над ней, зазвенит, как тоненькое блюдце, а Аленке станет весело, радостно и тепло на душе. Но проснуться не получалось, Аленка добрела до Ляпки, пролезла сквозь кусты к тому самому тайному месту подальше мостика, постояла, глядя на понурую фигуру бати, а потом вдруг спряталась за ствол ивы, притаилась.
– Иринка, не гони… Ну прости ж ты меня, проклятого, ночи не сплю, пожалей…
Голос Алексея звучал глухо, бессильно, как будто ему зажали горло, и он борется с этим, выталкивая слова с трудом.
– Что ж ты казнишь меня так, девочка, изошел я уж весь. Забери – жить нечем, дышать не могу.
Он встал, и Аленка с ужасом смотрела, как худое тело бати сначало нависло над стремниной, а потом он, оттолкнувшись с силой от берега бросился в поток, и в черной воде только и мелькнула рубаха, надувшаяся пузырем на спине. Аленка с визгом бросилась к воде, но что-то случилось, Карай вздыбил спину, ощерился, как взбесившийся кот, и выбросил обмякшее тело Алексея на берег. Тот встал на четвереньки, постоял так, а потом упал на бок со стоном, свился в клубок, замер.
– Батя! Батя, Господи! Ну что ты!
Аленка подбежала к отцу, встала на колени, схватила его ледяные руки, начала растирать, но Алексей пришел в себя, сел, очумело посмотрел на дочь.
– Не принимает, Аленушка. Не принимает меня мама, как не прошу. Виноват я перед ней, дочушка. Нет мне прощения!
Алексей встал легко, как будто ничего и не происходило, покачался и пошел вперед. И только по деревянно застывшим плечам и странной походке, с загребающими песок ступнями можно было понять, что мужик не в себе – то ли пьян, то ли вот-вот умрет.
…
– Зайди, девка. Только ноги раззуй, Стеха полы помыла, не натопчи.
Гаптариха толкнула дверь, пропуская Аленку в сени. Дверь была такая чудная, каких Аленка никогда и не видела – может быть такие описывают сказочники в старых сказках – деревянная, с двумя узкими створками, покрашенными в золотисто-голубой, правда золото стерлось, лишь угадывалось кое-где, особенно эта позолота хорошо сохранилась вокруг мутноватых стекол, удерживаемых ажурной проволокой. Аленка провела пальцами по металлу, обернулась на старуху, но та промолчала, подтолкнула ее в спину острыми пальцами, а потом прикрыла дверь плотно-плотно, задвинула щеколду.
– Что ты рот раззявила, вроде и не видела дом-то. Старый у нас дом, вековой. Прапрабабка моя еще тут жила, прапрапрадед строил. На века. Не то что вы, трычки. Фьють – то тут, то там. Иди уж, чего встала.
Аленка уже и не удивлялась – ни темному от времени дереву стен и потолка, ни мощным доскам чуть щелястого пола, на который то там, то тут были набросаны цветные половики, ни потолку, который держали мощные бревна. Она прошла мимо огромного сундука, бросив взгляд на пудовый замок, подождала, пока старуха не обойдет ее сзади, а потом пошла за ней, по дороге разглядывая высокий ларь, украшенный желтоватой кружевной салфеткой, грубые полки, забитые разнокалиберными тарелками, здоровую, рубленую кадку, длинную, через всю комнату скамью.
– Стой. Вот туда.
Аленка нырнула в узкий проход между печкой и широким столом, и там в укромном месте притаилась старухина спальня, маленькая, как конура.
– Тут будем. Я тут силу особую имею, уж не знаю чего. Садись. Не на кровать, на табурет садись.
Аленка опустилась на низкий, мощный табурет, стараясь не очень пялиться смотрела на кровать чудной бабки. А кровать была настоящим шедевром – высокая, узкая, вся в кружевных подзорах и накидках, со стопкой пышных подушек, выстроенных пирамидой от огромных до крошечных. На удивление Гаптариха тоже не села на кровать, пошарила снизу, вытянула низенькую скамеечку, села. Острые коленки натянули юбку, и бабка стала похожа на кузнечика с чудной патлатой головой.
– Нашла Лексея-то? Отвела? Ну и ладно. Ты вот что…
Гаптариха посмотрела на Аленку въедливо и остро, у нее даже переносица зачесалась, вроде как бабка уколола ее своими гляделками, Аленка непроизвольно коснулась носа, потерла его, старуха усмехнулась, неожиданно подмигнула.
– Завтрева пойдешь в церкву. Я не хожу, вишь и икон у меня нет. А ты сходи. Свечку надо, красную возьми. Не будет Пелагеюшку попроси, попадью, она добрая, даст.
– Зачем, бабусь? Я тоже не особо в церковь хожу, нас учат, что Бога нет.
Гаптариха вздохнула, встала, подошла поближе, неожиданно щелкнула Аленку по лбу.
– Нехристи. Ничего в вас нету, ни во что не верите. Возьмешь, сказала! Я в привороте не уверена, ты и проверишь. Не так он ведет себя, то ли дура та перепутала чего, то ли еще беда какая. К мертвому приворожить нельзя, а он, вишь…
Гаптариха подошла к окну, приоткрыла льняную занавеску, шепнула.
– Хватит на седня, свечку принесешь, дальше скажу. Да и Стеха вон идет, рыбы полное ведро. Не до тебя.
Аленка выскочила на уже вечереющую улицу и столкнулась со Стехой. Яркие глаза цвета июльской травы мигом ощупали ее лицо, полные розовые губы улыбались. Аленка поняла, что Гаптарихина дочь вовсе не бабка, лет ей, может, как Софье, только одета она, как старуха. От женщины пахло водой и рыбой, и почему-то кубышками, теми самыми любимыми Аленкиными желтыми цветами.
– Куда летишь, птица? Чуть не сбила, чумовая. Ишь, Иркина дочка!
И засмеялась странно, захохотала, как сова, гулко, утробно, насмешливо.
Глава 20. Стеха
Церковь в селе была совсем маленькая, даже не церковь, а маленький дом, в который ходили молиться как будто стесняясь, втихаря… Настоящий храм в селе разбили, изуродовали, устроили сначала там клуб, потом склад, так и стояла она без куполов, как сирота. Аленка помнила, как старушки крестились испуганно на пустую крышу, шептались по углам, но роптать боялись, шуршали, как мышки. Мужики тоже крякали, особенно старики, прятали глаза, но поглядывали на небо над храмом, как будто искали поверженного Бога. А как-то Аленка застала самого набожного из них – старого Ивана – был у них такой, то ли блаженный, то ли мудрец, кто что про него говорил, за странным занятием. Огород у этого чудного деда был у самой реке, на отшибе, спускался задами к берегу, и ребята часто бегали по тропке вдоль его тыкв, так ближе было к песчаной отлоге, тайному месту купания озорной детворы, и часто видели его там, копающемся среди грядок. А тут Аленка бежала одна, уже скоро должно было начать смеркаться, но солнышко еще светило радостно, выглядывая из-за старых ветл – послал батя покликать соседских уток, помочь старушке. Ну и увидала деда, копался тот в земле у самого плетня, копался втихушку, как будто прятался
– Деда. Ты что там? Нашел чего?
Аленка перелезла через плетень, пропрыгала на одной ножке по тропинке из муравы, подбежала к деду. Она любила к нему бегать, дед Иван все подарит что-нибудь шебутной девчонке – то яблочко, то горсть вишен, а то и петушка на палочке – сам лил из сахара на продажу. Дед вздрогнул, но узнал “козу-дерезу Лексееву”, разогнулся, схватившись за поясницу, подозвал.
– Подь сюда, коза. Глянь-ко!
Аленка наклонилась над кустом полыни, глянула, куда указывал дед. А там, в ямке, выкопанной между полосой бурьяна и корявым стволом старой вишни лежал полотняный сверток.
– Вот, дитятко. Как помру, бате укажешь, пусть заберет. Тут из церквы книга, писание святое, да крест. Рушили церкву, а я попрятал. Не забудешь?
Аленка ничего не поняла, но кивнула. А дед Иван не успокоился, ухватил ее за пояс, поставил на пень, сказал сурово.
– Вон туды крест сотвори! А я тебе конфет дам.
Аленка видела, как старушки крестятся, потыкала себя пальчиками куда надо, поклонилась на солнышко. Дед расцвел, закопал свое сокровище, а когда Аленка гнала заполошных соседкиных уток, поймал ее у калитки, сунул пакет с конфетами.
– Не забудь. Обещалась.
И когда дед помер, Аленка отвела батю в дедов огород. Алексей откопал сверток, отнес его батюшке. Тот, хоть церкви не было, службы вел – не гласно, тихо, да вел. Тот, как развернул, аж на лавку сел с размаху, а попадья Пелагея, тогда молодая, полная розовощекая красавица, прячущая улыбку за край темно-синего скромного платка, повязанного так, чтобы русые кудри не особенно торчали, прослезилась, обняла Аленку, прижала к мягкой груди, и, пахнув на нее ванилью и малиновым вареньем, шепнула.
– Да умница, деточка. Да Бог тебе подаст все, что хочешь. Сейчас пирожков вам с батей дам.
Столько лет прошло, а Аленка помнила вкус этих пирожков – нежных, сдобных, пахучих, как будто залезла в малиновые заросли.
…
– Заходи, деточка, службы нет сейчас, батюшка поговорить сможет. Тебе что? Записочку? Или еще чего?
Пелагея вышла из-за калитки мигом, как только услышала, что кто-то постучал молоточком. Она уже не была похожа на ту смешливую девушку, которую кто-то нарочно нарядил не по-девичьи, теперь попадья была важная, плыла уточкой, смотрела благостно. Легкое свободное светло-серое платье до земли, светлый легкий платок, повязанный назад, спокойный взгляд серых глаз – она вся была светлая, воздушная, как легкие облачка, собирающиеся у горизонта, вроде невесомые, но обещающие грозу. Аленка нырнула во двор, прислонилась к воротам, покачала головой.
– Мне, теть Поль, свечку надо. Красную…
Попадья внимательно вгляделась во вдруг запылавшее лицо Аленки, нахмурилась, вхдохнула.
– От Гаптарихи, никак? Вот ведь непокойная, все-таки вмешалась. Ты, Аленушка, не лезла бы в дела эти, не праведные они. Нехорошо!
Аленка молчала, прятала глаза, и тут слезы вдруг аж закипели огненно, она сжала ресницы, но не удержала их, брызнули. Пелагея вздохнула, погладила Аленку по голове, наклонилась, шепнула.
– Дам. Стой здесь.
Выскользнув змейкой из дома, вытолкала Аленку на улицу, сунула ей тоненький узкий сверток в карман.
– Отдай, пусть сама смотрит. Да молчи, не говори никому. Вот, грех с вами.
…
Гаптариха покрутила сверток, развернула его, понюхала, зачем-то свечку.
– Она! Дождись, пока батя заснет, да чтоб никого не было рядом-то, зажги свечку, да води над ним. Коль будет гореть ясно, ровно – нет ничего, другое думать будем. Коль чадить начнет – приворот на нем, загаси тады, ко мне утром беги. Да тихонько, не ори, никому ничего не болтай. Иди.
И снова, когда Аленка пересекала Гаптарихин двор, ей дорогу перегородила Стеха. Она была совсем не похожа на ту, что встретилась ей на берегу. Статная, стройная, высокая женщина с пышной косой, перекинутой на почти голую, упругую грудь, выглядывающую из расхристанного ворота нечистой полотняной рубахи, размашисто косила бурьян у ворот и что-то напевала. Увидев Аленку с силой воткнула косу в землю, откинула косу на спину, уперлась в лицо остановившимся взглядом светлых глаз и засмеялась. Опять так же – безумно, громко, отчаянно.
– Иди в дом, Стеха, растелешилась тут. Не пугай девчонку.
Гаптариха толкнула дочь в сторону крыльца, раскрыла калитку, утянула Аленку на улицу. Потом накинула крючок, сипнула глухо.
– Не в себе она. Давно такая.
Глава 21. Страшный приворот
Батя спал на лавке в дальней комнатке. Когда-то она была кладовкой, а весной в ней селили цыплят, и Аленка любила эту крошечную, светлую каморку – залезет туда, зимой то сунет ручку в банку с сушеными яблоками, то оторвет кусочек пастилы – спокойно и сладко. А весной усядется на низкий широкий табурет, любуется пушистыми комочками – сыпанет им немного вареной и чуть подсушенной манки, смешанной с желтком, или принесет молоденькой муравки с улицы. Возьмет одного, посадит на ладошку – цыпленок косит на нее круглым глазком – бисеринкой, попискивает тихонько. Давно это было, потом комнатку побелили, окошки украсили занавесками, и вот теперь, как оказалось, в ней все больше ночевал батя, уходил от молодой жены и дочки.
Аленка, стараясь не скрипнуть, прикрыла за собой дверь, на ощупь добралась до окна, приоткрыла занавески так, чтобы лунный свет хоть немного осветил комнату, постояла молча, глядя, как батя храпит раззявленным ртом – натужно, как будто ему трудно дышать. Он почувствовал чье-то присутствие, задышал часто, задергал веками, но успокоился, снова захрапел. Аленка достала свечку, спички, постояла, стараясь не дышать, стараясь успокоить выпрыгивающее из груди сердце. Но потом свечку все же зажгла, сжалась от неожиданно метнувшегося по стенам света, прикрыла огонек ладонью, подошла к кровати. В неверном свете подрагивающего пламени лицо Алексея казалось странным, он как будто не спал, а находился в другом измерении, жил там, с кем-то разговаривал. И поэтому губы у него шевелились, глаза дергались под смуглыми натянутыми веками, кожа на лбу то сходилась складками, то натягивалась, подчеркивая надбровные дуги.
– Иринка… Иринка… Погоди… Прости… Не виноват…
Аленка даже подпрыгнула – голос отца был хриплым, но совершенно не сонным, ясным, вроде он и не лежал здесь с закрытыми глазами, а был в полном бодрствовании, говорил с кем-то. Но нет… Батя все так же спал, только вот грудь ходуном ходила, да пальцы дрожали и крючились, как будто он старался ухватить кого-то, удержать. Аленка подняла свечку над головой, как ее учила Гаптариха, чуть наклонила в сторону спавшего Алексея, а потом стала водить над ним, медленно, спокойно. Если бы кто посмотрел со стороны, ему бы показалось, что за пламенем свечи тянется длинный огненный след, тягучий, как резина.
Свечка не коптила и не гасла. Она горела ровно, потрескивала, вспыхивала тоненькими огненными иголочками, пламя то пласталось параллельно полу, то вставало столбиком, дыбилось, стараясь дотянуться до потолка. И вдруг что-то случилось. Свечка дрогнула в руке Аленки, вспыхнула, но пламя изменило цвет, оно стало пурпурным, темным, почти черным. И этот черный огонь неожиданно ярко осветил дальний угол комнаты, а там… Там Аленка увидела небольшой холмик с тонким, красиво вырезанным из дерева крестом. А на кресте маленькая фотография в черной глянцевой рамке – той самой женщины, фото которой хранил батя. Мамы…
Аленка была на этой могилке всего один раз. Она помнила это плохо, могилка была за оградкой кладбища, на склоне, под старой, склонившейся над холмом березой, вернее, это даже и могилкой нельзя назвать было. Так – крошечный холмик с крестиком. Вот только лицо на фотографии было совсем живым, маленькой Аленке хотелось подойти и погладить женщину по светлым курчавым волосам, таким мягким и настоящим. Но батя крепко взял ее за руку и повел вниз по тропинке. А потом поднял на руки, чмокнул в нос, сказал тихонько.
– Хоть там бы она была… А то и там нет, детка. Совсем убежала от нас…
И вот эту могилу и увидела сейчас Аленка в черном пламени .
…
Гаптариха слушала молча. Сидела, ловила каждое слово, разглаживала на остром колене трухлявую ткань юбки. Потом отобрала у Аленки свечу, которую та уже совсем затискала во влажной руке, внимательно оглядела, и снова зачем-то понюхала.
– Да… Лучше б дура – Клавка со своим черным отродьем не лезла в это дело. Да она и не смогла ничего, куда уж против этого! Ты вот что!
Она как будто вспомнила, что в комнате Аленка, с силой ухватила ее за локти, усадила на лавку
– Приворот на твоем папке не простой. И не виноват никто, он сам себя приговорил. Сам приворот себе устроил, мертвую держит, не отпускает. Я попробую… И ты помоги.
Гаптариха вдруг крякнула, как старая гусыня, вытащила откуда-то из складок юбки трубку, помяла, сунула щепку в печь, в которой томился черный чугунок, закурила, пыхнув запашистым дымком прямо Аленке в лицо.
– К мамке пойди. Поговори с ней. Да не пучь глаза-то, знаешь о чем я. Ирка злой никогда не была, обид не держала. Вот глупая, что наделала, Стеху мою всерьез приняла! Стеху – дурочку. И я не уследила. Короче, скажи ей про батю, упроси. А то помрет мужик…
…
Домой Аленка шла в обход. Ей вдруг не захотелось нырять в теткин двор, потом идти по огороду – душный предгрозовой вечер давил грудь, теснил горло. А по Набережной идти было легче, свежая вода Карая дарила прохладу, а звезды над рекой множились и освещали дорогу. Аленка шла медленно, еле передвигая ноги. Босые ступни тонули в прогретой пыли, и идти было приятно, как по небу. Вот только в голове горело – Иринка, Стеха, батя… До Аленки только сейчас дошло – Иринка, это она – ее мама. Почему батя так старался огородить Аленку от любого воспоминания о матери, лишь изредка касался этой темы и тут же бежал прочь, как вспугнутый зверь – она в последнее время часто думала об этом, но ответ и ее пугал, и она его гнала тоже. И вот теперь разгадка рядом, но она совсем не готова к этой разгадке…
– Лягуш! Ну ты даешь, сестренка! Мы с Машей все ноги стоптали, мать за тобой послала, а тебя нет, да нет. Гулена! Небось уже кого-то присмотрела?
За широкой спиной Прокла топталась Машка. В сумерках она была похожа на сноп – как стройная и красивая девушка сумела так растолстеть и обабиться – загадка, но толстые ноги – столбы уверенно попирали землю, а круглый живот здорово угадывался из-под цветастого широкого платья.
– По заднице бы ей хворостиной. Бегаем тут уж два часа, ищем заразу. Проша! Ты б сказал ей. Сестра все-таки! Я устала, пить хочу, есть. Душно.
Машка верещала противно и тоненько, и Аленке снова захотелось, как тогда, много лет назад пнуть ее коленкой в толстое пузо, может быть заткнется, перестанет верещать.
– Ну ладно, Машуль. Гляди, она еле ноги тянет. На закорки хочешь, лягуш? Домчу, как на коняке.
Аленка прыснула, посмотрела в такие близкие и такие теплые глаза Прокла, и вся боль, весь страх последних дней растаяли, испарились. Она прижалась к его твердому боку, шепнула
– Ну вот еще…Коняка он… Пошли уже…
Глава 22. Вода
Аленка побродила по маленькой комнатке – теперь уж все забыли, что когда-то это была баня, домик стал жилым и обитаемым, сначала Софья с Проклом его обжили, теперь вот Аленка в нем поселилась – хорошо, уютно и на свободе. София с утра, в день Аленкиного приезда залетела сюда пулей, вещи свои оставшиеся покидала на расстеленное покрывало, скрутила в узел и утащила в дом. И Аленка вдруг почувствовала, что в ее дом, в родимый, их с батей, она больше не вернется, похоже, стала гостьей там, и это навсегда. В бане было прохладно, какая-то особенная тишина чуть звенела в ушах, но Аленке нравилось это, можно думать, вспоминать. Она поставила чайник на керосинку, София устроила здесь маленькую кухоньку, даже плита была настоящая, вот только печь топить не хотелось, да и ни к чему, развернула пакет с печеньем, который ей сунул Прокл, присела на табурет, задумалась. “Мать просить… Гаптариха пошутила что ли… Но такими вещами не шутят, вряд ли. А вдруг мама не услышит, не выйдет на берег, что тогда…И как это делать? Пойти на реку ночью, кричать в темноте, звать утопленников? Ведь страшно. Ужас, Аленка, наверное, никогда не сможет этого, сердце разорвется от ужаса… А вдруг откликнется не мама?”…
Отгоняя от себя эти мысли, Аленка налила чай, уселась поудобнее на маленькую кушетку, откусила печенье и зажмурилась от удовольствия – оказывается у Прокла то же любимое, что и у нее, коричневое, с мишкой на пачке. Слопав сразу три штуки, Аленка откинулась прямо на прохладную деревянную стенку и не заметила, как задремала…
– Тебе не надо ходить к нам, мало ли что, доченька. Ты меня в мыслях зови, я слышу. Я приду…
Аленка проснулась, как от удара, дернулась, да и было от чего. Комнатка уже не была похожа на комнатку – ее стены как будто растворились в ночной темноте, впрочем и темноты тоже уже не было. Ее кушетка висела в воздухе, вернее не в воздухе – в воде. Все вокруг мерцало зеленовато – голубым сиянием, переливалось волнами, легчайшие барашки белой пены касались невесть откуда взявшихся нитей водорослей, тугие светло зеленые веревки тянулись ввысь, и, присмотревшись, Аленка поняла, что это. Стебли кубышек и лилий, их опрокинутые желтые и белые чаши проглядывали сквозь мерцающую толщу, угадывались над головой. Аленке вдруг показалось, что она вот-вот захлебнется, дыхание на секунду остановилось, горло перехватило, забило чем-то плотным, но это сразу же прошло. И стало легко и радостно, дышалось так, как будто она пила холодную, хрустальную родниковую воду, да и в глазах все прояснилось, как будто на речном дне взошло серебряное незнакомое, но очень яркое светило. И Аленка увидела маму. Она сидела на небольших качелях, свитых из стеблей лилий, покачивалась, легко касаясь маленькой ножкой золотистого песка, смотрела ласково, как будто ласкала.
– Смотри, Ленушка… Ты почти, как я…
Аленка встала с кушетки, и упругий поток подхватил ее, понес к матери, она взлетела, как речная стрекоза и опустилась рядом. Только сейчас она разглядела себя. Вокруг мерцали ее отражения, как будто этот воздух-вода состоял из зеркальных полос, и в этих полосах Аленка была совсем другой. Нежная девушка-девочка с распущенными ниже пояса светлыми, как золотое руно волосами, с полупрозрачном белом платье до пят, с тоненькой цепочкой на стройной шее и венком из белых цветов парила рядом с матерью, бестелесная и нездешняя.
– Не бойся… Все вернется на место, как только я уйду. Ты станешь такой, как была. Вернее такой, как кажешься там… Слушай!
Мама притянула ее к себе, и Аленка снова почувствовала тепло, как будто не утопленница была рядом, а живая, настоящая женщина.
– Я ничего не могу сделать. И не потому, что не хочу. Моя обида давно растворилась в воде Карая, я больше не держу на Алешу зла, во мне нет больше горя. Я его отпустила, он свободен. Но этого мало, девочка. Он держит себя рядом со мной сам.
Аленка смотрела в светлые глаза матери – они были похожи на два сияющих в свете луны голубых озерца, такие же прохладные, глубокие, непроницаемые. И в них отражались две маленькие Аленки, жалкие, потерянные, в белых платьицах и покосившихся на светлых головенках веночках.
– И я не люблю его больше, доченька. Поэтому Гаптариха тебя ко мне отправила зря. Я хотела его спасти, все срасталось, даже Софья появилась в помощь… Но он…
Мама встала, поправила светлые кудри, вздохнула
– Он живет прошлым, а оно, это прошлое давит вас там, на земле. Он помнит свое зло, оно изнутри выжигает его сердце. Я бессильна.
Она почти не касалась пола, который уже был виден, весь морок начал исчезать, растворяться, и перед Аленкой снова проявилась ее комнатка – янтарные стены, беленый бок печки, кушетка. А мамы уже не было, только легкий отсвет зеленоватой воды еще виднелся под потолком.
Окончательно Аленку привел в чувство жуткий стук. Кто-то молотил по двери, да не просто молотил, бил, как кувалдой, дверь моталась и была готова слететь с петель. Аленка подскочила, откинула щеколду и в комнату влетел растрепанный Прокл.
– Ты чего, лягушка? Влез кто? Я по тропке шел с реки, от твоего крика аж уши заломило! Обидел кто?
Аленка вдруг разревелась. Да так, что слезы градом хлынули из глаз, ее всю затрясло, заколотило, а потом она обмякла без сил. Странный приступ прошел, и, прижавшись к широкой, теплой груди Прокла она вздрагивала, всхлипывала, что-то лепетала, как маленькая. А Прокл гладил ее по мокрой спине, по голове, отводил с лица влажные пряди и приговаривал, как старичок
– Ну ничо… Ничо… Как обженимся с Машкой, переедешь в дом. Испугалась, маленькая… А хочешь я тут с тобой посплю – вон, в сенцах? Ну, не плачь, лягушенька. Большая ведь, девица…
…
Гаптариха молча выслушала Аленкин сбивчивый рассказ, с минуту пускала в потолок ровные серые кольца, потом спросила хрипло.
– Про Стеху мамка тебе ничего не говорила? Или нашептала?
Аленка отрицательно покачала головой, Гаптариха кивнула.
– Ну и ладно. Ее и так уж Бог наказал, дуру -то мою. Придешь через два дня, я воску наберу, много надо. Отливать будем папку твоего. И фотографию надо. Найди.
Глава 23. Прошлое
– Ну да… Болтали – все спалил, а не, жить можно. Сама подбелила, иль кто?
Аленка все время чувствовала странный запах своего нового дома – острый, как будто пряный, с примесью гари и дымка. Баню, спасли, конечно, но парилка сгорела полностью, стенки моечной подкоптились, как будто из специально обработали лампой, и только комнатка для отдыха оказалась не тронутой, огонь обошел ее, в ней Аленка и жила сейчас. Сама побелила мазаные стены, повесила занавесочки, застелила кровать узорчатым покрывалом, что выдала ей Софья, а больше и ничего не надо было – и так хорошо. Вот только в сенцах от жара полопалось маленькое оконце, его никто не стеклил – лето, жара, а в зиму здесь жить и не собирался никто. Вот в это окно и влезла круглая, потная физиономия, торчала с таким выражением маленьких, поросячьих глазок, вроде она застряла в дыре, смотрела недобро, придирчиво. И запах гари и дымка разом разбавился запахом плесени и прели – той, которая плюхает под ногами поздним октябрем, превращается в кашу, а потом вдруг истлеет, почернеет, пропадет. Аленка вздохнула, открыла двери сеней, кивнула, приглашая. И сразу черный кот обвился вокруг ее ног, плотное, упругое тело прижалось настойчиво, и почему-то это настырное касание показалось Аленке опасным.
– Баб Клав. Заходи, раз пришла, что у в окно-то лезть. И кот твой уж пролез, не кот, а ужас просто.
Бабу презрительно покосился на Аленку, змейкой вылился в приоткрытую дверь, и уже через секунду сидел у бабки на плече.
– Зайду, что не зайти. Да и разговор есть.
Бабка широко распахнула дверь в комнату, как будто собиралась выезжать туда на тракторе, сшибла неуловимым движением с плеча кота, подождала, пока он не скроется в глубине Аленкиной комнаты, вздохнула облегченно. Ее широкая, как печная полать грудь приподнялась и опустилась, появилось такое чувство, что по телу старухи прошла морская волна. И вонь снова сменилась запахом воды, как когда-то, давно…
– Ну вот. Бабу прошел, значит и мне можно. Вот тут сяду я.
Баба Клава опустилась на низкий табурет, вернее ляпнулась на него со всех сил, и Аленка испугалась – вдруг не подымется, беги тогда за Проклом.
Бабка аккуратно расправила юбку на огромных круглых коленях, угадывающихся по толстой тканью платья, как два средних по размеру арбуза. Бабу снова вскарабкался ей на плечо, сел истуканом, напрягся, глядя в одну точку.
– Тебе, может, чаю, баб Клав? Или мороженое, я в сельпо купила, холодное еще.
Баба Клава с жадностью поглядела на мороженое, лежавшее на блюде, хрюкнула, захлебнувшись слюной.
– Холодное? Давай.
Она с хрустом и шуршанием содрала бумажку с эскимо, в полкуса захватила его почти все, аж до палочки, но опомнилась. Отломила кусок, швырнула его прямо на только что вымытый Аленкой пол, скинула кота, и пиная его под толстую задницу подвинула к мороженому.
– Вкусное. Ну ладно. Я пришла-то чего. Ты, я слышала, с Алексея порчу задумала снять? С Гаптарихой этой, дурой? Так не выйдет у вас.
Баба Клава, пыхтя, отерла рот краем нечистого ситцевого фартука, ухватила Аленку за руку, усадила рядом.
– Я приворот хотела сделать, мачеха твоя попросила, уж больно ей за Лексея, папку твоего, замуж хотелось. Аж жопа горела. И то не смогла. Стена перед ним настоящая была, уж другой приворот ему душу сосал – Иркин.
Аленка слушала молча, у нее единственное желание было – отодвинуться подальше от этого кисельно-мягкого бока, чтобы не чувствовать эту нездешнюю вонь – и вроде гнили, и одновременно цветов да ягод.
– Мамин, ты имеешь ввиду?
Старуха утробно глотнула, протолкнув в живот сразу половину бутерброда с сыром, который Аленка приготовила себе на завтрак, потом снова вытерла рот и повернулась, в упор глянув на Аленку.
– Неприятно? Так ты не стесняйся. Вороти морду-то, вы сейчас все старших не уважать приучены. Ишь вы..
Старуха помолчала, потом взгляд ее из острого стал расплывчатым, усталым, она вздохнула.
– Мамин, мамин… Твоя мамка еще та ведьмака была, похлеще нас с Гаптарихой вместе взятых. Правда все по светлому, да и не пользовалась. Но раз не устояла.
Аленка растерянно слушала, отстраненно наблюдая, как ее второе мороженое тает на блюдце, расплываясь в бесформенную лужицу с берегами из тоненькой пленочки шоколада. И поганец Буба, подобравшись из-за широкой спины старухи, прижмурив от наслаждения плутовские глаза и прижав уши быстро шурует язычком, подбирая сладкую лужицу.
– Ты Стеху ту дурную видела? Она совсем без ума уж, а раньше разве такая была? Раньше от нее мужики без памяти ползали, а бабы готовы были ее своими руками удушить. Мамка твоя как раз замуж за батю вышла. А Стеха с Гаптарихой и объявились в селе.
Аленка удивленно смотрела на старуху. Ей и в голову не приходило, что Гаптариха с дочкой пришлые, ей казалось они были в селе всегда, как ветлы над Караем.
– Ага… На телеге их старый Аким привез, с вокзалу. Я как увидела Стеху, так языка лишилась. Чертова девка, картины писать только. Вся, как литая, загорелая, вроде цыганки, а волосы русые водопадом. Глаз, что у той кобылы, горит огнем, зубы из фарфора, да грудь колесом. Батя твой их встренул, он как раз тута, у сеструхи Анки был, крышу правил. А Ирка тобой ходила, на месяце седьмом была, не иначе. Может, меньше.
Аленке вдруг захотелось взять что-нибудь такое – лопату, грабли, ухват и погнать бабку подальше от глаз, да так, чтобы у той пыль из-под стоптанных башмаков летела. Баба Клава поняла, встала, оправила юбку, помолчала.
– Ты, баб Клав, домой иди. Мне сплетни твои слушать не интересно и не хочется. Уходи!
Старуха зло скинула кота, который снова залез к ней на загривок. выплюнула слова, как змея яд.
– И не слушай. Только Гаптарихе особо не верь. Сживете со свету папку – то…
Глава 24. Машка
Аленка собиралась на речку. За все это время, с тех пор, как она приехала домой у нее не было времени даже искупаться, хорошо хоть вообще приходила к реке, хоть пару раз. А вот сегодня, когда все дома было сделано, сестренка задремала, спокойно и вольготно дыша крохотным носиком, а София хоть чуть чуть расправила сжатые в вечной судороге плечи, Аленка собралась к реке. Не просто посидеть у воды, ей вдруг дико захотелось опуститься в освежающую воду Карая, лечь на упругие струи течения, как она делала когда-то, отдаться его воле, закрыть глаза, и так, лишь слегка напрягая руки и ноги, чтобы держаться на воде, плыть, как рыба – спокойно, уверенно, радостно. Софья посмотрела на падчерицу, полюбовалась ее стройным, еще не девичьим, а поджарым, как у мальчишки телом, подошла и поправила лямку на остром плече.
– Кузнечик ты еще, Лена. Вот прямо настоящий – ручки-ножки огуречик. Косточки, глазищи, да волосы копной, вот и вся девица. Ну, ничего. Все будет. Надо только подождать. Ух, какой у тебя кулончик интересный.
Софья хотела дотронуться до Аленкиной лилии на шее, но та резко дернулась, отпрянув, как будто не хотела, чтобы чужие руки дотрагивались до маминого подарка. И Софья поняла, отстранилась, спряталась опять в себе, сжалась.
– Злишься на меня? Зря. Я тебе не враг, наоборот, Ленушка. Счастья у меня нет особого с папой твоим, да, но ты тут не причем. Не случилось.
Софья вдруг сама поняла, что разоткровенничалась, сжала губы в прямую линию, отошла к кроватке дочки, поправила одеяло, натянула – спрятала бледные ручки, сложенные вместе, как у зайчика, чтобы не замерзли. А Аленка вдруг разозлилась… Сама ведь устроила это все, а теперь вон – плачется.
– Злюсь? Да. Ты к бабке Клаве бегала, приворот на батю делала. Так чего теперь хочешь, от этого никто добра не видел.
Софья подняла на нее глаза, и Аленке вдруг стало стыдно. Такой тоскующий и нездешний взгляд был у мачехи, что у нее кольнуло в груди.
– Сказали уже… Ну да…Позарилась на папку твоего, да и бабушка твоя хотела, чтобы мы сошлись. А он все мимо. Ну и…
Аленка дернула подбородком, упрямо тряхнула головой, ей совсем не хотелось слышать эти бредни, она бы вообще с Софьей не общалась бы… Если бы не мама…
– Ладно, теть Сонь. Пойду я, искупнусь, стемнеет а то. А бабка Клава – она противная, от нее добра не жди.
…
Карай лег у ног Аленки, как ласковый, соскучившийся пес, лизнул прохладной водой захолодевшие ступни, окутал ароматами прибрежных трав, водорослей, засыпающих цветов. Скинув сарафан, Аленка поежилась от подступающей прохлады, вступила в воду, походила по песку, привыкая, а, собравшись с силами, вошла в темную воду, как нож в масло, доплыла до середины, а потом легла, отпустила себя, влилась в эти струи, и потекла вместе с течением плавно, как русалка. Берега уже начали таять в подступающих сумерках, и опустилась такая звенящая тишина, что мир перестал быть реальным, стал сумеречным, волшебным. Аленка бы, наверное, так и уплыла бы невесть куда, но странный звук прервал тишину, и хотя он был тихим, но резанул по ушам.
Кто -то плакал в прибрежных кустах. Тоненько, неприятно завывал, всхлипывал, выл, как попавшая на цепь молоденькая сучка, заходился от тоски и одиночества. Аленка разом вынырнула из своего зачарованного мира, перевернулась, упругими махами крепких рук преодолела течение, вышла на песок и снова прислшалась. Она знала – там, за кустами спрятался маленький пляжик с лавочкой, скорее даже не пляжик – отмель, на ней часто собирались молодые пары, целовались до измора, благо лавочка была скрыта от людских глаз. Плач доносился оттуда.
Аленка пробралась сквозь ветки, сжимаясь от уже вечернего холода, ругая себя, что вылезла из теплой, по сравнению с воздухом воды, раздвинула заросли молодой полыни и… увидела Машку. Она сидела на лавке, почти прикрыв доски раздобревшей задницей, и ныла. Плакать, она, похоже уже не могла, нос распух, мягкие щеки дрожали, как кисель, глаз почти видно не было – куда делась ее победная кукольная красота одному Богу известно.
– Ты чего? Маш? А Прокл где?
Машка подпрыгнула от неожиданности, с ужасом глядя на откуда-то вынырнувшую девушку и распущенными, потемневшими от воды волосами, побелев от страха,всматривалась,пытаясь узнать. И Аленка увидела, что у Машки круглый, ненормально большой живот. Тогда, при первой встрече, она этого не заметила, а сейчас Машка как-то неудачно повернулась, платье обтянуло тело и все стало ясно.
– Господи! Ленка! Ты что ли? Чуть не померла со страху, что тебя носит по кустам? Да голая еще. Очумела?
Аленка подошла ближе, тронула Машку за плечо.
– Ревешь то чего? На всю реку слыхать.
Машка всхлипнула, вытерла обмякший рот рукой, потрогала нос. Потом развернулась всем телом, ткнула себя пальцем в живот.
– Видала? Братику твоему сводному спасибо.
– Так свадьба же у вас, что ныть то? На днях уж.
Аленка снова почувствовала к Машке то же самое – презрение, гадливость, и, почему-то, зависть. Прогнала это чувство, оно затаилось, но не исчезло.
– Свадьба… Сваааадьбаааа.
Машка тянула слова, как будто пробовала их на вкус и лизала распухшим языком, как петушка на палочке.
– Он бы и не женился, коль не это! Молчит, не признается, а я чую – не любит. Вот не любит, гад, так это у него, случилось…. Поняла? Слуууучиииилось!!! Так и сказал.
Аленке совсем не хотелось утешать эту корову, да и жалости к ней она особой не чувствовала, но оставить дуру здесь одну она тоже не могла.
– Вставай. Пошли. А то я тут околею, холодно в купальнике. Пойдем берегом, у меня на Ляпке сарафан остался. Оденусь, провожу тебя. Да не вой. Прокл, он хороший, добрый, не бросит.
Машка встала и послушно поплелась следом, и вправду, как корова с выпаса.
Когда они дошли до Ляпки, совсем стемнело. Аленка натянула сарафан на уже обсохшее тело, попрыгала на песке, прогоняя остатки холода, и тут увидела огромную фигуру, отбрасывающую под уже поднявшейся луной длинную, до самой воды, тень. Толкнула сомлевшую Машку в мягкий бок, и вытерла ладонь о сарафан – точно, настоящая квашня.
– Вон он жених твой. Не реви.
Прокл подошел, аккуратно приобнял Машку на плечи, повернулся к Аленке.
– Спасибо, лягуш, нашла мою беглянку. С час бегал.
Он вдруг замер, внимательно посмотрел ей в глаза, присвистнул.
– Ух, Ален. Ну, у тебя и глазищи. Озера! И в каждом по луне.
Глава 25. Кольцо с листиком
– Давай, изумрудная, что встала, как телка, вишь проход узкий.
Аленка отпрянула от калитки, украшенной гирляндами из полевых цветов – от массы туго сплетенных трав проход во двор, действительно стал узким, да его еще наполовину перегородил стол, под которым, по задумке хитрущей тетки Анны должны были проползать не отгадавшие загадки гости. На этой свадьбе вообще было много интересных смешных задумок – веселые друзья Прокла, которых за это время появилось немало, постарались на славу. Чудной вихрастый, похожий на молодого дятла тамада сновал туда-сюда с такой скоростью, что из под его начищенных, видно, до блеска ботинок поднимались клубы горячей пыли, и цвет их стал неясным – то ли черным, то ли серым. Он иногда останавливался, с сожалением поглядывал на свои ступни, неуловимым движением сбрасывал один ботинок, ногой в носке протирал второй, менял ноги, а потом снова продолжал свой путь. Несколько девчонок в кокошниках и узорчатых юбках, спрятавшись за пышным кустом сирени пытались спеться шепотом, но получалось шипение, как у стайки гусынь, и они хихикали, толкая друг друга в бок, кокетливо поправляли свои короны.
– Сама ты телка. Повежливее, ишь разошлась.
Аленка сердито глянула на Зару – совсем юную цыганку, появившуюся в семье соседей недавно, невесть откуда взявшуюся, нахмурилась было, но от вида этой смуглой красавицы, сияющей в свете яркого полуденного солнца всеми красками лета, у нее немного отхлынуло с души, она улыбнулась
– Тебе-то туда зачем? Там сейчас невеста с женихом выходить будут, я даже не пошла. Выгонят.
Зара свела сердито узкие черные брови, крошечная красивая складочка легла на смуглом лбу, чуть смяв идеально упругую кожу, глянула черными глазищами, как ожгла.
– Еще чего! Выгонят! Мы с Джурой пляшем на свадьбе, нам денег дадут. Вот тот, носатый, видала? Тот что землю ногой гребет, как кура с яйцом. Вот он. Джура там уже, я опоздала, а ты стоишь тут, все перегородила. Пусти.
Проскочив мимо Аленки, Зара крутнулась, вдавив каблучки красных туфелек в разогретую землю, юбки метнулись, на мгновение став колоколом, но она прижала их руками, звякнула браслетами, снова повернулась к Аленке.
– А я знаю, почему ты такая сердитая. Хочешь погадаю? Руку давай!
Аленка неожиданно для себя послушалась, протянула руку. Зара поводила щекотно пальчиком по ее ладони, потом подняла свои горячие черные глазищи, хмыкнула.
– Не поверила б, коль его руку не видала. Дорога к дороге. Не боишься, сапфировая, чужую жизню ломать?
Аленка ничего не поняла. Ей вообще все эти гадания были ни к чему, она резко отняла руку, непроизвольно оттерла ее о платье. Зара помолчала, потом повернулась и шмыгнула во двор.
– Что, зернышко, прорастешь скоро травой гибкой? Вон, заневестилась. Еще немного, замуж пойдешь.
Бабка Динара! Стоит подбоченясь, зыркает на нее из-под очков, не бабуся – настоящая реликвия, как будто вылитая из старой бронзы. Аленка вдруг так обрадовалась старухе, как родной, подскочила к ней, прижалась на секунду к сухому , как ветка телу.
– Баб Дин. Чего она! Какую жизнь, что несет-то?
Бабка погладила невесомой ручкой Аленку по голове, шепнула тихонько.
– Они всегда так, Ленушка, лепят, не знай чего. Не слушай. Чужую жизнь не сломать, коль она не высохла сама, как прутик сломленный. Не выйдет. А засохшую не спасти. Новую только начать. Иди.
…
Когда Аленка вошла во двор, жених с невестой уже выходили из дома. Прокл по сравнению с маленькой, раздавшейся вширь Машкой, казался огромным – настоящий шкаф. Да он и вел себя так – напряженно выпрямившись, глядя перед собой в одну точку, он держал руку бубликом, а шея его и плечи казались деревянными. На Машку же было смешно смотреть. Если взять колобок, приставить к нему второй, поменьше, на котором нарисовать четыре кругляшка – два повыше, блекло-голубые, один посредине – с двумя дырочками, как пятак у поросенка, и один внизу – ярко-розовый, напялить на верхний колобок ажурный веночек с косо прилаженной к нему кружевной фатой, а на нижний натянуть короткое кружевное платье, из под которого выглядывают две толстые ножки в светлых тапках – получится невеста. Машка пыхтела то ли со страху, то ли от напряжения, крепко держалась за деревянный бублик и тоже смотрела перед собой. И вдруг грянуло! Да так громко и неожиданно, что не только Аленка – сам жених вздрогнул и присел, и сразу стал похожим не на шкаф, а на испуганного слоненка.
“Посадили яблоньку… Та-на-на, та-на-на, та-на-на…Посадили яблоньку. Яблонька-то медова…А Мария молода. Та-на-на- та-на-на. По саду гуляала…Два цветочка сорвала… Проклу оба отдала…Та-на- на… Та-на…на…”.
Это девчонки в съехавших набок кокошниках, наконец спелись, прокричали звонко, пустились в пляс, разбрасывая направо-налево ромашки, сунули две в руки обалдевшей Машки, а ты пихнула их в руку Прокла. И тот так и стоял – в одной руке зажав ладонь невесты, в другой две ромашки. И вид у него был такой, что Аленке вдруг захотелось и заплакать и засмеяться одновременно.
– Ишь, багабна́скиро*… Орут, как овцы, уши глохнут. Ты, красивая, не грусти. Хочешь, колечко дам. Вчера на базаре выменял, красивое. Как сережки твои.
Аленка вдруг так явно почувствовала запах степи – полыни, чабреца, ветра – этот аромат воли ни с чем нельзя было спутать, что на секунду забыла то, что сейчас ее так потрясло – тоскующие и пустые глаза Прокла, обернулась. Позади стоял Джура. В цыганской одежде – узких атласных штанах, парчовой рубахе он казался совсем взрослым, настоящим цыганом, красивым и вольным. Черные кудри, зачесанные назад блестели на солнце, он улыбался ласково и чуть насмешливо. Взял Аленку за руку, потянул за палец, и холодок металла быстро согрелся, колечко, как будто сразу прижилось на Аленкиной руке. Она хотела было его стащить, но Джура прижал ее руку, цокнул языком.
– Не обижай. Я от души. На память…
И моментально исчез, как будто его сдуло – в глубине двора громко и недовольно что-то кричала Зара, перемежая цыганские слова с бранными.
Аленка подняла руку. На пальце переливалось колечко. Оно и вправду было похоже на ее сережки, такой же листик, просто один в один. Совершенно растерявшись – брать, не брать, она постояла в задумчивости, хотела было снять, но кто-то тронул ее за локоть.
– Не трогай. Кольцо – оно такая штука… Хозяев, как теряет, так и находит. Само…
Баба Динара улыбалась и смотрела на арку калитки. Оттуда выходили молодые, и Аленке показалось, что про кольцо ей сказал кто-то другой, не баб Дина. И она стащила его и положила в кармашек платья.
*певицы
Глава 26. Свадьба
Аленка уже очумела от колготы и духоты этой свадьбы – столько народу, чуть ли не все село, как оно вообще поместилось в доме… Хотя дом Машки – это не их с батей халупка, это настоящий дворец. Меланья, тетка Мила, в смысле, совсем не подходила на роль хозяйки этого дома, так, приживалка, может, а вот отец Машки, дядя Олег – даже очень, настоящий хозяин. Хоть и маленький, черненький и приземистый, как будто его распластали по земле, не человек – таракашка, а взгляд гордый, как у кочета, толстые пальцы маленьких, женских ручек все в перстнях, а короткие ноги, вбитые квадратными ступнями в дорогие, переливающиеся на солнце ботинки стояли на земле твердо и уверенно – не столкнешь. Меланья сегодня тоже принарядилась во все чистое и нарядное, даже привычных темных кругов под мышками на обтягивающем ее, парчовом платье не было – стоит рядом с мужем пава павой, смотрит чуть прищурясь, шевелит напомаженными губами. К этому времени даже они подустали, присели на лавку во главе уже почти опустошенного стола, приложили ладошки к побледневшим щекам – один с одной стороны, другая с другой – пригорюнились. Вдруг Меланья увидала Аленку, оживилась, поманила ее к себе
– Присядь, солнышко. Такая суета и поговорить-то некогда. Ты, Аленушка, к нам-то надолго?
Аленка послушно присела рядом, поморщилась от густого запаха пота, табака и еще чего-то сладковатого и противного, сказала.
– Не знаю, теть Мил… Сестренка, вроде, на поправку пошла, тетя Софья справляется. К концу лета соберусь, в школу мне.
Тетка покивала, чуть отстранила Аленку от себя, всмотрелась внимательно
– Ты прямо выправляешься, скоро невестой будешь. В городе, небось, останешься, что тебе в нашей деревне-то делать.
Аленка улыбнулась, но промолчала. Ей почему-то неприятно было смотреть в теткины глаза, бегали они странно, как будто врали о чем-то и стеснялись. Тетя Мила шмыгнула носом, подтерла его щепотью, но, покосившись на мужа, вытащила из-за пазухи платок, утерлась
– Духота здеся. Ты мне вот что скажи, красотуля. Батя-то твой с женой собирается жить, иль на сторону уйдет? Прямо вот не вовремя он с колес съехал, я дочу в нормальную семью отдавала, а тут…
Дядя Олег вдруг отмер, и было такое чувство, что он дерево, точно такое, как у них в палисаднике – короткое, мощное, с хищными ветками, торчщими в разные стороны, стояло дерево это, стояло и вдруг зашевелилось.
– Ша, Меланья. Несешь невесть што! Живут люди, чего тебе еще, дуре, надо?
Тетка Мила вскинулась, махнула на мужа рукой.
– Дуре! У них вон – мать утопилась, батя водку, как бык на водопое хлещет, Софка невесть откуда приперлась, девку в чужие руки отдали. Да и сынок, Проша этот, тоже не пойми куда глядит, на дочь твою не очень, все на сторону. Вот и дура!
– Конечно, дура!
Тетя Мила всхлипнула, взяла ский пирожок, куснула.
– Эт тебе на дочу наплевать. А у Прокла энтого в глазах дыра, так и свистит. Во как…
Аленке вдруг так жалко стало эту Меланью, да и Машку тоже – сидела она рядом с Проклом, выставив пузо, искоса взглядывала, ждала, что он на нее внимание обратит, а тот так и смотрел мимо, поверх голов вроде искал чего. И она сказала тихонько, опустив глаза
– Да нет, теть Мил. Все нормально у них. Просто ребенок болел, вот они и мучались. Теперь все получше.
Меланья опять очень внимательно посмотрела на Аленку, сказала злобно.
– Вот и давай. Езжай в свой город, неча тебе тут валандаться. Люди делом занимаются. работают, детей родют. А ты мотаешься, как хвост у телки. Городская…
…
Аленка шла через всю комнату молча, вдоль длинного, нескончаемого стола и чувствовала на себе взгляд Прокла. Но когда повернулась, оказалось, что ошиблась. Прокл смотрел в сторону. в окно…
…
Палисадник у Машкиных родителей был шикарным. Огромный, темный, заросший вьюнами и розами – это был целый мир таинственный и скрытный. В глубине стояла лавочка, да не такая, как всех, а мощная, широкая, резная. Не лавка – кровать настоящая, хоть ложись и спи. И если бы не комары, Аленка бы, наверное, так сделала… Да и комары не помеха, закутаться поплотнее, ( у них там всегда простынка на сучке болтается, сколько раз видела), да и провалиться в сон до самого рассвета, когда солнышко уже встанет над селом, проберется сквозь цветущие заросли, да погладит ее по щекам.
Она нырнула в прохладное нутро палисадника, хотела улечься на скамейку, но тут кто-то шныркнул мимо, как ящерица, аж ветерком обдало.
– Не бойся, алмазная, это Джура метнулся, пугливый, маленький.
На лавке сидела Зара. Выглядела она странновато – растрепанные волосы, расхристанная кофта, блестящие на входящей луне глаза.
– Дите еще, а нас женить хотят. Меня вызвали с Пугачева, я б сама не поехала, так погнали. У нас не спрашивают, надо, так и надо. А он, как сосунок…
Зара поправила кофту, что-то такое сделала с волосами, и они рассыпались по плечам черным водопадом.
– Он тебе кольцо дал, знаю. Так это пустое. Не его кольцо, обменял он его. И знаешь у кого? Нет? Так и не скажу. Не надо оно тебе…
…
В доме было темно, Аленка решила, что она даже заходить не будет, шмыгнет мышкой вдоль огорода, спрячется в своей баньке. Она так и сделала бы, но в темноте двора кто-то был, дышал горячо, как будто всхлипывал. Аленка притормозила на секунду, и ее схватили за руку.
– Не бойся, это я, София. Ты отца не видела?
Аленка хотела было что-то сказать, да что тут скажешь, коль батю с той свадебки можно было на руках выносить, его и вынесли – Горбатка, утробно и басом хихикая подхватила мужика, чуть не задравши от земли, потянула за собой – глянь его уже и след простыл.
– Нет, теть Сонь. Не видела.
Софья вздохнула, с трудом разогнула спину, шепнула.
– Ты завтра, детка, ко мне переходи. Что ты там ютишься… Давай, все не одна я буду....
Она помолчала, аккуратно разглаживая концы платка, спросила
– Придешь?
Аленка согласно помотала головой.
А над Караем всходила огромная луна… Она была такой большой, что закрыла собой половину неба. Дальний терновник вдруг стал огромным и страшным, как будто черный колдовской лес вырос за рекой за одну ночь, и там, в этом лесу, на ветках мощных деревьев, устав метаться среди омутов и стремнин сидят светлые тени. Им и весело и грустно, они не знают как, а нежная тихая мелодия плывет над Караем…
Глава 27. Любовь и беда
– А ты, милка, не нюнь, оно, мужичье, такое, чуть юбка послаще завоняет, так они у ней, кобели. Эта сучка, Горбатка, любого принимает, лишь бы штаны, а в штанах и не важно чего. А твой, небось, от горючего уж и не могет ничего, так, к стене прилагательный. Она ему стакан, он и упадет. Вот и вся любовя…
Аленка, уютно прижукнувшись на топчанчике за печкой, чуть покачивала кроватку, в которой тихонько сопела разрумянившаяся Ксюшка, сестренка почти поправилась, окрепла, налилась щечками и теперь была похожа на кукленка – круглоглазого, с мягким нежным носиком, розовыми губками и тихим голоском. Ксюшка даже когда капризничала, злилась, она не кричала громко, она заливалась колокольчиком, почти неслышно, ласково, переливчато. Аленка неожиданно и сильно привязалась к ребенку, старалась побольше проводить времени с Ксюшкой, взяла на себя почти все заботы, отпустив Софью заниматься хозяйством. А той было чем – корова, козы, целый птичий двор, да огород ни конца и не края, все это требовало сил и времени, выматывало ее до последней жилочки, гнуло к земле. А батя редко появлялся на дворе, все мотался, то у Горбатки, то у дружков, которых вдруг появилось видимо-невидимо, а то тут Аленка встретила его с Любкой. Та стояла, крепко упершись в песок своими кривыми короткопалыми ногами, трясла выставленной вперед грудью, хихикала заливисто. А батя перед ней гоголем, прянул было навстречу, правда не удержался, покачался с секунду, и рухнул, как подкошенный к ногам Любки, закорябался, пытаясь встать, а та аж зашлась хохотом, затряслась, как будто ее из киселя вылили, заикала. Аленка хотела врезать ей коромыслом – как раз в ведре воду с реки тащила с ряской, чтоб утям вылить, да передумала. Противно. Да и ни к чему.
Вот и сейчас, слушая Катерину, она то проваливалась в свое тихое забвение, то выныривала, с беспокойством поглядывая не разбудила ли толстуха Ксюшку, и вот это неприятное раздражающее противное чувство сосало под ложечкой. Софья слушала молча, позвякивала подстаканником, то поднося чай к бледным губам, то передумав, ставила стакан на стол. Видно было, как ей тошно слушать это все, но Катерина была настырна, не выгнать
– Так он, Катя, домой перестал заходить… А как зайдет, так падает прям на пол в сенцах, так и спит. Сейчас сенокос второй, первый еле вытянула, хорошо соседи помогли. А сена не будет, куда корову-то дену? Девчонкам молоко нужно…
Софья чуть не плакала, она совсем уже не была похожа на ту, стройную, чернявую казачку, победно смотревшую на Аленку с крыльца – старушка старушкой. Катерина вскинулась, развернула сразу три конфеты, одну за одной понакидала их в бездонную прорву рта, зашепелявила, не прожевав.
– Ну…Корову… Корову, хошь, я у тебя заберу. А молока девчонкам твоим продам, задешево, не звери ж. Моя, ты знаешь, в овраге потопла, телка еще мала. А твоя мне как раз, да и тебе полегче. Ленка к бабке умотает, а тебе с Ксюхой и козьего хватит. Куда вам…
Катерина захлопала толстыми губищами, вроде как прямо вот сейчас корову сведет с двора, но Софья вскинулась, звонко крикнула.
– Корову тебе? Ишь ты! Морда не треснет бесстыжая? А ну-ка, что расселась, как барыня? Некогда мне с тобой чаи распивать, дел по горло. Давай, давай, сбирайся.
Катерина отскочила к крыльцу, торопливо напялила тапки, крикнула сипло.
– Ну и дура! А я ей ищо хотела своего братца твоюродного в работники сосватать, он в субботу приезжает. Насовсем, кстати. Холостой! Хрен теперь вас познакомлю, отрава ты хоперская! Чига! Что с тебя взять…
С Аленки дремоту, как рукой сняло. Она выдернула зыхныкавшую Ксюшку из кроватки, уложила рядом, прижала покрепче, и с изумлением смотрела, как вдруг совершенно рассвирепевшая Софья схватила ухват, и выставив его перед собой, как пику пошла на Катерину. Но та, вдруг оказалась проворной, крутнулась, вколыхнув студень своего рыхлого тулова и выскочила в сени. И через минуту ее пылающие щеки осветили сумерки вечереющей улицы, как будто зарево.
– Попомню я тебе! Ишь, фря поганая. Мужика удержать не могла, плохо ему с такой дурой, коль запил, да по юбкам мотается. Так и сдохнешь – не жена, не вдова. Целуйся со своей коровой!
Аленку вдруг разобрал такой смех, что она, сдерживаясь, чтобы не разбудить заснувшую Ксюшку, положила сестренку в кроватку, подошла к Софье. А ты вся полыхала от злости, руки у нее тряслись, ресницы дрожали, она смахивала слезы, и странно давилась, как будто старалась не зарыдать.
– Теть Сонь… Ну, хватит… Я завтра к Проше схожу, насчет сенокоса, он не откажет. У него дружков полно, да еще Джура тут косил сам, тоже поможет. Справимся, не плачь. А то Ксюшку напугаешь.
Софья справилась с собой, притянула к себе Аленку, усадила рядом.
– Никогда, девочка… Никогда не иди за того, кто другую любит. Неважно – живая та другая, или мертвая – это не имеет никакого значения. Никому не верь, ничего не предпринимай, чтобы его отнять – бесполезно. Запомни мои слова. Лучше одной быть, чем нелюбимой. Жизнь становится черной, а ты пылью придорожной. И сделать нельзя ничего…
Аленка гладила мачеху по голове, как маленькую, а та прижалась к девочке – беспомощная, худенькая, вся горячая от слез.
– Вот ты уедешь, так мне хоть вешайся, Ленушка. Не могу… Уйду я, наверное, назад, к своим. Там у меня все родное, близкое. Дядька там, тетка, они помогут. Умру я тут.
Аленка чуть отстранила мачеху от себя, вытерла ладошками ее щеки, сказала тихонько.
– Теть Сонь…. Я завтра к Гаптарихе иду… С бати приворот на мертвого снимать будем, оно поможет. Мама не виновата, он сам это натворил, ты на нее зла не держи. Она мне говорила…
Софья окончательно пришла в себя, странно посмотрела на Аленку, покачала головой.
– И ты туда же. Не верю я, Ленушка, в эти дела. Хоть что – не верю. Ладно. Пошла я. Корова не доена, козам надо задать, птице. Ты с Ксюшкой побудь, не убегай. А это? Что у тебя?
Софья подняла с лавки колечко с листиком, пока они тут обнимались, оно и выпало у Аленки их кармана. Всмотрелась, покатала на ладошке пальцем, протянула.
– Прокл, вроде, выменял его на жеребчика, говорил у цыган. Ругалась я, фамильное оно, да разве он слушает. Ты-то откуда его взяла?
Аленка выхватила кольцо, сунула его в карман, буркнула, неожиданно грубо.
– Где взяла, там нет. И хватит об этом. Иди…
Вечер лег на стекла окон бархатным покрывалом. Не было ни луны, ни звезд, душное тепло окутало село, как вата, небо почти легло на крыши. Дальние зарницы уже чертили небо над полями, вспыхивали верхушки редких кленов, как будто их поджигали спичкой – шла гроза. И Аленка в этой кромешной темноте даже не сразу разглядела огромную фигуру, медленно подходящую к дому. А то бы закрыла двери на все замки, не пустила бы…
Глава 28. Сливание на ножи
– Напугал, черт! Аж сердце в пятки, что тебя носит по ночам, темно уж. Заходи!
Аленка вдруг почувствовала себя хозяйкой дома, снова почувствовала, как раньше – девчонкой. Она да батя, вот и все хозяева, и дом был живой, теплый, не то что сейчас. Отняли у нее дом, а ему не понравилось, загрустил он без своей маленькой Аленушки, замутились глаза-окошки, понурое крылечко с покосившимися ступенями, прохудившаяся крыша в сенцах – все придавало дому печальный и нежилой вид, как будто душа из него ушла. А сейчас он снова начал оживать, особенно когда Аленка вчера намыла окна, да покрасила крылечко в ярко голубой цвет – прям заулыбался. Хозяйка вернулась!
Прокл зашел в сенцы, скинул плащ, потоптался нерешительно, но все же стащил здоровенные, как трубы сапоги, прошел в кухню, сел на лавку, стеснительно сунул здоровенный ступни под сиденье – один носок был рваный, нештопанный.
– Молока давай налью. Или простокваши. Тетя Соня хлеб пекла, да и мед у нас есть. Хочешь?
Прокл покивал головой, он прятал глаза и выглядел побитым огромным псом. Аленка поставила перед ним миску, вывалила из глечика ком густой простокваши, удалась она у них вчера, отрезала ломоть хлеба, пышного, как пух, поставила мед на блюдечке.
– Ты чего пришел? Дело есть? А я к тебе хотела завтра сходить, насчет покоса.
Прокл вскинулся, заулыбался, было ясно, что слова Аленки помогли ему найти причину прихода, быстренько заглотил полмиски простокваши, потянулся ко второму ломтю.
– Бери, бери. Тетя Соня два каравая испекла, всем хватит. Не стесняйся.
Прокл с удовольствием впился зубами во второй ломоть, зажмурился от удовольствия.
– А у нас, лягуша, все покупной. Машка не хочет печь то, она вообще готовить не любит, все мать больше. Да ладно. Я, кстати, по поводу покоса и пришел. После выходных у меня день пустой, могу помочь. Как вы? Мать когда придет?
Аленка отняла у Прокла пустую посуду, загрузила ее в таз, с усилием воодрузила на плиту ведро с водой.
– Через час, не ране. Корову доит, потом козам задаст, да к курам. Я ей скажу. Ты домой спешишь?
Прокл встал, отнял у нее таз, буркнул.
– Сам помою. Вон у тебя и так дел…
Аленка отпихнула несуразного братика локтем в бок, и аж поморщилась – тело у Прокла было, как из железа, не пробьешь.
– Отстань. У меня посуды вон – гора целая. Днем недосуг было, сейчас и помою, пока тетя Соня управляется. Ты что? Домой не спешишь?
Прокл отошел, снова сел на лавку, опустил плечи, вздохнул.
– Ноги не идут, лягуша. Тут я дома, хоть не в своем, а как в своем дому-то. А там…
Аленка присела напротив, всмотрелась в лицо парня. У нее снова, как тогда, в детстве, что-то больно ворохнулось внутри – горячее, стыдное, тайное. И оно – это стыдное, разлилось по всему телу огнем, жгло изнутри, мучило. Прокл тоже поднял глаза, и на его смуглом от загара лице, как будто отразилось это пламя, зарозовело щеки, полыхнуло в глазах, опалило губы. Он встал, подошел к окну, распахнул створки. А там, за окном темно фиолетовая ночь пухла грозовыми тучами, в темноте они казались тяжелыми и бесконечными, как будто черная вата вывалилась из неба и упала клоками на село, завалив его.
– Щас вдарит. Глянь, лягуш, какое там, молния за рекой с руку толщиной.
И вправду. Ахнуло так, что зазвенела посуда в буфете, уши заложило, аж слезы их глаз. Аленка взвизгнула, бросилась к Проклу, спряталась за ним, прижалась, как будто он был стеной – теплой, несокрушимой, защищающей. Прокл придавил было худенькой тельце сестрички к своему боку, но вдруг закаменел, отодвинул ее в сторону, закрыл окно.
– Сюда идет гроза, глянь. Пойду за мамкой, как бы не напугалась. А ты к Ксюшке давай, сейчас заорет.
Он одним шагом отскочил к дверям, обернулся.
– Ты, лягуша, лилией пахнешь. Той самой, что на реке. Прямо голову кружит.
Аленка села на стул, как будто ей врезали под коленками. Сердце колотилось, как бешеное, а то местечко на руке, которое сжал Прокл своей лапищей горело, вроде по нему провели раскаленным утюгом.
…
– Ты, Аленка, еще дитятко, а невестишься. Рано, девка, рано, не торопи жизнь, сама поторопится. Чую я, бурлит в тебе, моя Стеха такая же была, а вон – гляди.
Гаптариха торопливо расстилала на приземистом кривоногом столе темную бархатную скатерку, устанавливала таз – медный, темный от времени, зажигала свечи. А Аленка не могла оторвать глаз от Стехи. Та сидела на стуле у окна, волосы у нее были распущены и спадали почти до пола, кожа тонкого, как будто фарфорового лица светилась в пламени свечей, а глаза были похожи на светлые омуты – в них не было дна. Женщина сматывала пушистую пряжу в клубок, что-то напевала тоненько и жалобно, и от каждого звука жилка на ее шее надувалась и пульсировала . Если бы Аленка не знала, сколько ей лет, она подумала бы, что это юная девушка, вот только с печально опущенными углами красивых губ.
– Смотри, смотри. А была умная, как бес, верткая, цепкая. Не в свое полезла. Вот и ты гляди. Фотографию с батей принесла?
Аленка с трудом отвела взгляд от Стехи, вытащила крошечную фотографию, осталась у бати от какого-то документа, сунула Гаптарихе.
– Такая только? Пойдет?
Та цепко ухватила, повертела, кивнула. А потом сунула под таз, видя, как Стеха медленно встала и пошла к столу, глядя в одну точку – туда, куда бабка пихнула фото. Гаптариха засуетилась, крепко обняла дочь за талию, и видно сжала так, что та ойкнула
– Кудааа. А ну, спать! Ишь выпучилась, нетыра. Я тебе попучусь.
Старуха ловко вытолкала Стеху в спальню, прикрыла дверь, накинула щеколду.
– Сейчас в окно выть начнет. Прямо нутром Лексея чует, как сучка течная. Хоть в погреб закрывай. Воск давай. Там, на полке.
Аленка вздрогнула от неожиданности, сняла с полки сверток с воском, положила на стол. И со странным страхом смотрела, как Гаптариха пробует пальцем острие ножа, ойкает, подносит пораненный палец ко рту, потом берет второй такой же и укладывает их крест накрест на таз сверху.
– Хорошо заточил, гад. Чуть палец не отрезала. Ты вот что, девка.
Гаптариха развернулась лицом к Аленке, и у той аж мурашки побежали по спине, настолько страшна была старуха – тощая, черная, с провалами вместо глаз, настоящая ведьма.
– Отвязка опасная, коль чего, помрет батя твой. А и без нее помрет. Так что сиди тихо, проси Бога, чтоб уберег.
Аленка сжалась в комочек в углу комнаты, и все вокруг нее плыло в мутном тумане. Она улавливала только отдельные слова. “Духа неупокойного…крестом ножевым…привязка мертвяцкая…” Гаптариха бормотала быстро, ее слова казались упругими и живыми, вроде крошечных черных птиц, которые порхали над волнующейся темной водой в тазу, и их отражения мутили блеск отточенной стали. Потом все враз прояснилось, Гаптариха лила воск в воду, и он скатывался с батиной фотографии на ножи, как застывающие слезы.
– Зароешь у реки. Да поглубже. Ничего не утеряй, вместе с ножами каждую капельку восковую похорони. Слова на бумажке вот написала, повторишь слово в слово. Потом сольешь на себя чистой водой из ведра, да Богу помолишься. Иди…
Аленка, прижав сверток к груди, бросилась по тропинке к реке. И когда она выбежала за калитку, то услышала, как тонко и пронзительно воет Стеха, и ее крик уносит ветер за Карай.
Глава 29. Отвязка
Аленке не было страшно. Она вообще не боялась своей реки, ни днем, ни ночью, на берегу она чувствовала себя легко и спокойно, она знала, кто ее бережет. Прижимая к груди сверток, который ей дала Гаптариха, она сбежала по дорожке вниз, к пляжу, нырнула под склонившиеся ветви старой ивы и побежала прямо по мокрому песку к небольшой заводи. Там Карай поворачивал свои воды чуть правее, прямо посередине образовалась отмель, похожая на круглый островок, узкий мостик был перекинут на ту сторону, и там, на той стороне было то самое место, где она решила закопать сверток. Уже было темно, прочитать Гаптарихину записку, наверное уже не получится, но Аленка твердо решила довести дело до конца, то что там написано она вдруг запомнила почти наизусть, врезались эти слова, похожие на песню, сразу и насмерть.
Перескочив мостик, она перекрестилась, сама не понимая откуда это у нее взялось, бабушка была неверой и внучку вере не обучала. А тут рука сама поднялась, сотворила крест, и Аленке стало сразу спокойнее, теплее на душе. Пробравшись сквозь прибрежные заросли к небольшому пятачку, покрытому нежной травкой, она достала из свертка острый совок, воткнула его в теплую землю, копнула. И услышала смех. Тот самый – колокольчик, ласковый и родной.
– Не думала, Аленушка, что ты такими вещами будешь заниматься, не похоже на тебя. Но то что ты решила помочь папе – это правильно.
Мама стояла прямо на воде. Подол ее легкого, расшитого кружевами платья, тонул в струях Карая, но не был мокрым, как будто вода вокруг мамы стала хрустальной и сыпучей, как миллиарды крошечных блесток, то ли из серебра, то ли из стекла. Волосы в этот раз у нее были подобраны, туго стянуты на затылке, и от этого ее лицо казалось строгим, бледноватым, прозрачным. Аленка распрямилась и мама пошла к ней, ноги ее скользили по сыпучей воде легко, почти не касаясь, казалось она не шла, а летела.
– Ты копай, Аленушка, тут я тебе не помощница. Все сделаешь, читай, старайся все точно повторить, это важно А я посижу здесь, под ветлой.
Аленка послушалась, быстро, как зверушка лапкой выкопала глубокую ямку, уложила сверток, забросала землей, потом сняла туфли, потопталась босыми ногами по теплой земле. Мама смотрела, не отрываясь, в глазах у нее блестели слезы, лицо становилось все бледнее, она тяжело дышала. Аленка вытащила листок, расправила его ладошкой, и в этот момент выглянула такая яркая луна, что каждая буква стала видна, как днем, даже еще четче.
“Из земли, из воды, в землю, в воду…Отошло от Алексея, навсегда пропало, навсегда забыло…”
Аленка читала истово, голос ее звенел, взлетал к верхушкам темных деревьев, а мама без сил, как будто стекла на землю, закрыла глаза, таяла в во вдруг упавшем тумане. Аленка испугалась, подошла к матери, присела рядом.
– Мам… Ну ты же сама мне говорила, что бы батя жил земной жизнью. Ты обманывала меня? А он ведь насмерть твой. Отпусти.
Мама привстала, немного пришла в себя, улыбнулась горько.
– Я и не держала его, доченька. Но вот удержать от беды могла, привязался он ко мне сильно, сам мне власть дал. Я и так, и сяк от него, думала – женится, хоть немного приворот ослабеет, так нет… А теперь уж и совсем…
Аленка схватила маму за руки, они были невесомыми и холодными, совсем не такими, как в прошлый раз – теплыми и живыми.
– Что “совсем”? Что совсем, мам? Ну, не молчи…
Мама встала, отняла руки, медленно пошла к воде. У края повернулась, вздохнула.
– Вы привязку сняли, он теперь свободен. У меня нет больше над ним власти, она волен сам решать, как жить. И уберечь я его уже не смогу. Может быть, это и лучше. Моя власть только к беде вела.
Она вступила в воду, и Карай расступился, жадно раскрылся, готовясь принять свою добычу. И голос мамы звучал уже далеко, еле слышно.
– Устала я, Лена. Сил нет. Ты иди домой, девочка, только молчи, не говори ничего. Кого не встретишь, кто чего не спросит, молчи. А то отвязка силу потеряет, этого нельзя делать. Иди…
…
Аленка неслась по тропинке к двору тетки Анны, аж ветер свистал в ушах. И она уже почти домчалась, как у самого палисадника кто-то ухватил ее сильными цепкими пальцами за кисть.
– Жемчужная моя, бежишь, как будто кто гонится… Проводить тебя? Обидел кто?
У Аленки со страху аж перехватило горло, она с ужасом обернулась, но выдохнула – рядом стоял Джура. Она и не замечала, что он такой красивый – стройный, высокий, с черными горящими глазами – просто сатана. Джура улыбался, тянул ее за руку к себе, ласкал глазами, и Аленка разозлилась. Вырвала руку, толкнула цыгана с силой в грудь, и саданула изо всех сил калиткой, чуть не разбив ему лоб.
– Ты что, скаженная! Носишься в темноте, ночь тебе не в ночь, а завтра покос. Цыган вон приходил к вам, тоже завтра помочь придет, мамке обещал. А ты его чуть не по лбу. Вот вертячка!
Тетка Анна бубнила басом, полными руками плюхала себя по пышным бокам, качала головой. Но Аленка обогнула ее, как кадушку, невесть откуда взявшуюся на дороге, и помчалась через огород к дому.
…
– Вставай, сонька-засонька. Мужики уж пошли, а то роса спадет. Я там тебе яиц сварила, масло свежее, поешь, да на поле бегом. А я пошла.
Аленка с трудом оторвала звенящую, как чугун, голову от подушки, как сквозь туман разглядела веселую, разрумянившуюся Софью, потерла глаза.
– Какие мужики, теть Сонь? А Ксюшку куда? Вот, проспала ведь.
Софья внимательно посмотрела на себя в зеркало, поправила белоснежный платок, и Аленка заметила, как блестят ее глаза, прям, как когда-то. И сережки – колечки золотые так и пляшут в ушах, давно она не видела. чтобы мачеха надевала украшения.
– Так какие. Проша, Джура соседский…
Она помолчала, вытянула кучеряшку из-под платка, накрутила ее на палец, но потом устыдилась, засунула назад.
– И батя твой. Помощнички. Быстро управимся. А с Ксюшкой Маша посидит, ей привыкать пора с дитятку. Вставай, ленивка…
…
Солнце еще не было ярким, жмурилось сквозь легкие облачка, но уже было понятно – грянет жара. Теплые лучи прорывались через кисейную занавеску, отражались в начищенных половниках, развешанных у печки, и казалось, что маленькие солнышки пробрались к ним в кухню и поселились в ней. Букет ромашек, откуда-то взявшийся яростно белел на столе, и из-за него все казалось праздничным и ярким. Аленка побросала себе в лицо пригоршни ледяной воды, натерла щеки полотенцем, в два куса заглотила бутерброд с маслом, хлебнула остывший чай и выскочила на улицу. Вот только странное ощущение тревоги мешало ей, кололо, лишало той спокойной радости, которая шла от Софьи.
Но. обругав себя за глупость, Аленка вприпрыжку перебежала огород и бегом понеслась к лугам, там, где была их делянка.
Глава 30. Покос
Жара набросилась на Аленку, как хищник на добычу, казалось она таилась здесь, на лугу, где-то среди распаленной уже с утра травы, и как только увидела эту дурную голоногую девчонку в сарафанчике чуть повыше колена, с тяжелой светло-русой косой, бьющей по худенькой спине при каждом прыжке через куртины, с загорелыми руками-прутиками, покрытыми золотистым еле заметным пушком, с огромными, распахнутыми миру глазищами с длиннющими ресницами – так и вспорхнула огненной птицей, набросилась, желая сжечь дотла, спалить, превратить в пепел. И вроде рано еще, солнце только поднялось над дальним лесом, а уже небесный огонь разошелся вовсю, нагрел травы, затопил медовым ароматом луга, и запах скошенной, уже подвявшей травы кружил голову. Джура вовсю ахал косой вразмах уже у самой кромки, там, где дикая малина сплелась с ежевикой, образовав колючий ковер, ему осталось с пару метров, а Прокл стоял в тени одинокого, невесть откуда затесавшегося на пахотный луг клена, вытирал косу пучком травы, улыбался. Батя же стоял рядом с Софьей, смотрел куда-то ввысь, и его худые, мосластые плечи чуть подрагивали, как будто он плакал.
Софья увидела Аленку, помахала рукой.
– Или сюда, детка.
Аленка с вызовом встряхнулась, как бы говоря жаре – иди вон, не напугаешь, и та отпрянула, сжалась, легким ветерком потянуло из ближнего лога, за которым раскинулся тайно Карай, и оттуда потянулись тучки, пока неловкие, несмелые, похожие на перышки птиц. Аленка подскочила к бате, задрала голову, глянула на него снизу.
– Бать. Ты быстро как откосил, вон цыган еще машет. Ты быстрый…
Аленке захотелось приластиться к отцу, как раньше, прижаться, она вдруг снова почувствовала себя малышкой- Аленушкой, лучше которой для бати не было. И она прижалась к его худому, жесткому, как доска бедру, сунула ладошку в холодную руку. Батя, как будто отмер, пригладил ее растрепавшиеся волосы, тихонько проговорил.
