Ханская присяга бесплатное чтение
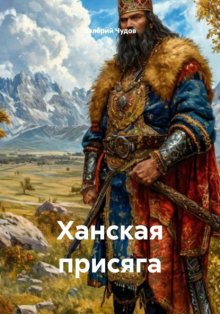
Ханская честь
Ураз-Мухаммед (Ураз-Магмет, как называли его на Руси) был единственным из казахских султанов-джучидов, ставшим полководцем и государственным деятелем Русского государства, ханом вассального от Москвы Касимовского царства. Он участвовал во всех войнах при царствованиях Федора Ивановича и Бориса Годунова. Во время Смуты на Руси в начале семнадцатого века, он первый из казахских ханов вступил в контакт с Великим княжеством Литовским и Польшей, которые видели в нем посредника для продвижения своего влияния в Центральную Азию. Его трагическая гибель стала причиной смерти самозванца Лжедмитрия Второго, после чего Русь прекратила внутренние распри и занялась освобождением своих земель от интервентов.
В один из осенних погожих дней 1606 года Ураз-Мухаммед ждал гостя в Касимове – столице своего ханства.
Этот русский городок когда-то назывался Городец-Мещерский, но переименован в Касимов после того, как великий князь московский Василий Второй Темный подарил его татарскому хану Касиму, бежавшему из Золотой Орды и принятому на русскую службу. С тех пор – это центр Касимовского ханства, которое занимало территорию по реке Оке до Волги, населённую в основном мещерами, мордвой, черемисами, татарами. Впрочем, жили здесь и русские.
Ураз-Мухаммед попал в Москву случайно. Он был сыном Ондан-султана, потомка Чингизидов по казахской ветви. Когда отец погиб в 1585 году, Ураз-Мухаммеду было тринадцать лет, и его взял на воспитание хан Казахской Орды – Тауеккель (Тевеккель), брат Ондан-султана. В 1587 году он отправил племянника к сибирскому хану Сеид-Ахмету в качестве аманата (заложника). В 1588 году сибирский воевода Федор Чулков взял в плен Сеид-Ахмета. Среди пленных оказался – племянник Тауеккеля. Он не оказал сопротивления, а наоборот согласился поехать в Москву, о которой слышал еще в детстве от отца. Когда-то Ондан-султан оказал услугу московскому царю Борису Годунову и не забывал об этом похвастаться. Так Ураз-Мухаммед оказался на Руси.
А сегодня к нему должен был приехать его друг, крещённый ногайский князь Петр Урусов – первый человек, с которым подружился шестнадцатилетний казахский султан волей случая занесенный в далекую Москву. Он дал ему первые уроки русского языка и познакомил с жизнью и обычаями на Руси. Ураз-Мухаммед был хорошим учеником и, благодаря покровительству Бориса Годунова, благосклонности царя Федора Ивановича, да своим личным качествам, стал быстро продвигаться по служебной лестнице. В восемнадцать-девятнадцать лет, во время войны со Швецией и против крымского Казы-хана он командовал мусульманским корпусом, а в двадцать четыре года казахский султан стал уже воеводой полка «левой руки», третьего по значимости воинского соединения русского войска. Когда ему исполнилось двадцать семь лет, он командовал самым крупным воинским соединением – «большим полком», стоявшим против крымского хана. Молодой полководец руководил десятками тысяч человек – стрельцами, пешими и конными воинами. И все это время Петр Урусов служил в подчинении у Ураз-Мухаммеда.
В 1600 году за верную службу русскому государству и преданность царскому престолу, воинскую доблесть и мужество царь Борис Годунов пожаловал его Касимовским ханством с волостями и доходами. Так в двадцать восемь лет Ураз-Мухаммед стал Касимовским царем – самостоятельным правителем части русской земли. Впрочем, правителем он был лишь для мусульман, в самом городе Касимове всем верховодил русский воевода и бояре. Как приближенное к трону лицо, Ураз-Мухаммед участвовал во всех важных мероприятиях при московском дворе. А в качестве военачальника он был поставлен командующим войсками, защищавшими южные границы Русского государства.
После смерти Бориса Годунова, Ураз-Мухаммед, сославшись на болезнь, сидел в своем поместье на Оке, в Москве не бывал и не участвовал в дележе придворных должностей. Правда, новый царь —Дмитрий Иванович, о нем не забыл и прислал ему грамоту с подтверждением привилегий Касимовских служилых татар. Не прошло и года, как его скинули, а на трон взошел Василий Иванович Шуйский, боярин, с которым раньше у Касимовского хана были не очень хорошие отношения. И на этот раз Ураз-Мухаммед на празднества в Москву не поехал, решив посмотреть, что будет дальше. Но вот друга, решившего к нему заехать по пути в Москву, он решил встретить в Касимове, где бывал не часто, лишь по государственным или судебным делам, да еще когда собирал совет своих биев, беков и старейшин.
Петр Урусов прибыл во главе большого отряда, который расположился на отдых за городом. Сам он с телохранителями подъехал к большому дому у мечети, где встречал его Ураз-Мухаммед. Друзья обнялись, и хозяин пригласил Петра в дом.
Они были разные, как по внешнему виду, так и по характеру. Ураз-Мухаммед был худощав, с небольшой бородкой и усами, Петр – ниже ростом, коренаст, плотного сложения. В отличии от своего друга Урусов бороды не носил, а тонкие, закрученные вверх на западный манер, усики выглядели необычно на его круглом азиатском лице с глазами-щелочками. По характеру Ураз-Мухаммед был сдержан, нетороплив и осмотрителен, Петр – энергичен, вспыльчив, с резкими движениями. Ураз-Мухаммед, которому шел тридцать четвертый год, был младше своего друга, но Урусов всегда признавал за ним первенство во всем.
После обеда, Ураз-Мухаммед сказал:
– Я не видел тебя, наверное, года три.
– Да, еще до кончины Царя Бориса Федоровича, – прикинул Петр. – Тебя же с тех пор в Москве не было.
– А ты что делал?
– После смерти Бориса Федоровича, не успели мы принести присягу его сыну Федору Борисовичу, как и того заменил на троне новый самодержец. Дмитрий Иванович, который к изумлению многих, оказался воскресшим сыном царя Ивана Васильевича. Шуйских он не жаловал, вот и приговорил Василия Ивановича Шуйского и его брата к смертной казни. Они уже и головы свои положили на плаху, да палач не успел взмахнуть топором – пришло помилование. Отправили их в ссылку. Ну а я, ты знаешь, женат на вдове Андрея Шуйского, значит, в родстве с ними. Поэтому решил судьбу не искушать и уехал в свое поместье на Волге. Прошло совсем немного времени, Дмитрия Ивановича, говорят, убили, а на престол позвали Василия Ивановича Шуйского. Теперь он меня вызывает к себе, служить ему. А ты?
– Я в это время здесь отсиделся. Но вижу дальше уклоняться не смогу. Надо что-то решать.
– Что так?
– Видишь ли, Василий Иванович, также как и прежний государь, Дмитрий Иванович, меня не забыл, – подтверждение моих полномочий прислал, – но и трогать не решился. А тем временем, воевода наш да бояре города Касимова видеть его, Шуйского, на троне не хотят. Ополчение собирают против него. Говорят, не умер Дмитрий Иванович, спасся, и теперь хочет восстановить свое царствование. Его большой воевода, Иван Болотников, мне грамоту прислал, зовет к себе с ратью. Да и народ мой просит меня возглавить войско, вести на помощь Дмитрию. Вот и не знаю, что делать.
– Здесь я тебе не советчик, – рассмеялся Урусов. – Трудно разобраться в этих русских делах. Мне и самому Шуйский не по нраву, но что поделать. Я – человек служилый, государь позвал – иду к нему. А ты – хан, тебе проще. Что народ твой решил, туда ты его и ведешь.
– Да, – вздохнул Ураз-Мухаммед. – придется собирать Совет. Его решению я подчинюсь.
– Вот и решайте. Только не торопись, выжди. Видишь, время какое – смутное. Все может измениться.
– Ты прав, я так и сделаю.
– А ты не хотел бы опять в степь уйти? – неожиданно спросил Урусов. – В свою родную степь. Быть вольным, скакать на коне по бескрайним просторам, жить в юрте, надеяться только на себя.
– Иногда мне этого хотелось, – признался Ураз-Мухаммед. – Особенно в юности, когда я только прибыл в Москву. Очень скучал по степи, по родным местам. Я даже сам себя сравнивал с одиноким листом, упавшим с высокого дерева. Но теперь я – хан, отвечаю за свой народ и не могу его бросить.
– У тебя ведь есть сын, – вдруг вспомнил Петр.
– Да, от первой жены, которая умерла.
–Сколько ему уже?
– Пятнадцать.
– Большой. Пора его брать с собой в походы.
– Пора, – сказал Ураз-Мухаммед, и тень пробежала по его лицу.
Урусов заметил это и спросил:
– Что-то не так?
– Не складываются у меня с ним отношения.
– Почему?
– Винит он меня в смерти матери, – как-то глухо произнес Ураз-Мухаммед. – И не может мне простить. Но разве судьба человека не в руках Аллаха?
– Все в руках божьих, – подтвердил Урусов и перекрестился. Продолжать эту тему он не стал.
Друзья еще поговорили, вспомнили свою молодость и на этом расстались. Урусов не хотел обременять своего друга содержанием своего отряда в городе, поэтому сказал, что спешит.
Спустя несколько дней Ураз-Мухаммед собрал свой Совет.
Ханский Совет – это четыре бека из четырех главных родов ханства; те, кто поднимал Ураз-Мухаммеда на белой кошме во время коронации. Первые два бека – из родов аргын и кипчак – сидели по левую сторону царского престола, которая почиталась более почетная, а вторые —джалаир и мангыт – устроились по правому боку от хана. Присутствовал на Совете и русский воевода, который представлял часть русского народа, проживающего на территории ханства. На Совете были также наиболее знатные мурзы и бии, которые раньше высказывались с предложением собирать ханское войско.
Ураз-Мухаммед показал письмо от Болотникова и предложил Совету высказаться. Мнения разделились.
Одни предлагали не вмешиваться в драку. Пусть русские дерутся, какое нам дело?
Другие склонялись к тому, что раз люди просят надо возглавить ополчение и идти на помощь Болотникову, который является представителем Дмитрия Ивановича, сына царя Ивана Васильевича, а значит истинного наследника московского престола. Не то, что боярский выскочка – Василий Шуйский.
Русский воевода был согласен с любым решением хана. Ведь он еще не давал присягу Шуйскому.
Теперь все ждали, что скажет хан. После некоторого раздумья он сказал:
– Я поведу людей, мы поможем большому воеводе Болотникову, но если не увижу царя Дмитрия Ивановича, дальше воевать не буду.
Решение о таком разведывательном походе пришелся по душе всем собравшимся. Действительно, зачем бороться, не зная за кого; тем более против русского народа.
После Совета Ураз-Мухаммед издал указ по ханству: собирать войско, седлать коней. Центр сбора – Касимов.
Полностью рать собралась к концу ноября. Под ханское знамя встало несколько тысяч человек – все конники. Вооружены были хорошо. Сабли, пики, луки, стрелы – у всех. У некоторых – даже мушкеты немецкие. Русский воевода выделил сотню стрельцов.
– Что так мало? – удивился Ураз-Мухаммед.
– С тобой я не пойду, а как воевода, часть ратников оставлю при себе. Мало ли, что может случиться. Зато тебе, хан, я даю лучших людей. С мушкетами да на конях. И наряд в придачу. Сотником пойдет Меньшиков.
– Его я знаю, верный человек, – согласился хан.
Ураз-Мухаммед знал этого стрельца еще с 1600 года, когда царь Борис Годунов назначил его ханом. Тогда в Касимов, вместе с ним ехал боярский Меншиков.
Князь Сутемген выполнил предсмертное желание хана Тевеккеля и отпустил Илью домой, снабдив его бумагами к московскому царю. Меншиков с женой Гулше лишь в начале 1599 года добрались, наконец, до Москвы. К тому времени царь Федор Иванович уже умер, а на престоле сидел Борис Годунов. Меншиков отдал письма казахского султана в Посольский приказ, написал отчет и стал ждать своей участи. Вскоре, сам царь пожелал увидеть боярского сыны. Внимательно выслушав Илью тщательно расспросив о казахских делах, он приказал ему оставаться в Москве до своего приговора. Царское решение было объявлено ерез год и было оно благосклонно. Меншикову было даровано небольшое поместье в Касимовском царстве и отправлялся он туда вместе с Ураз-Мухаммедом.
– Был ты при казахском хане, теперь будешь при касимовском, – сказал ему Василий Щелкалов, дьяк Посольского приказа. – Будешь докладывать нам, если что не так.
С тех пор Меншиков жил в Касимовском царстве. И хотя по службе он подчинялся русскому воеводе, много раз бывал и в окружении хана, командуя десятью стрельцами, а потом и пятью десятками. Ураз-Мухаммед приметил расторопного воина и несколько раз обращался к нему с поручениями, которые Илья исполнял в точности.
Когда Меншиков со стрельцами и с нарядом прибыл в распоряжение хана, тот спросил его:
– Как поживает твоя семья? Ведь твоя жена – моя землячка, казашка, так?
– Да, – ответил Илья, удивленный вниманием хана. – Гулше занимается хозяйством и воспитывает детей. У нас их трое. Два мальчика и девочка.
Ураз-Мухаммед только задумчиво кивнул головой. Он решил не брать с собой своего сына, несмотря на его упрашивания.
– Ты в пятнадцать лет уже воином был, – обиженно говорил сын, – а меня не берешь.
– Ты тоже уже воин, – ответил отец. – Владеешь оружием, хорошо сидишь в седле. Но время твое еще не пришло. Остаешься здесь за меня.
Сын только в сердцах хлопнул дверью.
Войско вышло в поход лишь в начале декабря, когда встал лед на реках. Дойдя до Рязани Ураз-Мухаммед получил плохую весть: Болотников познал поражение от царских войск и отходит к Калуге. Его преследует Дмитрий Шуйский, брат царя. Посоветовавшись со своими командирами, хан решил тоже идти на Калугу, но подойти к городу с юга.
Как опытный военачальник, Ураз-Мухаммед шел осторожно, высылая вперед и по сторонам разведчиков. Недалеко от Калуги его разъезды встретили отряд запорожских казаков.
Оказалось, что это только передовые силы, а остальная рать в несколько тысяч человек из Черниговских земель идет следом и тоже на помощь восставшим. Соединившись с казаками, Ураз-Мухаммед предложил атаману не бросаться сразу в бой, а связаться с Болотниковым.
– Когда мы нападем на царские войска с тыла, и когда они станут разворачиваться к нам, большой воевода должен ударить по ним из крепости.
– Хитер ты, Касимовский хан, – прищурился атаман. – Сейчас же отправлю человека в Калугу.
Вскоре пришел ответ от Болотникова. Он согласился с планом Ураз-Мухаммеда.
К вечеру подтянулись основные силы казаков. Войско растянулось, готовое к наступлению. Командиры получили указания.
Утро было хмурым, подернутое сизым рассветом. Окрестности окутаны легкой дымкой. Люди разминались, одевали доспехи и садились на коней. Наконец, был дан сигнал к атаке. Забили барабаны. Под истошный вопль войско выскочило из леса и устремилось вперед. Мощный поток исступленно кричащих, скачущих людей помчался к лагерю царских войск. И вот уже первая волна атакующих смяла передовые посты стрельцов и понеслась дальше. Белый снег окрасился кровью.
Царские войска, не ожидавшие нападения, вначале отступили, но затем перестроились и стали оказывать сопротивление. Загремели ружейные выстрелы, грохнули пушки. Полетели на землю выбитые из седел всадники.
В это время раскрылись ворота крепости и оттуда вылетели осажденные под предводительством Болотникова. Удара с двух сторон царские войска не выдержали и побежали. Бегущий враг бессилен, а преследователи были беспощадны. Жаждущие крови сабли взлетали и обрушивались на головы бегущих. Расколотые головы, располосованы тела. Земля на несколько верст была усеяна трупами стрельцов.
Ураз-Мухаммед вначале стоял на возвышении, не вмешиваясь в схватку, но потом вдруг у него закипела кровь и он ринулся в борьбу. Разил саблей налево и направо. Остановился только тогда, когда начали стихать крики и неразбериха. Остановился и ужаснулся своей безрассудности и беспощадности. Ведь полководец всегда должен оставаться холодным и невозмутимым, чтобы лучше оценивать ситуацию битвы. «Слава Аллаху, что все так хорошо получилось», – сказал он себе и отъехал с поля боя.
Сражение закончилось во второй половине дня. Воевода князь Дмитрий Шуйский успел сбежать.
Болотников – рыжебородый детина с пронзительным взглядом серых глаз —пожал руку Ураз-Мухаммеду.
– Спасибо за помощь, хан.
– Главное, что она вовремя, – пожал плечами Ураз-Мухаммед.
– С чего это ты решил помогать мне, а не Шуйскому?
– Я получил твое письмо, где ты сообщал, что действуешь от имени царя Дмитрия Ивановича. Скажи, ты его видел?
– Да. Он дал мне эту саблю, – Болотников похлопал по оружию, – и сказал: иди и завоюй мне царство.
– А где он сейчас? Я бы хотел предстать пред его очами.
Воевода, лишь на мгновение, смущенно отвел взгляд, но потом резко поднял голову.
– Он сейчас на юге силы собирает. Скоро подойдет. Письма мне пишет.
– Хорошо, я подожду, – ответил Ураз-Мухаммед.
– Я думаю, царское войско вернется с большими силами. – В голосе Болотникова чувствовалась озабоченность. – Надо укреплять крепость.
Действительно, через две недели под Калугой появились полки, ведомые вторым братом царя – Иваном Шуйским. 27 декабря они осадили крепость, правда, не полностью. Сторона со стороны реки была открыта. К удивлению Ураз-Мухаммеда осада велась вяло. Только и делали, что стреляли из пушек без нужды и беспорядочно. Активных действий не велось. В царском лагере распутничали, пили и гуляли. Это позволяло осажденным ежедневно делать вылазки, которые наносили большой урон стрельцам. Каждый раз гибло 40-50 человек царского войска.
Так прошло еще две недели. Люди из отряда хана постоянно участвовали в вылазках и на первых порах даже хвастались своей лихостью и бесшабашностью. Но потом Ураз-Мухаммед стал замечать некоторую подавленность и уныние среди своих воинов. Видно было, что это не их война. Им нужен простор, стремительный бег коней, быстрая горячая схватка. А бороться в осаде ханские конники долго не могли. А тут еще гонец привез плохую весть: Шуйский направил войска в Понизовье и в Поволжье громить восставших.
Ураз-Мухаммед вечером появился к Болотникову.
– С чем пришел, хан? – У воеводы были воспаленные глаза, но держался он бодро.
– Плохие вести, Иван, – озабоченно проговорил Ураз-Мухаммед.
– Что случилось?
– Царские войска идут на Муром и Арзамас, чтобы разбить тех, кто меня послать к тебе.
– И что ты решил, хан?
– Мне надо вести моих людей им на помощь. Кроме того, эти земли граничат с моим ханством, а я должен защищать своих подданных.
– Значит, бежишь от меня?
– Я не бегу к Шуйскому, – возмутился Ураз-Мухаммед. – Наоборот, я иду спасать от его войск хоть и маленький, но свой народ, который надеется на мою защиту.
– Ну что ж, воля твоя. Не драться же нашим людям между собой, на радость наших врагов.
– Не беспокойся, воевода, наведу порядок у себя – вернусь к тебе на помощь. И против тебя воевать не буду. Даю ханское слово.
– Не верю я татарам, – усмехнулся Болотников, но потом вдруг стал серьезным: – Но твоему слову верю. В том, что не пойдешь против меня. И в том, что не побежишь к Шуйскому, тоже верю. Иди с богом, хан.
На следующую ночь ворота отворились, и ханское войско, проскользнув сквозь редкие передовые посты неприятеля, по замершей реке ушло на восток. Их никто не преследовал, хотя и случился переполох в царском лагере. Воевода махнул рукой:
– Преследовать татар ночью – бесполезно. Еще, не дай бог, в капкан попадешь. Пускай бегут. Да и в крепости меньше людей стало.
Прибыв в Касимов, Ураз-Мухаммед не сразу распустил свое ополчение. И только, когда увидел, что царские войска обошли его ханство с севера и с юга, не затронув его, он отправил по домам людей, оставив при себе небольшой отряд. Так решил Совет: не ввязываться в противостояние с Шуйским, остаться на месте для защиты своих селений. И Ураз-Мухаммед вынужден был согласиться.
В марте 1607 года Василий Шуйский прислал Ураз-Мухаммеду указ, в котором повелел Касимовскому царю выступить со своими татарами и опустошить страну вокруг его владений, чтобы мятежники нигде не могли найти ни припасов, ни провианта. Ураз-Мухаммед послал своих разведчиков узнать, что творится вокруг его ханства. Когда ему доложили, что земля эта уже дочиста разорена царскими войсками и разорить ее больше невозможно, он оставил указ Шуйского без внимания. Тем более, что в самом ханстве обстановка была тревожная. Царские полки, разгромив восставших, ушли в Москву, а в нетронутое ханство, как на лакомый кусок, ринулись отряды мародеров. Начались грабежи, разбои, убийства. И УразМухаммеду пришлось бросить свои отряды на уничтожение бродячих банд.
Пятидесяти шестилетний Василий Шуйский неуверенно сидел на троне. Маленький подслеповатый он даже вызывал презрение у того, кто его не знал. Но те, кто знали царя, ценили его цепкость ума, начитанность, злопамятность и умение быстро принимать неожиданные решения.
Поэтому, к удивлению своего окружения, он на время вычеркнул Ураз-Мухаммеда из числа своих врагов. Расчет его был верен. Если все вокруг Касимовского царства выжечь, хан сам придет к нему бить челом. Ну а если не придет, можно будет справиться потом, когда все очаги волнения будут подавлены. Сейчас для царя главная задача была – расправиться с Болотниковым в Калуге. и новым самозванцем Петром Федоровичем (якобы сыном царя Федора Ивановича), который находился в Туле. Последнего поддерживали терские, яицкие и донские казаки. Именно там, на юге от Москвы была самая большая опасность для трона. Туда были брошены все царские силы. Туда же, под Калугу и Тулу также были спешно переброшены те войска, которые быстро и не до конца разбили повстанцев Поволжья.
Кроме того, Шуйский оценил уход Ураз-Мухаммеда из стана Болотникова, как поблажку себе – пока хан остается со своим народом, он не опасен и выступить не посмеет.
И Ураз-Мухаммед не посмел. На этой почве у него произошел разлад с сыном, который посчитал осторожность отца чуть ли не за трусость.
– Ты пойми, – терпеливо объяснял Ураз-Мухаммед сыну, – я хан и отвечаю за своих подданных. Это маленький народ, но это мой народ. И с каждым днем управлять им становится все труднее. Дух мятежа, захвативший Русь, пробрался и сюда. Мир рушится, ханство сотрясают схватки, набеги грабежи. На дорогах орудуют разбойники, которых пока не удается изловить. В это сложное время главное для меня не допустить межплеменной розни. Пока русские бьются между собой, нам надо сохранить спокойствие в своем ханстве.
– Ты же полководец, воин, не честней ли было принять какую-то одну сторону? – настаивал сын.
– Я неуверен пока в Шуйском, а царя, за которого воюет Болотников, не видел. Кто бы из них ни пришел к власти, если я буду на противной стороне, меня и ханство раздавят.
– Ты же известный человек, как тебя могут уничтожить?
– Наше ханство маленькое, с нами не посчитаются. Кто мы для большой Руси? Басурмане. Пока мы служим престолу, в нас нуждаются. Но если мы пойдем поперек власти, на нас бросят всю мощь государства. Нет, пока мы не определились, будем заниматься своими делами. И ты, сын, мне в этом поможешь.
Все лето хан наводил порядок в своем царстве. В этом ему помогал и сын. Ураз-Мухаммед видел, как он смело бросался в схватку, как горели его глаза, как гордо он вскидывал голову после удачной поездки. Его только беспокоили жестокость и беспощадность сына, которые тот проявлял при расправе над разбойниками. Кроме того, отца беспокоило растущее тщеславие сына. Впрочем, все это хан относил на счет молодости юноши. Возможно, он и сам когда-то был таким.
К осени поползли слухи, что Дмитрий Иванович, сын и наследник царя Ивана Васильевича, спасся и появился в Стародубе вместе с хорошо вооруженными конниками.
Вторую новость привез верный человек от Урусова. Петр сообщал Ураз-Мухаммеду, что покинул армию Василия Шуйского, которое осаждало под Тулой войско Болотникова и теперь во главе своего большого отряда направляется в Крым.
Позже, две вести пришли от Шуйского. Царь сообщал, что «изменник, вор Ивашка Болотников разбит и с ним покончено навсегда». Эта новость опечалила Ураз-Мухаммеда. Ему было жаль этого рыжебородого крепыша, отменного полководца, который с искренней верой сражался за нового царя. Он говорил: «Я дал душу свою Дмитрию и сдержу клятву: буду в Москве не изменником, а победителем».
Массовых казней не было. После присяги на имя «царя Василия» тульские сидельцы были распущены по домам. Болотников и «царевич Петр» и еще несколько сотен пленных были тихо казнены. Боярина Шаховского государь отправил в ссылку, князя Телятевского помиловал.
– Что-то ты добрый, – сказал Василию его брат Дмитрий Шуйский.
– Не добрый, а дальновидный, – ответил царь. – Таких бояр, как Шаховской, в Москве полным полно. Так и ищут момент, чтобы воткнуть мне нож в спину.
Вторая новость удивила Ураз-Мухаммеда. За взятие Тулы Василий Шуйский наградил многих. Не забыл он и про хана. Царь прислал Ураз-Мухаммеду высочайший указ, в котором «за особую службу и геройство жаловал его мечом с алмазами и чашей с золотой каймой». Касимовский хан и дальше должен был служить Шуйскому верой и правдой.
После победы над Болотниковым, в сильную осеннюю непогоду, в грязь, слякоть и дождь, Шуйский распустил войско. Всем военным людям разрешил вернуться в поместья, чтобы до открытия санного пути они отдохнули. Но тут Шуйского подвело самомнение: вместо того, чтобы двинуться на Самозванца всей силой и разбить его, он отправился торжествовать в Москву и устраивать свою свадьбу с молодой Марией Буйносовой-Ростовской. Правда, будучи еще под Тулой, Шуйский высылал навстречу Дмитрию небольшие отряды, но они были разбиты. Впрочем, пока Самозванец не особенно беспокоил царя Василия.
Вскоре толпы вырвавшихся и отпущенных казаков, других свободных людей разными путями покатились из-под Тулы в Стародуб к «Дмитрию Ивановичу». Туда же прибыл и атаман Заруцкий с запорожскими казаками. Новый «государь» вместе с растущим войском двигался к Брянску, затем повернул и обосновался в богатом купеческом Орле. В его руках уже были Чернигов, Новгород-Северский, Путивль. Калужане также отказали Шуйскому: «Наш государь Дмитрий Иванович жив, мы ему присягали».
В новый 1608 год выпало огромное количество снега и военные действия прекратились. У Шуйского не было войска разбить Самозванца, а у его противника не было достаточно сил, чтобы двигаться на Москву. Дмитрий решил перезимовать в Орле.
В то время, как царь бездействовал, Дмитрий накапливал силы. К Орлу начали стягиваться казаки, польские наемники, добровольцы. Прибыл князь Роман Рожинский с 4000 тысячами хорошо вооруженных конников. Это был человеком властолюбивым, надменным, необузданным, но в войсках его уважали. Пришел из-под Киева знатный князь Адам Вишневецкий с 400 конными копейщиками. Появился Александр Лисовский, изгнанный из Польши и оставленный королем «безо всякой чести», а с ним отряд в 2000 человек.
В феврале Шуйский спохватился и разослал указы о сборе новой рати. Прислал он указ и Касимовскому царю, который должен был собрать войско из татар, мещер, мордвы. Боярские сыны, стрельцы, все, кто способен держать оружие, в Арзамасе, Алатыре, Шацке, Кадоме – во всех волостях —должны быть собраны в царское ополчение. Хану надо возглавить войско из русских и инородцев и не позже середины лета начинать поход. Цель похода: «польских и рязанских городов и уездов всяких людей резать и в полон имать и живот их грабить за их измену и воровство». Выполняя повеление царя, Ураз-Мухаммед стал собирать войско, но оставил его при себе, так как с юга приближались ногайские татары во главе с князем Иштереком, который не присягал ни Шуйскому, ни Дмитрию. В конце марта они подошли к Темникову, сжигая села и посады, уничтожая и забирая в плен жителей. Впрочем, Ураз-Мухаммед все же снарядил отряд добровольцев, желающих получить царское жалование, и отправил его на царские сборы. Возглавил этот отряд один из его старшин.
Московскую рать возглавил любимый брат царя Дмитрий Шуйский, человек величавый, но спесивый и завистливый. К советам он никогда не прислушивался, а опыта воинского у него не было. В войсках его не любили и не уважали. Рать собралась в марте в Алексине, потом перешла в Белев, но оттуда никуда не двигалась из-за больших снегов. А войско Самозванца, не боясь ни морозов, ни снегов, рассыпалось повсюду, брало города и приближалось к Москве.
Царь торопил брата, и вот, наконец, 10 апреля царская рать двинулась к Болхову. Туда же направился и «новый государь». 11 мая царское войско было разбито. Дмитрий Шуйский вернулся в Москву с небольшим количеством бояр и дворян, позорно оставив поле сражения. Ратные люди, не желая класть головы за Шуйского, повернули и разбежались, разбрелись по домам. Некоторые перешли на службу к Дмитрию. Самозванец взял Болхов и пошел на Москву, через Козельск, Калугу, Можайск, Звенигород, почти не встречая сопротивления. Царь выслал навстречу новое войско, но из-за опасности предательства отозвал его.
В мае в Касимов вернулся отряд из-под Болохова, не желая воевать за Шуйского. Князь Иштерек не стал покушаться на Касимовское ханство и ушел назад в ногайские степи. Ураз-Мухаммед распустил свое войско и решил ждать, как будут развиваться события. А события развивались быстро и непредсказуемо.
1 июня Дмитрий приблизился к Москве и остановился в Тушино. Здесь он укрепился и основал свою ставку. Столицу он решил взять измором, посылая жителям послания о том, что он действительно сын царя Ивана Васильевича, а значит законный «государь и великий князь всея Руси».
А тем временем полковник Лисовский с казацким войском в мае-июне прошелся по Рязанскому краю, разбил царское войско под Зарайском. Но 28 июня у переправы реки Москва, на Медвежьем броде войска Шуйского встретились с Лисовским. Бой длился с утра до вечера и носил ожесточенный характер. К концу дня отряд Лисовского, понесся большие потери, бежал в направлении Тушино.
Немного ранее, 25 июня произошло сражение на Ходынке. Там вначале поляки и казаки, во главе с Рожинским и Заруцким, гнали русских до Ваганьково, а затем русские гнали противника до реки Химки. Здесь поляки остановились и ударили по русским, – отогнали их за Ходынку, а сами возвратились в Тушино.
После этого, серьезных сражений под Москвой не было; случались лишь отдельные стычки тушинской стражи с мелкими группами русских.
В течение лета войско Дмитрия значительно пополнилось.
17 июля 1608 года 7-тысячный отряд шляхетской конницы пересек границу Русского государства, прошел мимо Смоленска и через Можайск направился к Москве. Вел его известный своей воинской отвагой Ян Петр Сапега, каштелян киевский, староста усвятский, племянник канцлера Великого княжества Литовского. Его осудили в отечестве за буйство, но он, не подчиняясь приговору суда, набрал вольницу и пошел на помощь Дмитрию. В связи с договором Речи Посполитой и Московского государства о перемирии, канцлер Лев Сапега не одобрял такой затеи племянника, но ничего поделать не мог.
Вместе с Сапегой в Тушино прибыла и Марина Мнишек, вновь промышлять русскую царскую корону. В сентябре состоялась встреча Марины с Дмитрием, в котором она признала своего мужа, якобы спасшегося от смерти в мае 1606 года. Они искусно разыграли свои роли и приветствовали друг друга с радостными слезами, с такой непритворной нежностью, с таким восхищением, что эта комедия ослепила многих зрителей и увеличила число сторонников Дмитрия.
«По всему государству разнеслась молва о сем происшествии; везде признавали самозванца царем».
Поверил в «воскресшего царя» и Ураз-Мухаммед, но с признанием пока решил не торопиться. В это же время пришло известие от Петра Урусова, который сообщал, что теперь он со своим отрядом примкнул к Дмитрию. Это обрадовало хана, но он продолжал колебаться.
По прибытию в Тушино Ян Сапега предложил Дмитрию новый план действия: перейти от лобовой атаки Москвы к ее круговой блокаде. Рожинский оставался в Тушино и действовал против Москвы, а Сапега отправился с войском осаждать Троицко-Сергиевский монастырь, который привлекал своими богатствами и считался «ключом» к северной Руси. Лисовскому была поручена оккупация Замосковья, северных уездов и Поволжья.
19 сентября Сапега двинулся в сторону Троицко-Сергиевского монастыря, а обеспокоенный царь Василий отправил вслед ему войско, возглавляемое одним из самых неспособных своих братьев Иваном Шуйским. 23 сентября у деревни Рахманцево произошло сражение, в котором царские войска потерпели поражение. Главная причина этого поражения была в том, что служилые люди не желали больше воевать за царя Василия.
Разгром под Рахманцевым произвел большое смятение в столице. Многие ратники, собранные из разных городов, стали покидать Москву; часть возвращалась в свои уезды, часть уходила в Тушино.
Вернулись к себе и воины Касимовского ханства, которых Ураз-Мухаммед отправлял воевать за Шуйского. У хана крепла уверенность, что нет смысла держаться за царя Василия. Но он продолжал колебаться. А в ханстве началось брожение. Одни придерживались московского царя, другие требовали целовать крест Дмитрию.
Целые города Руси стали переходить на сторону Дмитрия. Еще весной южные города целовали ему крест, в июле ему покорились приграничные с Литвой уезды, а теперь в октябре-ноябре новому царю сдались северные: Углич, Ярославль, Кострома, Галич, Тверь, Суздаль, Владимир. За ними последовали и восточные города, населенные «инородцами»: Муром, Арзамас, Шацк.
Касимовское ханство оказалось окруженное уездами, признавшими власть Дмитрия. В ноябре-месяце Ураз-Мухаммед, опасаясь прихода войск Лисовского, сдался. Жители Касимова признали Дмитрия царем и отправили делегацию в Тушино. Ураз-Мухаммед получил указ от нового государя собрать войско и явиться к нему в ставку. Он дал указание о сборе ополчения, но оставил его в ханстве, а к Дмитрию поехал лишь с небольшим отрядом. С собой Ураз-Мухаммед захватил и сына.
В начале декабря они прибыли в Суздаль. Воевода Федор Плещеев принял его с распростертыми объятьями.
– Хорошо, что ты, наконец, решился ехать к государю нашему Дмитрию Ивановичу. Лучшая часть боярства признала его власть: князья Михаил Туренин, Федор Долгоруков, Салтыков, Сицкий, Засекины, Дмитрий Трубецкой, Иван Годунов, Романовы, сам Филарет – патриарх Всея Руси…
– Филарет – патриарх?! – удивился Ураз-Мухаммед. —Он вроде был митрополитом Ростовским.
– Государь принял его ласково и уговорил принять на себя патриарший сан. Теперь, Тушино – это вторая столица. У государя там свой Двор, канцлер, Разрядный приказ. Громадная часть государства признала власть Дмитрия Ивановича.
– А кто еще не признал?
– Ну, их немного, – как-то неохотно признался Плещеев. – На западе – Смоленск, на севере – Новгород, на востоке – Нижний Новгород, на юге – Рязань и Коломна. Думаю, и они скоро отойдут от Шуйского.
Но, когда на следующий день Ураз-Мухаммед решил двинуться в путь, оказалось двигаться в Тушино через северные уезда, признавшие Дмитрия, небезопасно. Некоторые города опять перешли на сторону Шуйского, но больше всего вызывали беспокойство так называемые «загонные отряды» из поляков, казаков и русских «воров», которые бродили шайками по волостям, грабили и убивали всех подряд и не подчинялись никакой дисциплине.
– Ты напиши письмо Яну Петру Сапеге, – посоветовал воевода Плещеев Ураз-Мухаммеду. – Пусть вышлет тебе охрану.
Деятельный и предприимчивый Ян Сапега, занятый осадой Троицко-Сергиевского монастыря, одновременно руководил и покорением Замосковного края и Поволжья. Ему подчинялись все войска и воеводы в городах. Ураз-Мухаммед был знаком с канцлером Львом Сапегой и виделся однажды с его племянником. В марте 1601 года хан присутствовал при торжественном отпуске посла Речи Посполитой Льва Сапеги и тогда же Ураз-Мухаммед имел беседу с будущим канцлером Великого княжества Литовского. После краткого разговора на общие темы, Сапега сказал, устремив на собеседника взгляд умных глаз:
– Мне бы очень хотелось узнать побольше о твоем народе, хан. Нашему государству будет интересно через ваш край торговать с восточными странами, но пока это время не пришло. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся, хан.
Теперь Ураз-Мухаммеду предстояло поближе познакомиться с его племянником. Он написал письмо Яну Сапеге, и тот прислал две роты гусаров для охраны.
По пути Ураз-Мухаммед решил заехать к гетману, поблагодарить его за любезность. Сапега отнесся к хану с уважением. Пожал руку, пригласил к ужину, с интересом расспрашивал и слушал гостя. Ураз-Мухаммед провел несколько дней у Сапеги, они подружились, как это часто бывает среди военных людей. Видя, что гетман занят своми делами, хан задержался ненадолго. С тех пор он стал называть Сапегу «братец».
Дмитрий встретил Касимовского царя любезно, хотя и не преминул пожурить:
– Что-то ты не очень торопился ехать к своему государю, хан.
Ураз-Мухаммед поклонился с достоинством, объяснил свое опоздание устройством дел в ханстве и преподнес подарки. На этом аудиенция закончилась.
Дмитрий не произвел впечатления на Ураз-Мухаммеда. Коренастый смуглый человек, среднего роста, крючковатый нос, нависающий над губами (впрочем, как у всех в роду царя Ивана Васильевича), черные усы, темные, чуть навыкате, глаза. Если б не дорогие одежды – мужик мужиком. Хотя, и отец, и брат его Федор тоже красотой не отличались.
На следующий день Ураз-Мухаммед стал знакомиться с Тушинским лагерем. Прежде всего, на высоком холме, выделялось место для знати, окруженное земляным валом. В центре стояли царский дом, строения для служб, охраны, курьеров. Вокруг них ставили или покупали для себя дома польские паны и русские князья и бояре, которые вписывались в управленческие приказы, Здесь же стояли шатры польских и литовских гусар. Это место на холме было более-менее чистое и просторное. Зато все, что находилось внизу, напоминало огромный человеческий муравейник. На огромном пространстве сгрудились наспех отстроенные деревянные срубы, разноцветные обтрепанные шатры, землянки, конюшни из камыша. А в небольших просветах между ними бродили, стояли или сидели у костров огромные толпы людей. Казалось, здесь собрались все, кто жил в странах пограничных с Русью – ляхи, литвины, черкасы (украинцы), казаки, татары. Жили они таборами. Пестрота была чрезвычайная, как в одежде, так и в нравах и речи.
