Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917–1918) бесплатное чтение
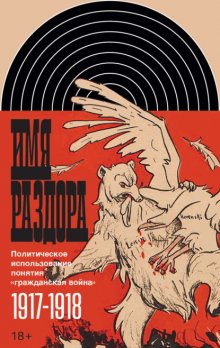
УДК [355.426(47+57)«1917/1918»]:001.4
ББК 63.3(2)612в3
И50
Редакторы серии «Интеллектуальная история» Т. М. Атнашев и М. Б. Велижев Коллективная монография под ред. Б. И. Колоницкого (отв. ред.), К. В. Годунова, А. В. Резника, К. А. Тарасова Монография рекомендована к печати ученым советом Санкт-Петербургского института истории РАН и ученым советом Европейского университета в Санкт-Петербурге. Книга подготовлена в рамках исследования, проводимого в Европейском университете в Санкт-Петербурге при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-18-00369-П «Процессы легитимации насилия: культуры конфликта в России и эскалация гражданской войны»
Имя раздора: Политическое использование понятия «гражданская война» (1917—1918) / М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Интеллектуальная история»).
В начале XXI века гражданские войны все чаще становятся предметом политических дебатов и научного анализа. Какие культурные механизмы превращают отдельные конфликты в большие пожары гражданских войн? В поисках ответа на этот вопрос коллектив авторов пытается проследить, как в 1917–1918 годах в России использовалось понятие «гражданская война». Соединяя подходы различных школ интеллектуальной, культурной и политической истории, исследователи анализируют, какие значения вкладывались в этот термин, как им манипулировали различные политические силы, какие контексты определяли его употребление и каким было восприятие этих высказываний адресатами. Одна из главных задач книги – понять, как предварительное проговаривание насилия по отношению к «внутренним врагам» способствует реальной эскалации конфликтов.
В оформлении обложки использована иллюстрация «Борьба за мир в России». Der Wahre Jacob. 1917. Heft 819 (4 Dezember).
ISBN 978-5-4448-2886-1
© Б. И. Колоницкий, состав, введение, заключение, 2025
© Авторы, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© АНООВО «ЕУСПб», 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Введение
В первой четверти XXI века о гражданских войнах говорят и пишут много, может быть, даже слишком много.
Мы завершаем работу над этой книгой в 2025 году. В начале прошлого года на экраны вышел американский фильм «Гражданская война»1. По всей видимости, он был задуман в связи с президентскими выборами, которые состоялись в ноябре. В центре сюжета этой кинокартины – воображаемый вооруженный конфликт между федеральным правительством США и союзом противостоящих ему штатов, восставших против президента страны. Антиутопия отражает нарастающие страхи перед политическим размежеванием Америки, расколом, который проявляется уже не только в партийном, но и в культурно-политическом противостоянии, порождающем риторику гражданской войны. Само по себе это свидетельствует об актуализации темы гражданских войн в современном общественном сознании. Некоторые консервативно настроенные американские политики годами развивают идеи о праве народа на восстание, а центристы и левые рассуждают об уже идущей в США холодной гражданской войне. Говорят о перспективах гражданской войны и в европейских странах: одних пугает распространение популистских и антилиберальных настроений в регионе (эту тему можно встретить в выступлениях Э. Макрона), других – весь комплекс проблем, связанных с миграциями, и нередко эти темы переплетаются2. Все эти страхи кажутся явно преувеличенными, однако обращение к понятию гражданская война и образам, визуализирующим этот конфликт, симптоматично.
О возможной в будущем гражданской войне рассуждают и популярные современные писатели, чьи работы рассматриваются историками литературы как часть восходящей к древности традиции описания гражданских войн. Главному герою популярного романа Мишеля Уэльбека «Покорность» (2015), жанр которого сам автор называет «политической фантастикой», принадлежат слова: «Франция, как и другие западноевропейские страны, давно дрейфует к гражданской войне. Это очевидно…» Страх перед гражданской войной, который испытывают герои Уэльбека, влияет на описываемые автором политические процессы; этот страх, вызванный межэытническим и межконфессиональным противостоянием, присутствует в описаниях европейских городов: «…в Брюсселе, в большей степени, чем в любой другой европейской столице, чувствовалась близость гражданской войны»3.
Нельзя не сказать и о том, что гражданская война привлекает ныне особое внимание и некоторых философов. В свое время М. Фуко, отталкиваясь от известного высказывания К. фон Клаузевица, отметил: «И если верно, что внешняя война является продолжением политики, то мы должны сказать в ответ, что политика является продолжением гражданской войны»4. Для французского философа, полемизировавшего с той традицией понимания гражданской войны, которая восходит к Т. Гоббсу, гражданская война на время стала важнейшим понятием, центральным для изучения сферы политического. Впоследствии некоторые философы также рассматривали этот термин как важнейшее парадигматическое понятие, достаточно вспомнить книгу Дж. Агамбена5.
Впрочем, некоторые исследователи полагают, что в современных вооруженных конфликтах исчезает сама возможность отличать войны между государствами от внутренних войн. Новая ситуация возникает и в результате глобализации, уровень взаимосвязанности конфликтов становится иным, что позволяет ряду ученых вновь говорить о мировой гражданской войне6. Термин мировая гражданская война, широко использовавшийся радикальными социалистами и коммунистами во время Первой мировой войны и Гражданской войны, получает новую жизнь, приобретая иные смыслы.
Обостренный интерес к гражданским войнам и распространенные страхи перед гражданской войной далеко не всегда свидетельствуют о ее реальной угрозе, но их тиражирование, нередко имеющее своей целью манипуляцию общественным сознанием, часто является симптомом обострения социальных и политических проблем развитых стран, проблем не всегда проговоренных.
Другой, еще более важной причиной пробуждения интереса к феномену гражданской войны являются современные вооруженные конфликты. Если с середины XVII века войны велись по преимуществу между государствами, то после окончания Второй мировой войны количественно преобладали всевозможные внутренние вооруженные конфликты, которые определялись – по крайней мере, частью экспертов и некоторыми их участниками – как гражданские войны. Эта тенденция усилилась после 1989 года: лишь 5% войн последних десятилетий были вооруженными конфликтами между государствами. Гражданские же войны и в начале XXI века с трудом поддаются учету: достаточно упомянуть Афганистан, Ирак, Йемен, Ливию, Сирию, Сомали, Южный Судан… Такой список никак нельзя назвать полным или точным: одни участники и исследователи этих конфликтов считают их гражданскими войнами, а другие отрицают эти характеристики; в настоящее время нет общепризнанного определения гражданской войны. Это проявлялось и в описаниях вооруженных конфликтов прошлого: одни авторы считали, что династические, религиозные, антиколониальные войны и крупные этнические конфликты можно считать гражданскими войнами, а другие с этим суждением не были согласны, полагая, что чрезмерно расширительное использование термина затрудняет понимание сути самого явления. Дискуссии исследователей по этому поводу продолжаются и по сей день, и нет никаких оснований полагать, что они прекратятся. Да и участники конфликтов, как уже отмечалось, в разных ситуациях с разной степенью готовности применяли и применяют этот термин, ибо его использование влечет за собой политические, юридические и экономические последствия, которые могут быть невыгодны какой-либо из противоборствующих сторон7.
По оценке некоторых исследователей, в 2015 году в мире одновременно шло более сорока гражданских войн8. Иные авторы называют другие цифры, однако сами дискуссии об определениях вооруженных конфликтов и принципах их классификации свидетельствуют о востребованности изучения и современных гражданских войн, и истории внутренних вооруженных конфликтов. Актуальные и для первой четверти XXI века задачи прекращения, ограничения, локализации и предотвращения гражданских войн придают особое значение изучению различных аспектов зарождения, ведения и завершения внутренних вооруженных конфликтов.
В этом отношении сложнейший грандиозный комплекс разнообразных и разнородных вооруженных конфликтов на постимперском пространстве, совокупность которых мы вслед за многими современниками не вполне точно называем Гражданской войной в России, представляет особый интерес не только для историков.
История этой Гражданской войны важна и в другом отношении: нередко межгосударственные масштабные войны порождают войны гражданские, переплетаясь с ними. Например, в годы Второй мировой войны во Франции военные и полицейские формирования режима Виши сражались с силами Сопротивления, этот «франко-французский» вооруженный конфликт описывается частью исследователей как гражданская война, и именно такой характер этого противостояния делал память о Виши в послевоенной Франции особенно конфликтогенной9. Вооруженная борьба фашистов и антифашистов в Италии в 1943–1945 годах также приобретала характер гражданской войны, переплетающейся с войной мировой10. Современные историки часто описывают и Гражданскую войну в России как продолжение – с иными средствами, в иной форме и с иными силами – Первой мировой войны. Подписание Брестского мира, например, не привело к тому, что постимперское пространство было исключено из глобального противоборства11.
Важен также вопрос о связи революций и гражданских войн. Известно, что В. И. Ленин, опираясь на некоторые тексты Маркса, описывал порой революцию как уже идущую гражданскую войну (этот сюжет рассматривается в нескольких главах этой книги). На этом основании историк И. Гетцлер характеризовал взгляды лидера большевиков на революцию как «упрощенные, ограниченные и жестокие», считая их специфической особенностью политического мышления Ленина12. Между тем о тесной связи революций и гражданских войн писали и представители иных политических лагерей. Н. А. Бердяев, имевший свой опыт проживания в условиях революции и гражданской войны, заявлял: «Гражданские войны во время революции являются роковой неизбежностью…»13 Автор «Вех» вряд ли сам мог иначе относиться к феномену революции, но о связи масштабных революций и гражданских войн пишут и современные авторитетные ученые: «Любая великая революция – гражданская война»14. Фактически тем самым повторяется и тезис В. И. Ленина, который, как мы увидим в этой книге, неоднократно писал об этом в 1917 году, хотя и совершенно иначе, чем Бердяев, относился и к революциям, и к гражданским войнам15. Но не являются ли такие утверждения телеологичными? Не знаем ли мы отдельных случаев сравнительно мирных революций? Не способствует ли подобное понимание революций тому, что страх перед гражданской войной использовался и используется для блокирования революционных преобразований, а порой и всяких глубоких общественно-политических изменений, становясь препятствием для реформ? Это само по себе делает актуальным изучение политического использования страха перед гражданскими войнами, которое, как мы видим, наблюдается и по сей день.
Гражданские войны становятся глобальной проблемой, они представляют собой особый вызов для нынешнего поколения политиков и дипломатов, для спецслужб и военных, для международных гуманитарных организаций и врачей, противостоящих эпидемиям и голоду, для связанных со всеми этими группами экспертных сообществ: политологов, социологов, экономистов, юристов и – не в последнюю очередь – для историков. В настоящее время многие исследователи, представляющие разные дисциплины, обратились к изучению гражданских войн; следствием чего стало появление специальных выпусков академических периодических изданий16, даже создание междисциплинарных научных журналов, посвященных изучению гражданских войн17. Возникают и соответствующие книжные серии18. В настоящее время под руководством профессора Роберта Герварта (Университетский колледж в Дублине) реализуется большой исследовательский проект, в центре внимания которого находятся внутренние вооруженные конфликты в Европе в период, именуемый «веком европейских гражданских войн» (1914–1949)19. Еще более симптоматично создание новых научных центров, посвященных исследованиям гражданских войн20.
Вряд ли изучение такого сложного явления, как гражданские войны, будет плодотворным, если использовать какой-то один исследовательский подход. Мы же хотим посмотреть на Гражданскую войну преимущественно через призму культурной истории, учитывая результаты изучения социальной, интеллектуальной и прежде всего политической истории. Авторы настоящего исследования исходят из представления о том, что гражданским войнам предшествует упреждающая культурная легитимация насилия по отношению к противнику, к потенциальному «внутреннему врагу», что проявляется в предварительном проговаривании подобного насилия, в воображении, визуализации и риторическом оформлении грядущего насилия. Изучение культурных аспектов политических мобилизаций и иных форм подготовки гражданских войн представляет, по нашему мнению, немалый интерес. В этом отношении важны известные работы, посвященные различным аспектам политической культуры Французской революции XVIII века, которые повлияли на изучение истории революций и гражданских войн в других странах и в иные эпохи21.
Такой подход вызывает, впрочем, возражения со стороны части «стасиологов» – социологов и политологов, сопоставляющих различные гражданские войны и революции. С. Каливас, автор одной из последних обобщающих работ, посвященных логике насилия в гражданских войнах, пишет, что теории, объясняющие насилие с помощью изучения эмоций, культуры и идеологии, неубедительны22, он предлагает социологические объяснения процессов эскалации гражданских войн. При всей важности этого подхода представляется все же, что изучение языка политической мобилизации в качестве одного из факторов скатывания страны к гражданской войне имеет немалое значение. Показательно, что и сам Каливас, отрицая значение культурных аспектов гражданских войн, постоянно возвращается к тому, как гражданские войны проговаривались и во время конфликтов, и в воспоминаниях их участников23.
Если же согласиться с тем, что язык и культура важны для понимания гражданских войн, то первоочередной задачей является изучение тех слов, с помощью которых современники описывали масштабные вооруженные конфликты на разных этапах их подготовки и протекания. В центре нашего исследования – политическое использование понятия гражданская война в 1917–1918 годах.
Не существует, как уже было сказано, единого определения этого термина, и мы не планируем его давать. Мы пытаемся изучить особое самосознание людей эпохи революции и гражданской войны, реконструируя те смыслы, которые они вкладывали в понятие гражданская война, и те цели, которые преследовали политические акторы, его использовавшие. Через описание различных случаев применения понятия гражданская война (а также его отрицания, табуирования) мы хотим посмотреть на процессы политической борьбы на разных уровнях; это позволит лучше понять, как, с помощью каких культурных механизмов отдельные очаги насилия превращались в большие пожары гражданской войны. Как проговаривание гражданской войны – в том числе и с помощью этого понятия – связано с эскалацией разных конфликтов и с попытками предотвращения, а затем и прекращения гражданской войны? Это самый важный вопрос, который мы задаем в этой книге.
Такая постановка вопроса имеет и некоторое отношение к дискуссии о хронологических рамках Гражданской войны на территории бывшей Российской империи: известно, что разные авторы относят ее начало к совершенно разным событиям. Одни авторы традиционно считают, что Гражданская война начинается с событий мая–июня 1918 года, другие признают главным рубежом захват власти большевиками в октябре 1917 года, а третьи полагают, что уже и период с февраля по октябрь был временем специфичной гражданской войны24. Так, например, с событиями Февраля 1917 года связывал начало Гражданской войны Ю. А. Поляков25. Дж. Смил, автор важной обобщающей работы о гражданских войнах в России, отметил, что весь период с февраля по октябрь 1917 года, в течение которого все значительные политические, военные и социальные силы все дальше отходили от компромисса, но еще не переходили к открытой вооруженной борьбе, лучше всего можно охарактеризовать как период необъявленной и «странной» гражданской войны26. Хотя нас интересует прежде всего вопрос о том, как начинались и как проговаривались гражданские войны, а не то, когда именно они начинаются, но мы надеемся внести некоторый вклад в эту дискуссию о хронологических рамках гражданской войны, изучая то, как современники в разное время ставили вопрос о подготовке, начале, предотвращении и прекращении гражданской войны.
Если относительно начала Гражданской войны продолжаются дискуссии, то никто, однако, не спорит с тем, что в конце 1918 года она уже шла, поэтому для понимания культурной подготовки комплекса крупных вооруженных конфликтов важен прежде всего изучаемый нами период (февраль 1917 – ноябрь 1918 года). Мы изучаем те слова, те риторические приемы, с помощью которых описывалось все более сильное «предчувствие гражданской войны» – здесь мы не можем не вспомнить знаменитую картину Сальвадора Дали, созданную в год начала Испанской гражданской войны (1936–1939).
Наше исследование находится на пересечении нескольких исследовательских традиций, но мы, признавая их бесспорное влияние, не отождествляем себя полностью с этими авторитетными и весьма востребованными ныне научными направлениями.
Нам представляется важным подход, предлагаемый К. Скиннером и некоторыми другими представителями Кембриджской школы истории идей, которые подчеркивают важность реконструкции контекста политического высказывания, особое внимание уделяя намерениям и целям его автора. Мы также считаем необходимым анализировать тексты, созданные «второстепенными» участниками политического процесса. Только так можно изучать политический дискурс эпохи, без понимания которого исследование борьбы за власть невозможно27.
Вместе с тем наш подход весьма отличается от трудов Кембриджской школы, что обусловлено предметом настоящего исследования: нас интересует интерпретация текстов через контекст, но в большей степени для нас важно понимание контекста, прежде всего контекста политического, через историю употребления словосочетания гражданская война.
Наш подход отличается и от немецкой истории понятий (Begriffsgeschichte), изучающей важнейшие для немецкой культуры термины на основе текстов авторитетных авторов эпохи и подробных академических словарей28. Все же для нашего проекта представляет значительный интерес изучение понятий революция, бунт, смута, гражданская война и их истории, предпринятое Р. Козеллеком и его коллегами в рамках этого знаменитого научного проекта29.
Особенно же важно для нас исследование развития в истории идеи гражданской войны, выполненное Д. Армитеджем, которого считают представителем второго поколения Кембриджской школы30. Эта работа привлекла большое внимание специалистов, представляющих различные научные дисциплины31. В книге исследуется история развития основных концепций гражданской войны в европейской интеллектуальной традиции: от их зарождения в Древнем Риме и до наших дней. Для этого Армитедж привлекает многочисленные и разнообразные источники на нескольких языках: труды философов, историков, юристов, сочинения политиков и государственных деятелей, произведения писателей и поэтов. Этот автор, однако, не уделил должного внимания влиянию марксизма на описания гражданских войн их современниками; между тем его воздействие на многие внутренние конфликты XX века было чрезвычайно большим. Язык российской Гражданской войны, испытывавший воздействие европейской интеллектуальной традиции и в то же время на нее влиявший, также не рассматривался Армитеджем.
Мы же, в отличие от всех перечисленных авторов, уделяем внимание не только «второстепенным», но и «третьестепенным» участникам политического процесса; некоторых из них никак нельзя отнести к числу важных политических акторов, а иногда для нас важны свидетельства и аполитичных современников. Прежде всего нас интересуют политические акторы разного уровня, соответственно, в центре нашего внимания – заявления органов государственной власти и общественно-политических организаций, высказывания и публикации их лидеров. Для исследователей политического языка важны резолюции митингов и собраний, агитационные и пропагандистские материалы, публицистика и аналитика разного рода. Многие подобные тексты публиковались в газетах и журналах, поэтому пресса является незаменимым источником, и в своей работе мы старались привлечь разные периодические издания, имеющие различную политическую направленность и ориентированные на разные группы читателей. Весьма важны для нас политические словари, рассчитанные на массового читателя и фиксирующие нормативные для разных политических сил расшифровки, интерпретации понятия гражданская война32. Наконец, интерес для нас представляют синхронные источники личного происхождения – дневники и письма, которые позволяют судить о восприятии и понимании, усвоении и отторжении политических посланий на индивидуальном уровне.
Наличие схожих мотивов и интерпретаций на разных «этажах» политических сообществ и в разных сегментах политического спектра позволяет делать некоторые выводы относительно общих тенденций. Асимметричность же описания и восприятия ситуации заставляет высказать предположения относительно политических условий бытования термина гражданская война. Мы полагаем, что изучение различных случаев использования этого понятия на разных уровнях позволит по-новому посмотреть на историю его употребления. Мы пытаемся реконструировать всевозможные описания и интерпретации этого важного политического конфликта, сопоставляя различные источники и помещая их в контекст события. Особое внимание мы уделяем использованию понятия гражданская война, его синонимам и иным словам, описывавшим этот конфликт, а также тем образам врага, которые возникли и активно использовались во время острого политического противостояния и после его завершения. Мы ставим перед собой и более сложные задачи, пытаясь рассмотреть и интерпретировать случаи неиспользования, табуирования понятия гражданская война, замены его иными словами.
Мы полагаем также, что для понимания языка революции и гражданской войны большое значение имеют подходы, разработанные историками эмоций, прежде всего теми учеными, кто изучал эпохи радикальных социально-политических переворотов. Термины, использовавшиеся участниками событий, не были бесстрастными абстрактными понятиями; они не только отражали эмоциональное состояние авторов, но и нередко употреблялись для того, чтобы управлять эмоциями адресатов политических посланий, намеренно пробуждая чувства энтузиазма, страха или ненависти. Особенно полезны для нас те работы, в которых изучаются эмоции, сопровождавшие ход революций, прежде всего труды по истории Французской революции XVIII века33. Авторы новейших работ о Российской революции также уделяют немалое внимание анализу эмоций: без этого трудно адекватно понять политические, социальные, экономические и культурные конфликты эпохи34. Изучение эмоционального фона подготовки Гражданской войны и эмоционального фона использования этого понятия – одна из задач книги.
Через историю использования понятия мы стараемся лучше понять борьбу за власть в эпоху революции, поэтому для нас важны, разумеется, труды историков, в особенности тех из них, кто изучал политический язык и политическое сознание. Уже довольно давно В. И. Миллер, например, отмечал, что исследование многозначности понятия гражданская война весьма важно для понимания массовой психологии революционной эпохи35. В нашем исследовании мы опирались в том числе и на отечественную традицию изучения политического сознания эпохи революции, прежде всего на работы представителей «Ленинградской школы». Для нас особенно важны тексты Ю. С. Токарева, исследовавшего «народное правотворчество», Г. Л. Соболева, изучавшего революционное сознание рабочих и солдат Петрограда, О. Н. Знаменского, анализировавшего общественную психологию (в том числе изменение эмоционального настроя) различных групп интеллигенции в 1917 году36. Эти работы продемонстрировали, что исследование политического языка и массовой культуры может существенно расширить наши представления о политической истории.
Пока существует сравнительно мало исследований, специально посвященных изучению понятия гражданская война в России начала XX века, но важное исключение представляют собой интересные статьи М. Е. Разинькова37. Этот историк рассматривает различные слова и словосочетания, которые использовались для описания вооруженного противостояния в 1917–1922 годах. В некотором отношении мы продолжаем исследования этого автора, но в чем-то корректируем его выводы, опираясь на гораздо более широкую источниковую базу. М. Е. Разиньков пытается дать чрезмерно обобщенную характеристику партийным интерпретациям явления гражданской войны (предлагаемых большевиками, меньшевиками, эсерами, конституционными демократами, лидерами Белого движения и др.), не уделяя должного внимания разногласиям внутри политических организаций, изменениям политических оценок, а главное – особенностям контекста политического высказывания и адресатам этого высказывания. О позициях партий и даже о взглядах какого-то партийного деятеля нельзя судить только на основании их текстов. Например, М. Е. Разиньков рассматривает концепцию гражданской войны, предлагаемую Лениным, как поступательно развивающуюся, совершенствующуюся теорию. Между тем взгляды лидера большевиков порой кардинально менялись под воздействием меняющейся политической обстановки, в зависимости от первоочередных политических задач, а неактуальные интерпретации термина отбрасывались, хотя еще совсем недавно они объявлялись им научно обоснованными и единственно верными. М. Е. Разиньков не отрицает того обстоятельства, что взгляды Ленина существенно менялись, но он видит это как смену одной концепции другой, в которой он корректировал свои ранние ошибки:
Ленин не только пересмотрел отдельные положения своей концепции, но и пытался отказаться от старой концепции в пользу новой. Советская историография игнорировала этот важный факт, предпочитая доказывать цельность и непротиворечивость ленинских взглядов на феномен и этапы Гражданской войны, нежели признать за Лениным некую ошибку, которую он сам же попытался исправить38.
Такой «линейно-эволюционный» взгляд на работы Ленина вряд ли точно описывает взгляды лидера большевиков на гражданскую войну: он нередко возвращался к тем своим оценкам, которые сам ранее отбрасывал39.
Авторы этой книги опираются и на собственный опыт изучения политической культуры, политического языка и политической коммуникации Российской революции и первых лет советской власти40. Некоторые авторы настоящей монографии также приступили к изучению языка гражданской войны и, в частности, истории понятия гражданская война; опубликованные ими статьи стали после переработки основой ряда параграфов этой книги41.
Монография завершает работу над исследовательским проектом, который был поддержан грантом Российского научного фонда № 20-18-00369 «Процессы легитимации насилия: культуры конфликта в России и эскалация гражданской войны». Промежуточные результаты этого проекта нашли отражение в статьях, часть из которых упоминалась выше, и в сборнике статей, который привлек уже некоторое внимание исследователей42. Идея же этой книги родилась уже в ходе реализации исследовательского проекта, она была также поддержана Российским научным фондом, который продлил финансирование гранта на два года.
Мы далеки от того, чтобы считать эту тему закрытой; дальнейшая работа может потребовать и расширения круга источников, и привлечения специалистов из смежных дисциплин, прежде всего филологов. Особый интерес мог бы представить проект, объединяющий историков, которые работают на территории постсоветского пространства; важно было бы посмотреть, как гражданская война проговаривалась на языках народов, населявших Российскую империю. Было бы также полезно сопоставить употребления понятия гражданская война в ходе различных кризисов начала XX века. Мы надеемся, что публикация этой монографии будет способствовать появлению подобных международных и междисциплинарных проектов.
Книга состоит из восьми глав.
Первая глава имеет вводный характер. Ее первый параграф кратко представляет историю понятия гражданская война в европейской и российской традициях, а два других описывают использование понятия во время Первой российской революции и в ходе Первой мировой войны. Каждый из затронутых в этой главе сюжетов заслуживает дальнейшего специального исследования, хотя некоторые из них уже частично рассматривались нашими предшественниками. В этой книге, однако, нельзя было обойтись без такой главы, ибо без знания предыстории использования понятия нельзя понять ситуацию его употребления в 1917 году.
Остальные главы соответствуют этапам развития революции 1917 года.
Несколько особняком стоит последняя, восьмая глава монографии, по сравнению с предшествующими главами она охватывает гораздо более широкий период. К тому же и ситуация в это время складывается иная: хотя историки и ведут споры относительно начала Гражданской войны, никто, похоже, не спорит с тем, что в июне 1918 года эта война уже шла, исследователи пишут о полномасштабной войне, начавшейся в это время; порой они делают вывод о начале в это время так называемой «фронтовой» войны. Применительно к этому времени нельзя уже никак говорить о «предчувствии гражданской войны». Вместе с тем, однако, мы решили пересечь данный хронологический рубеж, ибо без этого будут непонятны и некоторые тенденции использования понятия гражданская война.
Благодарности
Работа над книгой велась в рамках проекта «Процессы легитимации насилия: Культуры конфликта в России и эскалация гражданской войны», поддержанного Российским научным фондом.
Мы признательны участникам проекта Е. Я. Вальковой, М. А. Кондратьеву, Д. А. Коцюбинскому, С. Ш. Мамедли, П. Г. Рогозному, Д. В. Шишкину. Благодарим также А. В. Шмелева, И. В. Саблина, М. Е. Разинькова, Ё. Икеду за участие в сборнике «Слова и конфликты: язык противостояния и эскалация гражданской войны в России», некоторые наблюдения этих авторов были учтены при подготовке данной книги.
Многие ученые проявили интерес к нашему исследовательскому проекту, результатом которого стала эта книга.
В. В. Журавлев, В. В. Лапин, Н. В. Михайлов были внимательными, доброжелательными и критичными рецензентами монографии.
Варианты текста книги обсуждались на заседаниях Ученого совета факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге и Отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Мы признательны Т. А. Абросимовой, П. Г. Рогозному, Н. Н. Смирнову за критические замечания и советы.
М. М. Кром, А. И. Миллер, К. А. Соловьев, О. В. Хархордин, Ю. Э. Штенгель высказали ценные соображения после прочтения различных фрагментов исследования. Консультации А. К. Гаврилова, Д. В. Панченко и В. В. Шишкина помогли при работе над первой главой книги, советы А. В. Ганина были важны при исследовании языка Гражданской войны в 1918 году.
Промежуточные результаты исследования были представлены на различных конференциях и семинарах. Вопросы и комментарии В. Б. Аксенова, С. Д. Анисимовой, В. П. Булдакова, К. В. Ваничевой, Е. Ю. Василик, Е. С. Гавроевой, Р. Герварта, М. Винсент, А. Д. Моисеенко, А. Б. Николаева, Ш. Олстон, Ю. П. Орловой, В. Н. Самоходкина, В. И. Шишкина были очень важны.
Благодарим И. Джахуа за помощь в работе в архивах Грузии.
А. М. Бессонова, И. Г. Ивченков, Е. В. Мишин, Н. В. Романова, П. В. Тихомиров, Е. Д. Флигинская, Д. В. Шишкин помогли в сборе источников, важных для книги. В книге были использованы материалы периодической печати, которые собрали студенты НИУ ВШЭ Д. С. Богданова, Д. А. Бутолина, Д. Г. Вартазарьян, Р. Р. Гафиатуллин, Е. В. Иванова, Ю. Р. Каверина, Э. С. Кунижева, С. А. Куликова и К. Ю. Чечот в рамках проектной деятельности.
В. Б. Аксенов, К. О. Макаров, А. А. Ромахин оказали помощь в подборе иллюстраций.
Полезны были советы главных библиографов информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки А. Я. Лапидус и Т. Э. Шумиловой.
Благодарим администрацию Европейского университета в Санкт-Петербурге за поддержку проекта, в особенности мы признательны Е. Е. Лаврентьевой за помощь при подготовке отчетной документации.
Благодарим Н. А. Славгородскую за помощь в редактировании монографии.
Выводы монографии отражают мнения авторов и могут не совпадать с позициями упомянутых исследователей и научных центров.
Выражаем благодарность выпускающим редакторам серии «Интеллектуальная история» Т. М. Атнашеву и М. Б. Велижеву, а также редактору О. В. Карповой за внимательную работу над текстом и ценные редакторские рекомендации.
Глава 1
Из истории понятия гражданская война
1. Понятие гражданская война в европейской интеллектуальной традиции и его использование в России
Понятие Bellum civile возникло в латыни в связи с чередой масштабных вооруженных конфликтов принципиально нового типа. Считается, что цикл гражданских войн начался в 88 году до н. э., когда Сулла ввел свои войска в Рим, игнорируя обычаи римлян и распоряжения властей республики. Впервые римская армия была использована против сограждан, как если бы она вела бои с внешним врагом. В Риме существовала традиция называния войн по имени противостоявшего ему противника: Пунические войны, Митридатовы войны и пр. Риторика, традиционно применяемая для характеристики внешних врагов, использовалась государственными деятелями и против политических противников43, это стало важным элементом культурной легитимации насилия внутри сообщества граждан. С этой целью стали употребляться различные словосочетания: гражданское зло (malum civile), гражданский раздор (civilis discordia) и др., но наиболее долгую жизнь получило словосочетание гражданская война44. Для его появления необходимо было уже иметь развитые понятия гражданин, гражданское сообщество, однако впоследствии словосочетание гражданская война использовалось и вне связи с концепцией гражданства.
Некоторые исследователи полагают, что впервые словосочетание гражданская война употребил Сулла в не дошедших до нас мемуарах45. Цицерон был первым известным автором, использовавшим его46, он произнес его в 66 году до н. э. в речи, напоминавшей о заслугах Помпея:
Войны гражданская, африканская, трансальпийская, испанская, война с рабами, война на море, различные и по своим особенностям, и по характеру врагов, он не только вел сам, но и удачно закончил, а это доказывает, что в военном деле нет ни одной области, которая бы могла быть неизвестна этому мужу47.
С помощью словосочетания гражданская война Цицерон способствовал принятию выгодного ему политического решения: уже тогда понятие использовалось не только для описания текущей политической ситуации, но и для ее изменения48.
Позднее, характеризуя собственное положение на начальном этапе противостояния Цезаря и сената, Цицерон писал: «…я оказался в самом пламени гражданских раздоров или, лучше, войны»49. В трактате «Об обязанностях» (44 год до н. э.?) Цицерон отметил, что гражданские войны Рима отличались от внутренних конфликтов в Греции и своим масштабом, и своим характером: для Афин были характерны «сильнейшие раздоры», для Рима же – «не только мятежи, но и губительные гражданские войны»50.
Цицерон способствовал формированию представлений о гражданской войне как о самом страшном бедствии для государства: «Нет большего несчастья, чем гражданская война»51. Это высказывание повторялось потом на протяжении столетий в связи с самыми разными вооруженными конфликтами.
Цезарь дважды использовал термин гражданская война в своих воспоминаниях, что позволило части переписчиков дать его мемуарам название «Гражданская война»52. В действительности же Цезарь придавал немалое значение тому, чтобы начатую им войну не рассматривали как bellum civile, в то время как его противники – Помпей и сенат – именовали вооруженный конфликт именно так53. Уже с момента появления термина его употребление могло быть выгодно лишь одной из противоборствующих сторон.
Разумеется, и ранее в разных языках существовали термины, описывающие вооруженные конфликты внутри государства. Древние греки, например, отличали полемос, войну с внешним врагом, от противостояния – нередко вооруженного – граждан одного и того же полиса. Для описания последнего использовались различные слова, среди которых выделяется стасис, имевшее, впрочем, разные значения и разную эмоциональную нагрузку, порой весьма негативную. После появления термина гражданская война он порой переводился с латыни на греческий как стасис; именно так называли гражданские войны Рима авторы, писавшие по-гречески54. Впоследствии яркие фрагменты книги Фукидида, касающиеся войн внутри полисов, нередко цитировались в исследованиях, посвященных гражданским войнам, а некоторые авторы и сейчас используют понятие гражданская война для описания истории Древней Греции55.
Но все же, как и писал Цицерон, появление нового понятия было связано с возникновением невиданного ранее явления, беспрецедентного и по своим масштабам, и по своему характеру. Предпосылкой для возникновения гражданских войн было появление на большой территории развитого сообщества граждан; гражданские войны были одним из индикаторов развития римской цивилизации. Неудивительно, что некоторые авторитетные исследователи считают анахронизмом использование понятия гражданская война для описания конфликтов в античной Греции56.
Тема гражданской войны получила дальнейшее развитие в других важных для римской традиции литературных и исторических текстах. Марк Анней Лукан в I веке н. э. создал поэму «Фарсалия, или поэма о гражданской войне», в которой он описывал противостояние Цезаря и Помпея, уделяя немалое внимание жестокостям, которые сопровождали внутренний вооруженный конфликт57. XIII–XVIII книги «Римской истории» Аппиана Александрийского, написанные на греческом во II веке н. э., в переводе на латынь носили общее название «Гражданские войны»58.
Возникло представление о том, что свирепые гражданские войны – неизбежная черта общественного устройства Рима; термин стал использоваться и для описания более древних событий римской истории: одни считали поворотной точкой, определившей движение Рима к гражданским войнам, убийство Тиберия Гракха, другие – смерть его брата Гая59. В известном смысле циклически повторяющиеся гражданские войны были следствием невиданного ранее уровня цивилизации, они являлись платой за развитие Рима. Внутренние распри были результатом военных и внешнеполитических успехов республики, которые подготовили ее смерть. На гражданскую войну ветераны былых сражений отправлялись с энтузиазмом, желая быстрого обогащения.
Дальнейшее развитие понятия гражданская война было связано с тем, что оно использовалось для обоснования разных политических программ.
Термин мог употребляться для утверждения легитимности новой формы государственного устройства Рима: империя, сменившая республику, смогла разорвать порочную цепь ужасных гражданских войн и принести долгожданный гражданский мир; неудивительно, что выразителем подобных идей был сам император. Август писал: «В шестое и седьмое консульство, после того как Гражданские войны я погасил, с общего согласия став верховным властелином, государство из своей власти я на усмотрение сената и римского народа передал»60. Создавая образ мудрого правителя, прекратившего гражданские войны, Август выстраивал легитимность своей власти61. Подобные аргументы, основанные на распространении страха перед гражданской войной, использовались и столетия спустя для обоснования необходимости сильного государства и недопущения внутренних конфликтов.
Не всегда, однако, гражданские войны рассматривались как наибольшее зло; Сенека, например, утверждал, что «…в царствование Тиберия была распространенной и почти всеобщей неистовая страсть к доносам, опустошавшая Римское государство хуже всякой междоусобной войны»62. Здесь можно допустить намеренное риторическое преувеличение, но подобное суждение могло использоваться для решительной борьбы с тиранией. Продолжала существовать традиция прославления республиканских институтов прошлого, важной частью которого был культ тираноборцев; тирания рассматривалась как наибольшее зло, борьба с тиранами превозносилась. По мнению носителей этой традиции, тирания – продолжение гражданской войны другими средствами. Гражданские войны поэтому хоть и нежелательны, но возможны, когда речь идет о борьбе с тиранами. Обоснования тираноборчества, допускающие насилие, мы встречаем в европейской интеллектуальной традиции и впоследствии, в том числе и в традиции революционной.
Подобное сочувственное описание гражданских войн прошлого и тем более прославление некоторых их участников могло показаться властям империи опасным. В такой ситуации даже изучение истории внутренних конфликтов в истории республиканского Рима выглядело подозрительным: их авторов порой обвиняли в скрытой проповеди гражданской войны63.
Термин гражданская война использовали и христианские мыслители. Августин довольно часто употреблял это словосочетание, оно было важно для его аргументации. Он противопоставлял греховный «град земной», неизбежно раздираемый жестокими противоречиями, ведущими к ужасным гражданским войнам, которые он, следуя уже сложившейся традиции, считал наихудшим бедствием, и «Град небесный»64.
Применение термина гражданская война Августином способствовало сохранению и использованию этого понятия в христианском мире, однако новую жизнь оно получило в связи с культурными и социальными процессами раннего Нового времени. Немалое значение имело распространение светского образования, предполагавшее изучение латыни; в связи с этим новых читателей обрели и важные классические тексты, описывавшие гражданские войны. Появились и переводы некоторых сочинений на европейские языки.
Закреплению понятия способствовали и новые, неизвестные прежде конфликты раннего Нового времени. Древний термин гражданская война, известный из римской истории, использовался для описания и анализа современных войн, особенно войн нового типа, для легитимации позиций противостоящих сторон и выработки политической тактики. Так, Религиозные войны XVI–XVII веков воспринимались и характеризовались частью современников как войны гражданские. Большим вниманием пользовалась переведенная на несколько языков книга Энрико Катерино Давилы (1630), который описал «…гражданские войны, на протяжении сорока лет без перерыва прискорбно угнетавшие Французское королевство…»65.
В ходе масштабных вооруженных конфликтов Нового времени политическая теория получала новые импульсы для развития, это относилось и к дальнейшему осмыслению явления гражданских войн. Ряд авторов, начиная с Ж. Бодена, выдвинул идею о необходимости монополизации насилия. Гражданские войны они, опираясь на античные сочинения, считали наибольшим злом, преодолеть которое может лишь сильное государство66. Если ранее о гражданских войнах писали преимущественно историки и поэты, то теперь к ним присоединились политические философы и юристы.
Страх перед гражданской войной стал важным побудительным мотивом для творчества Т. Гоббса, переводчика Фукидида, современника и одного из первых историков английских гражданских войн XVII века. Характеризуя политическое тело государства – «великого Левиафана», Гоббс писал, что «гражданский мир – здоровье, смута – болезнь, и гражданская война смерть»67.
По мнению Гоббса, важнейшая цель политической философии – предотвращение гражданских войн; в этом отношении английский мыслитель, считавший классическое образование важной причиной смут, сам следовал развитой античной традиции. Страх Гоббса и многих его современников перед гражданской войной влиял и на осмысление природы государства: история для Гоббса была «бесконечным чередованием циклов от гражданской войны к государству и от государства к гражданской войне»68.
В это время получивший новую жизнь термин проецировался и на события прошлого; так, в исторических сочинениях Войны Алой и Белой розы стали описываться как войны гражданские. Это помещало современные внутренние конфликты в более широкий исторический контекст. Тема гражданских войн появилась и в новых художественных произведениях, что свидетельствует о ее растущей популярности. Перенос понятия, применявшегося ранее преимущественно при описании истории Рима, на другие эпохи имел большое значение, увеличивался аналитический потенциал термина.
Разработка правовых основ, международных правил ведения войны повлекла и попытки правового регулирования ведения внутренних конфликтов. Г. Гроций, в частности, в своей классификации войн уделил внимание и войнам гражданским69. Вопрос о связи революций, гражданских войн и интервенций, о праве государств на интервенцию рассматривался политическими философами, юристами и историками по крайней мере с XVIII века. Особое значение имел труд Эмера де Ваттеля (1758), который писал о ситуации, когда связь между сувереном и народом разрывается:
Когда мужественный народ берется за оружие в борьбе против своего угнетателя, то помощь людям, которые защищают свою свободу, означает лишь проявление справедливости и великодушия. Поэтому, когда дело доходит до гражданской войны, иностранные державы могут помогать той стороне, которая представляется им борющейся за правое дело70.
Книга Ваттеля повлияла, в частности, на лидеров Американской революции.
В русском языке термин гражданская война появился в XVIII веке. По всей видимости, это словосочетание было знакомо Петру I71. Дальнейшее употребление его в России было связано с переводами книг с латыни, немецкого, французского и английского языков, а также с публикацией соответствующих словарей. Обучение иностранным языкам приводило и к тому, что все больше жителей Российской империи читали книги на языке оригиналов, самостоятельно знакомясь с термином.
В петровский период встречаются и попытки дать варианты переводов понятия. В переведенном в 1724 году сочинении немецкого богослова В. Стратемана говорилось: «Улрик Звинглий Пастор Тигуринский… на брани гражданской за веру… умре сего [1531] лета»72. Словосочетание bellum civile из «Левиафана» Т. Гоббса С. Кохановский перевел как «междоусобная брань»73.
Наиболее ранний обнаруженный нами случай употребления понятия гражданская война на русском языке относится к 1732 году. В календаре на 1733 год, составленном Г. В. Крафтом и изданном Академией наук, название месяца августа в честь императора Августа объяснялось тем, «что сей Кесарь в сем месяце гражданскую войну пресек, и государство в такой мир и тишину привел, что он храм Януса в Риме, который в военные времена день и ночь отворен стоял, и в 200 лет никогда не затворялся, затворить повелел»74. Этот пример довольно определенно связывает источник заимствования именно с рецепцией истории Древнего Рима и с той традицией, которая связала прекращение гражданской войны с установлением империи.
Словари, изданные во второй половине XVIII века в Санкт-Петербурге и Москве, дают представление о том, как переводились на русский язык словосочетания Civile bellum, Guerre civile, der Bürgerkrieg (der Bürgerlicher Krieg). Так, определение «гражданская или внутренняя война» используется в словаре, изданном Академией наук еще в 1755 году75. В словаре же, выпущенном в 1782 году, в качестве толкований соответствующего немецкого и латинского слова упоминаются «гражданский мятеж, междоусобная, внутренняя брань, война, смятение»76. Словосочетание встречается и в переводе словаря Французской академии, выпущенном в 1786 году: «Guerre civile, interfrine – Межусобная, гражданская война»77. Попадается также толкование «междоусобная, или внутренняя война»78. В 1790 году этот термин появляется и в словаре Российской академии, он определяется как «брань междоусобная»79.
Проникало выражение и в художественную литературу: изначально в качестве заимствования, отображающего связанное именно с римской историей понятие. В изданном в 1775 году переводе трагедии французского писателя П. Корнеля «Смерть Помпея» (1644) Я. Б. Княжнин так передал одну из реплик Клеопатры:
- О вы, которые вселенну предаете
- На снедь гражданския ужасныя войны;
- Коль боги, будете отмщать за смерть его,
- В карании своем щадите наши грады;
- Египет смертию Помпея не вините,
- Свершили Римляне злодейство здешних стран80.
В оригинале Корнель употребил выражение discordes civiles81, то есть гражданские раздоры/разногласия. Но, вероятно, ввиду того, что пьеса Корнеля основана на материале древнеримской истории, Княжнин опирался на словоупотребление, которое уже устоялось применительно к истории Рима. Современный ему русский язык знал это выражение.
Среди книг, переведенных на русский язык и изданных в России, в которых рассматривался этот термин, можно назвать исторические сочинения, где как гражданская война описывались и события европейской истории Нового времени: например, то, что происходило во Франции при Карле IX и Генрихе III, или Война Алой и Белой розы82. А. И. Подлисецкий, выпустивший в начале XIX века перевод переписки Екатерины II с Вольтером, так переводит одну из фраз письма Вольтера 1771 года, саркастически отзывавшегося о французском судебном сословии: «Они ведут на письме гражданскую войну, похожую на междоусобную войну мышей с лягушками»83. Вольтер использовал образ «Батрахомиомахии» (пародии на гомеровскую «Илиаду»); при этом речь шла уже не об истории, а о современности, и несомненно, что французский аналог понятия гражданская война был знаком российской императрице.
Это подтверждается тем, что в манифесте «О начатии войны с Оттоманскою Портою» 1768 года Екатерина II ссылалась на угрозу «явной опасности и неизбежных бедствий гражданской войны и междоусобия»84 как на причину, заставившую ее ввести российские войска на территорию Речи Посполитой. Возможно, что подобное описание событий Барской конфедерации и Колиивщины как гражданской войны было самым ранним примером использования этого понятия российским лидером в целях практической политики, для обоснования интервенции.
«Гражданская или междоусобная война» упоминается в истории Испании, переведенной с французского, которая была напечатана в 1782 году85. В середине или во второй половине XVIII века была переведена названная выше книга Э. К. Давилы, получившая в русском переводе название «История междоусобных во Франции войнах» (перевод этот остался неопубликованным)86.
Термин использовался и при переводе с английского сочинения, изданного в 1811 году, в ней речь шла о французских Религиозных войнах XVI века: «Несправедливость и вероломство Двора заставили опять протестантов прибегнуть к оружию. Конде и Колиньи подняли знамя, и гражданская война вновь началась»87. В книге термин гражданская война приобретает тираноборческое, по сути своей революционное значение:
Люди иногда с терпением несут иго. В них часто недостает того мужества, которое вдыхает решимость скорее умереть, чем влачить жизнь в рабстве. Есть время, когда они повинуются и вместе ненавидят своих тиранов. Но если зло возросло уже до такой степени, что никакие средства не могут исправить его; если чудовища пожирают самое их существование, отнимают у них последний остаток свободы и не оставляют ничего, кроме рабства и цепей, тогда они умеют истребить своих притеснителей. Тогда возгорается гражданская война, которая раскрывает дарования, таившиеся во мраке, и творит неизвестные пособия; возникают необыкновенные люди и являют себя достойными путеводительствовать их сограждане. Без сомнения, это страшное пособие, – смутная и кровопролитная эпоха, в которую Государства испытывают жестокие потрясения. Но оно иногда необходимо; иначе вольность не возвратна. В то время народ, принужден будучи разорвать общественный договор, чтобы получить неотъемлемые права свои, совершает чудеса храбрости88.
Любопытно, что тираноборческое сочинение такого рода было опубликовано в Российской империи.
В переводах на русский язык исторических трудов начала XIX века как гражданские войны описывались разные вооруженные конфликты прошлого: восстание Томаса Мюнцера89, восстание в Вандее во времена Французской революции90 и, разумеется, гражданские войны в Древнем Риме91. Как гражданские войны описывались также междоусобицы в Древней Хазарии92 и в Перу – накануне прибытия конквистадоров93. Словосочетание встречается и в переводах на русский язык произведений художественной литературы94.
В переводе книги немецкого историка А. Герена – одном из первых обобщающих трудов по древней истории – описывались и «ужаснейшие гражданские войны»95 эпохи заката Римской республики.
Не позже 1811 года термин появляется и в оригинальных сочинениях русских авторов. Так, рассказывая о вооруженных конфликтах в разных местностях Франции во время революции, автор, биограф А. В. Суворова Е. Б. Фукс пишет, что в Тулузе вспыхнула «гражданская междоусобная война»96.
Термин использовался порой и для описания современных конфликтов. В датированных 1839 годом (но опубликованных лишь в 1905 году) «Записках о Сирии и Палестине» В. Г. Теплякова, прикомандированного к константинопольской миссии, упоминаются «анархия и распря, переходящая иногда в настоящую гражданскую войну» в отдельных провинциях Египта97.
Со временем термин стал изредка применяться и для описаний событий российской истории, прежде всего истории XVII века98.
Некоторые образовательные программы способствовали распространению этого понятия. Воспитанники российских учебных заведений знакомились с историей гражданских войн в Риме, соответствующие темы освещались в школьных пособиях99. Гимназисты шестого класса Ларинской гимназии в Санкт-Петербурге в 1842/43 учебном году проходили по грамматике Н. Ф. Белюстина100 переводы с русского на латинский текстов, которые в отчете о занятиях обозначены как «первая гражданская война, первое триумвиратство и вторая гражданская война»101. Это давало учащимся представление о термине, хотя и связывало его преимущественно с одним историческим периодом истории Рима, а не с социальным явлением, присущим разным эпохам. В некоторых учебниках и английская революция описывалась как гражданская война.
Итак, не позже второй четверти XVIII века русские читатели познакомились с некоторыми значениями термина гражданская война, а во второй половине этого столетия русские авторы начинают его использовать и в собственных сочинениях; в первой половине XIX века образованным жителям империи термин был хорошо знаком по разным источникам. Но к этому времени понятие гражданская война стало уже испытывать влияние нового важного концепта – концепта революции, а отчасти и было потеснено им.
Первоначально термин революция использовался в астрономии и астрологии, но постепенно его стали употреблять для описания политических процессов прошлого и настоящего. Современное значение понятие приобрело в XVIII веке, это было связано прежде всего с Французской революцией102.
Если термин гражданская война вошел в русский язык со значительным опозданием по сравнению с языками европейскими, то термин революция был усвоен очень быстро. Слово встречается уже в русских текстах первой трети XVIII века, оно имело значение «перемена», «изменение» в жизни государств и народов. В последней трети XVIII века слово революция и в России чаще всего употребляется при описании событий во Франции. Специальные исследования показали, что к концу XVIII века все значения французского слова révolution, отмеченные в Словаре Французской академии 1786 года, а также полностью сформировавшееся после событий 1789–1790 годов терминологическое значение были известны в русском языке103. Различные значения термина революция влияли на понимание и употребление понятия гражданская война.
К третьей четверти XIX века термин гражданская война уже устоялся и активно использовался в исторической и обществоведческой литературе на русском языке, преимущественно все же переводной, относясь при этом к Древнему Риму, междоусобным конфликтам Средневековья и Нового времени, войне между штатами в США и т. д. На распространение и восприятие понятия влияло и его употребление авторами популярных художественных произведений, среди которых был и В. Гюго, произведения которого переводились на русский язык104.
Перед революционерами, в том числе и перед российскими, встал вопрос о соотношении революции и гражданской войны, и разные авторы давали различные интерпретации. Негативные коннотации термина гражданская война не могли не сказаться на некоторых текстах, но обвинения в развязывании внутреннего конфликта порой адресуются противникам революционеров, тем самым возрождаются аргументы тираноборчества. Часть же революционеров открыто оправдывала гражданские войны.
Так, если в одних текстах А. И. Герцен писал о возможности мирного развития революции, то в других своих трудах он сближал понятия революция и гражданская война. Еще более важным это понятие было для М. А. Бакунина, который, решительно отвергая гражданский мир, рассматривал гражданскую войну как постоянное и естественное явление; он выражал надежду, что грядущие вооруженные конфликты между государствами перерастут в гражданские войны105. В известной степени это суждение предвосхищало концепции перерастания внешней войны во внутреннюю, гражданскую, которые появились в XX веке.
О готовности царского режима вести войну против собственного народа писали в 1881 году народовольцы. Комментируя введение «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественной безопасности», автор статьи в журнале «Народная воля» писал о наделении генерал-губернаторов и губернаторов особыми полномочиями:
Наши «чрезвычайные охранители» предвидят, что им придется стать у себя дома «главнокомандующими армией в военное время» и вести эту армию против недовольного народа. Много нужно бесстыдства, чтобы, видя, до каких размеров может разрастись общественное недовольство, кидать обществу в лицо заявление, что самодержавие не отступит ни перед множеством жизней, ни перед попранием элементарных человеческих прав, ни перед кровавой гражданской войной106.
Борьба с государством, ведущим гражданскую войну против своего собственного народа, оправдывала революционное насилие, в том числе и революционный террор.
Некоторые же революционеры ставили вопрос об ограничении масштабов насилия во время неизбежной грядущей революции и сопутствующей ей гражданской войны. Например, в русской версии «Записок революционера» П. А. Кропоткина содержатся такие слова:
…я постепенно начал понимать, что революции, – то есть периоды ускоренной эволюции и быстрых перемен – так же сообразны природе человеческого общества, как и медленная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп такой эволюции ускоряется и начинается эпоха широких преобразований, – может вспыхнуть гражданская война в более или менее широких размерах. Таким образом, вопрос не в том, как избежать революции – ее не избегнуть, – а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти107.
Сюжет о минимизации жертв гражданской войны во второй половине XIX века приобрел особую актуальность в связи с Гражданской войной в США. Американские юристы и военные, продолжая дискуссии правоведов XVII и XVIII веков, поставили вопрос о правовом регулировании ведения гражданских войн108. Насколько можно судить, эти дискуссии не вызвали большого интереса у русских юристов.
На понимание сути явления гражданской войны революционерами большое воздействие оказали работы К. Маркса. Среди текстов, влиявших на понимание гражданской войны Марксом, были и классические сочинения, часть которых он читал на языке оригинала. Так, например, Маркс особенно ценил суждения Аппиана о «материальной подкладке» гражданских войн. Позднее и Ф. Энгельс указывал на значение борьбы за землевладение как на одну из причин гражданских войн, также ссылаясь на Аппиана109.
В трудах Маркса и Энгельса словосочетание гражданская война встречается в разных значениях, но чаще всего оно связано с понятиями класс и классовая борьба, оказывая воздействие и на марксистское понимание природы революции. При этом в разных своих сочинениях они по-разному описывали гражданскую войну как общественное явление. Авторы «Манифеста коммунистической партии» заявляли:
…мы прослеживаем более или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии110.
В иных своих текстах, созданных примерно в то же время, постоянную борьбу промышленных рабочих за свои права основоположники марксизма именовали «настоящей гражданской войной», они писали о «жестокой гражданской войне класса против класса в современном обществе», а движение чартистов в Англии характеризовалось ими как «социальная гражданская война»111.
В такой интерпретации гражданская война «нормализовалась», становилась не чрезвычайной и исключительной ситуацией, а повседневным явлением, постоянным конфликтом, неизбежно присущим капиталистическому обществу. Если в большинстве политических концепций гражданская война являлась неким особым временем, то эти тексты рутинизируют гражданскую войну, которая постоянно, непрерывно, с переменным успехом ведется пролетариатом против буржуазии, а буржуазией – против пролетариата. Если в некоторых интерпретациях революция может перерасти в гражданскую войну, то в понимании данных текстов постоянная гражданская война, неизбежно и беспрерывно идущая в классовом обществе, обостряясь, достигает фазы революции.
Не все марксисты ставили впоследствии вопрос именно так; некоторые из них предпочитали реформы и отвергали революцию как перспективу развития, а другие, считая себя революционерами, размышляли о том, как предотвратить превращение революции в гражданскую войну. Эти разногласия проявились в дискуссиях конца XIX – начала XX века, где обсуждались и осуждались различные аспекты ревизии марксизма. В этих острых спорах те радикальные социалисты, которые готовы были планировать гражданскую войну ради достижения революционных целей, могли в качестве важного аргумента использовать и другие авторитетные тексты Маркса.
Одним из таких текстов была работа Маркса «Гражданская война во Франции», посвященная опыту Парижской коммуны (1871). Здесь гражданская война описывается не как повседневная борьба пролетариата, а как классовый конфликт особого рода, начатый классовым врагом французского пролетариата, врагом внутренним, французскими правящими классами, при содействии врага внешнего, союза германских государств, возглавляемого Пруссией:
Таким образом, невиданное дотоле разорение Франции побудило этих патриотов – представителей земельной собственности и капитала на глазах и под высоким покровительством чужеземного завоевателя завершить внешнюю войну войной гражданской, бунтом рабовладельцев112.
В этой ситуации не рабочие, не революционеры, а господствующие классы превращают внешнюю войну в войну гражданскую. Революционные организации Парижа в описании Маркса безуспешно пытаются предотвратить гражданскую войну, навязанную классовым врагом113.
Как видим, здесь Маркс употребляет понятие в ином смысле: гражданская война описывается как классовый конфликт особого рода, отличающийся от «повседневной» гражданской войны, от классовой борьбы обычного нереволюционного времени. Это сочинение Маркса могло быть использовано впоследствии как теми марксистами, которые считали возможным противостоять классовому врагу, пытающемуся начать гражданскую войну, так и их радикальными оппонентами, полагавшими, что французские революционеры проявили чрезмерную сдержанность и уступчивость, что и определило неблагоприятный для них исход борьбы за власть.
Текст Маркса был быстро переведен на русский язык; за границей было выпущено несколько изданий, первое из них появилось уже в 1871 году114. Всплеск интереса к нему наблюдается и в 1905 году (см. ниже). Несколько переводов начала века вышли под заглавиями «Общественное движение во Франции»115 и «Парижская коммуна»116.
Не вполне совпадающие подходы Маркса, по-разному связывающие концепции классовой борьбы и гражданской войны, широко использовались российскими социалистами и во время Первой российской революции, и в 1917–1918 годах.
Наиболее ранний известный нам случай применения понятия гражданская война к российской современной обстановке консервативными авторами обнаруживается в антиреволюционном памфлете К. В. Трубникова, изданном в 1880 году. Клеймя российских революционеров, автор писал:
Нигилистические идеи не новы; они принадлежат старому обществу, до такой степени недовольному всем существующим, что оно обратилось к утопиям и стало желать чего-то вроде гражданской войны, которая, разрушив все существовавшие учреждения, осуществила бы их мечты117.
Термин, очевидно, автор заимствовал из текстов своих политических оппонентов и постарался использовать его против них же. В этот период получило развитие представление о том, что «правительство и общество вынуждены вести „войну“ друг с другом внутри собственной страны»118.
В России о гражданских войнах размышляли не только читатели нелегальных изданий. Публика, интересовавшаяся международным положением, и из подцензурной печати узнавала о том, что различные вооруженные конфликты описывались как гражданские войны.
Не всегда, впрочем, интерес к важному событию, который характеризовался частью современников как «гражданская война», сопровождался всплеском употребления понятия. В России, например, внимательно следили за Гражданской войной в США, но для описания этого вооруженного конфликта часто находились иные слова; неудивительно, что и в названиях книг, переводящихся на русский язык, употреблялись наименования «Американская война»119, «Северо-американская междоусобная война»120. Вместе с тем о том, что Маркс именует североамериканский конфликт гражданской войной, российский читатель мог узнать и при жизни автора, пусть даже опосредованно, из реферата книги «История торговых кризисов в Европе и Америке» политэконома, представителя манчестерской школы М. Вирта. Автор употреблял выражение «американская гражданская война», цитируя «Капитал» К. Маркса121. Впрочем, в той же статье война между северными и южными штатами 1861–1865 годов описывается также как «междоусобная война», «междуусобная [sic] война»122.
Российские военные не считали полезным изучение опыта Гражданской войны в США; исследователи предпочитали рассматривать «большие войны», вооруженные конфликты между державами. Военный теоретик Н. Н. Сухотин, изучавший этот конфликт, сетовал, что «опыт американской войны в забросе у нас вследствие предубеждения и предвзятой мысли о неприменимости его»123. Его диссертация (позднее переработанная в книгу) была посвящена конным рейдам в ходе американской Гражданской войны; этот труд стал одной из немногих работ российских авторов, специально исследовавших вооруженное противостояние Севера и Юга. Вспоминал ли кто-то эту книгу во время знаменитых кавалерийских рейдов эпохи российской Гражданской войны?
Возможно, относительно редкое использование понятия гражданская война было связано с тем, что и в самих Соединенных Штатах этот термин, употреблявшийся частью современников, первоначально не применяли широко ни южане, ни северяне: первые заявляли о своей независимости, считая, что отражают агрессию враждебного государства, в то время как федеральные власти сначала считали конфликт «мятежом», криминализируя тем самым действия противника; словосочетание гражданская война использовалось северянами не столь часто.
Об особом характере этой войны писал свидетель событий, чью книгу можно было прочесть и в русском переводе: американская война, по его мнению, «в одно и то же время имеет характер и междоусобной и международной войны»124.
Впрочем, другой межгосударственный вооруженный конфликт заставил читающую русскую публику размышлять о гражданских войнах, и в данном случае на употребление термина влияла терминология, которую использовали сами участники конфликта. В 1866 году произошла война между Австрийской империей, которую поддерживали некоторые немецкие государства, и Пруссией, возглавлявшей другую коалицию германских стран. Война, закончившаяся победой Пруссии, стала важным шагом на пути к объединению Германии; она воспринималась немалой частью немцев как германо-германская война, ее именовали также и гражданской войной. Термин использовали представители разных общественно-политических течений, в том числе те, кто осуждал политику Бисмарка125.
Схожие оценки мы можем найти и в некоторых российских изданиях: «…война Пруссии с Австрией была не международная, но гражданская война. Европа и отнеслась к ней как к войне гражданской, как она отнеслась к междоусобию в Северо-Американских штатах», – сообщал «Вестник Европы»126.
В конце XIX века словосочетание гражданская война применялось в подцензурной научной и публицистической литературе, рассчитанной на образованного читателя, прежде всего как исторический термин127. Вместе с тем гражданские войны прошлого и настоящего не стали, похоже, объектом изучения российских исследователей, представляющих различные научные дисциплины.
Показательно отсутствие специальной статьи «Гражданская война» в известном энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: редакторы отсылали читателя к статье «Междоусобная война». Но и она не появилась; можно предположить, что редакторы планировали опубликовать статью на эту тему, но не нашли для нее автора. Теперь читателя отсылали уже к статье «Право войны». Она была напечатана, однако гражданской войне там уделялось совсем мало внимания; ее автор, известный специалист в области международного права В. Э. Грабарь описывал ситуацию гражданской войны без употребления понятия гражданская война:
Полномочие воевать (субъективное право войны) имеет только государство, но, при известных условиях, его может получить и восставшая против правительства часть населения, еще не успевшая организоваться в особое государство. Оно дается в форме признания воюющей стороной, благодаря которому мятеж, караемый уголовным законом, превращается в законную, с международной точки зрения, войну, со всеми вытекающими из нее правами и обязанностями128.
Профессор Петербургского университета востоковед И. Н. Березин писал в составленном им «Русском энциклопедическом словаре», что «Гражданская война, тоже что междоусобная»129, а как междоусобную войну определял ситуацию, «когда один и тот же народ, раздвоившись в смутах, враждует между собою оружием»130. Такое краткое описание, не очень отличающееся от текстов популярных толковых словарей, само по себе свидетельствует о слабой разработанности понятия.
Создается впечатление, что российские революционеры интересовались природой гражданских войн гораздо больше, чем профессиональные философы и юристы, историки и военные теоретики. Тема гражданской войны не представляла, казалось, значительного общественного интереса. Но уже в начале XX века жителям России пришлось столкнуться с гражданскими войнами разного толка: именно так описывали современники различные события Первой российской революции.
2. Гражданская война, гражданские войны, смута: использование понятий во время Первой российской революции
В годы Первой российской революции появилась карикатура, на которой изображались «Автократия» (Николай II в короне) и бородатый мужик в русском национальном костюме, олицетворяющий «Народ» и «Революцию». Два персонажа, находящиеся на разных краях глубокой пропасти, перетягивали канат, желая столкнуть друг друга в бездну «Гражданской войны»131.
Наличие открытки с изображением этой карикатуры в архивной коллекции партии социалистов-революционеров заставляет предположить, что симпатии художника были на стороне «Народа» и «Революции», в результате идущей гражданской войны «Автократия» непременно должна быть повержена, а «Народ» – спасен. С другой стороны, возможно, что автор рисунка имел в виду страхи перед гражданской войной, и вполне вероятно, что он и сам опасался, что в пропасти гражданской войны могут оказаться все те, кто занимался перетягиванием каната…
Об угрозе начала гражданской войны во время Первой российской революции впоследствии писали историки. Образ страны, с трудом удержавшейся от падения в бездну, использовал и С. В. Тютюкин: «В декабре 1905 года Россия заглянула в пропасть гражданской войны, но сумела остановиться буквально на ее краю»132. «Репетиция гражданской войны» – так обозначил в своей статье события декабря 1905 года в Москве Ю. А. Петров133. Для нашего же исследования важно, что схожим образом воспринимали ситуацию и современники событий: подобным образом ситуация описывалась и в их воспоминаниях и, что еще более важно, в синхронных источниках.
В. А. Маклаков, видный либерал и часто цитируемый мемуарист, полагал, что только своевременные уступки правительства предотвратили в России гражданскую войну, исход которой трудно было предсказать:
Если бы самодержавие продолжало упорствовать, оно довело бы до открытой гражданской войны; оно могло бы победить, что очень возможно, и эра либерализма была бы еще надолго отсрочена. Оно могло бы пасть перед революцией, и мы в 1905 году получили бы 1917 год. Но это все гадание задним числом. Самодержавие сумело вовремя уступить и этим избавить Россию и от гражданской войны, и от революции134.
Вместе с тем люди разных взглядов порой вспоминали революцию как уже начавшуюся гражданскую войну; речь шла не об опасной возможности, а о страшной реальности уже наступившей жестокой внутренней войны. Известный деятель правого лагеря Н. Е. Марков (Марков 2‑й) впоследствии отмечал:
В то время была гражданская война… [и] война была почти односторонняя; революционеры били мирных граждан, а мирные граждане отвечали на револьверные выстрелы и бомбы камнями и палками135.
При подобной интерпретации гражданскую войну начинали агрессивные противники режима: именно они, по мнению правого политика, положили начало процессу эскалации насилия, они же применяли огнестрельное оружие.
Разумеется, люди либеральных взглядов видели ситуацию иначе, но и они использовали словосочетание гражданская война, уделяя, однако, большее внимание не уличным столкновениям, а масштабным вооруженным конфликтам, в которых участвовала и регулярная армия. Описывая «революционные смуты»136, А. А. Кизеветтер вспоминал, что в октябре 1905 года «…в Севастополе разыгрались такие сцены, словно начиналась открытая междоусобная война: взбунтовавшиеся суда на рейде со своих батарей обстреливали город и предприняли затем штыковую атаку береговых казарм», а «Прибалтийский край был охвачен настоящей гражданской войной»137.
Действительно, масштаб и ожесточенность множества вооруженных конфликтов, в разной степени друг с другом связанных, заставляли многих современников употреблять слова гражданская война и гражданские войны при описании событий 1905–1906 годов. В борьбе с вооруженными восстаниями и партизанским движением повсеместно участвовали не только отдельные войсковые подразделения и части, но и целые соединения российских вооруженных сил. Порой при подавлении восстаний применялась артиллерия, а иногда одни войсковые части вступали в бой с другими. Антиправительственные силы поднимали восстания, использовали террор, вели партизанскую борьбу; к насилию прибегали и монархисты. Ситуацию осложняли конфликты между различными группами населения, в том числе этнические конфликты; иногда и они описывались современниками как гражданские войны. Порой и межпартийное противостояние на окраинах империи приобретало форму вооруженной борьбы: так, в 1905 году в Царстве Польском началась череда конфликтов и между поляками разных взглядов – сторонниками Национально-демократической партии и ее противниками, конфликтов, которые историки впоследствии окрестили «холодной гражданской войной»138.
На память о Первой российской революции влиял и язык, к которому прибегали современники. Уже в 1905 году Национальный корпус русского языка фиксирует резкий рост использования словосочетания гражданская война именно в этом году, затем наблюдается некоторый спад139. Для целей настоящего исследования возможности этого замечательного ресурса пока еще ограниченны, в нем отображено слишком мало источников для того, чтобы делать какие-то убедительные выводы относительно распространенности термина. Но нам представляется, что о какой-то подобной общей тенденции говорить можно. Это подтверждается, например, публикациями В. И. Ленина: в 1904 году словосочетание гражданская война упоминается им только один раз, и не применительно к текущей ситуации140. После 9 января 1905 года Ленин использовал этот термин для описания политической борьбы очень часто; в этом году он написал более двух десятков статей, в которых содержится понятие гражданская война. В 1906 году Ленин продолжал применять термин, хотя и не столь часто, но спад революционного движения привел к тому, что уже на заключительном этапе революции это словосочетание употреблялось лидером большевиков все реже: так, похоже, что в феврале–июне 1907 года он вообще не упоминал его в своих статьях141.
О распространенности словосочетания гражданская война во время Первой российской революции косвенно свидетельствует и наличие посвященных ему статей в популярных «народных» и «политических» словарях, которые были востребованы массовым читателем в условиях взрывной политизации, вызванной революцией. Нам удалось просмотреть 12 подобных словарей, термин гражданская война упоминается в семи из них. Для сравнения можно указать, что термин террор встречается в девяти словарях, и описания значения этого слова более обстоятельны. Гражданская война в этих изданиях описывается, как правило, весьма кратко: как «междоусобная, внутренняя война», «междоусобие», «междоусобная война», «война внутри государства, междоусобие»142.
Лишь в некоторых словарях даются более развернутые определения, которые, впрочем, тоже используют производные от слова «междоусобица» для описания понятия: «Гражданская война – внутренняя междоусобная война, например, между областями одного и того же государства, или война между вооруженным народом, инсургентами и правительственными войсками»143.
Выделяется определение, данное в словаре, выпущенном издательством И. Д. Сытина, оно связывает гражданскую войну с революцией: «…вооруженная борьба внутри страны во время государственного или общественного переворота (см. Политическая и Социальная революция) между сторонниками нового, лучшего строя и защитниками старого, отжившего порядка»144. Можно предположить, что автор этого словаря придерживался левых взглядов: термин гражданская война лишается исключительно негативной оценки.
Интересно, что в выявленных нами словарях понятие гражданская война не прояснялось с помощью слова смута, хотя, как мы увидим далее, в некоторых консервативных и бюрократических кругах эти слова часто либо являлись синонимами, либо смута выступала в роли заместителя табуированного словосочетания гражданская война.
На использование словосочетания гражданская война, на его восприятие и употребление в России начала XX века повлияло несколько обстоятельств. В стране существовали развитые и противостоящие друг другу традиции легитимации применения вооруженного насилия во внутренних конфликтах.
Для выполнения задач, входивших в сферу ответственности могущественного Министерства внутренних дел (МВД), не хватало сил, и с целью охраны общественной безопасности нередко привлекалась армия.
В других странах войска также использовались во время социальных и политических конфликтов; не только в России дело доходило при этом до стрельбы. Не только в России военнослужащие должны были противостоять и «врагу внешнему», и «врагу внутреннему». И все же Россия выделялась и количеством подобных конфликтов, и остротой их протекания. Порой участники беспорядков оказывали ожесточенное сопротивление не только полиции, но и армии, особенно в быстрорастущих городах. Вопрос о привлечении войск в помощь полиции стал предметом внутриведомственных и общественных обсуждений. Существовали документы, регулирующие использование армии в таких ситуациях, но все невозможно было предусмотреть, а координация усилий полиции и армии представляла собой непростую задачу. Армейские офицеры не имели должной подготовки и использовали навыки борьбы с «врагом внешним» в условиях противостояния с «врагом внутренним», что приводило к лишним жертвам и способствовало эскалации конфликтов. Привлечение армии для решения полицейских задач вызывало недовольство части профессиональных военных, которым не нравилось ни подчинение гражданским властям, ни отвлечение военнослужащих от своих основных обязанностей. Некоторые же офицеры были принципиальными противниками такой практики145.
Дискуссии касались и правил использования оружия в подобной ситуации; некоторые участники этих обсуждений выступали за жесткую регламентацию и обязательность проведения предупредительных и предварительных мер, предшествующих стрельбе на поражение. В офицерском корпусе, однако, распространены были и иные мнения: весьма авторитетный генерал М. И. Драгомиров считал, что никаких «холостых» залпов или стрельбы поверх голов быть не может. Должно быть только предупреждение, а если толпа не подчинится распоряжению разойтись, то будет дан залп боевыми патронами и с хорошим прицелом: «холостые залпы», стрельба поверх голов и увещевания толпы приведут только к «братанию» войск с участниками беспорядков. Многие офицеры были с этим согласны, а А. С. Лукомский, ставший во время Гражданской войны одним из лидеров Белого движения, полагал даже, что события Первой российской революции «подтвердили всю справедливость взглядов и требований» Драгомирова146.
Похоже, что, несмотря на подобные дискуссии, и военными специалистами, и полицейскими чинами, настаивавшими на участии армейских частей в подавлении внутренних беспорядков, не были должным образом оценены риски: привлечение войск для борьбы с волнениями в условиях масштабного политического кризиса могло в известной ситуации привести лишь к эскалации конфликтов, что проявилось и 9 января 1905 года, и в феврале 1917 года. Использование вооруженных сил для решения полицейских задач становилось своеобразной школой подготовки к гражданской войне, способствуя выработке ее политической культуры.
Случаи применения армии против народа служили революционерам оправданием насилия в их борьбе с режимом. Тема легитимации политического насилия в революционной традиции давно уже разрабатывалась исследователями. Для задач же настоящей работы важно упомянуть о милитаризации дискурса политического противостояния. Революционеры уже накануне революции 1905 года рассуждали о перспективах гражданской войны, подготавливаемой властью. В конце 1904 года социал-демократическая «Искра», в целом контролируемая меньшевиками, писала:
Но та гражданская война, которую, с беззастенчивостью испытанного авантюриста, провоцирует самодержавие, должна заставить широкие круги либерально-демократического общества не остановиться в самом начале этого пути.
Автор так описывал действия правительства:
Сегодня, по его почину, тамбовские хулиганы избивают земцев, завтра оно будет натравлять крестьянина на помещика, серого рабочего – на либерального фабриканта, в этой гражданской войне оно не остановится перед эксплуатацией всех тех иллюзий, которые, в первобытно наивной форме, сливаясь с архаическими идеалами варварской эпохи – православием и самодержавием, смутно бродят в непросветленной светом политического сознания души народных низов. Отклоняя мысль народа от политического переворота и, ради этой цели, разжигая все грубые инстинкты и страсти, эта гражданская война зальет пожаром и кровью деревни и города, всероссийский Кишинев – вот что сулит России самодержавие.
Только революция могла предотвратить, по мнению автора, ужасную гражданскую войну и всероссийский погром:
Гражданская война под знаменем демагогии и во имя цезаристского возрождения самодержавия, или демократическая революция – на этом распутьи стоит теперь страна147.
Тему внутренней войны использовали не одни только революционеры, о ней говорили и либералы. Как перманентную гражданскую войну, уже ведущуюся правительством против «общества», описывал в 1903 году политическую конфронтацию С. Н. Булгаков: «В силу того, что самодержавие находится на военном положении по отношению к обществу, поддерживает существование непрерывной гражданской войны, оно вносит заднюю мысль, полицейский страх и политический расчет решительно всюду»148.
Комментируя расстрел демонстрации в Златоусте в марте 1903 года, автор журнала «Освобождение» (П. Б. Струве?) писал:
Самодержавия нельзя мирно поддерживать в нашей стране: самодержавие есть гражданская война со всеми ее бедствиями. Вот о чем должна была бы говорить наша печать. Безустанно она должна повторять обществу и правительству: вы не хотите политических убийств и революционных насилий, так покончите же скорее с их источником – самодержавием149.
Автор статьи делал вывод:
…отношение органов либерального общественного мнения к политическим убийствам изменилось потому, что самодержавие с тех пор само окончательно провозгласило себя гражданской войной, само утвердилось на абсолютно безнравственной и в дурном смысле слова революционной позиции. Разве не есть гражданская война та настойчивая борьба, которую самодержавное правительство всеми средствами ведет с деятельностью, направленной на постепенное изменение русского государственного строя мирными и большей частью даже формально легальными действиями?150
Использование темы постоянной гражданской войны, которую ведет самодержавие с народом, свидетельствовало о такой степени отчуждения от власти, которая исключала любую поддержку режима, даже во время военных действий с внешним врагом. Это проявилось во время Русско-японской войны. Некоторые призывы радикальных организаций даже предвосхищали лозунги превращения «империалистической» войны в войну гражданскую, которые затем стали звучать во время Первой мировой войны. Одна анархистская группа в обращении, адресованном «рабочим и работницам», требовала
…прекращения внешней войны, затеянной японскими и русскими капиталистами. Пролетариям русским не нужна братоубийственная резня с японскими рабочими в мундирах. Мы должны, товарищи, заменить эту внешнюю войну войной внутренней, войной гражданской, войной между бедным людом и богачами, чтобы на жизнь или смерть бороться за полное свое освобождение151.
Близкие лозунги выдвигали и некоторые эсеры. Так, киевский комитет этой партии выпустил прокламацию, в которой он убеждал призывников отказаться от мобилизации и примкнуть к борьбе с режимом: «Нам нужен мир с Японией, но для этого должна начаться война (восстание-революция) против самодержавия»152.
Лозунг «Война войне», вновь появившийся во время Первой мировой войны, также встречается в связи с Русско-японской войной. Например, автор статьи, опубликованной в издании партии социалистов-революционеров, так формулировал позицию этой партии:
…мы объявляем войну этой бессмысленной, разорительной и самодержавно-капиталистической войне. Мы объявляем войну этой войне во имя человеческого блага и наших социалистических идеалов153.
Автор другой статьи, опубликованной в том же издании эсеров, писал о двух войнах, которые ведет Российская империя: война с Японией и «война внутренняя, война гражданская, которую самодержавие ведет против живых сил нации на всем широком пространстве русской земли», война, которая длилась уже «более века» и обострившаяся, когда МВД возглавил В. К. Плеве. Архаичная империя, ведущая одновременно две войны, обречена на поражение:
Здесь и там враг, отличающийся более современным характером, должен восторжествовать над допотопным режимом, осколком былых времен, который образует странный анахронизм среди цивилизации наших дней154.
Некоторыми либералами в это время «внешний враг» также не рассматривался как главная опасность; более того, порой он даже воспринимался как союзник. Хотя либералы в своем отношении к Русско-японской войне были расколоты, авторитетные политики этого направления формулировали позицию принципиального пораженчества. В. А. Маклаков впоследствии отмечал: «Японцы казались нашим союзником против самодержавия, и на их нападение либеральное общество ответило почти сплошным „пораженчеством“»155. Хотя в легальной печати высказывать такие взгляды было затруднительно, однако в неподцензурных изданиях они проявлялись, отражая довольно распространенные настроения156.
О том же писали и другие мемуаристы. А. В. Тыркова вспоминала о настроениях русской политической эмиграции того времени:
Чем хуже, тем лучше, было одним из нелепых изречений левой интеллигенции. Порт-Артур сдался. Французы выражали нам соболезнование, а некоторые русские эмигранты поздравляли друг друга с победой японского оружия. Война с правительством заслоняла войну с Японией157.
Запись же в дневнике А. В. Тырковой позволяет судить о причинах «японофильства» части оппозиционеров. 10 февраля 1904 года она отмечала:
Вопрос о том, прекратила ли война с Японией междоусобную войну правительства с народом, этот вопрос прежде всего спутал, больше – сбил с толку многих. Теперь он выясняется. Каждый день приносит новые известия об арестах и репрессиях (отчего нет русских слов для таких архирусских понятий?)158.
По мнению Тырковой, война «правительства» с «народом» продолжалась, ибо власти не были готовы заключить «мир» или хотя бы «перемирие» во внутренней войне даже ради победы в войне внешней.
Автор «Освобождения» описывал новые репрессивные действия МВД как очередной эпизод на фронтах затяжной внутренней войны:
Таковы «последние известия» с театра гражданской войны. Г. ф.-Плеве и его клевреты действуют с полной откровенностью, на несчастную Россию наступают одновременно враги внешние на Востоке и враги внутренние в самом ее сердце. У кого ныне может быть еще сомнение, что внутренним и самым опасным врагом России является ныне именно ее самодержавная клика?159
Суждения такого рода могли влиять на отношение к политическому террору. Люди разных взглядов считали, что глава МВД для страны более опасен, чем японцы, и убийство В. К. Плеве в 1904 году радовало не одних только революционеров. Убийца министра считал свой поступок эпизодом войны, развязанной правительством против народа: «Плеве еще до объявления войны с Японией устраивал войну внутри государства. Он смотрел на Россию, как на вражескую страну, заливал ее почву кровью ее граждан»160.
Некоторые либералы смотрели на ситуацию схожим образом. В семье П. Б. Струве, либерала-эмигранта, после получения вестей о смерти министра царило ликование, «точно это было известие о победе над врагом». Струве заявлял, что поражение в войне с Японией соответствует национальным интересам России. Сторонники Струве по-разному отнеслись к его высказываниям, но показательно, что представители японских спецслужб предложили ему финансирование, которое видный оппозиционер с возмущением отверг161. В то же время представители некоторых радикальных политических партий, общероссийских и национальных, на это сотрудничество пошли162.
Можно предположить, что на дискуссии русских революционеров и либералов о пораженчестве, «японофильстве» и превращении внешней войны во внутреннюю влияли и споры в международном рабочем движении, вызванные публикациями французского социалиста Гюстава Эрве, который в своей газете «Социальная война» призывал рабочих восстать, если правительство их страны начнет войну. Тексты Эрве вспоминали в России во время революции163.
Как видим, некоторые оппозиционеры и до начала революции описывали политическое противостояние правительства и его противников как гражданскую войну, а после 9 января 1905 года поводов для использования этого термина стало еще больше. Все новые авторы оценивали ситуацию как уже идущую гражданскую войну, хотя и интерпретировали ее по-разному. Меньшевистская «Искра» писала о гражданской войне, развязанной правительством против народа: «Цивилизованный мир не может равнодушно смотреть на то, что совершается в России. Царизм доживает свои последние дни среди гражданской войны, среди трупов своих восставших подданных». В другом случае то же издание сообщало, что гражданская война является следствием обострения классовой борьбы: «Вслед за затопленным в крови восстанием петербургского пролетариата, стачечное движение облетело всю Россию, превращаясь местами в прямую гражданскую войну». О «стачечной гражданской войне», охватившей значительную часть страны, газета писала и впоследствии164.
Социалисты-революционеры тоже провозглашали в начале 1905 года: «Гражданская война началась». Сторонники вооруженной борьбы и террора, террора индивидуального и террора «массового», обосновывали тем самым необходимость применения насилия: «Гражданская война начата. Ни слова об отступлении, ни слова о выжидании, ни слова о пощаде! В выжидании – смерть революции, в беспрерывном, неустанном наступлении – победа»165.
В некоторых пропагандистских текстах «преступная» внешняя война, война с Японией, противопоставлялась праведной внутренней войне; последняя порой объявлялась священной. Листовка Союза латышских социал-демократов, выпущенная в начале 1905 года, гласила: «Да здравствует святая война народа против народных палачей! Долой внешнюю войну, которую народные угнетатели ведут против дельного японского народа, который нам не сделал никакого вреда!»166
Некоторые авторы, которые ранее уже констатировали состояние гражданской войны в России, отмечали, что этот конфликт вступил в качественно иную фазу. П. Б. Струве в «Освобождении» обращался к российским офицерам: «Правительство само начало форменную гражданскую войну. Правда, оно ведет ее давно, но оно вело ее раньше полицейскими средствами. С 9 января, когда с мирными политическими заявлениями выступили большие массы народа, правительство призвало к участию в гражданской войне и русскую армию»167. Такая формулировка была равнозначна призыву сделать свой выбор в условиях уже идущей гражданской войны.
И впоследствии Струве и его политические друзья продолжали употреблять это словосочетание для описания текущей ситуации. В феврале 1905 года автор «Освобождения» (по всей видимости, сам Струве) писал: «Гражданский мир и самодержавие несовместимы в современной России, и мы будем продолжать жить в состоянии гражданской войны, пока самодержавие будет отстаивать себя»168. Такая формулировка предполагала, что только глубокие политические преобразования позволят завершить гражданскую войну и обеспечить гражданский мир.
По мере уступок со стороны власти и обострения политической борьбы взгляды Струве, однако, менялись. В конце 1905 года близкий ему С. Л. Франк писал: «…не только конституции, но и вообще никакого законного порядка в России теперь еще нет, а есть лишь одна гражданская война»169. С этой оценкой, соответствующей его прежним взглядам, Струве теперь уже не согласился, он считал подобное рассуждение «чреватым недоразумениями»170 и указывал на опасности новых забастовок.
Погромы осени 1905 года также способствовали использованию этого понятия в целях политической мобилизации. Радикально настроенный в то время писатель А. В. Амфитеатров находил в таком описании кризиса аргумент для спешного вооружения антимонархических сил и использования революционного насилия:
В России кипит гражданская война. Революции не придется взять эту вину на свою совесть. Она истратила все убеждения, слова и факты, чтобы добиться от старого режима перестройки обветшалого государства путем мирным171.
В то же время не все либералы полагали, что гражданская война уже началась, разрабатывалась и тема предотвращения гражданской войны. Авторы газеты «Русские ведомости» осенью 1905 года видели несколько опасных факторов, которые могли бы вызвать внутренний конфликт. Особый страх либералам внушали черносотенные погромы. Поддержка, оказываемая властями погромщикам, могла привести к опасному развитию событий:
Чего же хотят, о чем хлопочут подающие руку помощи невежественной толпе в ее диком самосуде? Чего они добиваются? Гражданской войны для того, чтобы показать: вот как мы были правы, настаивая на необходимости репрессивных мер? Мести отдельным личностям за неотвратимый и непреклонный ход истории? Смут, беспорядков, раздора?172
Если одни либеральные авторы в начале XX века использовали тему гражданской войны для мобилизации своих сторонников в борьбе с самодержавием, то другие в разгар революции стремились приостановить эскалацию конфликта, играя на страхе перед гражданской войной для критики правительства и побуждая власти пойти на уступки.
Обвинения правительства, поддерживающего погромщиков, в намеренном разжигании гражданской войны приобрели столь широкое распространение, что представители власти сочли необходимым их опровергать. В прессе цитировались слова санкт-петербургского генерал-губернатора, товарища министра внутренних дел Д. Ф. Трепова, который публично заявлял о непричастности правительства к организации погромов:
Я знаю, что меня теперь открыто обвиняют в том, что я – главный виновник и организатор всех происходящих в России ужасов, разгромов, кровопролитий. Нужно ли доказывать, что вовсе не в интересах благоразумного правительства разжиганием народных страстей вызывать на междоусобие, на гражданскую войну173.
В то же время страх некоторых либералов подпитывался и иными тревогами: некоторых из них пугали нарастающие конфликты в сельской местности. Автор «Русских ведомостей» писал: «Достаточно взглянуть, что теперь творится в местностях, пораженных аграрными беспорядками. Над ними уже витает призрак завтрашней гражданской войны между землевладельцами и крестьянами, между самими крестьянами»174.
Если одни авторы выражали беспокойство по поводу возможности начала гражданской войны, то другие считали, что она уже идет; кто-то обдумывал перспективы ее прекращения, а кто-то рассуждал об особенностях политической тактики в специфических условиях гражданской войны, последнее было присуще революционерам разного толка.
На восприятие ситуации не одними только революционерами в это время влиял опыт Парижской коммуны, который часто понимался через упоминавшуюся уже работу Маркса «Гражданская война во Франции». Показательно, что этот текст неоднократно переиздавался во время революции175. Редактором одного из новых переводов был В. И. Ленин176. Над редактированием перевода Ленин трудился в июле 1905 года177; можно предположить, что работа лидера большевиков над этим важнейшим для марксистской традиции текстом влияла и на его анализ текущей политической ситуации178.
Вряд ли можно говорить о единой, цельной и непротиворечивой концепции гражданской войны, сложившейся у Ленина; тексты, созданные им в разное время и адресованные разным аудиториям, преследовали различные цели. И все же некоторые темы повторялись политиком, по всей видимости, они были особенно важны для него. Схожие оценки были присущи и другим революционерам, в том числе и тем, которые являлись в это время оппонентами Ленина.
Началом гражданской войны лидер большевиков считал Кровавое воскресенье, в январе он писал: «Льются ручьи крови, разгорается гражданская война за свободу. К пролетариату Петербурга готовы примкнуть Москва и Юг, Кавказ и Польша. Лозунгом рабочих стало: смерть или свобода!»179 Инициатором гражданской войны являлось царское правительство. Тон публикации соответствовал политической задаче, поставленной автором: мобилизация сил для вооруженной борьбы с режимом.
Схожие оценки ситуации мы встречаем и в текстах некоторых оппонентов Ленина: «С 9 января мы вступили в эпоху гражданской войны, в эпоху революции», – писал Ю. О. Мартов. Он также отмечал качественные особенности этой «эпохи»: «…в смысле революционизирования общества эпоха гражданской войны радикально отличается от исторических будней»180.
В отличие от авторов круга «Освобождения» и некоторых социалистов-революционеров, писавших о наличии гражданской войны в России и до 9 января, видные представители русского марксизма рассматривали сложившуюся ситуацию как принципиально новую, требующую радикальной корректировки политической тактики. В этом отношении они следовали скорее работе Маркса «Гражданская война во Франции», в которой говорилось об особенностях классовой борьбы в условиях революции, чем «Манифесту коммунистической партии», где «повседневная» классовая борьба пролетариата описывалась как гражданская война.
В издании же партии социалистов-революционеров, как уже отмечалось, упоминания об идущей уже гражданской войне встречаются и до 9 января 1905 года, но после этого события интерес к данной теме значительно возрастает: «Мобилизованная армия самодержавия и мобилизующаяся под неприятельским огнем армия труда столкнулись в вечно памятные январские дни грудь с грудью, лицом к лицу. Гражданская война началась». И далее слова «гражданская война началась» повторяются вновь и вновь, выделяя смысловые блоки статьи, которая завершается фразами:
Гражданская война начата. Ни слова об отступлении, ни слова о выжидании, ни слова о пощаде! В выжидании – смерть революции, в беспрерывном, неустанном наступлении – победа. И пусть же решительные времена создадут и двинут в бой решительных людей!
Автор публикации в издании эсеров использовал тему гражданской войны для обоснования необходимости вооруженной борьбы с режимом, в том числе для оправдания террора, вооруженных демонстраций и в конце концов – вооруженного восстания. Все те, кто проявлял ранее сомнения и колебания в отношении террора, должны их отбросить, партия должна быть едина в мнении по этому вопросу181.
Для Ленина также характерны повторяющиеся упоминания о совершенно особом, качественно ином характере политической борьбы в условиях идущей гражданской войны, для него это был важный аргумент в спорах с «новоискровцами»: предлагаемые ими решения вполне разумны и приемлемы в обычные, «мирные» периоды, но в условиях гражданской войны их просто невозможно реализовать; а это, в свою очередь, обосновывает актуальные политические задачи, которые ставит Ленин: подготовка вооруженного восстания и ведение «партизанских действий».
Для эсеров упоминание об особом характере политической борьбы в условиях гражданской войны было важной рамкой и при обсуждении вопроса о допустимом революционном насилии, и в дискуссии о возможности проведения террористических акций и экспроприаций; их сторонники утверждали, что исключительная ситуация идущей гражданской войны дает им на это право182.
У некоторых анархистских групп темы гражданской войны и экспроприации также были связаны. Федерация групп одесских анархистов-коммунистов провозглашала:
Открыто и смело призываем мы всех угнетенных, всех голодных к гражданской войне. Мы объявляем гражданскую войну всему существующему строю, мы объявляем ее теперь же, и в основу ее мы кладем великий и плодотворный принцип экспроприации183.
Важным является и утверждение Ленина о том, что, хотя гражданская война была начата политическим противником, но сама ситуация обостряющейся гражданской войны объективно более выгодна революционной партии, имеющей опыт подпольной, конспиративной организации и практики «прямых действий»:
Действительно революционная, закаленная в огне нелегальная партия, которая привыкла к гг. Плеве и не смущается никакими строгостями гг. Столыпиных, может оказаться в эпоху гражданской войны способной к более широкому воздействию на массы, чем иная легальная партия, способная «с желторотой наивностью» становиться на «строго конституционный путь»184.
Такая оценка партии в известной степени свидетельствовала и о самооценке ее лидера, который, по-видимому, полагал, что по сравнению с другими политиками он обладает должными политическими и психологическими качествами, необходимыми для политического руководителя в эпоху гражданской войны.
Как мы видим, не только Ленин, но и лидеры других революционных партий, считавших, что страна живет в условиях гражданской войны, думали, что единственным выходом из нее должна быть победа «народа» и поражение «царизма». Использование понятия гражданская война решало задачи политической мобилизации особого рода, предполагавшей вооруженное противостояние.
В то же время стал нарастать запрос и на выход из состояния гражданской войны. Так, известный резонанс вызвала статья видного общественного деятеля князя Е. Н. Трубецкого, призывавшего революционеров отказаться от политических убийств, а правительство – прекратить казни: «И разве гражданская война, не прекращающаяся в дни первых думских заседаний, не есть вызов самой Думе!» – восклицал он после открытия Государственной думы в мае 1905 года185. Этот призыв к деэскалации гражданской войны нашел положительный отклик у консервативного «Нового времени»186, хотя был в то время отвергнут не только социалистами, но и многими либералами, которые требовали амнистии и прекращения правительственных репрессий, однако не были готовы одновременно осудить террор и другие акции насилия, осуществленные революционерами. Ситуация продолжающейся гражданской войны, по их мнению, не оправдывала репрессии правительства. Автор кадетской газеты писал:
Если жертвы смертной казни считаются сотнями, то жертвы расстрелов – тысячами, может быть, десятками тысяч. Пусть нам не говорят: идет гражданская война. Камни вопиют о чудовищной, безумной, бесцельной жестокости невежественных, отупелых от военной дисциплины или сознательно-зверских укротителей187.
Вместе с тем не все авторы были готовы описывать общественно-политическую ситуацию как уже начавшуюся гражданскую войну: одни, признавая всю сложность и опасность ситуации, были противниками употребления этого понятия и находили иные слова для описания кризиса, а другие полагали, что вооруженное общественно-политическое противостояние еще не достигло такого уровня, когда использование термина гражданская война было бы обоснованным. Угроза гражданской войны, однако, представлялась им вполне реальной и актуальной; ставилась задача ее недопущения.
Нередко призыв предотвратить гражданскую войну исходил от консервативных кругов, которые заявляли, что радикальные социально-экономические и политические преобразования неизбежно будут лишь способствовать переходу вооруженного противостояния на качественно иной уровень. Страх перед угрозой полномасштабной гражданской войны, получивший широкое распространение, использовался для пропагандистского обеспечения консервативного политического курса, исключающего радикальные реформы.
Впрочем, в консервативной среде для характеристики явлений, обозначаемых с помощью понятия гражданская война, чаще употреблялись иные слова, прежде всего – смута188.
Распространению этого термина способствовало несколько обстоятельств. Историческая память о Смуте начала XVII века была очень важна для политической культуры монархического патриотизма189, а события 300-летней давности использовались как ключевая историческая аналогия для интерпретации общественно-политического кризиса в 1905 году; некоторые даже писали о «второй смуте» (ситуация повторится в 1917 году, а затем и во время Гражданской войны, когда консерваторы вновь обратились к Смутному времени для понимания революционного кризиса)190.
К тому же слово смута в начале XX века оставалось и юридическим понятием: глава пятая уголовного уложения, имевшая название «О смуте», состояла из 18 статей, касавшихся самых различных преступлений, которые в других случаях иногда обобщенно именовали «государственными» или «политическими»: от участия в «публичных скопищах» до членства в сообществах, «заведомо воспрещенных в установленном порядке», от оказания «дерзостного неуважения Верховной Власти» до восхваления тяжких преступлений191. Постоянно совершаемые действия, квалифицируемые как преступления такого рода, также заставляли вспоминать о смуте в условиях революции.
Были и иные причины, побуждавшие консерваторов чаще использовать слово смута для описания текущей ситуации. У понятия гражданская война и даже в большей степени у понятия революция, также очень ограниченно используемого и консервативными общественными деятелями, и бюрократами, был немалый потенциал для легитимации насилия. Сам термин гражданская война предполагал вооруженное противостояние членов одного гражданского сообщества. Слово же смута изначально отрицало подобную симметрию: отсылка к событиям XVII века криминализовала и интернационализировала внутренний конфликт: враги, противники и даже оппоненты описывались как «шайки преступников» и/или как орудие внешних врагов, интервентов, желающих ослабить и даже уничтожить Россию. При этом термин смута порой несколько модернизировался, приспосабливался к реалиям начала XX века: появились словосочетания «революционная смута», «гражданская смута».
Другая историческая аналогия, используемая консерваторами и в 1905 году, и в 1917‑м, – пугачевщина. Память о крестьянской войне XVIII века также ассоциировалась в этих кругах с темами преступности и «бунта», жестокой анархической и иррациональной борьбы не только с государством, но и с самой идеей государственности. Пугачев с его сообщниками и Екатерина II с ее генералами и бюрократами не были «согражданами», их нельзя назвать членами одного гражданского сообщества. Подобная аналогия также затрудняла применение понятия гражданская война в консервативной среде.
Было, однако, одно необычайно важное исключение: М. О. Меньшиков, ведущий автор «Нового времени», употребил термин гражданская война в конце 1905 года, а затем неоднократно его использовал. Взрыв насилия осенью привел к тому, что одни авторы (разной политической направленности) стали говорить о принципиально новой фазе гражданской войны, а другие лишь теперь констатировали ее начало.
В ноябре 1905 года Меньшиков писал о реальной угрозе гражданской войны, которую готовы немедленно развязать революционеры:
В столице, где естественно должна решиться судьба анархии, она надвигается неумолимо, как ночь. Разве каждый день с утра до вечера не продаются – и нарасхват! – десятки и сотни тысяч экземпляров мятежных изданий? Разве в этих изданиях не раздаются оглушительные воззвания к гражданской войне? <…> Петербург еще не испытывал внешних нашествий и гражданских войн. Кажется, пришел срок испытать и это192.
На эту публикацию отреагировали современники. Л. Д. Троцкий цитировал слова Меньшикова, чтобы обличить насилие со стороны консервативных сил:
Революция защищает свою героическую грудь от штыков и ножей разбойничьей реакции, – обезоружить ее, связать ее по рукам и по ногам, опрокинуть ее навзничь и наступить на нее казацким сапогом! Эй, палачи, за работу!193
Для Меньшикова гражданская война – это война инородцев, прежде всего выходцев с инородческих окраин империи, против России; это восстание, угрожающее самому существованию державы:
Вовсе это не «великая русская революция», а великая инородческая смута. Строго говоря, это вовсе даже не революция, а под личиной ее форменная война, объявленная России коалицией ее внутренних соседей <…> идет не революция, а действительная война <…> есть ли смысл называть революцией то, что по существу есть война?194
Мысль о том, что сложившуюся ситуацию следует понимать как внутреннюю войну, Меньшиков развивал и в последующих своих публикациях: «Пора понять нам, что это не просто бедствие: это война, и, может быть, самая отчаянная из всех, какие велись за жизнь России»195.
Вопрос о роли национальных территорий в общероссийской гражданской войне стал в это время предметом полемики: так, одни авторы уделяли преимущественное внимание событиям в Польше и на Кавказе, то есть речь шла не о единой гражданской войне, но о ряде гражданских войн в разных частях империи196; другие же говорили об общероссийском характере начавшейся гражданской войны.
Меньшиков не только описывал текущую ситуацию как гражданскую войну, он открыто призывал своих читателей к прямым действиям, соответствующим ситуации внутренней войны, к использованию оружия для подавления политических противников. Такая позиция была присуща и части людей, записывавшихся в это время в правые организации. А. А. Киреев в конце ноября 1905 года сделал запись в дневнике:
Вот она, междоусобная война! Я внес в кассу свой золотой и сделался членом «Союза русского народа». Мой [билет] № 2951. Вот та «guerre civile», которой так испугалась Zizi Нарышкина, когда на днях я ей сказал, что она необходима! Что без этой gue<rre> civil<e> не обойтись уже и потому, что она началась, и только потому, что правительство наше так непроходимо глупо, «белая армия» не организована. Ее нужно было организовать при первых признаках организации армии красной, многого бы не случилось197.
По мнению современного биографа Киреева, в 1905–1906 годах генерал призывал создавать «белые сотни» и «не останавливаться перед уличными боями и гражданской войной, лишь бы удалось подавить революцию»198.
Нельзя сказать, что позиция Меньшикова разделялась другими авторами «Нового времени», предпочитавшими использовать слово смута для описания текущей ситуации, но все же в этой среде он не был одинок.
В этом параграфе мы в соответствии с задачами нашего исследования предложили читателям интерпретацию цитат, иллюстрирующих применение словосочетания гражданская война в 1905 году. Такая подборка высказываний может создать ошибочное представление о том, что этот термин был для современников ключевым интерпретационным понятием. Вряд ли это соответствовало действительности: слова революция, самодержавие, конституция, вооруженное восстание и, разумеется, слово смута активнее и чаще использовались разными политическими силами. Даже в текстах тех авторов, которые употребляли понятие гражданская война, оно встречалось реже, чем некоторые из этих слов.
Все же даже беглый очерк истории применения этого словосочетания позволяет высказать несколько предположений.
Авторы, представляющие различные сегменты политического спектра, использовали понятие гражданская война, преследуя разные, порой противоположные политические цели. Опыт проживания в условиях серьезных конфликтов, которые описывались частью авторов как гражданская война или гражданские войны, оказал воздействие на российскую политическую культуру. Уже в 1905 году Ленин писал, что 9 января «рабочий класс получил великий урок гражданской войны; революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни»199. В начале 1905 года многие жители России, возмущенные Кровавым воскресеньем, разделяли если не мнение Ленина, то острое чувство негодования, которое очевидно в тексте лидера большевиков, и эту эмоцию для политической мобилизации в новых политических условиях использовал не только он. Последующие события, полные насилия разного рода, заставили с тоской вспоминать «годы серой, будничной и забитой жизни» и многих из тех, кто изначально поддерживал гражданскую войну с самодержавием. И это тоже был урок революции 1905 года. Одни приобрели навыки решения политических и социальных проблем с помощью оружия, а другие испытывали страх перед повторением гражданской войны и готовы были поддержать использование силы ради сохранения порядка.
Память о революции 1905 года становилась элементом политической культуры. Многие участники революции 1917 года в своих действиях опирались на свой жизненный опыт, а для политических аналитиков события 12-летней давности становились излюбленной исторической аналогией – наряду со Смутой начала XVII века и Французской революцией, пугачевщиной» и Парижской коммуной.
Во время Первой российской революции наблюдается качественно новая фаза милитаризации политического дискурса. Понимание революции как войны, присущее и дореволюционным текстам, становится буквальным, влияя на выбор политической тактики, ярким примером чего могут служить разные источники, в том числе тексты Ленина и статьи Меньшикова.
Удивительно, однако, что интенсификация политического использования понятия гражданская война не стимулировала научного изучения описываемого им социального явления. Даже опыт проживания в условиях кризиса не подвиг, насколько можно судить, российских историков и юристов, социальных и политических мыслителей, военных теоретиков и философов сделать гражданскую войну предметом специального исследования. Словосочетание, пробуждавшее сильные эмоции, не становилось аналитическим понятием (некоторое исключение составляли марксисты). Феномен гражданской войны оставался преимущественно предметом толкований журналистов и политиков.
3. Тема гражданской войны в эпоху мировой войны
Первая мировая война, породившая цепь внутренних конфликтов, часть из которых описывалась современниками, а затем и историками как гражданские войны, оказала воздействие на концептуализацию гражданской войны. Беспрецедентный опыт глобального конфликта побуждал современников произвести ревизию используемых аналитических инструментов. Впрочем, и накануне Первой мировой войны произошли важные события, заставлявшие думать о сущности гражданских войн.
Тема гражданской войны была актуализирована в 1914 году в связи с планами британского правительства принять закон о введении самоуправления в Ирландии (гомруль), согласно которому в этой стране формировался собственный парламент200. Тем самым удовлетворилось бы давнее требование ирландского национального движения, но эта серьезная реформа вызвала протесты лоялистов, по преимуществу протестантов, живших в основном в Северной Ирландии, которые опасались, что в стране установится господство католического большинства. Разговоры о гражданской войне в Ирландии шли уже в 1912 и 1913 годах, но накануне мировой войны ситуация необычайно обострилась; и сторонники гомруля, и лоялисты готовились к вооруженному противостоянию, а часть высокопоставленных офицеров британской армии заявила, что они не будут действовать против лоялистов. Британские войска и полиция стреляли по сторонникам гомруля. Есть основания полагать, что лишь мировая война предотвратила гражданскую войну в Ирландии: после вступления Британской империи в войну и многие сторонники гомруля, и очень многие лоялисты добровольно записывались в армию, став основой элитных войсковых соединений. Конфликт, однако, был лишь отсрочен, но не предотвращен: в 1916 году в Дублине произошло неудачное восстание сторонников независимости Ирландии, а после окончания мировой войны, в 1919 году, началась война за независимость. Ситуация, однако, к этому времени качественно изменилась, что и проявлялось в описании этого конфликта: термин гражданская война уже не был столь востребован201.
О ситуации в Ирландии в 1914 году писала российская пресса. «Известия министерства иностранных дел» передавали содержание речи Георга V, посвященной «ульстерскому вопросу». Монарх заявил, что «исключительные обстоятельства оправдывают действия Короля в такое время, когда слова „гражданская война“ находятся на устах наиболее ответственных и трезвомыслящих людей»202. Об опасности гражданской войны в Ирландии российские читатели могли узнать и из переводов художественной литературы203. По мере нарастания конфликта российская пресса передавала заявления британских политиков, рассуждавших о гражданской войне. Так, первый лорд Адмиралтейства У. Черчилль произнес в палате общин в апреле 1915 года: «…если будет восстание – мы постараемся его подавить; если будет гражданская война, мы постараемся в ней победить»204. Подобные высказывания вызывали интерес, они могли способствовать распространению языка гражданской войны.
Вместе с тем не всякое масштабное силовое противостояние воспринималось как гражданская война. Началу мировой войны предшествовали острые социальные конфликты в Петербурге: демонстрации рабочих, стачки и митинги переросли в массовую забастовку, сопровождавшуюся столкновениями с войсками и полицией; дело доходило до строительства баррикад и перестрелок205. Хотя эти акции и воспринимались порой как революция, они не оценивались, насколько мы можем судить, как гражданская война, большее распространение получил дискурс хулиганства; современники разных взглядов широко использовали язык, криминализующий действия протестующих.
На использование же понятия гражданская война в связи с началом Первой мировой войны влияло несколько обстоятельств.
По крайней мере с XVIII века существовала интеллектуальная традиция описания войн между европейскими государствами (а иногда и войн вообще) как гражданских войн, достаточно назвать имена Вольтера, Фенелона, Руссо, Гюго. Неудивительно, что некоторые образованные европейцы воспринимали Первую мировую войну как войну гражданскую. Немецкий художник Франц Марк, вскоре погибший на фронте, назвал войну «европейской гражданской войной»206, войной между носителями одной и той же европейской культуры. Такое понимание конфликта оказало воздействие на формирование концепций «долгой европейской гражданской войны», начало которой нередко – хотя и не всегда – датируется 1914 годом207.
Восприятие Первой мировой войны как войны гражданской и/или братоубийственной противостояло различным тактикам создания и поддержания гражданского мира – заключаемого на время войны соглашения о сотрудничестве основных политических и социальных сил воюющих стран; частью этого соглашения должен был стать классовый мир или классовое перемирие, а важными его участниками – профсоюзы и социалистические партии. Так, в июле 1914 г. обложка «Сатирикона» с рисунком Н. В. Ремизова изображала рабочего, крестьянина, чиновника и интеллигента, дружно взявшихся за меч208.
Ф. Л. Блументаль, в 1920‑х годах исследовавший пропаганду эпохи мировой войны, писал: «Гражданский мир – стержень всей пропаганды, и вокруг него строилась в частности вся система пропаганды подготовки войны и обработки населения во время войны»209. Вывод советского военного комиссара может показаться пристрастным, но его фактически разделяли и разделяют другие авторы, изучающие феномен гражданского мира, основой которого был отказ от межпартийной и межклассовой борьбы внутри страны ради успешного продолжения войны.
Гражданское объединение, в которое входили и многие социалисты, в том числе и недавние противники войн, объявлялось высшей политической ценностью и даже сакрализовалось, во Франции оно и именовалось «священным союзом» – Union sacrée210. Зримым воплощением этого единства воюющих наций стали патриотические манифестации в европейских городах. Степень этого единства, впрочем, не следует преувеличивать: историки впоследствии деконструировали миф об объединяющем «духе 1914 года», согласно которому население переживало патриотическое единение, участвовало в демонстрациях и парадах, восторженно провожало солдат на войну211.
Исследования показали, что представление о всеобщем патриотическом ликовании жителей воюющих стран было преувеличенным212. И в России в связи с началом войны разные группы людей испытывали страх, растерянность, беспокойство, хотя заметнее были шумные публичные проявления военного энтузиазма, особенно подробно освещавшиеся прессой213.
Противники же войны критиковали концепцию гражданского мира с разных позиций, но наиболее радикальным способом его отрицания стало провозглашение лозунга гражданской войны как средства преодоления войны «империалистической».
Накануне Первой мировой войны в большевистских кругах рассматривали перспективы гражданской войны в условиях военного столкновения великих держав. Главная газета большевиков интерпретировала решения Базельского конгресса Интернационала следующим образом: единственной гарантией международного мира является усиление и обострение «гражданской войны пролетариата против буржуазии каждого отдельного государства». Это можно было бы понять как очередной призыв к усилению постоянно идущей классовой борьбы, но другой фрагмент текста подразумевал иную, новую революционную ситуацию, сопровождающуюся вооруженной борьбой: «…пролетариату в его борьбе против войны придется развивать свою энергию до крайних пределов, вплоть до открытой гражданской войны»214.
В военные же годы тему гражданской войны развивали не только большевики. Особый резонанс имели выступления известного немецкого социал-демократа и депутата рейхстага Карла Либкнехта, который и до войны уже был известен своими антимилитаристскими выступлениями, а с началом военных действий стал решительным противником гражданского мира. Либкнехт приобрел всемирную славу, когда он, единственный из народных представителей, голосовал в рейхстаге против предоставления правительству военных кредитов 2 декабря 1914 года Либкнехт утверждал, что главным врагом немецких рабочих является германский милитаризм, а для пролетариев всех воюющих стран актуальной и первостепенной является борьба против внутреннего врага – отечественного империализма. В 1915 году Либкнехт был призван в армию, но эта мера, репрессивная по своей сути, лишь способствовала его известности, укрепляя его авторитет среди противников войны.
В августе 1915 года Либкнехт направил заявление в президиум социал-демократической фракции рейхстага, содержавшее призыв к гражданской войне:
Тот, кто заинтересован во влиянии социал-демократии на условия мира, тот должен стремиться к тому, чтобы развивать силу, присущую пролетариату. Борьба за условия мира, по ходу которой правящие классы выступят с обнаженным мечом в руках, будет самой суровой борьбой, без всяких сентиментальностей. Необходима гражданская война, а не гражданский мир215.
В сентябре в письме, адресованном международной Циммервальдской конференции социалистов, выступавших против войны, Либкнехт вновь поддержал лозунг гражданской войны и осудил концепцию гражданского мира:
Гражданская война, а не гражданский мир. Международная солидарность пролетариата против лженациональной, лжепатриотической гармонии классов; международная классовая борьба за мир, за социалистическую революцию216.
О необходимости гражданской войны Либкнехт писал и в одной из своих статей: «…необходима последовательная, беспощадная борьба против всей правительственной политики, самое решительное продолжение классовой борьбы во всех областях; гражданская война, а не гражданский мир…»217
В августе 1916 года германский Верховный военный суд приговорил его к четырем годам каторжных работ за антивоенную деятельность; в последнем слове обвиняемый публично заявил: «Мой лозунг – не гражданский мир, а гражданская война! Долой войну! Долой правительство!»218
Выступления Либкнехта были важны для Ленина и других радикальных социалистов, требовавших превращения «империалистической» войны в войну гражданскую, но на международных встречах противников войны они оказывались в меньшинстве. Конференция в Циммервальде, состоявшаяся в сентябре 1915 года, собрала тех представителей социалистических групп воюющих и нейтральных стран, которые выступали против войны. Участники конференции не были едины ни в своем отношении к тем социалистам, которые были сторонниками гражданского мира, ни в отношении к тактическим лозунгам антивоенного движения. Письмо Либкнехта, адресованное конференции, было созвучно позиции Ленина и других левых делегатов конференции, которые предложили свой проект резолюции, содержавший призыв: «Наш лозунг не гражданский мир между классами, а гражданская война!»219 Большинство делегатов, однако, отвергло эту резолюцию, приняв проект Л. Д. Троцкого, воспринимавшийся его оппонентами как «пацифистский».
К этому времени в рядах российских социалистов уже шла дискуссия о способах окончания мировой войны и перспективах революции. На ход этой дискуссии влиял и опыт борьбы против собственного правительства во время Русско-японской войны: как мы видели, тогда некоторые политические группировки требовали превращения «внешней» войны во «внутреннюю».
Другим обстоятельством, оказывавшим воздействие на ход споров о гражданской войне, было описание внутриполитической ситуации в России как перманентной гражданской войны. Немало известных ранее «пораженцев» стали в 1914 году «оборонцами», а то и убежденными «империалистами», как видно на примере П. Б. Струве. Но все же тема гражданской войны, постоянно идущей в России, не уходила совсем из обсуждений. У Ленина до начала Первой мировой войны она не была центральной, но присутствовала в его текстах. В апреле 1914 года он писал:
…страна переживает на деле состояние плохо прикрытой гражданской войны. Кое для кого очень неприятно сознаться в этой истине, кое-кому хочется надеть на это явление покрывало. Наши либералы, и прогрессисты, и кадеты, особенно любят сшивать такое покрывало из лоскутков совсем почти «конституционных» теорий220.
Для социалистов, считавших, что и в мирное время Россия находится в состоянии «прикрытой» гражданской войны, лозунг превращения «империалистической» войны в войну гражданскую, довольно быстро выдвинутый лидером большевиков, не был слишком радикальным. Ленин вновь начал интенсивно употреблять понятие гражданская война для критики большинства социалистических лидеров, поддержавших идею гражданского мира. Подобное «предательство» «вождей» он не считал случайным или внезапным; оно, по мнению Ленина, было следствием «оппортунизма» и «ревизионизма», выражавшихся в том числе в забвении и искажении марксистского понимания гражданской войны и классовой борьбы.
Другой темой, в связи с которой Ленин использовал понятие гражданская война, была критика тех противников войны и гражданского мира, которых он считал непоследовательными и нерешительными. В октябре 1914 года Ленин отмечал:
Отказ от военной службы, стачка против войны и т. п. есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией, воздыхание об уничтожении капитализма без отчаянной гражданской войны или ряда войн221.
Близкий в это время к Ленину Г. Е. Зиновьев также критиковал тех противников мировой войны, которые не принимали идею необходимости «гражданских войн». В начале 1915 года он писал:
Требование прекращения войны, требование мира лишь с того момента получает революционное значение, когда к нему присоединяется революционный призыв, призыв к борьбе с правительством своей страны, призыв к превращению империалистской войны в начало эпохи гражданских войн <…> Мы… стоим за возможно скорейшее прекращение бойни. Мы зовем рабочих всех стран бороться за это прекращение. Но мы говорим им при этом всю правду: наш лозунг не мир, но – меч! Знайте, что только революционной борьбой вы можете приблизить окончание всемирной империалистской бойни 1914/15 гг., и еще больше – помните, что сократить весь этап империалистских войн, грозящих нам новыми морями крови, вы можете только посредством ряда революций, посредством систематического стремления превращать империалистические войны в гражданские. Лишь тогда буржуазия остережется вызывать новые войны из‑за дележа колоний и т. п., когда она будет знать, что на каждую войну рабочие ответят ей не Burgfrieden’om222, но Burgerkrig’om, не гражданским миром, гражданской войной, не останавливающейся перед поражением своего «отечества»223.
Обобщенное представление о перерастании империалистической войны в войну гражданскую Ленин изложил в манифесте «Война и российская социал-демократия» в сентябре 1914 года. Он писал:
Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех условий империалистской войны между высоко развитыми буржуазными странами224.
Ленин ссылался на опыт Парижской коммуны (опираясь на известный текст К. Маркса) и на резолюцию Базельского конгресса Интернационала.
Взгляды лидера большевиков чиновник Департамента полиции изложил так:
Ленин говорит, что настоящая война – грабежный поход буржуазии отдельных государств. По его мнению, капитализм настолько уже назрел, что должна уже немедленно начаться социальная революция и гражданская война. Войска отдельных наций должны оружие обращать немедленно против собственной буржуазии и прекратить международную войну, причем он добавляет: «И с нашей стороны уже во всех странах предпринимаются шаги, чтобы немедленно осуществить эту цель». Кто предприниматели этих шагов и что именно «предпринято», Ленин не сказал225.
Лишь пролетарские революции, серия гражданских войн пролетариата и буржуазии должны были, по мнению Ленина, стать средством установления мира: «Кто хочет прочного и демократического мира, тот должен быть за гражданскую войну против правительств и буржуазии»226.
Подготовка гражданской войны, по Ленину, – важнейшая и актуальнейшая задача социалистов. Он обозначал конкретные действия, которые необходимо предпринять для ее достижения:
Не вотировать военных кредитов, не потакать шовинизму «своей» страны (и союзных стран), бороться в первую голову с шовинизмом «своей» буржуазии, не ограничиваться легальными формами борьбы, когда наступил кризис и буржуазия сама отняла созданную ею легальность, – вот та линия работы, которая ведет к гражданской войне и приведет к ней в тот или иной момент всеевропейского пожара227.
Лозунг о перерастании империалистической войны в гражданскую Ленин связывал с тактикой революционного пораженчества:
В каждой стране борьба со своим правительством, ведущим империалистическую войну, не должна останавливаться перед возможностью в результате революционной агитации поражения этой страны. Поражение правительственной армии ослабляет данное правительство, способствует освобождению порабощенных им народностей и облегчает гражданскую войну против правящих классов228.
Зиновьев поддержал тезис Ленина о связи пораженчества и гражданской войны:
В России тезис о поражении теснейшим образом связан с лозунгом продолжения борьбы против царизма <…> Кто серьезно принимает лозунг «превращение империалистской войны в гражданскую», кто серьезно отвергает тактику «гражданского мира», тот должен принять и тезис о поражении. И тот решительно должен отвергнуть пацифистский «лозунг» мира229.
Эта статья Зиновьева была замечена Московским охранным отделением230.
Впрочем, о пораженчестве говорили не только сторонники Ленина. Ветеран революционного движения и видный деятель левого крыла социалистов-революционеров М. А. Натансон, участник Циммервальдской конференции, выступал за поражение царизма любой ценой, независимо от влияния революции на ход военных действий. В победе царизма Натансон видел худший из возможных исходов войны, тогда как поражение русских войск (если бы союзники в свою очередь затем разбили Германию) не имело бы для России «плохих последствий»231.
В то же время тезис о поражении собственного правительства вызвал дискуссию среди большевиков; некоторые видные члены партии, поддержав идею о перерастании империалистической войны в гражданскую, отвергали пораженчество. Н. И. Бухарин не согласился с большинством участников Бернского партийного совещания большевиков (февраль–март 1915 года), он был убежден в том, что в «одурманенных националистическим угаром массах» усиленная пропаганда «поражения отечества» не встретит поддержки ни на фронте, ни в тылу, а лишь скомпрометирует большевиков232.
Бухарин писал Ленину:
Очевидно, что «поражение России» как практический лозунг партии и вводит многих в заблуждение. Я лично думаю, что «поражение России» для нас – и это нужно со всей силой подчеркивать – не является лозунгом, то есть партийной директивой, влекущей за собой определенные практические действия, способствующие поражению. <…> Для оппозиции правительству нужно выставлять нечто логически надежное, и для этой цели вполне пригоден лозунг гражданской войны (он, кстати, ничуть не менее «резок» по отношению к своему правительству и выражает в то же время вполне самостоятельную классовую линию)233.
Ленин в конце концов счел нужным отказаться от публичного использования лозунгов пораженчества234. Одной из причин, заставивших лидера большевиков перестать развивать эту тему, была негативная реакция членов партии, в особенности тех из них, кто находился в России. А. Г. Шляпников так вспоминал о реакции партийных активистов-рабочих в Петрограде:
…лозунг «поражения царской монархии» вызвал кривотолки. Приходилось объяснять и толковать его исторически, рассматривать в связи с нашим отношением к политике царизма, как внутри страны, так и в международном отношении, и очищать от пораженческой, стратегической спекуляции на этом лозунге врагов нашей партии и агентов германского генерального штаба235.
Даже лозунг гражданской войны, не вызывавший столь острых возражений в большевистской среде, принимался не всеми и не сразу; у него были и свои оппоненты, и свои сторонники, хотя часть последних поддержала Ленина лишь с оговорками. Еще более спорным для многих рабочих активистов был лозунг поражения «своего» правительства.
Вместе с тем некоторые видные российские чиновники считали распространение идей пораженчества серьезной угрозой; показательно, что оно – наряду с темой гражданской войны – рассматривалось в служебной переписке глав правительственных ведомств (возможно, впрочем, что все антивоенное движение описывалось в этих текстах как «пораженческое»). В августе 1916 года министр внутренних дел А. А. Хвостов писал министру юстиции А. А. Макарову:
С началом нынешней войны известная часть русских революционных партий примкнула к так называемому пораженческому течению, идея коего заключается в том, что начатая европейскими государствами война – империалистическая, вызванная агрессивной политикой правительств, что эту войну социалисты всех воюющих государств должны стремиться, в интересах международного социализма, превратить в войну гражданскую – против своих же правительств, и что, наконец, русские социалисты должны превратить нынешнюю войну – в войну гражданскую для борьбы с «царизмом», уничтожения коего можно достигнуть только путем военного поражения России236.
Современный исследователь отмечает, что для Ленина требование гражданской войны не было риторическим преувеличением; он понимал этот лозунг как буквальный и актуальный, подлежащий скорейшей реализации237. Справедливо, однако, и обратное утверждение: некоторые сторонники Ленина трактовали требование превращения империалистической войны в гражданскую как риторическую фигуру, а не как руководство к немедленным и решительным «военным» действиям; иногда термин гражданская война использовался как синоним слова революция, иногда – как классовая борьба.
Не без труда и не вполне в соответствии со взглядами Ленина тезис о превращении «империалистической» войны в гражданскую усваивался и большевиками в России, но при этом сторонники этого лозунга требовали разъяснений. А. Г. Шляпников был ценным сотрудником Ленина, в годы мировой войны он работал то в эмиграции, то в России, возглавляя Русское бюро ЦК. В ноябре 1914 года он писал Ленину:
Я совершенно согласен с вами, что необходимо вести работу в направлении использования военного кризиса для развития «гражданской войны» на почве демократических лозунгов для каждой страны. Но ведь необходим какой-либо конкретный лозунг, на почве которого могли бы развернуться желанные нам события. Этот лозунг – «прекращение взаимной бойни» – вытекает даже из передовицы, печат<анной> в «Соц<иал>-Дем<ократе>», где вы говорите… «одурачение рабочих и истребление их авангарда»… – «Долг» же социалистов – прекращение самоистребления наших сил и направление их на истинных врагов рабочего класса и «виновников» войны. Лозунг «долой войну» – всюду революционный лозунг238.
Шляпников заявлял об общей поддержке тезиса Ленина, но считал, что массы должны быть подготовлены к восприятию такой пропаганды, а этому может послужить антивоенная агитация:
Выдвигание «мира» у нас, например, толкнет к нам всю демократию, которая от этой войны только разоряется. Во имя этого «прекращения бойни» можно поднять борьбу во всех странах, это может послужить объединяющим моментом для пролетариата всех стран. Я не вижу, чтобы у нас с Вами были «расхождения». Как практик, я стараюсь «конкретизировать», популяризировать нашу общую идею, сделать ее «переваримой» для той массы, которая будет вести гр<ажданскую> войну. Так, как я пишу, поступал бы я в Питере239.
В марте 1916 года А. Г. Шляпников так характеризовал позицию Петербургского комитета большевиков:
Их принципиальная позиция по отношению к войне остается прежней. Гр<ажданская> война как лозунг дня против имп<ериалистической> войны ими усвоен, хотя в общем под этим вопросом публика понимает вооруженное восстание. Популяризации этого лозунга до сего времени не было (Ее ждут от Ильича)240.
О том же Шляпников писал в это время Ленину:
Особенно настаивает публика, что б был популярно и основательно развит лозунг Недовольна наша публика слишком ругательным характером некоторых статей из «Социал-Демократа» и их малой доказательностью. От Вас требуют большей доказательности и основательности. <…> От Вас ожидают большего. Вообще заметьте и «исправьтесь», к Ленину публика требовательна!241
Прошло более года, но восприятие лозунга гражданской войны активистами-подпольщиками оставалось практически тем же: радикальный политический призыв был «усвоен», но он оставался при этом недостаточно ясным и конкретным.
Эти свидетельства Шляпникова подтверждаются и иными источниками. Примерно в это же время, весной 1916 года, А. И. Ульянова-Елизарова писала из России Ленину, что лозунг гражданской войны многим непонятен, поэтому некоторые видные члены партии не считали возможным его выставлять242.
И те видные социал-демократы, которые после колебаний поддержали в принципе курс на перерастание империалистической войны в гражданскую, расшифровывали этот лозунг по-разному, обсуждали разные пути его осуществления. Так, А. М. Коллонтай зарекомендовала себя в это время как горячая сторонница Ленина; она полагала, что именно он является нужным человеком на нужном месте:
По мнению Ленина, мы накануне соц. революции. <…> Если мы близки к действительной соц. революции – Ленин подходящий вождь и его прямолинейность сослужит службу. Да и рабочим она понятнее, ближе, чем «гибкость» Мартова243.
Вместе с тем не все «прямолинейные» лозунги Ленина Коллонтай готова была принять без оговорок. Она писала Н. К. Крупской:
Признаю правильность выдвинутой тов. Л<ениным> и поддерживаемой Вами, Над<ежда> К<онстантиновна>, линии «гражданской войны», как единственно правильного способа вывести межд<ународный> раб<очий> социализм из того тупика, в кот<ором> мы очутились. Но нахожу, что наметить линию, направление – этого мало, а ведь «гражд<анская> война» – это именно линия. Чтобы дать ей осуществиться, надо еще определить те определенные, конкретные задачи, требования, какие могут одушевить массы и толкнуть их теперь, в это запутанное время на правильный, революционный путь244.
Коллонтай считала, что обобщающее понятие гражданская война было тесно связано с другими лозунгами – борьба с монархизмом и милитаризмом, борьба с войной:
Все эти отдельные основн<ые> требования входят, разум<еется>, в понятие о «гражданской войне», но входит также и борьба за мир, за мир между народами, как логический вывод из нашей общей инт<ернациональной> позиции. Подчеркиваю: борьба за мир, что не однозначуще с пассифистскими вздохами о мире245.
Основным содержанием лозунга о необходимости гражданской войны, по мнению Коллонтай, был призыв к борьбе за мир. Этот аргумент Коллонтай использовала и в письме Ленину, написанном в ноябре 1914 года:
…борьба за мир повлечет за собою подъем духа социал-демократов в каждой стране, столкнет их требования по этому поводу с намерениями властей (и пр.) и повлечет за собою ту борьбу, ту «войну гражданскую», о кот<орой> Вы говорите, как о единственно правильном лозунге сейчас. Совершенно согласна с Вами, но мне кажется, что для того, чтобы ее вызвать теперь – надо иметь конкретный, для всех близкий лозунг, и этим лозунгом может служить борьба за мир, именно борьба за него. Считаю также, что надо выдвигать такой лозунг, кот<орый> объединял бы всех, способствовал бы возрождению духа солидарности. А что может лучше объединить сейчас пролетариат всех стран, как не требование, призыв: война войне? Др<угими> словами – война с теми, кто ведет нас на бойню246.
Показательно, что понятие гражданская война Коллонтай последовательно брала в кавычки.
Коллонтай, стремившаяся соединить лозунг борьбы за мир с лозунгом гражданской войны, по сути полагала, что лозунг «Война войне» тактически более выгоден, что он привлекательнее для широких масс, что он способен создать более широкую коалицию революционных социалистов, борющихся против войны.
В ответном письме247 Ленин не без оснований интерпретировал позицию Коллонтай так: «Вы соглашаетесь с лозунгом гражданской войны, по-видимому, не вполне, а отводя ему, так сказать, подчиненное (и пожалуй даже: условное) место позади лозунга мира»248.
Через некоторое время Коллонтай признала справедливость взглядов Ленина и стала с энтузиазмом проповедовать его идеи среди скандинавских социалистов. В июне 1916 года она с гордостью сообщала Шляпникову об успехах своей пропаганды в Скандинавии: «Какая у нас в Ларвике была демонстрация – прелесть! Шествие со знаменами, речи и, главное: как город волновался! Слышны были разговоры, что это начало „революции“, что это „гражданская война“»249.
В июле и августе 1916 года Коллонтай писала:
Использовать войну империалистическую и превратить ее в войну гражданскую – это лозунг. Не лозунг мира, а превращение современной империалистической войны в войну гражданскую. Еще недавно мне казалось, что лозунг мира – все исчерпывает. Сейчас мне ясно, что это тоже оппортунизм. Что мало понять причины войны и быть противником войны, надо знать: какими средствами бороться с войной? Это главное. <…> Задача пролетариата в России – революция в России и разжечь социалистическую революцию во всем мире. На меньшем нельзя мириться. Только революция, только баррикадные бои во всех странах остановят войну. <…> Для меня теперь совсем ясно, что никто так эффективно не борется с войною, как Ленин. Остальное – половинчатость. Только ударом масс, только волей пролетариата можно ее остановить. И эту волю надо спаять – солидарностью и решительностью к баррикадному бою. В этом наша задача250.
Как видим, в оценках практической пропаганды лозунга гражданской войны Шляпников, в отличие от Коллонтай, продолжал сохранять некоторую критическую дистанцию по отношению к тезисам Ленина. Отчасти это объяснялось тем, что аудиторией Коллонтай были молодые шведские и норвежские социалисты, жители нейтральных стран; для них перспектива гражданских войн в воюющих странах, прежде всего в России, казалась весьма заманчивой. Шляпников же общался с активистами, через которых ему передавались настроения «масс», простых русских рабочих. Они могли ненавидеть войну, но им сложно было понять, как гражданская война улучшит их положение. Для них лозунг гражданской войны не был только интеллектуальной конструкцией, более или менее убедительной; для них речь шла о гражданской войне, в которой им самим пришлось бы участвовать. Часть аудитории Шляпникова предпочитала делать выбор между войной и миром, а не размышлять над тем, какая из войн является более предпочтительной.
О соотношении пацифистских лозунгов и лозунга о перерастании империалистической войны в войну гражданскую рассуждали и те оппоненты Ленина, которые не являлись тогда большевиками. О полемике с лидером большевиков, не называя его прямо, Л. Д. Троцкий в мае 1916 года писал так:
…приходилось и приходится вести идейную борьбу с экстремизмом как с идейным течением, которое, представляя собою непримиримую реакцию против социал-патриотизма и выжидательно-примиренческой бесформенности, ищет против них, нередко, фиктивных гарантий в игнорировании созданных предшествующим развитием или порожденных войной политических и национальных вопросов, в утрировке революционных лозунгов («поражение России – меньшее зло», «не борьба, за мир, а гражданская война») или в организационном размежевании со всеми другими оттенками интернационализма251
