Энергия и цивилизация бесплатное чтение
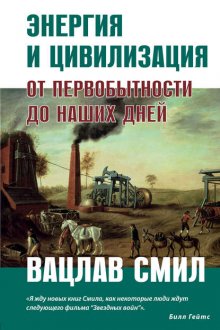
Vaclav Smil
ENERGY AND CIVILIZATION: A HISTORY
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.
© 2017 Massachusetts Institute of Technology The rights to the Russian-language edition obtained through Alexander Korzhenevsky Agency (Moscow)
Введение и слова признательности
Я завершил работу над «Энергией в мировой истории» в июле 1993 года, книга вышла в 1994-м и оставалась в печати два десятилетия. Но с 1994 года исследования в области энергии ушли далеко вперед, и я сам внес в них вклад, написав девять книг, посвященных только энергетическим вопросам, а также дюжину междисциплинарных трудов со значительной энергетической составляющей. И когда я вновь решил коснуться этой удивительной темы, стало очевидно, что поверхностное обновление данных не поможет. В результате читателю предлагается в сущности новая работа с новым заголовком: текст почти на 60 % объемнее, чем первая версия, в книге на 40 % больше иллюстраций и в два раза больше ссылок на литературу, включены некоторые интересные вычисления, детальные объяснения важных тем и таблицы, без которых не обойтись. Я использовал цитаты из разнообразных источников, от классиков – Апулей, Лукреций, Плутарх – до исследователей девятнадцатого и двадцатого веков, таких как Бродель, Эден, Оруэлл и Сенанкур. Иллюстрации были обновлены, их созданием занимались Bounce Design в Виннипеге; две дюжины архивных фотографий отыскались в корпорации Corbis в Сиэтле, их предоставили Ян Саундерс и Ану Хорсман. И как это всегда бывает в случае междисциплинарного исследования такого рода, книга не могла появиться без работ сотен историков, ученых, инженеров и экономистов.
Виннипег, август 2016 года
1. Энергия и общество
Энергия – единственная универсальная валюта, без ее трансформации в какой-либо форме невозможны никакие свершения. Проявления этих трансформаций варьируются от вращения галактик до термоядерных реакций в недрах звезд. На Земле они ранжируются от терраформирующих сил тектонических плит, которые делят на части дно океана и поднимают горные хребты, до кумулятивного эрозивного воздействия крохотных капель воды (еще римляне знали, что gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – капля воды точит камень не силой, а постоянством). Жизнь на Земле – а несмотря на десятилетия попыток поймать внеземные сигналы, мы знаем только жизнь на нашей планете – была бы невозможной без фотосинтетического перехода солярной энергии в фитомассу (биомассу растений). Выживание людей зависит от этой трансформации, и на многих других потоках энергии держится существование нашей цивилизации.
Ричард Адамс (Adams 1982: 27) сказал по этому поводу:
«Мы можем придумать самые безумные идеи, но если у нас нет возможности воплотить их, то они так и останутся идеями… История действует непредсказуемым образом. Но события истории тем не менее опираются на структуру или организацию, которые должны гармонично сочетаться с их энергетическими компонентами».
Эволюция человеческих обществ привела к увеличению этих самых обществ, к росту сложности социальных и производственных процессов и к повышению качества жизни для все большего числа людей. С фундаментальной биофизической перспективы и доисторическую эволюцию человека, и ход человеческой истории можно рассматривать как поиск контроля над все большими запасами и потоками все более концентрированной и гибкой энергии в разных формах, над ее трансформацией со все более низкими затратами и высокой эффективностью в тепло, свет и движение. Подобная тенденция была обобщена Альфредом Лотка (1880–1949), американским математиком, химиком и статистиком, в его законе максимальной энергии: «В любой рассматриваемый момент естественный отбор будет действовать так, чтобы увеличить общую массу органической системы, чтобы увеличить скорость циркуляции материи через систему и чтобы увеличить общий поток энергии через систему до тех пор, пока остается неиспользованный остаток материи и доступной энергии» (Lotka 1922, 148).
История сменяющих друг друга цивилизаций, самых больших и сложных организмов нашей биосферы, идет в рамках этого принципа. Зависимость людей от все более и более мощных потоков энергии можно рассматривать как неизбежное продолжение органической эволюции. Вильгельм Оствальд (1853–1932, лауреат нобелевской премии по химии 1909 года за работу в области катализа) был первым ученым, который явным образом приложил «второй закон энергетики ко всем и любым действиям и в особенности к совокупности человеческих действий…»: «Все виды энергии не годятся для этой трансформации, только определенные формы, которым вследствие этого дается имя свободных форм энергии… Свободная форма энергии, таким образом, является капиталом, который потребляют все существа всех видов, и посредством ее превращения совершается все» (Ostwald 1912, 83). Это привело его к формулировке энергетического императива: «Vergeude keine Energie, verwerte sie» – «Не тратьте энергию ни в какой форме, делайте ее полезной» (Ostwald 1912, 85).
Три цитаты иллюстрируют, как последователи Оствальда заново использовали его выводы и как некоторые из них устанавливали связь между энергией и всеми человеческими действиями намного более детерминистским и откровенным образом. Начало семидесятых отмечено работой Ховарда Одума (1924–2002), который предложил вариацию ключевой темы Оствальда: «Доступность источников энергии определяет количество рабочей активности, которая может существовать, а контроль над потоками энергии определяет силу в человеческих взаимоотношениях и в относительном влиянии человека на природу» (Odum 1971, 43). В конце восьмидесятых Рональд Фокс завершил книгу о роли энергии в эволюции словами «усовершенствование культурных механизмов происходит с каждым усовершенствованием в области стыковки энергетических потоков» (Fox 1988, 166).
Не нужно быть ученым, чтобы установить связь между запасом энергии и социальным развитием. Об этом Эрик Блэр, больше известный как Джордж Оруэлл (1903–1950), писал в 1937 году во второй главе повести «Дорога на причал Уигана», после того, как сам побывал на угольной шахте:
«Наша цивилизация, при всем уважении к Честертону, базируется на угле куда в большей степени, чем можно полагать, не задумываясь об этом. Машины, позволяющие нам жить, и машины, изготовляющие другие машины, все они прямо или косвенно зависят от угля. В метаболизме западного мира шахтер в угольной шахте стоит на втором месте по важности после того человека, который вспахивает почву. Он что-то вроде кариатиды, на плечах которой стоит все, не запачканное угольной сажей. По этой причине стоит понаблюдать за процессом добычи угля, если у вас есть шанс и вы готовы к трудностям» (Orwell 1937, 18).
Но повторное обозначение этой фундаментальной связи (как сделал Оруэлл) и утверждение, что культурные усовершенствования имеют место после каждого усовершенствования в области энергии (как сделал Фокс), – две разные вещи. Вывод Оруэлла непредосудителен, а высказывание Фокса – откровенное изложение заново детерминистического постулата, выраженного двумя поколениями ранее антропологом Лесли Уайтом (1900–1975), который назвал его первым важным законом культурного развития: «При прочих равных условиях степень культурного развития зависит прямым образом от количества энергии на душу населения, энергии освоенной и пущенной в работу» (White 1943,346). В то время как не может быть противоречия между фундаментальной формулировкой Оствальда и заявлением о всеобъемлющем воздействии энергии на структуру и динамику эволюционирующих обществ (при всем уважении к Оруэллу), детерминистическая связь между уровнем использования энергии и культурными достижениями – в значительной степени спорная идея. Я оцениваю эту причинность (или ее отсутствие) в следующей главе данной книги.
Фундаментальная природа этого концепта не ставится под сомнение.
Роберт Линдсэй (Lindsay 1975, 2) писал:
«Если мы можем найти единственное слово, чтобы представить идею, которая прилагается к каждому элементу нашего существования способом, заставляющим нас чувствовать, что мы истинным образом его понимаем, то это значит, что мы достигли чего-либо экономичного и могущественного. Именно это и произошло с идеей, выраженной словом «энергия». Никакой другой концепт не объединил подобным образом наше понимание существующего».
Но что такое энергия?
Удивительно, но даже лауреаты Нобелевской премии сталкивались с трудностями, пытаясь дать внятный ответ на этот, казалось бы, простой вопрос. Ричард Фейнман (1918–1988) в своих знаменитых «Лекциях по физике» подчеркнул: «Важно понимать, что в сегодняшней физике мы не имеем представления о том, что такое энергия. Мы не можем представить, что энергия появляется в маленьких шариках определенного объема» (Feynman 1988, 4–2).
Рисунок 1.1. Матрица энергетических преобразований. В ячейках, где существует несколько возможных вариантов, упомянуты только две, самые известные трансформации
Что мы точно знаем: вся материя в конечном итоге является энергией; энергия проявляет себя множеством путей; различные формы энергии связаны многочисленными трансформациями, многие из них универсальны, вездесущи и непрерывны, другие точно локализованы, встречаются нечасто и выглядят эфемерными (рис. 1.1). Понимание этих путей, потенциалов и трансформаций было достигнуто, быстро расширилось и стало системой на протяжении девятнадцатого века и определенным образом усовершенствовалось в двадцатом – несмотря на остающиеся сложности, касающиеся превращений энергии, – когда мы поняли сначала, как освобождать ядерную энергию (теоретически в 30-х, практически к 1943 году), а затем как происходит фотосинтез (процесс был полностью описан на протяжении 50-х годов).
Потоки, запасы и средства контроля
Все известные формы энергии крайне важны для существования человека, сама реальность предостерегает нас от того, чтобы расположить их по порядку значимости. Многое в истории было определено и ограничено как универсальными и планетарными потоками энергии, так и их региональными или локальными проявлениями. Фундаментальные свойства вселенной определяются гравитационной энергией, которая регулирует движение бессчетного количества галактик и звездных систем. Гравитация также позволяет нашей планете вращаться вокруг Солнца на правильном расстоянии и поддерживает достаточный объем атмосферы, благодаря которой Земля и стала обитаемой (примечание 1.1).
Примечание 1.1. Гравитация и обитаемость Земли
Приспособляемость основанного на углероде метаболизма определяется точкой замерзания воды, так как вода в жидкой форме требуется для формирования и существования органических молекул (нижний предел), а также температурой и давлением, при котором дестабилизируются аминокислоты и распадаются протеины (верхний предел). Непрерывно обитаемая зона для Земли – предел орбитального радиуса, обеспечивающего оптимальные условия для жизни – очень узка (Perkins 2013). По результатам недавних расчетов стало ясно, что мы даже ближе к границе, чем думали ранее: ученые (Kopparapu and coworkers 2014) сделали вывод, что, исходя из состава и давления атмосферы, орбита Земли находится на внутреннем краю обитаемой зоны, прямо на границе того радиуса, где вышедший из-под контроля парниковый эффект вызвал бы запредельно высокие температуры.
Около двух миллиардов лет назад достаточное количество диоксида углерода (CO2) было поглощено океаном, архебактериями и микроводорослями, чтобы этот эффект не возник на Земле, но если бы планета находилась всего на 1 % дальше от Солнца, то практически вся ее вода оказалась бы заперта в ледниках. Но даже при температурах внутри зоны оптимума планета не смогла бы поддерживать существование высокоорганизованной жизни без уникальной атмосферы, большей частью состоящей из азота, обогащенной кислородом от фотосинтеза и содержащей набор важных газовых примесей, регулирующих температуру на поверхности. И эта тонкая газообразная оболочка не могла бы сохраниться, не будь планета достаточно большой, чтобы сформировать мощное гравитационное поле, которое и удерживает атмосферу на месте.
Как и в случае со всеми активными звездами, ядерный синтез заставляет Солнце гореть, и продукты термоядерных реакций достигают Земли в виде электромагнитной (солнечной, лучистой) энергии. Этот поток состоит из широкого спектра волн разной длины, в их число входит и видимый свет. Около 30 % от этого колоссального потока отражается облаками и внешней поверхностью атмосферы, около 20 % задерживается атмосферой и облаками, а остающееся, примерно половина, поглощается океанами и континентами, превращается в термальную энергию и переизлучается в пространство (Smil 2008а). Геотермальная энергия Земли добавляет свой, много меньший поток тепла: он образуется в результате исходного гравитационного слипания планетарной массы и распада радиоактивной материи и запускает глобальные тектонические процессы, которые движут океанами и континентами и провоцируют вулканические извержения и землетрясения.
Только крошечная часть входящей лучистой энергии, менее чем 0,05 %, трансформируется с помощью фотосинтеза в новые запасы химической энергии в растениях, обеспечивая незаменимую основу для всей остальной жизни. Органический метаболизм реорганизует питательные вещества в растущие ткани и поддерживает телесные функции и постоянную температуру тела у представителей высших видов. Пищеварение также генерирует механическую (кинетическую) энергию работающих мышц. В своих преобразованиях энергии животные ограничены размером тел и доступностью питательных веществ. Фундаментальной отличительной характеристикой нашего вида был выход за эти физические границы с помощью более эффективного использования мускулов и овладения энергией за пределами наших тел.
Обнаруженные с помощью человеческого интеллекта экстрасоматические виды энергии использовались для выполнения постоянно растущего списка задач, например для создания все более мощных первичных движителей и топлива, при сгорании которого выделяется тепло. Пусковой импульс в освоении того или иного вида энергии зависит от потока информации и от громадного разнообразия созданных нами орудий. Последние в свою очередь варьируются от простых, вроде каменных топоров и рычагов, до сложных машин внутреннего сгорания и реакторов, освобождающих энергию ядерного распада. Базовые эволюционные и исторические последствия нашего прогресса легко очертить с помощью широкого набора количественных терминов. Как и в случае с любым нефотосинтезирующим организмом, самая важная энергия поступает к нам с едой. Добыча пищи, которую практиковали гоминины, напоминала поведение в схожих обстоятельствах наших предков-приматов. Хотя некоторые приматы – и другие млекопитающие (включая выдр и слонов), – некоторые птицы (вороны и попугаи) и даже беспозвоночные (головоногие) выработали в процессе эволюции рудиментарное умение пользоваться орудиями (Hansell 2005; Sanz, Call and Boesch 2014; рис. 1.2), только гоминины сделали изготовление орудий отличительной чертой своего поведения.
Рисунок 1.2. Шимпанзе (Pan troglodytes) в Габоне использует инструменты, чтобы вскрывать орехи (Corbis)
Инструменты дали нам механические преимущества в добывании пищи, создании убежища и одежды. Овладение огнем помогло освоить ранее недоступные территории и еще больше отделило нас от животных. Появление новых инструментов привело к приручению животных, к созданию более сложных, движимых мускульной силой машин и к тому, что мы научились превращать крошечную долю кинетической энергии ветра и воды в движение. Эти первичные движители увеличили силу в распоряжении человека, но долгое время их использование было ограничено природой и мощностью освоенных потоков энергии. Хорошим примером здесь служит случай с парусом, древним и эффективным средством передвижения, чьи возможности на протяжении тысячелетий зависели от превалирующих ветров и течений. Именно эта особенность позволила европейцам в конце пятнадцатого века добраться до Карибских островов и помешала испанцам открыть Гавайи, несмотря на то, что торговые корабли под флагом Испании, так называемые Манильские галеоны (Galeon de Manila) раз или два в год пересекали Тихий океан из Акапулько (Мексика) на Филиппины 250 лет подряд между 1565-м и 1815-м годами (Schurz 1939).
Контролируемое сгорание в очагах, печах и топках превращало химическую энергию растений в термальную. Тепло использовалось в домашних хозяйствах, а также для плавки металлов, обжига кирпичей, для обработки самых разных продуктов. Открытие ископаемого топлива сделало все традиционные способы использования тепла более широко распространенными и более эффективными. Набор фундаментальных изобретений дал возможность конвертировать термальную энергию от сгорания ископаемого топлива в механическую. Впервые это было сделано в паровых двигателях и двигателях внутреннего сгорания, позже к ним добавились газовые турбины и ракеты. Мы получали энергию, сжигая ископаемое топливо, используя кинетическую энергию воды (как минимум с 1882 года), а также атомный распад одного из изотопов урана (с 1956-го).
Сжигание ископаемого топлива и генерация энергии привели к возникновению новой формы высокоэнергетичной цивилизации, которая распространилась по всей планете, охватила ее целиком. В число базовых источников энергии этой цивилизации в данный момент входят (их доля мала, но постоянно растет) новые возобновляемые виды, такие как солнечная энергия (получаемая с помощью фотоэлементов на солнечных электростанциях) и энергия ветра (тут используются большие ветровые турбины). В свою очередь, освоение новых источников стало возможным только благодаря комплексу других усовершенствований. Используя аналогию с трубопроводом, можно сказать, что вентили должны быть установлены и затем открыты в правильной последовательности, чтобы поток человеческой изобретательности потек в нужном направлении.
Наиболее важный «вентиль», относящийся к освобождению большого энергетического потенциала, подразумевает необходимые образовательные возможности, предсказуемые законодательные основания, прозрачные экономические правила, адекватную доступность капитала и условия, благоприятные для базовых исследований. Ничего удивительного, что обычно требуются поколения для того, чтобы получить увеличение или качественное улучшение потоков энергии, или для того, чтобы в значительном масштабе освоить использование нового источника энергии. Сроки разработки, общий объем энергии и характеристики энергетических потоков исключительно трудно предсказать, и на ранних фазах процесса перехода невозможно оценить все конечные воздействия, которые изменения первичных движителей и топливной базы окажут на сельское хозяйство, промышленность, транспорт, устройство поселений, военное дело и окружающую среду. Количественные подсчеты являются сущностно важными для оценки ограничений наших действий и размаха наших достижений, и они требуют знания базовых научных концепций и измерений.
Концепции и единицы измерения
Под всеми энергетическими трансформациями лежит несколько базовых принципов. Любая форма энергии может быть превращена в тепло или термальную энергию. Никакая энергия ни при каких условиях не теряется при этих превращениях. Сохранение энергии, первый закон термодинамики – один из наиболее фундаментальных принципов, на которых держится реальность. Но по мере того как мы движемся по цепям преобразований, потенциал полезной работы постоянно уменьшается (примечание 1.2). Этот непреодолимый факт определяет второй закон термодинамики, и энтропия есть мера потери полезной энергии. В то время как общий объем энергии во вселенной остается неизменным, превращения энергии увеличивают энтропию (одновременно уменьшая полезность энергии). Корзина с зерном или цистерна сырой нефти – низкоэнтропийный запас энергии, который при проращивании или сжигании способен совершить много полезной работы, но заканчивается все случайным движением слега нагретых молекул воздуха, необратимым высокоэнтропийным состоянием, неизбежной потерей полезности.
Такое одностороннее энтропийное шоссе ведет к потере сложности, к увеличению беспорядка и гомогенности в любой замкнутой системе. Но все живые организмы, от крохотной бактерии до глобальной цивилизации, временно игнорируют этот принцип, импортируя и метаболизируя энергию. Любой живой организм должен быть открытой системой, в которой имеется постоянный приток и отток энергии и материи. Пока эти системы живые, они не могут находиться в состоянии химического и термодинамического равновесия (Prigogine 1947, 1961; von Bertalanffy 1968; Haynie 2001). Их отрицательная энтропия – рост, обновление и эволюция – приводит к увеличению гетерогенности, повышает структурную и системную сложность. Как и в случае со многими другими научными открытиями, связное понимание этих процессов пришло только в девятнадцатом веке, когда быстро развивающиеся физика, химия и биология начали активно изучать трансформации энергии (Atwater and Langworthy 1897; Cardwell 1971; Lindsay 1975; Muller 2007; Oliveira 2014; Vorvoglis 2014).
Примечание 1.2. Уменьшение полезности превращенной энергии
Любое превращение энергии иллюстрирует этот принцип.
Если американский читатель использует электрическое освещение для того, чтобы прочесть эту страницу, то электромагнитная энергия света составляет только крохотную часть химической энергии, которая содержалась в куске угля, сожженном для получения электричества (в 2015 году уголь использовался для производства 33 % электроэнергии в США). По меньшей мере 60 % энергии угля теряется в виде тепла через трубы электростанции и через охлаждающие контуры, а если читатель использует старые добрые лампы накаливания, тогда более 95 % добравшейся до лампы энергии рассеивается в виде тепла, порожденного раскаленной нитью внутри лампочки, поскольку металл нити сопротивляется прохождению тока. Свет, достигающий страницы, частично поглощается ею, частично отражается, частично снова превращается в тепло. Изначальный низкоэнтропийный кусок угля превращается в высокоэнтропийное тепло, которое нагревает воздух над электростанцией, вокруг проводов, вокруг лампочки, и даже слегка – над страницей. Никакая часть энергии не теряется, но ее форма, обладающая высокой полезностью, изменяется до такой степени, что теряет любое практическое значение.
Базовые исследования вроде нашего требуют кодификации стандартных средств измерения. Две единицы стали общими для измерения энергии: калория – метрическая единица, и британская тепловая единица (бте). Сегодняшняя базовая научная единица для энергии – джоуль, она названа по имени английского физика Джеймса Прескотта Джоуля (1818–1889), который опубликовал первый точный расчет эквивалентности работы и тепла (примечание 1.3). Мощность обозначает объем энергетического потока, и ее первая стандартная единица – лошадиная сила – была определена Джеймсом Уаттом (1736–1819). Он хотел рассказать о своих паровых машинах так, чтобы все понимали, о чем идет речь, и выбрал очевидное сравнение с первичным движителем, который машины должны были заменить – с запряженной лошадью, поскольку в те времена их массово использовали на мельницах и для откачки воды (рис. 1.3, примечание 1.3).
Рисунок 1.3. Две лошади поворачивают ось, ведущую к откачивающей воду лебедке. Франция, середина XVIII века, мануфактура по производству ковров (изображение из Encyclopedie, Дидро и д'Аламбер, 1769–1772). Обычная лошадь в то время не смогла бы работать с постоянной мощностью в одну лошадиную силу. Джеймс Уатт использовал преувеличенное значение, чтобы найти покупателей для паровой машины, способной заменить животных
Другим важным параметром является плотность энергии, т. е. количество энергии на единицу массы ресурса (примечание 1.4). Оно играет ключевую роль в питании: даже имеющиеся в изобилии продукты с низкой плотностью энергии никогда не станут базовыми. Например, обитатели Мексиканского нагорья до прихода испанцев в большом количестве поедали колючие плоды, которые с легкостью собирали со многих разновидностей кактусов из рода Opuntia (Sanders, Parsons and Santley 1979). Но как и у большинства фруктов, мякоть этих плодов большей частью (на 88 %) состоит из воды, в ней меньше 10 % углеводов, 2 % белка и 0,5 % жиров, и плотность энергии в данном случае всего лишь 1,7 Мдж/кг (Feugang et al. 2006). Это значит, что, например, женщина, выживающая только на плодах кактуса (предположим совершенно нереалистичным образом, что ей не нужны другие питательные вещества), должна будет съедать их по 5 килограммов каждый день, но то же самое количество энергии она может получить из 650 граммов кукурузы, съеденной в виде тортильи и тамала.
Примечание 1.3. Измерение энергии и мощности
Официальное определение джоуля – работа, выполненная, когда сила в один ньютон действует на дистанции в один метр. Другой вариант определения базовой единицы энергии – через требуемое количество тепла. Одна калория – количество тепла, необходимое, чтобы поднять температуру 1 см3 воды на 1 °C. Это очень мало: чтобы сделать то же самое с 1 килограммом воды, нужно в тысячу раз больше энергии, или одна килокалория (полный список префиксов к единицам измерения приведен в разделе «Базовые единицы измерения» в приложении). Учитывая эквивалентность тепла и работы, все, что нужно для превращения калорий в джоули – помнить, что одна калория равняется примерно 4,2 джоуля. Для до сих пор распространенной неметрической единицы, британской тепловой единицы, преобразование столь же простое. Одна бте равна примерно 1000 Дж (если точно, то 1055). Хороший сравнительный критерий – средняя дневная потребность в пище. Для взрослого в состоянии умеренной активности она обычно варьируется в пределах 2–2,7 Мкал, или примерно 8-11 Мдж, а 10 Мдж можно получить, съев 1 кг цельнозернового хлеба.
В 1782 году Джеймс Уатт начерно рассчитал, что лошадь на мельнице работает примерно со скоростью 32 400 футо-фунтов в минуту, и на следующий год он округлил это значение до 33 000 футо-фунтов (Dickinson 1939). Он предположил, что средняя скорость хода животного около 3 футов в секунду, но мы не знаем, где он взял значение средней тяги в 180 фунтов. Некоторые крупные лошади могли выдавать такую тягу, но большинство лошадей в Европе XVIII века не смогли бы обеспечить одну лошадиную силу из расчетов Уатта. Сегодняшний стандарт мощности, ватт, равен джоулю в секунду. Лошадиная сила составляет примерно 750 ватт (если точно, то 745,699). Потребление 8 Мдж пищи в день соотносится с номинальной мощностью в 90 Вт (8 Мдж/24 ч х 3600 с), меньше, чем у стандартной лампы накаливания (100 Вт). Тостер с двумя отверстиями требует 1000 Вт, или 1 КВт; небольшие машины выдают примерно 50 КВт; крупная электростанция на угле или ядерном топливе производит электричества на 2 ГВт.
Плотность мощности определяет потребление или производство энергии на единицу площади, и поэтому она является важной структурной характеристикой разных систем (Smils 2015b). Например, размер городов во всех традиционных обществах зависел от древесины как топлива, а возможность получения древесного угля очевидным образом ограничивалась изначально низкой плотностью мощности у производства фитомассы (примечание 1.5, рис. 1.4). Плотность мощности постоянного годового прироста деревьев в умеренном климате в лучшем случае равняется 2 % от плотности мощности энергетического потребления для традиционного городского обогрева, приготовления пищи и мануфактурного производства. Поэтому городам требовалась территория в 50 раз больше их собственной для обеспечения топливом. Именно это ограничивало их размеры, даже когда другие ресурсы, такие как вода и пища, имелись в изобилии.
Примечание 1.4. Значения плотности энергии продуктов питания и видов топлива
Источники: значения плотности энергии для отдельных видов продуктов питания приведены в Watt (1973), Jenkins (1993) b USDA (2011).
Другая величина, приобретающая все большее значение с ростом индустриализации – эффективность преобразования энергии. Это соотношение выхода/ входа описывает работу преобразователей энергии, будь то печи, двигатели или элементы освещения. И хотя мы не можем ничего сделать с энтропийным рассеиванием, мы можем увеличить эффективность преобразования, снизив количество энергии, необходимое для выполнения отдельных задач (примечание 1.6). Существуют фундаментальные (термодинамические, механические) ограничения для этого улучшения, и мы уже во многих процессах подошли к лимиту практической эффективности, хотя в большинстве случаев, например, для широко распространенных преобразователей вроде двигателей внутреннего сгорания и осветительных приборов еще достаточно возможностей усовершенствования.
Рисунок 1.4. Робота углежога в начале XVII века, Англия. Предоставлено: John Evelyn, «Silva»
Примечание 1.5. Плотность энергии растительного топлива
Фотосинтез превращает менее 0,5 % поступающего солнечного излучения в новую фитомассу. Лучшая годовая продуктивность древесного топлива для быстрорастущих видов (тополь, эвкалипт, сосна) составляет не больше чем 10 т/га, ну а в более засушливых регионах значение колеблется между 5 и 10 т/га (Smil 2015b). С плотностью энергии сухого дерева в среднем около 18 ГДж/т добыча в 10 т/га обеспечит плотность мощности около 0,6 Вт/м2: (10 т/га х 18 ГДж)/3,15 х 107 (секунд в год) = -5708 Вт; 5708 Вт/10000 м2/га = -0,6 Вт/м2. Большому городу XVIII века требовалось по меньшей мере 20–30 Вт/м2 на застроенную площадь для обогрева, приготовления пищи и мануфактурного производства, так что древесное топливо пришлось бы добывать с территории в 30–50 раз большей, чем сам город.
Древесный уголь был единственным бездымным топливом доиндустриальной эпохи, которое все традиционные цивилизации использовали для обогрева домов. А его изготовление сопровождается значительной потерей энергии, ведь даже в середине XVIII века типичное соотношение каменный уголь/дерево составляло один к пяти, что значило в терминах энергии (сухое дерево – 18 ГДж/т, древесный уголь, теоретически чистый углерод, – 29 ГДж/т) эффективность преобразования всего 30 % (5 х 18/29 = 0,32). Так что плотность мощности древесины, предназначенной для получения каменного угля, всего около 0,2 Вт/м2. Поэтому большим доиндустриальным городам, расположенным в умеренном климате северного полушария и зависящим от каменного угля (Пекин может быть хорошим примером), требовалась покрытая лесом территория по меньшей мере в 100 раз больше их собственного размера, чтобы не остаться без топлива.
Примечание 1.6. Повышение эффективности и парадокс Джевонса
Технический прогресс ведет за собой множество впечатляющих достижений в области эффективности, и история освещения является одним из лучших примеров (Nordhaus 1998; Fouquet and Pearson 2006). Свечи превращают всего лишь 0,01 % химической энергии сала или воска в свет. Лампочки Эдисона, изобретенные в 1880-х годах, были примерно в десять раз эффективнее. К 1900 году угольные электростанции имели эффективность примерно 10 %, лампочки превращали не более 1 % энергии в свет, отсюда ясно, что лишь 0,1 % химической энергии угля становилось светом (Smil 2005). Лучшая газовая турбина парогазового цикла (используется горячий газ, покидающий газовую турбину, чтобы производить пар для паровой турбины) в наше время имеет эффективность 60 %. Флуоресцентные лампы могут похвастаться 15 % эффективности, как и диодные светильники (USDOE 2013). Это значит, что около 9 % природного газа превращается в свет, выигрыш в 90 раз по сравнению с концом XIX века. Такой выигрыш сохраняет капитал и уменьшает текущие издержки, а также снижает давление на окружающую среду.
Но в прошлом рост эффективности преобразования энергии не всегда приводил к реальной экономии. В 1865 году Стэнли Джевонс (1835–1882), английский экономист, указал, что введение более экономичных паровых машин сопровождалось значительным увеличением потребления угля, и сделал такой вывод: «Будет ошибочным считать, что экономия при использовании разных видов топлива приведет к уменьшению потребления. На самом деле все обстоит наоборот. Как правило, новые методы экономии ведут к увеличению потребления в соответствии с принципом, учтенным во множестве параллельных случаев» (Jevons 1865, 140). Реальность этого явления подтвердили многочисленные исследования (Herring 2004, 2006; Poliment et al. 2008), но в богатых странах, где высок объем потребляемой энергии на душу населения и где достигнут уровень насыщения, этот эффект слабеет. В результате реакция на повышение эффективности на уровне конечного использования часто мала и еще уменьшается со временем, и в масштабах целой экономики выгода может быть очень небольшой, если вообще быть (Goldstein, Martinez, and Roy 2011).
Когда эффективность рассчитана для производства продуктов питания (энергия в пище/энергия на входе для того, чтобы ее вырастить), топлива или электричества, ее обычно именуют энергоотдачей. Полезная энергоотдача в любом традиционном сельском хозяйстве опирается исключительно на мощность живой силы и должна значительно превышать единицу: съедобный урожай обязан содержать больше энергии, чем ее потребляется в виде пищи, необходимой людям и животным, которые производят этот урожай, а также тем, кто не работает и зависит от работающих. Непреодолимая проблема возникает, если мы пытаемся сравнить энергоотдачу в традиционном сельском хозяйстве, где используется только сила мускулов (и только преобразования недавно полученного солнечного излучения), и современным сельским хозяйством, которое спонсируется прямо (топливо для работ на полях) и косвенно (энергия, необходимая для синтеза удобрений и пестицидов и для производства сельскохозяйственных машин) ископаемым топливом и по этой причине неизбежно имеет более низкую энергоотдачу, чем традиционное сельское хозяйство (примечание 1.7).
И наконец, энергоемкость измеряет стоимость продуктов, услуг и даже общий объем производства в стандартных единицах энергии и стоимость самой энергии тоже. Среди наиболее широко используемых материалов алюминий и пластик имеют высокую энергоемкость, в то время как стекло и бумага сравнительно дешевы, а древесина (исключая затраты на фотосинтез) является наименее энергоемким из всех материалов (примечание 1.8). Техническое развитие в последние два века привело к тому, что энергоемкость во многих случаях значительно уменьшилась. Возможно, самый известный пример: плавка чугуна на коксе в больших домнах в наше время требует меньше чем 10 % энергии на единицу массы горячего металла, чем в случае доиндустриального производства чугуна на древесном угле (Smil 2016).
Примечание 1.7. Сравнение энергоотдачи в производстве продуктов питания
С начала 70-х годов XX века энергетические показатели начали использовать, чтобы показать превосходство традиционного сельского хозяйства и низкую энергоотдачу современного сельского хозяйства. Такие исследования на самом деле вводили нас в заблуждение, потому что между двумя способами ведения хозяйства имеется фундаментальное отличие. Показатели для традиционного сельского хозяйства – просто коэффициент между энергией пищи, полученной в результате сбора урожая, и энергией пищи, которая требуется для выращивания этого урожая с помощью труда человека и животных. Наоборот, в современном сельском хозяйстве показатели будут учитывать очень значительный расход невозобновляемого ископаемого топлива, которое требуется для работы сельскохозяйственных машин, для изготовления этих машин и химикалий; трудовые затраты в этом случае пренебрежимо малы.
Если коэффициенты рассчитывать только с учетом произведенной для поедания энергии и затраченного на ее производство труда, тогда современное сельское хозяйство с крохотной потребностью в человеческих усилиях, лишенное тягловых животных, будет намного превосходить любое традиционное.
Если же затраты на производство современных злаков будут включать все использованное топливо и электричество, то энергоотдача окажется значительно ниже, чем в традиционном сельском хозяйстве. Такие расчеты возможны по той причине, что в физическом смысле все виды энергии эквивалентны. Продукты питания и топливо могут быть выражены в одних и тех же единицах, но остается очевидная проблема сравнения «красного с соленым». Не существует удовлетворительного способа сравнивать, просто и прямо, энергоотдачу от двух систем сельского хозяйства, которые функционируют, опираясь на принципиально разные источники энергии.
Примечание 1.8. Энергоемкость широко распространенных материалов
Источник: данные из Smil (2014b).
Энергетические затраты на производство энергии (часто именуемые EROI, отдача энергии на затраты, хотя EROEI, отдача энергии на затраты энергии, было бы более корректным) являются показательными только в том случае, если мы сравниваем величины, которые рассчитаны по идентичным методам с использованием стандартных предположений и четко обозначаемых аналитических ограничений. Современные высокоэнергетичные общества предпочитают разрабатывать ресурсы ископаемого топлива с наиболее высокой полезной энергоотдачей, и именно по этой причине мы большей частью предпочитаем нефть, и богатые нефтяные месторождения Ближнего Востока в особенности. Плотность энергии у нефти очень высокая, ее легко транспортировать, она обладает и другими очевидными преимуществами (примечание 1.9).
Примечание 1.9. Отдача энергии на затраты
Различия в качестве и доступности разных видов ископаемого топлива колоссальны: тонкий подземный слой низкокачественного угля против толстого слоя качественного битуминозного угля, который можно добывать открытым способом; или супергигантские месторождения углеводородов Ближнего Востока против низкопродуктивных скважин, где требуется постоянная работа насосов. В результате значение EROEI варьируется очень сильно и может изменяться по мере появления более эффективных технологий добычи. Приведенные ниже значения – не более чем приблизительные показатели, иллюстрирующие разницу между ведущими методами извлечения и преобразования энергии (Smil 2008а, Murphy and Hall 2010). Для производства угля отдача варьируется между 10 и 80, для нефти и газа – от 10 до более 100; для больших ветровых турбин в наиболее ветреных локациях значения могут достигать 20, но большей частью меньше 10; для фотоэлектрических солнечных элементов не больше 2; а для современного биотоплива (этанол, биодизель) в лучшем случае 1,5, их производство часто ведет за собой затраты энергии, а не выгоду (EROEI всего лишь 0,9–1,0).
Сложности и предупреждения
Использование стандартных единиц для измерения запасов и потоков энергии с физической точки зрения очевидно и с точки зрения науки приемлемо, но все равно все сведения в общем знаменателе могут сбивать нас с толку. В первую очередь, здесь не учитываются критичные качественные различия между разными видами энергии. Два вида угля могут иметь одинаковую плотность энергии, но один может гореть хорошо и оставлять малое количество пепла, в то время как другой горит плохо, выделяет много диоксида серы и оставляет большое количество несгораемого материала. Изобилие угля с высокой плотностью энергии – идеальная ситуация для снабжения топливом паровых машин (часто используемый термин «бездымный» можно принять только как относительный), и именно такое изобилие стало важнейшим фактором, на котором базировалось доминирование Великобритании на морях в XIX веке, поскольку ни у Франции, ни у Германии не было больших запасов угля сравнимого качества.
Абстрактные единицы энергии не показывают различие между съедобной и несъедобной биомассой. Равные массы семян пшеницы и сухой соломы от пшеницы содержат в принципе одно и то же количество тепловой энергии, но солома, большей частью состоящая из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, не переваривается людьми, в то время как семена пшеницы (в составе около 70 % сложных крахмалистых углеводов и до 14 % белка) – прекрасный источник основных питательных веществ. Показатели также не учитывают конкретное происхождение пищевой энергии, проблему большой важности для правильного питания. Многие высокоэнергетические виды пищи не содержат или содержат в малом количестве белок и жиры, два питательных вещества, необходимых для нормального роста и функционирования тела, и не могут обеспечить организм микроэлементами – витаминами и минералами.
Имеются и другие важные качества, скрытые за абстрактными измерениями. Доступ к запасам энергии – совершенно очевидно важный момент. Древесина ствола и ветвей имеет одинаковую плотность энергии, но без качественных топоров и пил люди во многих доиндустриальных обществах могли только собирать ветви. Это все еще норма в наиболее бедных регионах Африки и Азии, где дети и женщины собирают древесную фитомассу; особенности траспортировки тоже имеют значение, поскольку древесину (ветки) приходится переносить на голове, и часто на значительные расстояния. Легкость использования и эффективность преобразования могут быть обманчивыми в процессе выбора топлива. Дом можно обогревать деревом, углем, бензином или природным газом, но лучшие газовые котлы сейчас показывают 97 % эффективности, поэтому они много дешевле в использовании.
Сжигание соломы в простых печах требует частого добавления топлива, а большие куски дерева могут гореть без присмотра долгими часами. Отсутствие вентиляции (или плохая вентиляция – через дыру в потолке) при сжигании сухого навоза сопровождается большим количеством дыма, а горение высушенных дров в хорошей печи – малым, при этом отравление продуктами горения в собственном доме остается важной причиной дыхательных заболеваний во многих бедных странах (McGranahan and Murray 2003; Barnes 2014). И если не уточнять их происхождение, то плотность энергетических потоков не будет отличаться в случае возобновляемых источников и ископаемого топлива, хотя различие между ними фундаментально в понимании природы и долговечности той или иной энергетической системы. Современная цивилизация возникла благодаря массовому и все растущему потреблению ископаемого топлива. Но такая практика очевидным образом ограничена тем, что эти запасы конечны и что последствия сжигания углеводородов негативны, так что высокоэнергетические общества могут выжить, только постепенно переходя на другие источники энергии.
Дальнейшие сложности возникают, когда сравниваешь эффективность одушевленной и неодушевленной трансформации энергии. В последнем случае это просто соотношение затрат топлива или электричества и полученной в результате энергии, но в первом ежедневный расход пищи нельзя рассматривать как энергетические затраты, поскольку большая часть полученной энергии уходит на поддержание базового метаболизма – работу внутренних органов, циркуляцию крови, сохранение температуры тела. А базовый метаболизм надо поддерживать вне зависимости от того, работают или отдыхают люди или животные. Расчет полезных энергетических затрат, возможно, является наиболее удовлетворительным решением (примечание 1.10).
Примечание 1.10. Расчет полезных энергетических затрат человеческого труда
Не существует универсального общепринятого способа выразить энергетические затраты на человеческий труд, и расчет полезных затрат, возможно, наилучший выбор: это потребление энергии человеком сверх того, что является жизненно необходимым, что требуется, даже если не выполняется никакой работы. Подобный подход описывает труд человека через актуальный прирост затрат энергии. Общие затраты энергии – результат умножения базовой (в состоянии покоя) скорости метаболизма и уровня физической активности (ОЗЭ = БСМ х УФА), и прирост затрат энергии будет очевидным образом составлять разницу между ОЗЭ и БСМ. БСМ взрослого мужчины весом 70 кг будет около 7,5 МДж/сутки, женщины весом 60 кг – около 5,5 МДж/сутки. Если мы предположим, что тяжелая работа увеличивает дневной расход энергии на 30 %, то полезные затраты составят 2,2 МДж/сутки для мужчины и 1,7 МДж/сутки для женщины. Поэтому я буду использовать 2 МДж/сутки во всех приблизительных расчетах полезного дневного расхода энергии при добывании пищи, традиционном сельском хозяйстве и работе на производстве.
Дневное количество пищи нельзя рассматривать как энергетические поступления на трудовые затраты: базовый метаболизм (работа внутренних органов, циркуляция крови, поддержание температуры тела) протекает вне зависимости от того, работаем мы или отдыхаем. Изучение физиологии мускулов, особенно труды Арчибальда В. Хилла (1886–1977, лауреат Нобелевской премии 1922 года) дали возможность измерить эффективность мышечной работы (Hill 192; Whipp and Wasserman 1969). Коэффициент полезного действия при аэробной нагрузке около 20 %, и это значит, что 2 МДж/сутки метаболической энергии, затраченной на физическую работу, произведут полезной работы на величину, эквивалентную 400 кДж/сутки. Я буду использовать это приближение во всех последующих вычислениях. И для сравнения, коллеги (Kander, Malanima and Warde 2013) использовали общее потребление пищи, а не актуальные затраты полезной энергии в своем историческом сравнении источников энергии. Они приняли среднее потребление пищи в год 3,9 ГДж/сутки на особь, и это значение не менялось с 1800 по 2008 год.
Но даже в намного более простых обществах, чем наше, значительную часть труда составляет умственный – принятие решений о том, как подступиться к задаче, как выполнить ее при имеющихся ресурсах, как снизить энергетические издержки. Метаболические затраты на размышления, даже очень напряженные, невелики по сравнению с постоянным мускульным напряжением. С другой стороны, умственное развитие требует многих лет, знакомства с языком, социализации и обучения как прямого, так и посредством накопления опыта, и по мере того, как общество усложняется, этот процесс становится все более сложным и долгим, обзаводится собственными социальными институтами вроде школ и университетов. А все это требует значительных косвенных затрат энергии на поддержание как материальной инфраструктуры, так и нематериальных человеческих познаний.
Круг замкнулся.
Я отметил потребность в количественных оценках, но реальное понимание роли энергии в истории требует намного большего, чем простое сведение всего к различным числам в джоулях и ваттах, и игр с этими числами для получения всеобъемлющих объяснений. Мне придется справиться с этим вызовом, используя широкий подход: я буду применять конкретные значения плотности энергии и мощности и указывать на повышение КПД, но при этом не стану игнорировать многие качественные моменты, относящиеся к использованию различных видов энергии. И пусть императивы энергетических потребностей и способов использования энергии наложили глубокий отпечаток на наше прошлое, многие детали и последствия этих фундаментальных эволюционных детерминант могут быть объяснены только с точки зрения человеческих мотиваций и предпочтений и только признанием тех удивительных и часто необъяснимых выборов, которые направляют историю нашей цивилизации.
2. Энергия в доисторические времена
Понимание истоков рода Homo и заполнение деталями его последующей эволюции – бесконечный квест, поскольку находки отодвигают старые маркеры и усложняют картину, ученые открывают новые виды, которые не соответствуют существующей иерархии (Trinkaus 2005; Reynolds and Gallagher 2012). На 2015 год старейшими, надежно датированными гомининами остаются Ardipithecus ramidus (4,4 миллиона лет назад, найден в 1994 году) и Australopithecus anamensis (4,1–5,2 миллиона лет назад, найден в 1967 году). Значимым дополнением 2015 года был Australopithecus deyirimeda (3,3–3,5 миллиона лет назад) из Эфиопии (Hayle-Selassie et al. 2015). Последовательность более молодых гоминин включает Australopithecus afarensis (найден в 1974 году в Лаэтоли, Танзания, и в Хадаре, Эфиопия), Homo habilis (обнаружен в 1960 году в Танзании) и Homo erecrus (появился 1,8 миллиона лет назад, множество находок в Африке, Азии и Европе, самые молодые датируются 250 тысячами лет назад).
Повторный анализ первых костей Homo sapiens, найденных Ричардом Лики в Эфиопии в 1967 году – показал датировку порядка 190 тысяч лет назад (McDougall, Brown, and Fleagle 2005). Наши прямые предки добывали пищу охотой и собирательством, и только 10 тысяч лет назад отдельные маленькие группы начали переходить к оседлому образу жизни, базой которого стали одомашненные растения и животные. Это значит, что миллионы лет стратегии добывании пищи гоминин не отличались от стратегий наших примитивных предков, но сейчас у нас есть изотопные доказательства из Восточной Африки, что около 3,5 миллиона лет назад рацион гоминин начал отличаться от рациона сохранившихся человекообразных обезьян. Исследователи (Sponheimer and co-workers 2013) обнаружили, что с этого времени несколько таксонов гоминин начали вводить в свой рацион пищу, обогащенную изотопом 13С (произведенную в результате С4-метаболизма), и поэтому состав изотопов углерода у них в организме сильно отличался от такового у африканских млекопитающих. Опора на растения С4 таким образом имеет древнее происхождение, в современном сельском хозяйстве есть два С4-растения: кукуруза и сахарный тростник, и они характеризуются более высокими средними урожаями, чем любой другой вид, дающий нам зерно или сахар.
Первым эволюционным достижением, которое в конечном итоге привело к появлению нашего вида, было не увеличение мозга, не изготовление орудий, а прямохождение, структурно очень маловероятное, но имеющее огромные адаптационные последствия. Начало появления этого признака можно проследить до эпохи примерно в 7 миллионов лет назад (Johanson 2006). Люди – единственные млекопитающие, для которых перемещение на двух ногах является нормой (другие приматы делают это лишь иногда), и поэтому прямохождение можно рассматривать как важнейший эволюционный прорыв, который и сделал нас в конечном итоге людьми. Хотя прямохождение – в сущности последовательность прерванных падений – нестабильно и неуклюже: «Человеческая походка – очень рискованная штуковина. Без точнейшего расчета времени человек просто упадет на лицо; фактически каждый шаг, который он делает, не более чем качание на краю катастрофы» (Napier 1970, 165). Непременно стоит отметить, что из-за прямохождения повышается риск мышечно-скелетных травм, с возрастом кости становятся хрупкими, менее плотными, возникает остеопороз (Latimer 2005).
Много вариантов ответа было предложено на простой вопрос, почему мы ходим на двух ногах, и большинство из них, как показано в недавней работе (Johanson 2006), выглядят совершенно неубедительными. Попытка распрямиться, чтобы запугивать хищников, не имела бы эффекта в случае с дикими собаками, гепардами или гиенами, которые не боятся более крупных млекопитающих. Попытка распрямиться, чтобы иметь лучший обзор в высокой траве только привлекла бы внимание тех же хищников; добраться до фруктов на низких ветвях можно было, не отказываясь от быстрого перемещения на четырех конечностях; а охлаждение тела легко достигается отдыхом в тени и добычей провизии в утренние и вечерние часы, когда прохладно. Различия в общих затратах энергии могут служить наилучшим объяснением (Lovejoy 1988). Гоминины, как и почти все млекопитающие, тратят большую часть энергии при воспроизведении, кормежке и обеспечении безопасности, и прямохождение помогает выполнять все эти функции.
Как изложил это исследователь (Johanson 2006, 2): «Естественный отбор не может создать вид поведения вроде прямохождения, но он может содействовать отбору этого вида поведения после того, как он появился». Если рассматривать проблему в более узком смысле, то совершенно не очевидно, что прямохождение предложило значительные биомеханические преимущества, чтобы обеспечить его отбор просто на основе затрат энергии на передвижение (Richmond et al. 2001). Хотя ученые (Sockol, Raichlen, and Pontzer 2007), измерив затраты энергии при передвижении шимпанзе и взрослого человека, нашли, что человеческая ходьба обходится в 75 % энергии от той, что расходуется при перемещении шимпанзе на двух или четырех конечностях. Разница возникает благодаря биомеханическим отличиям в анатомии и способе перемещения, и прежде всего – более вытянутому бедру и более длинным задним конечностям человека.
С прямохождения начался каскад значительных эволюционных изменений (Kingdon 2003, Meldrum and Hilton 2004). Оно освободило руки гоминин, чтобы держать оружие или переносить пищу к месту постоянного жительства, а не съедать ее на месте. Но в первую очередь оно было необходимо, чтобы развивалась координация кистей и появилась возможность использовать инструменты. Исследователи (Hashimoto and co-workers 2013) сделали вывод, что адаптации, обеспечившие освоение инструментов, развивались независимо от тех, которые требовались для человеческого прямохождения, поскольку и у людей, и у обезьян каждый палец руки представлен отдельно в первичной сенсомоторной области мозга, точно так же как сами пальцы разделены между собой. Поэтому возможно использовать каждую фалангу в сложных движениях, которые требуются при освоении инструментов. Но без прямохождения было бы невозможно использовать туловище в качестве опоры для рычага руки при изготовлении орудий и их применении. Прямохождение также освободило рот и зубы для развития более сложной системы звуковых сигналов, предшественницы языка (Aiello 1996). При этом понадобился более крупный мозг, энергетические потребности которого в конечном итоге в три раза превысили потребности мозга шимпанзе и составили до одной шестой общего базового метаболизма (Foley and Lee 1991; Lewin 2004). Средний коэффициент энцефализации (актуальная/ожидаемая масса мозга для заданной массы тела) составляет 2–3,5 в случае приматов и ранних гоминин, а для человека – несколько выше 6. Три миллиона лет назад Australopithecus afarensis имел мозг объемом менее чем 500 см3, полтора миллиона лет назад объем мозга удвоился у Homo erectus, а затем вырос еще примерно на 50 % у Homo sapiens (Leonard, Snodgrass, and Robertson 2007).
Более высокий коэффициент энцефализации был критически важен для роста социальной сложности (которая повысила шансы на выживание и поставила гоминин особняком среди прочих млекопитающих) и тесно связан с изменениями потребляемой пищи. Особые энергетические потребности мозга, грубо, в 16 раз больше, чем у скелетных мускулов, мозг человека расходует 20–25 % от метаболической энергии в состоянии покоя, в отличие от 8-10 % в случае других приматов и всего лишь 3–5% для остальных млекопитающих (Holliday 1986; Leonard et al. 2003). Единственный способ ужиться с таким большим мозгом, поддерживая ту же скорость метаболизма (человеческий метаболизм в состоянии покоя не выше, чем у других млекопитающих сравнимой массы) состоял в снижении массы других метаболически затратных тканей. Айелло и Уилер (Aiello and Wheeler 1995) доказывали, что уменьшение размера пищеварительного тракта было лучшим выбором, поскольку масса кишечника (в отличие от массы сердца или почек) может варьироваться в значительной степени в зависимости от рациона питания.
Различные исследователи (Fish and Lockwood 2003; Leonard, Snodgrass and Robertson 2007; Hublin and Richards 2009) подтвердили, что качество пищи и масса мозга имеют значительную позитивную корреляцию у приматов, и улучшения питания гоминин, включение в рацион мяса, поддерживают более крупный мозг, высокие энергетические затраты которого таким образом компенсируются за счет уменьшения кишечного тракта (Brauen et al. 2010). В то время как у существующих в наше время приматов, помимо человека, более 45 % массы кишок приходится на толстый кишечник и только 14–29 % на тонкий кишечник, у людей эти пропорции обратны: более 56 % приходится на тонкий кишечник и только 17–25 % на толстый.
Это явственное указание на адаптацию к более качественным видам пищи с высокой плотностью энергии (мясо, орехи), которые перевариваются в тонком кишечнике. Увеличение количества потребляемого мяса помогает объяснить выигрыш человека в массе тела и в росте, а также уменьшение челюстей и зубов (McHenry and Cofling 2000; Aiello and Wells 2002). Но более высокая доля потребления мяса не могла изменить энергетический базис эволюционирующих гоминин: чтобы обеспечить себя пищей, они должны были полагаться только на собственные мускулы и простейшие стратегии при собирательстве, поедании падали, охоте и рыболовстве.
Отследить происхождение первых инструментов из дерева (палки и дубинки) невозможно, поскольку лишь артефакты этого рода, сохранившиеся в бескислородной среде, чаще всего в болотах, дожили до нашего времени. Однако разрушение мало коснулось камней, которые использовались для изготовления простейших инструментов, и новые находки всё отодвигают назад дату появления первых орудий, сделанных человеком. Несколько десятилетий почти все соглашались, что вероятная датировка подобных объектов – 2,5 миллиона лет назад. Изготовленные из булыжников, сравнительно маленькие и простые олдувайские каменные топоры (ядро и заостренный край), рубила и отщепы облегчали задачу разделки туш животных и расщепления костей (de la Torre 2011). Но позднейшие находки в Ломекви в Западной Туркане, Кения, отодвинули дату появления старейших орудий из камня до 3,3 миллиона лет назад (Harmand et al. 2015).
Около полутора миллионов лет назад гоминины начали изготавливать отщепы большего размера, чтобы делать двусторонние ручные топоры, копья и ножи ашельской (1,2–0,1 миллиона лет назад) культуры. Зачистка одного ядра позволяла получить меньше 20 см острых режущих краев, но умельцы того времени изготавливали самые разные ручные инструменты из камня (рис. 2.1). Деревянные копья были очень нужны при охоте на крупных животных. В 1948 году почти целое копье обнаружили внутри скелета слона в Германии и датировали последним межледниковым периодом (115–125 тысяч лет назад), а в 1996 году метательные копья, найденные в лигнитовом карьере в Шёнингене, датировали 400–380 тысячами лет назад (Thieme 1997). Каменные же наконечники, насаженные на деревянные копья, имеют датировку около 300 тысяч лет назад.
Но новые открытия в Южной Африке отодвинули дату появления многокомпонентных орудий как минимум на двести тысяч лет (Wilkins and co-workers 2012). Исследователи пришли к выводу, что каменные наконечники из Кату Пан сделаны около 500 тысяч лет назад и что их прикрепляли к деревянным копьям. Настоящее длинное метательное оружие эволюционировало в Африке между 90 и 70 тысяч лет назад (Rhodes and Churchill 2009). Другие недавние открытия в Южной Африке показали, что значительные технические усовершенствования – производство маленьких лезвий (микролитов), главным образом из нагретого камня, для использования в составных орудиях – имели место уже 71 тысячу лет назад (Brown et al. 2012). Более крупные составные орудия получили широкое распространение только около 25 тысяч лет назад (граветтская культура в Европе) с появлением сложных тесал и топоров и с развитием более эффективной технологии отщепывания кремня, давшей множество остроконечных орудий: гарпуны, иглы, пилы. Горшечное дело и изготовление предметов из тканых волокон (одежда, сети, корзины) тоже появились в это время.
Рисунок 2.1. Каменные инструменты ашельской культуры, первые изготовленные Homo ergaster, формировались путем удаления каменных отщепов, после чего получались специализированные режущие лезвия (Corbis)
При мадленской культуре (между 17 и 12 тысяч лет назад; названа по имени пещеры Ла Мадлен в Южной Франции, где были обнаружены инструменты) производилось до 12 метров микролезвий из единственного камня, и эксперименты с их современными аналогами (насаженными на копья) показали их пользу в охоте (Petillon et al. 2011). Копье с каменным наконечником стало еще более мощным оружием после изобретения копьеметалок в позднем палеолите. Использование принципа рычага удвоило скорость полета оружия и уменьшило необходимость слишком приближаться к цели. Стрелы с каменными наконечниками распространили эти преимущества еще дальше и обеспечили большую точность.
Мы никогда не узнаем дату, когда огонь впервые начали использовать для обогрева и приготовления пищи: на открытом месте любые релевантные доказательства существования кострищ быстро исчезали по естественным причинам, а в обитаемых пещерах их ликвидировали за поколения повторного использования. Самые ранние данные, на которые мы можем полагаться, понемногу отодвигаются в прошлое: Гудсблом (Goudsblom 1992) называл цифру в 250 тысяч лет назад, но уже дюжиной лет позже фигурировали 790 тысяч лет назад (Goren-Inbar and coworkers 2004), в то время как окаменелости предполагают, что употребление приготовленной пищи имело место уже 1,9 миллиона лет назад. Но безо всяких сомнений, в верхнем палеолите (30–20 тысяч лет назад), когда Homo sapiens sapiens занял в Европе место неандертальцев, использование огня было широко распространено (Bar-Yosef 2002; Karkanas et al. 2007).
Приготовление пищи всегда рассматривалось как важный элемент человеческой эволюции, но некоторые исследователи (Wrangham 2009) считают, что оно оказало «чудовищное» влияние на наших предков. Оно очень сильно расширило список доступной пищи, и кроме того, его освоение повлекло за собой многочисленные физические изменения (включая уменьшение зубов и объема пищеварительного тракта), а также трансформацию поведения (необходимость охранять запасы еды, что обеспечило возникновение защитных связей между мужчинами и женщинами). И в конечном итоге все это привело к комплексной социализации, оседлой жизни и «самоодомашниванию». Всю пищу в доисторические времена готовили на открытом огне, мясо вешали над костром, закапывали в угли, клали на раскаленные камни, заворачивали в шкуры, обмазывали глиной или помещали в кожаные сосуды вместе с водой и раскаленными камнями. Поскольку способов и методов обращения с пищей много, то невозможно определить типичную эффективность конверсии топлива. Эксперименты показывают, что 2-10 % энергии дерева превращается в полезное тепло, и правдоподобные предположения оценивают годовое потребление дерева максимум в 100–150 кг/г. на человека (примечание 2.1).
Примечание 2.1. Потребление дерева при приготовлении мяса на открытом огне
Реалистические предположения при определении вероятного максимума потребления дерева при приготовлении мяса на открытом огне во время позднего палеолита следующие (Smil 2013а): среднее дневное поступление энергии – около 10 МДж на человека (адекватно для взрослых, выше, чем в среднем для популяции), в котором доля мяса 80 % (8 МДж); плотность энергии пищи для трупов животных – 8-10 МДж/кг (типично для мамонтов, в общем 5–6 МДж/кг для крупных копытных); средняя температура окружающей среды 20 °C в теплом и 10 °C в холодном климатах; температура готовки мяса – 80 °C (77° достаточно для хорошо прожаренного мяса); теплоемкость мяса примерно 3 кДж/кг°С; эффективность готовки на открытом пламени всего 5 %; средняя плотность энергии сухой древесины – 15 МДж/кг. Эти числа предполагают среднее дневное потребление около 1 кг мяса мамонта (и около 1,5 кг мяса крупных копытных) на человека и дневную потребность около 4–6 МДж дерева. Общее годовое потребление будет 1,5–2,2 ГДж или 100–150 кг (частично свежей, частично сухой) древесины. Для 200 тыс. человек, живших на Земле 20 тысяч лет назад, глобальная потребность составляла 20–30 тысяч тонн, пренебрежимо малая доля (порядка 8-10 знака после запятой) от всей древесной фитомассы планеты.
Помимо обогрева и приготовления пищи огонь использовали в качестве инженерного инструмента: анатомически современные люди нагревали камни, чтобы они лучше раскалывались, как минимум 164 тысячи лет назад (Brown et al. 2009). Некоторые исследователи (Mellars 2006) предполагают, что существуют доказательства контролируемого выжигания растительности в Южной Африке уже 55 тысяч лет назад. Выжигание леса как инструмент управления окружающей средой охотниками-собирателями раннего голоцена могло помогать в охоте (обеспечивая рост свежей зелени, привлекающей животных, и заодно создавая лучшую видимость), облегчать передвижение или процесс сбора древесных плодов (Mason 2000).
Большое разнообразие археологических находок в пространстве и времени препятствует каким-либо простым обобщениям по поводу энергетического баланса доисторических сообществ. Описания первых контактов с дожившими до нашего времени охотниками-собирателями и их антропологическое изучение дают нам только шаткие аналогии. Информация о группах, проживших в экстремальной окружающей среде достаточно долго, чтобы оказаться объектом изучения современной науки, может быть лишь с оговорками распространена на сообщества доисторической эпохи, развивавшиеся в иных климатических условиях, имевшие более изобильные ресурсы. Более того, многие изученные общины охотников-собирателей уже изменились под влиянием длительных контактов с людьми иного культурного уровня (Headland and Reid 1989; Fitzhugh and Habu 2002). Но отсутствие типичной схемы поиска пищи не мешает нам опознать набор биохимических императивов, управляющих энергетическими потоками и определяющих поведение групп, живущих охотой и собирательством.
Общества охотников-собирателей
Самые достоверные собрания надежных доказательств показывают, что средняя плотность населения современных обществ охотников-собирателей – отражающая различие среды обитания, навыки и техники добывания пищи – варьируется в пределах трех порядков (Murdock 1967; Kelly 1983; Lee and Daily 1999; Marlowe 2005). Минимум составляет меньше 1 человека на 100 км2, максимум – несколько сотен человек на 100 км2, со средним значением в 25 человек на 100 км2 для 340 изученных культур. Слишком низкая плотность, чтобы поддерживать более сложные общества с возросшей функциональной специализацией и социальной стратификацией. Средние значения плотности охотников-собирателей были ниже, чем средняя плотность травоядных со сравнимой массой, способных переваривать изобильную целлюлозную фитомассу. Аллометрические уравнения предсказывают значение около 5 млекопитающих весом около 50 кг на квадратный километр, при этом плотность шимпанзе составляет 1,3–2,4 животных на километр, а плотность охотников-собирателей XX века была ниже одного человека на километр в теплом климате и 0,4 в Новом Свете (Marlowe 2005; Smil 2013а). Плотность популяции была значительно выше для групп, комбинировавших собирание имевшихся в изобилии растений с охотой (хорошо изученные образцы включают группы в постледниковой Европе и, в относительно недавнее время, на Мексиканском нагорье) и для прибрежных общин, зависящих в основном от морских видов (с хорошо документированными археологическими находками в балтийском регионе и недавними антропологическими исследованиями на северо-западе Тихого океана).
Собирание моллюсков, рыбная ловля, прибрежная охота на морских млекопитающих поддерживали наиболее высокую плотность охотников-собирателей, и подобная практика вела к появлению полупостоянных и даже постоянных поселений. Прибрежные деревни северо-запада Тихого океана с их большими домами и организованной совместной охотой на морских млекопитающих выглядели исключительными по уровню оседлости. Подобные значительные вариации плотности были не просто функцией от потоков биосферной энергии: значения не уменьшались по направлению к полюсам, и не увеличивались по направлению к экватору (в пропорции к более высокой фотосинтетической продуктивности), и не соотносились с общей массой животных как объектов охоты. Вариации определялись переменными экосистемы, сравнительной зависимостью от растительной и животной пищи, использованием сезонных запасов. Как и большинство приматов помимо человека, все охотники-собиратели были всеядными, но убийство более крупных животных оказалось главным энергетическим вызовом, поскольку его целью становился куда меньший по объему резервуар съедобных веществ, чем содержалось в растениях для собирательства: естественное последствие уменьшения энергии, переносимой между трофическими уровнями.
Травоядные потребляют только 1–2% от полезной первичной продуктивности в листопадных умеренных лесах и до 50–60 % на некоторых тропических лугах, за среднюю величину можно взять 5-10 % (Smil 2013а). В целом меньше чем 30 % от потребленной фитомассы переваривается; большая ее часть тратится зря, только 1–2% от нее в случае птиц и млекопитающих становится зоомассой. В результате травоядные, на которых чаще всего охотятся, заключают в себе менее процента энергии, изначально запасенной в фитомассе экосистемы, где они обитают. Это объясняет, почему охотники предпочитают убивать животных, которые сочетают сравнительно большую массу тела с высокой продуктивностью и плотностью популяции: дикая свинья (90 кг), олень и антилопа (25-500 кг) были общей целью охотников.
Там, где подобные животные были сравнительно широко распространены, например в тропических или умеренных лесах и на лугах, охота представлялась более благодарным делом, но в противоположность общему мнению по поводу изобилия видов животных, тропические леса находятся в самом низу списка экосистем, благоприятных для охотников. Большая часть животных, обитающих в такой среде – древесные, питающиеся листвой и фруктами (обезьяны, птицы), они активны и слабо достижимы в кронах деревьев (а многие еще и ночные), и охота на них обещает низкую энергоотдачу. Обнаружено (Sillitoe 2002), что и собирательство, и охота в тропических дождевых лесах нагорий Папуа Новой Гвинеи очень затратны и живущие там люди расходуют в четыре раза больше энергии на охоту, чем получают с пищей. Очевидно, что при такой низкой энергоотдаче охота не может стать первоочередным способом добывания пищи (отрицательную энергоотдачу можно объяснить только необходимостью в животном белке), и поэтому для обеспечения достаточного количества пищи требовались те или иные формы кочевого земледелия.
Ученые считали (Bailey and co-workers 1989), что однозначных этнографических сообщений об охотниках-собирателях, живущих в тропических лесах без какой-либо опоры на одомашненных животных и на растения, не существовало. Позже это мнение изменилось (Bailey and Headland 1991), когда поступили археологические доказательства из Малайзии, что изобилие диких свиней и саговых пальм допускает некоторые исключения. Собирательство часто было удивительно неблагодарным как в изобильных видами тропиках, так и в умеренных лесах. Эти экосистемы содержат большую часть фитомассы планеты, но она заключена чаще всего в тканях высоких древесных стволов, целлюлозу и лигнин из которых человек не в состоянии переварить (Smil 2013а). Богатые энергией фрукты и семена составляют малую долю от общей массы растений и часто недоступны в высоких кронах; семена обычно защищены твердой скорлупой и требуют энергозатратного процесса очистки перед употреблением. Собирательство в тропических лесах также требует долгого поиска: большое разнообразие видов означает, что деревья или лозы одного вида расположены друг от друга на большом расстоянии (рис. 2.2). Сбор бразильского ореха может быть прекрасным примером подобной ситуации (примечание 2.2).
По контрасту с часто неудачной охотой в тропических и умеренных лесах травянистые равнины или лесостепь предлагают прекрасные возможности для собирательства и охоты. В этих экосистемах содержится куда меньше энергии на единицу площади, чем в густом лесу, но большая ее доля присутствует в форме легко собираемых и высокопитательных семян и фруктов или сконцентрирована в скоплениях крахмалистых листьев и клубней. Высокая плотность энергии (до 25 МДж/кг) делает орехи в особенности полезными, и некоторые из них, такие как желуди или лесной орех, очень легко собирать. И, в отличие от лесных, многие животные, пасущиеся на травянистых равнинах, вырастают до значительного размера, часто передвигаются большими стадами и поэтому обещают значительную отдачу на энергию, инвестированную в охоту.
Рисунок 2.2. Тропический дождевой лес может похвастаться изобилием населяющих его видов, но сравнительно беден растениями, которые могут поддерживать большие популяции охотников-собирателей. На фотографии – кроны джунглей в Ла-Фортуна, Коста-Рика (Corbis)
Примечание 2.2. Сбор бразильского ореха
Бразильский орех благодаря высокому содержанию липидов (66 %) характеризуется энергией в 27 МДж/кг (сравните с примерно 15 МДж/кг для злаковых культур), в нем около 14 % белка, он также является источником натрия, магния, кальция, фосфора и даже селена (Nutrition Value 2015). Сбор этих орехов одновременно сложен и опасен. Bertolletia excels вырастает до 50 метров, и отдельные деревья стоят далеко друг от друга. От 8 до 24 орехов собраны в тяжелые (до 2 кг) капсулы, покрытые эндокарпом подобно кокосу. Собиратели орехов должны правильно выбирать время сбора: слишком рано, и «стручки» останутся недоступными на вершинах деревьев, так что придется идти еще раз; слишком поздно, и агути (Dasyprocta punctata), крупные грызуны и единственные животные, способные добраться до мякоти орехов, съедят их прямо на месте или спрячут в собственных кладовых (Haugaasen et al. 2010).
Гоминины могли добывать мясо в степях и лесостепях даже безо всякого оружия, действуя как падальщики, или как несравненные загонщики, или как коварные строители ловушек. Учитывая, что физические возможности первых людей не впечатляли, а эффективное оружие отсутствовало, наиболее вероятно, что наши предки и в самом деле были скорее падальщиками, чем охотниками (Blumenschine and Cavallo 1992; Pobiner 2015). Крупные хищники – львы, леопарды, саблезубые кошки – нередко оставляли после себя частично объеденные тела травоядных. Это мясо, или по меньшей мере питательный костный мозг, могло доставаться нашим предкам, а не их конкурентам в виде грифов, гиен и других падальщиков.
Но есть точка зрения (Dominguez-Rodrigo 2002), согласно которой сбор падали не мог дать достаточное количество мяса, и что только охота на травянистых пространствах могла обеспечить нужный объем белка. В любом случае, прямохождение человека и его «умение» потеть сильнее любого другого млекопитающего давало ранним людям возможность преследовать и загонять до полного изнеможения даже самых быстрых травоядных (примечание 2.3).
Некоторые исследователи (Carrier 1984) считают, что выдающаяся скорость рассеивания тепла человеком обеспечила ему важное эволюционное преимущество, которое отлично послужило нашим предкам, когда они заняли новую нишу – дневного, высокотемпературного хищника. Свойство обильно потеть, а значит, активно работать при высоких температурах осталось и у человеческих популяций, которые мигрировали в зоны холодного климата: не обнаружено значительной разницы в плотности мерокринных желез у населения различных температурных зон (Taylor 2006). Обитатели средних и высоких широт могут потеть точно так же, как аборигены тропических областей, после краткого периода акклиматизации.
Примечание 2.3. Бег и рассеивание тепла у людей
Все четвероногие имеют оптимальные скорости для разных видов передвижения, например шаг, рысь и галоп у лошадей. Энергетические затраты бега человека относительно высоки по сравнению с затратами на бег млекопитающих сравнимой массы, но в отличие от них, у человека объем затрат прямо не связан со скоростью бега, если она между 2 и 6 м/с (Carrier 1984; Bramble and Lieberman 2004). Прямохождение и эффективное рассеивание тепла объясняют этот подвиг. Вентиляция четвероногих ограничена одним вдохом на двигательный цикл. Грудные кости и мускулы должны поглотить ударную нагрузку от передних конечностей, в то время как спинно-брюшной каркас ритмично сжимает и расширяет грудную клетку, а вот частота человеческого дыхания может варьироваться произвольно. Люди могут бежать с какой угодно скоростью, а у четвероногих набор оптимальных скоростей ограничен структурно.
Экстраординарные способности человека в области терморегуляции опираются на очень высокую скорость потоотделения. Лошади теряют воду с часовой интенсивностью в 100 г/м2 шкуры, верблюды – 250 г/м2, но человек может терять больше 500 г/м2, а пиковые значения достигают 2 кг/м2 (Torii 1995; Taylor and Machado-Moreira 2013). Скорость потения определяет потерю тепла в 550–625 Вт, что достаточно для регуляции температуры даже во время исключительно тяжелого труда. Люди также могут пить меньше, чем они теряют влаги, и восполнять частичное обезвоживание многими часами позже. Именно бег превратил людей в дневных высокотемпературных хищников, которые могли загонять животных до истощения (Heinrich 2001; Lienberg 2006). Документированные случаи загонной охоты включают индейцев тарахумара в Северной Мексике, способных загнать оленя; пайутов и навахо, жертвами которых были вилорогие антилопы. Басарва из Калахари могли добывать дукеров, ориксов, а во время сухого сезона даже зебр, ну а некоторые аборигены Автралии проделывали то же самое с кенгуру. Бегущие босиком люди снижают потерю энергии примерно на 4 % (и реже страдают от повреждений лодыжек и хронических болезней ног) по сравнению с бегунами в легкоатлетических кроссовках (Warburton 2001).
Но как только были изобретены и вошли в обиход необходимые инструменты, охота с их помощью получила преимущество перед загоном добычи, и после исследования 51 коллекции находок среднего каменного века и 98 из позднего каменного века (Faith 2007) подтвердилось, что первые африканские охотники умело добывали крупных травоядных, в том числе быков. Энергетические императивы охоты на крупных животных также внесли значительный вклад в социализацию человека. Исследователи (Trinkaus 1987, 131–132) сделали вывод, что «большая часть отличительных характеристик человека, таких как прямохождение, ловкость рук, продвинутые технологии и заметное увеличение головного мозга, могут быть рассмотрены как требования, выдвинутые гибкой и развитой системой добывания пищи».
Роль охоты в эволюции человеческих сообществ выглядит самоочевидной. Индивидуальный успех в охоте на крупных животных с помощью примитивного оружия крайне маловероятен, и желающие выжить охотничьи группы должны были поддерживать минимальный уровень кооперации, чтобы выслеживать раненых животных, разделывать их, транспортировать мясо и затем распределять добычу. Общественная охота приносила в то время наибольшую выгоду и представляла собой хорошо спланированный загон животных (использовались загородки из камня и дерева, естественные густые заросли и скалы, и даже рампы), чтобы они оказались в заранее приготовленной ловушке или – возможно, наиболее простое и хитроумное решение – упали с обрыва (Frison 1987). Многие крупные травоядные – мамонты, бизоны, олени, антилопы, горные козлы – могли быть убиты таким образом, обеспечивая людям запас замороженного или обработанного (закопченного или превращенного в пеммикан) мяса.
Обрыв Хед-Смэшт-Ин-Баффало-Джамп около Форт Маклеод (Альберта, Канада), часть Всемирного наследия ЮНЕСКО, может служить ярким примером такой охотничьей стратегии, поскольку использовался около 5700 лет. «Чтобы начать охоту… молодой человек… мог заманить стадо в нужном направлении, имитируя голос потерявшегося теленка. Как только бизоны подходили к заграждениям для охоты (длинные линии пирамидок из камней, которые складывали, чтобы помочь охотникам направить бизонов к обрыву), охотники появлялись позади стада и пугали животных криками и взмахами рук», и в конечном итоге стадо падало с обрыва (UNESCO 2015а). Полезная энергоотдача от белка и жира, полученного из животных, была очень велика. Охотники позднего плейстоцена могли быть очень успешными, у многих ученых-исследователей Четвертичного периода появилась гипотеза, что именно охота большей частью (или полностью) стала причиной сравнительно быстрого исчезновения мегафауны позднего палеолита, животных с весом тела больше 50 кг (Martin 1958, 2005; Fiedel and Haynes 2004), но она до сих пор окончательно не подтверждена (примечание 2.4).
Примечание 2.4. Исчезновение мегафауны позднего плейстоцена
Непрерывное истребление медленно размножающихся животных (с единственным отпрыском, который рождается после долгого вынашивания) может привести к их исчезновению. Если мы примем, что люди позднего плейстоцена имели дневную потребность в пище в 10 МДж/на человека, что они ели в основном мясо и что большая его часть (80 %) обеспечивалась как раз мегафауной, тогда популяции в два миллиона человек требовалось почти 2 Мт (вес в свежем виде) мяса в год (Smil 2013а). Если мамонты были единственным видом, на который охотились, то их требовалось истреблять 250–400 тысяч голов в год. Но охота на мегатравоядных касалась и других крупных млекопитающих (слоны, гигантские олени, бизоны, дикие быки), и потребность в 2 Мт мяса в год могла обеспечить уничтожение около двух миллионов разных животных в год. Наиболее вероятным объяснением исчезновения мегафауны позднего плейстоцена может служить комбинация естественных (изменения климата и растительного покрова) и антропогенных (охота и огонь) факторов (Smil 2013а).
Все до-сельскохозяйственные общества характеризовались всеядностью, составляющие их люди не могли позволить себе роскошь игнорировать какие-либо из доступных источников питания. Хотя охотники-собиратели употребляли в пищу множество видов растений и животных, обычно несколько основных определяли рацион. Неизбежно предпочтение оказывалось семенам – помимо того, что их легко собирать и хранить, в семенах сочетается высокое содержание энергии со сравнительно высоким содержанием белка. Семена диких растений содержат столько же энергии, сколько и зерна культивируемых (пшеница – 15 МДж/кг), у орехов плотность энергии до 80 % больше (грецкий орех – 27,4 МДж/кг).
Мясо любых диких животных – прекрасный источник протеина, но чаще всего оно содержит мало жира и поэтому имеет низкую плотность энергии, вполовину меньше по сравнению с зерном в случае маленьких, жилистых млекопитающих. Ничего удивительного, что широко распространено предпочтение охотиться на крупных и сравнительно жирных животных. Единственный небольшой мамонт давал столько же годной в пищу энергии, сколько 50 северных оленей, а бизон равнялся 20 оленям (примечание 2.5). Именно по этой причине наши неолитические предки устраивали засады на огромных мамонтов, вооружившись простым оружием с каменными наконечниками, и по этой же причине индейцы равнин Северной Америки тратили много энергии на преследование бизонов (чтобы сделать потом из жирного мяса способный долго храниться пеммикан).
Примечание 2.5. Масса тела, плотность энергии и содержание энергии в пище в зависимости от видов добываемых на охоте животных
Примечание: я предполагаю, что в пищу пригодны две трети массы тела китов и тюленей и половина массы тела других животных. Средняя плотность энергии для китов была рассчитана с учетом того, что 25 % массы их тела составляет ворвань.
Источники: основано на данных: Sanders, Parsons and Santley (1979), Sheehan (1985) и Medeiros and co-workers (2011).
Но подход с точки зрения энергии не может дать нам полного понимания, как вели себя охотники-собиратели. Если бы принимались во внимание только энергетические соображения, тогда оптимальная стратегия выглядела бы так: собиратели и охотники пытаются максимизировать объем полученной энергии, одновременно минимизируя затраты времени и сил на ее получение (Bettinger 1991). Оптимальный способ добывания пищи объясняет предпочтение охотиться на крупных жирных мамонтов или собирать менее питательные растения, которые не требуют обработки, потому что орехи с высокой плотностью энергии трудно вскрыть. Вне всякого сомнения, многие охотники-собиратели так и вели себя, максимизируя полезную энергоотдачу, но другие экзистенциальные императивы часто действовали в обратном направлении. Среди наиболее важных – доступность ночного убежища, необходимость защищать территории от конкурентов и потребность в надежных источниках воды, а также витаминах и минералах. Пищевые предпочтения и отношение к работе тоже имели большое значение (примечание 2.6).
Наша неспособность реконструировать баланс энергии в доисторическую эпоху провоцирует появление недопустимых обобщений. Для некоторых групп общие усилия по добыванию пищи были сравнительно низкими, всего несколько часов в день. Подобные факты ведут к тому, что охотников-собирателей описывают как «исходно зажиточные общества», живущие в условиях материального изобилия, лени и праздности (Sahlins 1972). Самый известный случай – племя Добе! Кунг из пустыни Калахари (Ботсвана), процветавшее на диких растениях и мясе. Это племя считали прекрасным примером доисторических охотников-собирателей, живших вроде бы довольной, здоровой и энергичной жизнью (Lee and DeVore 1968). Это заключение, базирующееся на ограниченных и ненадежных данных, должно было – и подверглось сомнению (Bird-David 1992; Kaplan 2000; Bogin 2011).
При упрощающем теоретизировании по поводу процветающих охотников-собирателей не берется во внимание то, насколько тяжела и опасна работа по собиранию пищи и насколько часто стрессовые ситуации и инфекционные болезни посещают примитивные общества. Сезонная нехватка пищи провоцировала потребление негодных в пищу тканей растений и вела к потере веса, а часто к опустошительным эпидемиям. Результатом также была высокая детская смертность (включая детоубийство), а следовательно, низкий уровень воспроизводства. Ничего удивительного, что повторный анализ оценок энергетических затрат и демографических данных, собранных в 60-е, показал, что питание и здоровье Добе! Кунг выглядели в лучшем случае нестабильными, а в худшем говорили об «обществе на грани исчезновения» (Bogin 2011, 349). Как писал другой исследователь (Froment 2001, 259): «Сражающиеся с угрозами и несущие тяжелую ношу болезней, охотники-собиратели не живут – и никогда не жили – в Эдемском саду; они вовсе не богаты, они бедны, их потребности и возможности их удовлетворить ограничены».
Примечание 2.6. Пищевые предпочтения и отношение к труду
Пищевые предпочтения убедительным образом демонстрируют различия между схожими во всем остальном группами охотников-собирателей. Племя! Кунг Басарва (Ботсвана) обязано своей популярности в антропологической литературе тем, что зависит от питательных и часто встречающихся орехов монгонго, которые обеспечивают лучший уровень энергоотдачи из задокументированных объектов собирательства. Но /Аисе, другая группа басарва, имеющая доступ к орехам, не употребляет их в пищу, поскольку находит вкус монгонго отвратительным (Hitchcock and Ebert 1984). Схожим образом, обитатели морского берега южной Австралии получают пищу с высокой плотностью энергии с помощью рыболовства, но через пролив от них, на Тасмании в отходах ее прежних обитателей не обнаруживают рыбьей чешуи (Taylor 2007).
Прекрасный пример вариативности культурной реальности – упрощенные энергетические модели (Lizot 1977), где сравниваются две обитающие рядом группы индейцев яномами (северная Амазония). Группа, живущая в лесу, потребляла менее половины количества энергии животной пищи и белка, чем их соседи, живущие в среде, хуже обеспеченной дикими свиньями, тапирами, и обладающие такими же охотничьими инструментами и навыками. Объяснение следующее: люди первой группы были просто намного более ленивыми, охотились редко и предпочитали есть меньше. «Одну из недель… мужчины не охотились ни разу, они только собирали их любимые галлюциногены (Anadenanthera peregrina) и проводили целые дни, употребляя наркотики; женщины жаловались, что мяса нет, но мужчины их не слушали» (Lizot 1977,512).
Это общий случай основной вариации энергии, добываемой с помощью охоты, при котором вариация не связана ни с доступностью ресурсов (наличие животных), ни с затратами энергии во время охоты (учитывая простое, одинаковое оружие), но является только функцией отношения к труду. Другой пример действий, не имеющих энергетического объяснения, приходит из анализа данных по дележу мяса среди танзанийских хадза (Hawkes, O'Connell and Jones 2001). Лучшее объяснение широко распространенному дележу мяса больших животных – снизить риск, неизбежный при охоте на крупную дичь, но дележ хадза не мотивирован снижающей риск взаимностью, он совершается в первую очередь для повышения статуса охотника как желаемого соседа.
Примерные расчеты для небольшого количества групп охотников-собирателей XX века показывают наиболее высокий возврат полезной энергии при собирании некоторых корней. На одну затраченную единицу энергии в этом случае приходится 30–40 единиц энергии от полученной пищи. И наоборот, охотничьи вылазки, особенно за маленькими древесными или наземными млекопитающими в тропических дождевых лесах, ведут к потере полезной энергии или в крайнем случае имеют нулевую эффективность (примечание 2.7). Типичный выигрыш при собирательстве – в 10–20 раз, тот же самый, что при охоте на больших млекопитающих. В доисторические времена он был, без сомнений, выше, поскольку экосистема содержала больше биомассы, что и определило постепенное увеличение сложности общества.
На самом деле многие общества охотников-собирателей достигали уровня сложности, обычно ассоциируемого с более продвинутыми сельскохозяйственными обществами. Они жили в деревнях с высокой плотностью населения, у них были солидные запасы провианта, социальная стратификация, разработанные ритуалы, зарождалась культивация злаков. Охотники на мамонтов верхнего палеолита на территории Моравского лёссового региона могли похвастаться умело построенными каменными домами, изготавливали множество отличных инструментов и могли обжигать глину (Klima 1954). Социальная сложность групп, населявших в верхнем палеолите юго-запад Франции, определялась сильным атлантическим влиянием, что означало прохладное лето, но исключительно мягкие зимы. Благодаря такой погоде удлинялся сезон вегетации и повышалась продуктивность наиболее южной на континенте тундры, покрытой характерной для степи растительностью и способной поддерживать стада травоядных, более многочисленные, чем где-нибудь еще в ледниковой Европе (Mellars 1985). Сложность этих палеолитических культур лучше всего доказывается их замечательными скульптурами, резьбой и рисунками на стенах пещер (Grayson and Delpech 2002; French and Collins 2015) (рис. 2.3).
Примечание 2.7. Возврат полезной энергии при охоте и собирательстве
Я использую метод, описанный во примечании 1.10, и предполагаю, что люди доисторической эпохи были меньше современных (средний вес взрослого – около 50 кг). Это означает, что для базового метаболизма было нужно около 6 МДж/кг (около 250 кДж/ч) и минимальная потребность в энергии для взрослого составляла 8 МДж, грубо – 330 кДж/час. Для собирания растений требовался в основном свет, чтобы труд был успешным; охота и рыбная ловля предполагали физическое напряжение разной степени. Типичные формы деятельности по добыче пищи требовали четырехкратных затрат по сравнению с базовым метаболизмом для мужчин, и пятикратных – для женщин, или почти 900 кДж/кг. Если отнять базовые сущностные потребности, то вложение полезной энергии будет около 600 кДж/ч. Энергетическая отдача – просто размер пригодной для употребления порции собранных растений или мяса.
Рисунок 2.3. Сделанные углем рисунки на стенах пещеры Шове в Южной Франции. Эти замечательные изображения датируют периодом между 32 900 и 30 000 лет назад (Corbis)
Самые высокие показатели продуктивности в сложном процессе охоты и собирательства связаны с эксплуатацией водных ресурсов (Yesner 1980). Раскопки мезолитических стоянок в южной Скандинавии показали, что когда охотники постледниковой эпохи истребляли стада крупных травоядных, они начинали охотиться на дельфинов и китов, ловить рыбу и собирать морских моллюсков (Price 1991). Они жили в больших, часто постоянных поселениях, рядом с которыми располагались кладбища. Племена тихоокеанского северо-запада, зависящие от рыбной ловли, жили поселками по несколько сотен человек, сооружали качественные деревянные дома. Регулярный нерест лососевых гарантировал надежный и доступный источник пищи, которую было легко запасать (коптить), что позволяло хорошо питаться. Благодаря высокому содержанию жира (около 15 %) мясо лососевых рыб имеет высокую энергетическую плотность (9,1 МДж/кг), и это почти в три раза больше, чем у трески (3,2 МДж/кг). Превосходный образец высокой плотности населения, зависящего от морской охоты – эскимосы северо-западной Аляски. При охоте на мигрирующего гладкого кита они добивались возврата полезной энергии в двухтысячекратном размере (Sheehan 1985; примечание 2.8).
Пищевая стратегия, которая базируется на нескольких сезонных потоках энергии, требует умения хранить пищу. Способы хранения включают зарывание в вечную мерзлоту, сушение и копчение морепродуктов, ягод и мяса; складирование семян и корней, погружение в масло, изготовление колбас, муки из орехов и зерна. Крупномасштабное, долговременное хранение пищи изменило отношение охотников и собирателей к времени, труду, природе, а также помогло стабилизировать высокую плотность населения (Hayden 1981; Testart 1982; Fitzhugh and Habu 2002). Умение планировать и управлять временем стало, возможно, наиболее важным эволюционным преимуществом. Новый способ существования предотвращал частые перемещения и предлагал другой способ выживания, основанный на накоплении излишков. Процесс был саморасширяющимся: попытка манипуляции еще большей долей потоков солнечной энергии вывело общества на путь к еще более высокой сложности.
Примечание 2.8. Китобои Аляски
Менее чем за четыре месяца прибрежной охоты на гладкого кита, чьи пути миграции проходят вдоль берега Аляски, люди в умиаках (лодки из плавучего дерева или китовой кости, обтянутые тюленьей шкурой и вмещающие до восьми человек) добывают пропитание для поселений, в которых до контакта с европейцами обитало до 2600 человек (Sheehan 1985; NcCartney 1995). Крупнейшие взрослые киты могут весить до 55 тонн, но даже самые обычные двухлетние животные достигают 12 тонн. Высокая плотность энергии ворвани (около 36 МДж/ кг) и муктука (кожа и ворвань, в которой также содержится витамин С в количестве, сравнимом с тем, что есть в грейпфруте) обеспечивает выигрыш энергии более чем в 2000 раз.
Не такую большую, но все равно замечательно высокую отдачу энергии дает эксплуатация ежегодного нереста лососевых прибрежными племенами тихоокеанского северо-запада. Плотность рыбы, идущей вверх по течению, порой столь высока, что рыбаки могут просто вычерпывать ее в лодки или на берег. Столь высокая энергоотдача позволяет существовать крупным постоянным поселениям, характеризующимся социальной сложностью и наличием искусства (большие деревянные тотемы). Окончательные пределы росту населения этих прибрежных поселков устанавливала необходимость охотиться на другие виды морских животных. и эксплуатировать участок земли, чтобы добывать материалы для одежды, строительства и охотничьего снаряжения.
Хотя наше понимание эволюции гоминин значительно улучшилось за последние два поколения, ключевые моменты остаются не проясненными: вопреки всем популярным утверждениям по поводу пользы палеолитической диеты, мы все еще не можем восстановить репрезентативную структуру питания досельскохозяйс-твенной эпохи. Это совсем не удивительно (Henry, Brooks and Piperno 2014). Быстро разлагающиеся остатки растительной пищи очень редко сохраняются на десятки тысяч лет и почти никогда – на миллионы, поэтому исключительно трудно определить долю растений в типичном рационе. Кости сохраняются чаще, но их залежи могут остаться не только от гоминин, но и от хищников, что нужно тщательно отличать, и даже если это сделать, то невозможно понять, насколько репрезентативны они для конкретного рациона питания.
Как отмечают исследователи (Pryor and co-workers 2013), широко распространенный образ обитателей верхнего палеолита Европы как умелых охотников на крупных млекопитающих, населявших большей частью безлесные ландшафты, базируется на плохой сохранности растительных останков на древних стоянках. Работа упомянутых авторов показала, что потенциал таких стоянок в том, что касается макроокаменелостей растений, съеденных людьми, недооценивался и что «способность эксплуатировать растительные источники пищи могла быть важным компонентом в успешной колонизации холодных экосистем Европы» (Pryor et al. 2013, 971). Другие ученые (Henry, Brooks and Piperno 2014) анализировали микроостатки растений – крахмальные зерна и фитолиты, – сохранившиеся в зубном кальции и на каменных орудиях, после чего сделали вывод, что и анатомически современные люди, и их соседи неандертальцы употребляли в пищу разнообразные растения, включая корневища и семена.
Изменения размеров и массы тела, а также строения черепа (грацилизация челюстного аппарата) косвенным образом указывают на основной рацион питания и могут быть вызваны различными сочетаниями видов пищи. Находки каменных инструментов, используемых для убийства и разделки животных, нельзя прямо связать со средним потреблением мяса на человека в широкие периоды времени. Поэтому только прямые показатели изотопного анализа (пропорция 13С/12С и 15N/14N) обеспечивают точные сведения по поводу долгосрочных источников белка, их трофического уровня, а также происхождения (наземного или морского). Этот же способ помогает различить фитомассу, синтезированную двумя принципиально разными способами (С3 и С4), и гетеротрофные организмы, питающиеся такой фитомассой. И все это вместе дает нам сведения о базовом содержании рациона. Но даже подобные исследования нельзя трансформировать в надежные паттерны потребления питательных веществ (углеводов, протеинов, липидов). Все же мы можем сделать вывод, что в граветтский период в Европе мясо было главным источником протеина в пище и морские виды вносили около 20 % от общего количества, а в прибрежных местностях даже больше (Hublin and Richards 2009).
Прежде чем завершить тему энергии в жизни древних людей, я должен заметить, что охота и собирательство продолжали играть важную роль во всех ранних сельскохозяйственных обществах. В Чатал-Гуюке, большом неолитическом сельскохозяйственном поселении в Турции, которое датируется примерно 7200 д. н. э, жители питались в основном семенами и дикими растениями, но при раскопках находят и кости животных от диких быков до лис, барсуков и зайцев (Atalay and Hastorf 2006). В Тель Абу-Хурейра в северной Сирии охота оставалась важным источником пищи через тысячу лет после начала одомашнивания растений (Legge and Rowley-Conwy 1987). Египет до фараонов (ранее 3100 года до н. э.) мог похвастаться выращиванием двузерной пшеницы и ячменя, но население также охотилось на водоплавающих птиц, антилоп, диких свиней и слонов (Hartmann 1923; Janick 2002).
Истоки сельского хозяйства
Почему некоторые охотники и собиратели обратились к сельскому хозяйству? Отчего эта новая практика распространилась так широко, и почему ее освоение происходило, в эволюционных понятиях, невероятно быстрыми темпами? Эти важнейшие вопросы можно просто обойти, согласившись с теми исследователями (Rindos 1984), которые утверждают, что сельское хозяйство не имеет единственной причины возникновения, а появилось в результате множества связанных друг с другом факторов. Или, как изложено у другого ученого (Bronson 1977, 44): «То, с чем мы имеем дело – сложная, многоликая адаптивная система, и в случае человеческих адаптивных систем… единственной всемогущей «причины» не может существовать». Но многие антропологи, экологи и историки пытались найти именно такие первичные причины, и существует множество публикаций, в которых изложены различные гипотезы по поводу истоков сельского хозяйства (Cohen 1977; Pryor 1983; Rindos 1984; White and Denham 2006; Gehlsen 2009; Price and Bar-Yosef 2011).
Подавляющее количество доказательств эволюционного значения сельскохозяйственного прогресса позволяет ограничить круг гипотез. Наиболее убедительное объяснение истоков сельского хозяйства связано с критериями роста популяции и стрессового воздействия окружающей среды: переход к постоянному земледелию был вызван одновременно и природными, и социальными факторами (Cohen 1977). Во времена позднего палеолита климат был слишком холодным, а уровень CO2 слишком низким, а затем условия изменились и наступило потепление. На этом основании некоторые исследователи (Richerson, Boyd and Bettinger 2001) доказывали, что сельское хозяйство было невозможно в плейстоцене, но стало почти обязательным в голоцене. Такой аргумент подкреплялся фактом, что между 10 и 5 тысячами лет назад земледелие эволюционировало независимо как минимум в семи местах на трех континентах (Armelagos and Harper 2005).
В основе своей культивация растений – это попытка обеспечить адекватное поступление пищи, и поэтому истоки сельского хозяйства могут быть полностью объяснены с точки зрения энергетических императивов. Уменьшение энергоотдачи от собирательства и охоты ведет к постепенному расширению культивации растений, что прослеживается во многих примитивных обществах. Как уже отмечалось, охота и собирательство и сельское хозяйство сосуществовали в разных пропорциях долгие периоды времени. Ни одно разумное объяснение возникновения сельского хозяйства не может игнорировать его социальные преимущества. Оседлое земледелие – эффективный способ, с помощью которого много людей могли оставаться вместе; это облегчало существование больших семей, накопление материальной собственности, организацию защиты и нападения.
Некоторые исследователи (Orme 1977) даже пришли к выводу, что производство пищи могло быть в конечном итоге неважно само по себе, но, без сомнения, и происхождение, и распространение сельского хозяйства имело важнейшие социальные побочные факторы. Любое упрощенное объяснение процесса с точки зрения энергии не согласуется с тем фактом, что полезная энергоотдача раннего сельского хозяйства была часто ниже, чем у современных ему практик охоты и собирательства. Раннее сельское хозяйство требовало от человека больших энергетических затрат, но зато оно могло поддерживать высокую плотность популяции и создавать более надежный источник пищи. Это объясняет, почему столь многие общества охотников и собирателей часто вели обширную торговлю с соседями-земледельца-ми на протяжении по меньшей мере сотен лет до того, как сами перешли к сельскому хозяйству (Headland and Reid 1989).
Не обнаружено единственного центра одомашнивания, откуда сельскохозяйственные растения, молочные и мясные животные распространились бы по миру, но в Старом Свете наиболее важным регионом с точки зрения возникновения сельского хозяйства оказался не Южный Левант, как считали ранее, а скорее верховья рек Тигр и Евфрат (Zeder 2011). Отсюда вывод, что производство пищи началось на границах, а не в центре оптимальных для этого зон. Ботанические сведения из Чогха-Голан у подножья гор Загрос в Иране обеспечили нам самые свежие доказательства этой гипотезы (Riehl, Zeidi and Conard 2013): культивация дикого ячменя (Hordeum spontaneum) началась здесь около 11,5 тысяч лет назад, а позже люди стали выращивать также дикую пшеницу и хлопок.
Здесь важно подчеркнуть, что нет очевидных барьеров или четкого разделения между охотой и собирательством и сельским хозяйством, поскольку долгие периоды упорядоченной работы с растениями и животными предшествовали их полному одомашниванию, которое можно отследить по четким морфологическим изменениям. В противоположность более ранним мнениям, сейчас считается, что одомашнивание растений и животных происходило почти параллельно и очень быстро дало результат (Zeder 2011). Самые ранние примерные даты первого одомашнивания определяют в 11,5-10 тысяч лет назад для таких видов растений, как пшеница-двузернянка (Triticum dicoccum), полба-однозернянка (Triticum monococcum) и ячмень (Hordeum vulgare) на Ближнем Востоке (рис. 2.4), 10 тысяч лет для китайского проса (Setaria italica), 7 тысяч лет для риса (Oryza sativa), 10 тысяч лет для мексиканской тыквы (Cucurbita), 9 тысяч лет для кукурузы (Zea mays), и 7 тысяч лет для андского картофеля (Solanum tuberosum; Price and Bar-Yosef 2011). Приручение животных датируется 10,5–9 тыс. лет назад, началось оно с коз и овец, за ними последовали крупный рогатый скот и свиньи.
Рисунок 2.4. Самые первые одомашненные злаки: пшеница-двузернянка (Triticum dicoccum), полба-однозернянка (Triticum monococcum) и ячмень (Hordeum vulgare). Они были основой возникновения сельского хозяйства на Ближнем Востоке
Два главных объяснения неолитического перехода к сельскому хозяйству в Европе сводились к подражанию соседям (культурная диффузия) или к перемещению социальных групп (переселение народов). Радиоуглеродный метод исследования материала из ранних неолитических стоянок (Pinhasi, Fort and Ammerman 2005) дал результаты, сообразующиеся с расселением, которое началось, по всей вероятности, из Северного Леванта и Месопотамии и распространялось на северо-запад со средней скоростью 0,6–1,1 км/год. Такой вывод поддерживается сравнением митохондриальной последовательности ДНК поздних охотников и собирателей Европы, первых земледельцев того же региона и современных европейцев: оно убедительно показало, что первые земледельцы не были потомками местных охотников и собирателей, но прибыли на эти земли в неолите (Bramanti et al. 2009).
Раннее сельское хозяйство часто принимало форму подсечно-огневого земледелия (Allan 1965; Spencer 1966; Clark and Haswell 1970; Watters 1971; Crigg 1974; Okigbo 1984; Bose 1991; Cairns 2015). При такой практике чередуют сравнительно короткие периоды (1–3 года) возделывания с по-настоящему долгими периодами «пара» (десятилетие или более). Несмотря на множество отличий (обусловленных экосистемами, климатом, базовыми злаками), имелось и большое сходство, очевидно, вызванное стремлением минимизировать энергетические затраты. Цикл начинался с ликвидации естественной растительности: часто было достаточно ее вырубить или сжечь, чтобы подготовить почву для засевания. Чтобы сократить дистанции для ходьбы, поля или сады размещали так близко к поселению, как только возможно, и предпочитали убирать вторичную поросль. Например, только один из 381 сада племени цембага (Новая Гвинея) был расчищен в девственном лесу (Rappaport 1968). Некоторые участки огораживали, чтобы защитить от животных, в этом случае рубка деревьев на изгородь требовала максимальных вложений энергии. Азот растений большей частью расходовался при сгорании, но минеральные вещества обогащали почву.
Мужчины выполняли тяжелую работу (при отсутствии хороших инструментов растительность просто сжигали; некоторые деревья срубали, чтобы сделать забор), а женщины в основном занимались прополкой и сбором урожая. В таких условиях злаки и клубни были главными продуктами благодаря их сравнительно высоким урожаям (Rappaport 1968). Во всех теплых регионах активно использовался подсев, особенно в интенсивно обрабатываемых садах; совмещение культур и дифференцированный сбор урожая. Подсечно-огневое земледелие играло важную роль на всех континентах, за исключением Австралии. В Южной Америке обнаруживаются отметки, оставленные этой практикой (большей частью между 500 годом до н. э. и 1000 годом н. э) в бассейне Амазонки, в форме terra preta, черной почвы глубиной до двух метров, содержащей куски обгорелого дерева и остатки злаков, человеческих отходов и костей (Glaser 2007; Junqueira, Shepard and Clement 2010). В Северной Америке такое земледелие практиковали на севере до Канады, где гуроны выращивали кукурузу и бобы в длинных (35–60 лет) циклах севооборота, что позволяло им кормить население в 10–20 человек с гектара (Heindenreich 1971).
В регионах с низкой плотностью населения, где земли было в достатке, эта практика лишь частично сопровождала эволюционный переход от охоты и собирательства к земледелию. Уменьшающееся количество земли, деградация окружающей среды и потребность во все более тщательной обработке почвы постепенно снижали важность подсечно-огневого земледелия. Полезная энергоотдача при этом варьировалась очень широко. Садоводческая культура цембага в нагорьях Новой Гвинеи давала примерно 16-кратную энергоотдачу (Rappaport 1968). Другие исследования на том же острове определяли энергоотдачу не выше чем 6-10 раз (Norgan et al. 1974), но выращивание кукурузы у майя (Гватемала) обеспечивало как минимум 30-кратный возврат энергии (Carter 1969). Большей частью значения колебались от 11–15 для маленьких злаков до 20–40 для клубней, бананов и кукурузы, и достигали максимума, близкого к 70, для некоторых корней и бобовых (примечание 2.9). Потребность в пище одного человека удовлетворяли чаще всего 2-10 га земли, которую требовалось периодически расчищать, с реально обрабатываемой площадью от 0,1 до 1 га на человека. Даже умеренно продуктивное подсечно-огневое земледелие поддерживало плотность населения на порядок выше, чем лучшая практика охоты и собирательства.
Где из-за недостатка осадков или их долгого сезонного отсутствия земледелие становилось малопродуктивным или невозможным, эффективной альтернативой было пастбищное животноводство (Irons and Dyson-Hudson 1972; Galaty and Salzman 1981; Evangelou 1984; Khazanov 2001; Salzman 2004). Управляемый выпас был энергетическим основанием множества обществ Старого Света, и хотя некоторые из них оставались бедными и изолированными, другие вошли в число самых ужасных завоевателей в нашей истории: хунну много столетий угрожали Китаю, а монгольское вторжение докатилось в 1241 году до Польши и Венгрии.
Примечание 2.9. Энергетические затраты и плотность населения при подсечно-огневом земледелии
Затраты полезной энергии использовались для расчета энергоотдачи подсечно-огневого земледелия. Я предполагаю, что средние трудозатраты требовали 700 кДж/ч. Объем пригодного в пищу урожая не корректировался с учетом потерь при хранении и посевных потребностей.
Источники: рассчитано по данным из Conklin (1957), Allan (1965), Rappaport (1968), Carter (1969), Clark and Haswell (1970), Heidreinch (1971), Thrupp and co-workers (1997) и Goomed, Girmand and Burt (2000).
Животноводство – это форма сохранения добычи, стратегия отложенного получения пищи, излишки которой выше для больших животных, особенно для крупного рогатого скота (Alvard and Kuznar 2001). Но благодаря более высокой скорости размножения, овец и коз можно назвать лучшими объектами для одомашнивания. Животные могут превращать траву в молоко, мясо и кровь при замечательно низких затратах человеческой энергии (рис. 2.5). Труд пастуха включает выпас, охрану стада от хищников, обеспечение животных водой, регулярное доение и время от времени – забой, а в некоторых случаях – создание временных убежищ. Плотность популяции общества, живущего таким образом, не выше, чем у охотников-собирателей (примечание 2.10).
Рисунок 2.5. Пастух масаи со своим скотом (Corbis)
Тысячелетиями кочевые пастухи преобладали в некоторых районах Европы и Среднего Востока и на обширных пространствах Африки и Азии. На всех этих территориях иногда имел место агропасторализм, полукочевая смесь земледелия и животноводства, особенно в Африке, где кроме этого практиковали также охоту и собирательство. Территории кочевников часто граничили с более продуктивными земледельческими поселениями, и кочевые племена обычно зависели от обмена с оседлыми обществами. Многие кочевники существовали в своих закрытых сообществах и мало воздействовали на остальной мир. Но некоторые группы оказали громадное влияние на всю историю Старого Света постоянными вторжениями и даже подчинением сельскохозяйственных обществ (Grousset 1938; Khazanov 2001). Кочевники-пастухи и агропасторалисты встречаются даже в наши дни – больше всего их в Центральной Азии и в Африке, в районе Сахеля и на востоке континента; но это уже маргинальный способ существования.
Примечание 2.10. Кочевое скотоводство
Исследования показали (Helland 1980), что в пастушьих обществах затраты труда низки, так как большое количество необходимого для выживания скота пасет один-единственный человек, например в Восточной Африке: до 100 верблюдов, 200 коров, 400 овец и коз. Другой ученый (Khazanov 1984) приводит схожие большие числа для азиатских скотоводов: два верховых пастуха для 2000 овец в Монголии, взрослый пастух и мальчик для 400–800 коров в Туркмении. Именно низкие трудовые затраты были одной из важнейших причин того, что многие скотоводы с такой неохотой отказывались от кочевого образа жизни, чтобы перейти к оседлому земледелию. В результате кочевые общества поколениями существовали в качестве соседей оседлых земледельцев и оставляли свое занятие только после опустошающей засухи или значительного сокращения доступных пастбищ.
Минимальный объем стада для животноводства (на душу населения) – 5–6 голов крупного рогатого скота, около 3 верблюдов или 25–30 коз или овец. Более высокие цифры среди сохранивших традиционный образ жизни масаи (15–16 голов на человека) объясняются минимальными требованиями по сбору крови (путем прокола растянутой яремной вены): 2–4 литра каждые 5–6 недель. Во время периодов засухи стадо из 80 коров необходимо, чтобы обеспечить кровью семью из 5–6 человек, то есть 13–16 животных на человека (Evangelou 1984). Во всех случаях плотность кочевой популяции низка по сравнению с оседлыми земледельцами в Восточной Африке большей частью между 0,8 и 2,2 чел./км2 и 0,03-0,14 голов/га (Helland 1980; Homewood 2008).
3. Традиционное сельское хозяйство
Если переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству нельзя объяснить исключительно энергетическими императивами, эволюцию самого сельского хозяйства можно рассматривать как непрерывные усилия по повышению плодородия почвы (повышение объема пригодной для усвоения энергии), чтобы прокормить растущее население. Даже в пределах таких узких рамок важные соображения, не относящиеся к энергии (такие как адекватное потребление микронутриентов, витаминов и минералов), не следует упускать, но, так как питание во всех традиционных сельскохозяйственных обществах почти целиком вегетарианское, мы можем с полным правом говорить только об энергии, сосредоточенной в базовых злаках, и в зерне в особенности.
Только зерно сочетает значительные урожаи – изначально лишь около 500 кг/га, и в конечном итоге, в наиболее продвинутых традиционных обществах, более 2 т/га – с высоким содержанием легко перевариваемых углеводов и умеренно высоким содержанием белков (некоторые, в особенности кукуруза, имеют значительное количество жиров). Энергетическая плотность спелых злаков (15–16 МДж/кг) примерно в пять раз выше, чем у свежих клубней, а содержание влаги после сушки на открытом воздухе достаточно низкое, что обеспечивает долговременное хранение (в сосудах в доме, или в больших масштабах – в амбарах). Базовые злаки быстро созревают – традиционные культуры за 100–150 дней – поэтому можно увеличить продуктивность, введя годовую ротацию с другими растениями (большей частью масличными и бобовыми) или двойной севооборот.
Кое-кто из ученых (Boserup 1965, 1976) предлагает концепцию, в которой связь между энергией пищи и эволюцией сельскохозяйственных обществ представляется как вопрос выбора. Как только отдельная сельскохозяйственная система достигает пределов продуктивности, люди могут решить мигрировать, остаться и стабилизировать свою численность, остаться и позволить численности уменьшиться… или освоить более эффективный способ ведения хозяйства. Последняя опция не обязательно более привлекательная или более вероятная, чем другие, и переход к ней часто откладывается или совершается неохотно, поскольку такой сдвиг почти неизбежно требует высоких затрат энергии – в большинстве случаев как труда человека, так и животных. Увеличенная продуктивность позволит прокормить большее население при обработке той же самой (или даже меньшей) территории, но возврат полезной энергии может не то что не вырасти, а даже уменьшиться.
Нежелание расширять постоянно обрабатываемые земли (выбор, который влечет за собой более высокие энергетические вложения для вырубки девственного леса, осушения болот или создания террасированных полей) ведет к тому, что неудобные пространства остаются невостребованными очень долго. Деревни в Европе эпохи Каролингов были перенаселены, и зерна постоянно не хватало, однако новые поля, к примеру, в Германии и Фландрии создавались редко и только там, где их легко обрабатывать (Duby 1968). Средневековая Европа видела волны германских крестьян, катящиеся из густонаселенных западных регионов, чтобы освоить новые земли на лесистых или травянистых просторах Богемии, Польши, Румынии и России, которые не интересовали местных. Схожим образом Китай начал колонизацию плодородного, но холодного северо-востока (Маньчжурия) только в XVIII веке. Даже сейчас обработка земли на окраинных островах Индонезии ведется с малой интенсивностью, если сравнить с густонаселенной Явой. И везде требовались тысячелетия для перехода от обычного севооборота к двухпольному, а затем и к трехпольному.
Несмотря на многочисленные различия в практиках земледелия и в выращиваемых злаках, все традиционные сельскохозяйственные общества имели одни и те же энергетические основания. Они существовали благодаря фотосинтетическому превращению солнечной энергии, дающему возможность вырастить пищу для людей и животных, использовали биологические отходы для повышения плодородия почвы, а топливо для плавки металлов, необходимых для создания простых инструментов. Таким образом, традиционное сельское хозяйство можно было бы считать полностью возобновляемым. На самом деле оно часто сопровождалось истощением накопленных запасов энергии, в первую очередь на ранних стадиях, когда новые поля создавались после расчистки девственного леса. В любом случае, все мероприятие опиралось на быструю конверсию потоков солнечной энергии (с типичными задержками, варьирующимися от нескольких месяцев в случае собирания урожая до нескольких десятилетий в случае вырубки взрослых деревьев).
Но даже когда поля возникали на травянистых равнинах (что обеспечивало куда меньшую потерю запасенной фитомассы), возобновляемость не была гарантией надежности. Неудачная агрономическая практика снижала плодородие почвы или вызывала эрозию и опустынивание, результатом чего становилось уменьшение урожаев и даже невозможность дальнейшей обработки земли. В большинстве регионов традиционное сельское хозяйство развивалось от экстенсивной к интенсивной культивации: его первичные движители – мускулы человека и животных – оставались неизменными на протяжении тысячелетий, но практики выращивания растений, способы обработки земли и организация труда менялись в значительной степени. Поэтому история традиционного сельского хозяйства отмечена одновременно постоянством и изменчивостью.
Растущая интенсификация земельных работ поддерживала все более высокую плотность населения, но и требовала все больших энергетических затрат, не только на виды деятельности, прямо связанные с растениеводством, но и на столь важные мероприятия как рытье колодцев, строительство оросительных каналов, дорог, хранилищ разного рода и террасирование полей. Для этих улучшений требовалось больше энергии, чтобы создавать более широкий набор инструментов и простых машин, приводимых в движение животными, водой или ветром. Более интенсивная культивация опиралась на труд животных как минимум для вспашки, обычно до сих пор самой энергетически затратной из полевых работ. Америка была заметным исключением: ни обитатели Мезоамерики, ни инки, растившие картофель и кукурузу в Андах, не имели тягловых животных. В свою очередь, одомашнивание животных требовало более интенсивной обработки земли, поскольку им нужен корм. Животные использовались для обмолачивания и помола зерна и были незаменимы для перевозки продуктов. Содержание, кормление и разведение животных, а также производство упряжи, подков и сельскохозяйственных приспособлений добавили новую область необходимых для сельского хозяйства умений.
Но не все шаги по направлению к интенсивному сельскому хозяйству были столь энергозатратны, как использование нескольких базовых культур, которое требует постоянного труда для посадки и сбора урожая; как увеличение роли более сильных тягловых животных и, следовательно, необходимость отводить все больше земли на выращивание фуража; или как потребность в создании и поддержании ирригационных систем, а это тяжелая и бесконечная работа. Используя механическую аналогию: некоторые перемены давали возможность обуздать большую долю доступного фотосинтетического потенциала, но и включали открытие критических неэнергетических вентилей, которые ранее останавливали существующие потоки или предотвращали их трансформацию в съедобную фитомассу.
Доступность азота, ключевого питательного вещества для растений, возможно, является наиболее важным примером этого эффекта, и ротация бобовых, которые обогащают почву азотом, со злаками и клубнями, увеличивала продуктивность обработки земли и давала определенные агроэкосистемные преимущества. Схожим образом, прогресс в устройстве ирригационных систем и посев новых растений помогали получить большие урожаи. В свою очередь, более интенсивное растениеводство не только приносило энергетические выгоды (больше пищи и корма), но также способствовало общему развитию доиндустриальных цивилизаций, поскольку требовало долговременного планирования, долгосрочных инвестиций, более высокого уровня организации труда, социальной и экономической интеграции.
Конечно, не каждая форма интенсификации в сельском хозяйстве требовала централизованной организации и контроля. Копать короткие, мелкие оросительные каналы или колодцы, строить небольшие террасы было под силу нескольким крестьянским семьям или деревням. Но при больших масштабах такой деятельности не обойтись без иерархической координации и управления. Необходимость в более мощных источниках энергии для обработки большего количества зерна и масличных семян для растущих городов была важным стимулом для развития первых заменителей человеческих и животных мускулов, для использования потоков воды и ветра при помоле зерна и выдавливании масла из семян. Тысячелетия эволюции сельского хозяйства привели к появлению широкого набора способов действия и уровней продуктивности в пределах разделяемых всеми агрономических практик и общих энергетических императивов.
Первичные общие практики включали базовые операции, как в поле, так и с собранным урожаем, широко распространенную опору на злаковые и последовательность циклов производства, определяемых большей частью условиями окружающей среды. Четыре главных шага в сторону интенсификации традиционного сельского хозяйства: более эффективное использование труда животных, развитие ирригации, применение удобрений, севооборот и одновременное выращивание нескольких культур. Несмотря на ограничения, накладываемые внешней средой и уровнем технологии, традиционное сельское хозяйство могло поддерживать плотность населения на порядки выше, чем практически во всех социумах охотников-собирателей. Сравнительно рано в сельскохозяйственных обществах стали появляться излишки энергии, которые позволили изначально малому, но все время растущему числу взрослых отвлекаться на виды деятельности, не связанные с сельским хозяйством, что в конечном итоге привело к возникновению сильно диверсифицированных и стратифицированных доиндустриальных обществ. Лимиты производительности традиционного сельского хозяйства упали, только когда началось широкое использование ископаемого топлива, энергия которого позволила сделать сельскохозяйственный труд лишь небольшой частью общих трудозатрат, и это привело к зарождению современных высокоэнергетичных городских обществ.
Общие и разные практики
Процесс выращивания злаков задает определенный шаблон последовательности полевых работ. Культивация одинаковых растений ведет к изобретению или освоению очень похожих агрономических практик, инструментов и простых машин. Некоторые из этих инноваций появились рано, распространились быстро, а потом сохранялись по большей части неизменными на протяжении тысячелетий. Другие изобретения оставались долгое время привязанными к регионам возникновения, но затем, единожды распространившись, подвергались быстрому усовершенствованию. Серп и цеп принадлежат к первой категории, а отвальный плуг из железа и сеялка – ко второму. Инструменты и простые машины облегчали полевые работы (то есть давали механическое преимущество), позволяли выполнять их быстрее, увеличивали продуктивность, что давало возможность меньшему количеству людей вырастить больше еды, и возникший в результате энергетический избыток мог быть вложен в другие действия. Без серпа и плуга не было бы готических соборов или эпохи Великих географических открытий. Я сначала коротко перечислю полевые операции, инструменты и простые машины, а затем опишу доминирование злаковых культур и особенности сельскохозяйственного цикла.
Работа в поле
Традиционное хозяйство по большей части требовало напряженной работы, но периоды тяжелого труда обычно сменялись периодами, когда активность резко снижалась – паттерн существования, совершенно отличный от постоянной нагрузки охотников и собирателей. Переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству оставил четкие физические свидетельства в наших костях. Оценка скелетов примерно 2000 человек в Европе, живших на протяжении 33 тысяч лет, от верхнего палеолита до XX века, показала уменьшение сопротивления на изгиб у костей ног по мере того, как наши предки переходили ко все более оседлому образу жизни (Ruff et al. 2015). Процесс завершился примерно два тысячелетия назад, и с тех пор данный параметр не менялся, несмотря на то что производство еды стало куда более механизированным. Это доказывает, что переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству, от кочевого образа жизни к оседлости был на самом деле эпохальным в человеческой эволюции.
Время полевых работ в традиционном сельском хозяйстве диктовали императивы окружающей среды, их требования подчеркивались в De agri cultura, старейшем из сохранившихся до нашего времени сборников советов по растениеводству. Написал его Марк Порций Катон во II веке до н. э., и в тексте есть такие слова: «Следи за тем, чтобы все полевые работы совершались вовремя, поскольку дело здесь обстоит так: если ты опоздал в чем-то одном, то ты опоздал во всем». Посев тысячелетиями выполнялся вручную, но все другие полевые работы требовали инструментов, ассортимент которых расширялся со временем, и хотя существовали достаточно ранние образцы сельскохозяйственных машин, они начали распространяться только при наступлении Нового времени (1500–1800).
Обзоры традиционных сельскохозяйственных инструментов, упряжи и механизмов доступны в книгах, посвященных истории сельского хозяйства отдельных регионов и стран. Эти книги я буду цитировать в данной главе, а за подробностями можно обратиться к следующим работам: White (1967) для Римского мира, Fussell (1952) и Morgan (1984) для Британии, Lerche (1994) для Дании, Ardey (1894) для США и Bray (1984) для Китая. Я использовал все эти источники, описывая важные приспособления и ключевые практики культивации, а также их прогресс; упряжь для животных будет представлена в разделе, посвященном традиционной тягловой мощности.
Во всех высоких культурах Старого Света цикл работ начинался со вспашки. Словами классического китайского трактата: «Ни царь, ни правитель государства не может освободить от этого». Необходимость вспашки отражена в древней письменности. В шумерской клинописи и в числе египетских иероглифов имелись особые знаки для плугов (Jensen 1969). Вспашка готовит землю к посадке намного более тщательным образом, чем обработка мотыгой: плуг вспарывает слежавшиеся слои земли, разрывает корни сорняков, так что после него остается рыхлая, хорошо аэрированная почва, в которой могут расти и развиваться семена. Первые примитивные плуги были широко распространены в Месопотамии после 4000 года до н. э., и они представляли собой остроконечные куски дерева с рукояткой.
Позже наконечники стали оковывать металлом, но столетиями они оставались симметричными (отбрасывали землю на обе стороны) и очень легкими. Такие простые плуги, которые проделывали неглубокую борозду для семян, а срезанные сорняки оставляли на поверхности, были основой как греческого, так и римского земледелия (aratrum по латыни). Они использовались на обширных пространствах Ближнего Востока, Африки и Азии вплоть до двадцатого века в беднейших регионах, и тянули их люди. Только в самой легкой песчаной почве такая работа была быстрее, чем обработка земли мотыгой (Bray 1984). Присоединение к плугу отвала до нашего времени остается наиболее важным его усовершенствованием. Отвал направляет вспаханную почву в одну сторону, переворачивает ее (частично или целиком), погребая под ней срезанные сорняки, и освобождает дно борозды. Благодаря отвалу появилась возможность обработать поле за один проход, а не идти второй раз поперек, как требовали плуги без отвала. Вначале отвалы были простыми кусками дерева, но уже до первого века до н. э. в Китае придумали изогнутые металлические пластины, присоединяемые к лемеху (рис. 3.1).
Рисунок 3.1. Эволюция изогнутых плугов с отвалом. Традиционный китайский плуг (сверху) имел небольшой, но плавно изогнутый отвал из нехрупкого чугуна. Тяжелый европейский плуг Средневековья, прикрепленный к тележке (снизу слева), имел остроконечный нож перед сошником, чтобы резать корни. Эффективный американский лук-балка (снизу справа) мог похвастаться тем, что сошник и отвал у него соединялись в слегка изогнутый треугольник из стали. Источники: Hopfen (1969), Diderot and D'Alembert (1769–1772) uArdey (1894)
Тяжелые плуги средневековой Европы имели деревянный отвал и нож, который, собственно, и резал почву, прикрепленный спереди к лемеху из кованого железа. Во второй половине XVIII века западные плуги все еще сохраняли тяжелые деревянные колеса, но зато у них появился изогнутый отвал из железа (рис. 3.1). Такие плуги с отвалом стали общими для Европы и Северной Америки только с появлением недорогой стали, которую начали получать с изобретением бессемеровского процесса в 1860-х, а вскоре и в куда больших количествах с помощью мартеновских печей (Smil 2016) (рис. 3.1). В большинстве почв вспашка оставляет после себя сравнительно большие комья, которые необходимо разбить перед началом посева. Все это можно сделать мотыгой, но очень медленно и очень трудозатратно. Именно по этой причине бороны использовались в тех культурах, где издавна применялся плуг. Их эволюция началась с примитивных щеточных борон и привела к появлению деревянных или металлических рам, к которым крепились деревянные колышки или металлические зубцы или диски. Перевернутые бороны или катки часто использовали для того, чтобы разровнять поверхность еще лучше.
После вспашки, боронения и выравнивания земля была готова для посева. Хотя сеялки использовались в Месопотамии как минимум за 1300 лет до н. э., а сеющие плуги применялись при династии Хань в Китае, ручной посев – очень затратный и неравномерный – оставался широко распространенным в Европе до XIX века. Простые сеялки, которые из емкости, прикрепленной к плугу, направляли зерно по трубке, начали распространяться в конце XVI века, поначалу в Северной Италии. Довольно скоро с помощью многочисленных дальнейших усовершенствований они превратились в сложные сеющие машины. Междурядная обработка растущих злаков производилась обычно с помощью мотыги. Навоз и другие органические отходы доставляли на поля в тележках, в деревянных цистернах или в ведрах, висящих на коромысле – общая практика для Восточной Азии. Затем отходы вкапывали или разливали по грунту.
Серп был первым инструментом для жатвы, который заменил короткие каменные резаки, какие использовали во многих обществах охотников и собирателей. Большие косы с режущей поверхностью длиной до полутора метров были известны в Римской Галлии (Tresemer 1996; Fairlie 2011). Серпы делали зазубренными (более старый вариант) или гладкими, полукруглыми, прямыми или слегка изогнутыми. Работа с их помощью двигалась медленно, поэтому для больших участков земли предпочитались косы, оснащенные рамой для сбора семян (рис. 3.2). Но при жатве с помощью серпа теряется меньше зерна, чем при использовании косы, и этот инструмент всегда применяли в Азии для легко рассыпающегося риса. Механические жатки пришли на американские и европейские поля только в начале XIX века (Aldrich 2002). Снопы доставляли домой на собственной голове и плечах, в корзинах, повешенных на коромысло – опять же на себе или на животных, в тачках и телегах, которые толкали или тащили люди или тягловые животные.
Рисунок 3.2. Серп и косы из французской «Энциклопедии» (Diderot and D'Alembert (1769–1772). Простая коса справа использовалась для борьбы с травой, коса с рамой слева – при жатве злаковых. На рисунке представлены инструменты для выправления и заточки кос, а также грабли и вилы. Нижние иллюстрации показывают жатву в Америке XIX века – с помощью серпа и косы с рамой
Значительное количество энергии уходило на обработку зерна. Его рассыпали на поверхности для обмолота, а затем работали палками или цепами, снопы бросали на специальные решетки или протаскивали через особые гребни. Животные использовались, чтобы ходить по рассыпанному зерну или протаскивать по нему тяжелые салазки или катки. До того как появились коленчатые вентиляторы, веяние, то есть отделение мякины и грязи от зерна, производилось вручную с помощью корзин и решета. Тяжелый ручной труд также требовался, чтобы смолоть зерно – до того, как начали использовать животных, воду и ветер, чтобы механизировать эту задачу. Масло извлекали из семян ручными прессами (иногда к ним «подключали» животных), и так же поступали с тростником, чтобы получить сироп.
Господство зерновых
Хотя все традиционные сельскохозяйственные общества выращивали разнообразные зерновые, масличные, кормовые и текстильные культуры, описанная последовательность общих для всех полевых работ выполнялась именно при культивации зерновых. Помимо вспашки, преобладание хлебных злаков было определенно наиболее общей чертой всех сельскохозяйственных культур Старого Света. Лишенные плугов культуры Мезоамерики в своем хозяйстве делали упор на кукурузу, и даже инки были только частичным исключением: на возвышенностях и крутых горных склонах они выращивали много разновидностей картофеля, но в низинах – кукурузу, а на альтиплано Анд – зерно киноа (Machiavello 1991). Последнее культивировалось с помощью chaki taklla, ножного плуга, состоящего из шеста с острым загнутым наконечником и перекладины, на которую давили ногой, чтобы получилась борозда.
Многие злаки имели только локальное или региональное значение, то же киноа, только недавно включенное в диету западных вегетарианцев, но основные виды постепенно распространились по миру из районов происхождения: пшеница с Ближнего Востока, рис из Юго-Восточной Азии, кукуруза из Мезоамерики, просо из Китая (Vavilov 1951; Harlan 1975; Nesbitt and Prance 2005; Murphy 2007). Исключительным значением зерновые обязаны комбинации эволюционных изменений и энергетических императивов. Охотники и собиратели добывали большое количество разных растений и, в зависимости от эксплуатируемой экосистемы, клубни или семена обеспечивали их наибольшим объемом энергии пищи. В оседлых обществах роль клубней как базовой еды оказалась ограничена.
Содержание воды в только что собранных клубнях слишком велико, чтобы они могли долго храниться в отсутствие эффективного контроля температуры и влажности. Даже если эта задача решена, клубни требуют куда больше места для хранения, а это имеет значение особенно в высоких широтах (или на больших высотах), где холодный сезон длится долго и запасы нужны большие. Общества высокогорья Анд решили проблему, сохраняя картофель в виде chuno. Этот обезвоженный продукт, производимый кечуа и аймара путем повторяющихся процессов замораживания, раздавливания и сушки, мог храниться месяцами, даже годами (Woolfe 1987). В клубнях мало белка (обычно одна пятая от того, что есть в злаках: некоторые сорта твердой пшеницы содержат до 13 % протеина, а в белом картофеле его всего лишь 2 %). В бобовых белка в два раза больше, чем в зерновых (горох – около 20 %, бобы и чечевица – от 18 до 26 %), а в соевых бобах – в три раза больше (35–38 %, некоторые сорта – до 40 %). Но средний урожай бобовых намного меньше, чем у основных злаковых культур: средний урожай последних в США – 2,5 т/га в 1960 году и 7,3 т/га в 2013-м, аналогичные цифры для бобовых – 1,4 и 2,5 т/га (FAO 2015а).
Таким образом, зависимость от зерновых – вопрос простой энергетической выгоды. Их преимущество заключается в комбинации откровенно больших урожаев, хорошей питательной ценности (высокое содержание углеводов, умеренно высокое – белка), сравнительно высокой плотности энергии в момент зрелости (грубо, в пять раз выше, чем у клубней), и низкое содержание влаги, что позволяет их долго хранить (в хорошо вентилируемом хранилище они не портятся, когда зерна содержат менее 14,5 % воды). Преобладание отдельных видов – большей частью вопрос условий окружающей среды (в первую очередь – продолжительности вегетационного периода, наличия подходящих почв и доступности нужного количества воды) и вкусовых предпочтений. С точки зрения общего содержания энергии все злаки выглядят одинаково: различия между зрелыми семенами разных видов составляют менее 10 % (примечание 3.1).
Примечание 3.1. Плотность энергии, содержание углеводов и белка в основных злаках
Источники: цифры взяты из USDA (2011) и Nutrition Value (2015)
Большую часть пищевой энергии зерновых составляют углеводы в виде хорошо усваиваемых полисахаридов (крахмалы). Растущая доля крахмалов в человеческом питании привела к значительным изменениям в рационе первого одомашненного животного: генетические мутации увеличили способность переваривать крахмал у собак, почти отсутствующую у сидящих на мясной диете волков, и это оказалось важнейшим обстоятельством в приручении данного вида (Axelsson et al. 2013). Содержание белка в злаковых сильно варьируется, от менее 10 % во многих видах риса до 13 % в твердой летней пшенице и 16 % в киноа. Белки имеют туже энергетическую плотность, что и углеводы (17 МДж/кг), но их роль в человеческом питании не ограничена поставками энергии, они дают нам девять жизненно важных аминокислот, без которых невозможно построение и восстановление тканей тела (WHO 2002). Мы не в состоянии синтезировать белки в организме без потребления аминокислот из растительной и животной пищи.
Все виды животной пищи и грибы обеспечивают нас идеальными белками (с адекватной пропорцией незаменимых аминокислот), но четыре ведущих зерновых культуры (пшеница, рис, кукуруза, просо) и другие важные злаки (ячмень, овес, рожь) не содержат лизина, а клубни и почти все бобовые содержат мало метионина и цистеина. Полный набор протеинов может быть получен даже при строгой вегетарианской диете, если комбинировать виды пищи по наличию разных аминокислот. Все традиционные сельскохозяйственные общества, живущие в основном на растительной пище, определяемой злаками, независимым образом (и при отсутствии каких-либо биохимических знаний: аминокислоты и их роль в питании были открыты только в XIX веке) нашли простое решение этой фундаментальной проблемы – включением зерновых и бобовых в смешанный рацион.
В Китае соя (одно из немногих важных съедобных растений с полным набором аминокислот), бобы, горох и арахис дополняли просо на севере и пшеницу с рисом на юге. В Индии белки из даля (пюре из бобовых, чечевицы, гороха и нута) всегда обогащали рацион, базирующийся на пшенице и рисе. В Европе самая общая комбинация злаки-бобовые опиралась на горох и фасоль, на пшеницу, ячмень, овес и рожь. В Западной Африке арахис и коровий горох ели вместе с просом, ну а в Новом Свете кукурузу и бобы не только совмещали во множестве блюд, но обычно и сажали вместе, в чередующихся рядах на одном и том же поле.
Это означает, что даже чисто вегетарианская диета может обеспечить адекватное потребление белка. Почти во всех традиционных обществах мясо ценилось очень высоко, и там, где его потребление было запрещено, приходилось обращаться либо к молочным продуктам (Индия), либо к рыбе (Япония), чтобы получить животный протеин высокого качества. Два вида протеина в пшенице являются уникальными, но не по питательности, а из-за их физических (вязкоэластичных) свойств. Мономерный глютеновый протеин (глиадин) вязок; полимерный глютеновый протеин (глютенин) эластичен. В комбинации с водой они создают глютеновый комплекс, который достаточно эластичен, чтобы кислое тесто поднималось, и достаточно вязок, чтобы удержать пузырьки диоксида углерода, которые формируются при дрожжевой ферментации (Veraverbeke and Delcour 2002).
Без этих протеинов пшеницы не было бы квасного хлеба, базового продукта для западной цивилизации. Наличие дрожжей никогда не составляло проблемы: дикие (существующие в естественной среде) Saccharomyces cerevisiae находятся на кожице плодов и ягод, и многие штаммы были одомашнены, результатом чего стали изменения в экспрессии их генов и морфологии колоний (Kultan et al. 2003). При доминировании зерновых в традиционном рационе баланс энергии производства зерна становится наиболее важным показателем сельскохозяйственной продуктивности. Данные по энергозатратам для типичных сельскохозяйственных работ доступны в большом количестве как для индивидуальных, так и для коллективных хозяйств (примечание 3.2).
Примечание 3.2. Труд и энергетические потребности в традиционном земледелии
Примечание: легкая работа (Л) требует менее чем 20 кДж энергии пищи в минуту для среднего взрослого мужчины. Работа средней тяжести (С) требует до 30 кДж/мин., а тяжелая (Т) – до 40 кДж/мин. Аналоги для женщин примерно на 30 % ниже.
Источники: диапазоны составлены и рассчитаны по данным из Bailey (1908), Rogin (1931), Buck (1937), Shen (1951), Esmay and Hall (1968). Оценки затрат энергии сделаны, исходя из исследований метаболизма человека в Durnin and Passmore (1967).
Но подобный уровень детализации вовсе не обязателен для расчета приблизительного энергетического баланса. Использования репрезентативного среднего значения для затрат полезной энергии в традиционном сельском хозяйстве обычно достаточно. Типичные энергетические потребности для умеренной активности в 4,5 раза превышают уровень базового метаболизма для мужчин и в 5 раз для женщин и составляют 1 и 1,35 МДж/час (FAO 2004). Вычитая соответствующие базовые значения, получаем трудовые энергозатраты в 670 и 940 кДж/ч. Простое среднее число составит грубо 800 кДж/ч, и я буду использовать эту величину для обозначения полезных затрат энергии пищи на час труда в традиционном сельском хозяйстве. Схожим образом валовой урожай зерна рассчитывается умножением собранной во время жатвы массы на приблизительный энергетический эквивалент (обычно – 15 ГДж/т для зерна с влажностью менее 15 %, которое можно хранить).
Соотношение этих двух величин показывает валовый возврат энергии, и следовательно – продуктивность критически важных земледельческих задач. Возврат полезной энергии после вычитания того объема зерна, что требуется на посев, а также потерь при обработке и хранении окажется значительно ниже. Земледельцам приходилось откладывать часть каждого урожая, чтобы нашлось что посадить через год. Комбинация низких урожаев и высокой потери зерна во время ручной работы могла значить, что одна треть или даже одна вторая часть того, что созревало на средневековых полях, не использовалась в пищу. С увеличением продуктивности сельского хозяйства эта доля постепенно уменьшилась до менее 15 %. Некоторые зерна можно есть в целом виде, но перед тем, как подвергнуть настоящему приготовлению (варке или запеканию), большую часть злаков сначала нужно смолоть, а при этом теряется значительная часть массы зерна (примечание 3.3).
Примечание 3.3. Обмолот зерновых
Цельнозерновая мука получается из цельных зерен, но белая пшеничная мука – только из эндосперма семян (около 83 % общего веса), при этом высевки (около 14 %) и ростки (около 2,5 %) отделяются, чтобы использовать их по-другому (Wheat Foods Council 2015). Производство белого риса влечет за собой еще более высокие потери. Шелуха составляет до 20 % массы рисового зерна; при ее удалении остается бурый рис. На высевки приходится еще 8-10 %, и различная степень их удаления позволяет получить более или менее полированный (белый) рис, вес которого составляет только 70–72 % от изначального веса зерна (IRRI 2015). Японские свидетельства о недостатке пищи сообщают, что люди вынуждены были есть бурый рис, а когда дела шли хуже, бурый рис мешали с ячменем, и в конечном итоге ели чистый ячмень (Smil and Kobayashi 2011).
Обмолот кукурузы включает удаление корневого чехлика, слоя высевок, ростков, после чего остается эндосперм весом примерно в 83 % от веса зерна. Кукурузная мука для изготовления тортильи и тамала, masa harina, производится с помощью никстамализации, или сырого обмолота зерен, размоченных в разведенном соке лайма (Sierra-Macias et al. 2010; Feast and Phrase 2015). Это размягчает шелуху и сами зерна посредством растворения гемицеллюлозы, снижает количество микотоксинов и увеличивает биодоступность ниацина (витамина ВЗ).
Потери при хранении на традиционных фермах – от поражения грибками и насекомыми и от грызунов, способных добраться до зерен, – обычно снижают выход пригодного для употребления зерна от нескольких процентов до 10 %. Как уже отмечалось, зерно с влажностью менее 15 % может храниться долгое время; более высокая влажность, особенно в сочетании с более высокой температурой, создает идеальные условия для прорастания семян, а также для размножения грибков и насекомых. Кроме того, если хранить зерно неправильно, то оно может пострадать от грызунов. Даже в столь недавнее время, как середина XVIII века, комбинация потерь при хранении и потребностей на посев могла снизить валовую полученную энергию от выращенного в Европе зерна до 25 %.
Циклы севооборота
Общие процессы в годовом цикле земледелия и господство зерновых культур отвлекают внимание от удивительного разнообразия локальных и региональных особенностей. Некоторые из них имели чужое культурное происхождение, но большинство возникло на месте в качестве адаптации к условиям окружающей среды. Наиболее значительно среда влияет на выбор ведущих растений, а следовательно – на состав типичного рациона питания. Она также определяет ритм годового рабочего цикла, и соответственно – вложения сельскохозяйственного труда.
Пшеница распространилась со Среднего Востока на все континенты, поскольку она растет хорошо почти в любом климате (в полупустынях точно так же как в сыром умеренном климате, и поэтому остается ведущим пищевым культурным растением в зоне между 30 и 60 градусами северной широты), на любой высоте (от уровня моря до 3000 м над этим уровнем) и на многих почвах, пока они хорошо дренируются (Неупе 1987; Sharma 2012).
По контрасту, рис исходно полуводное растение тропических низин и растет на полях, залитых водой почти до самой жатвы (Smith and Anilkumar 2010). Культивация этого растения тоже широко распространилась за пределы ядра в Южной Азии, но лучшие урожаи всегда получали в дождливых тропических и субтропических регионах (Мак 2010). Создание и поддержание покрытых бороздами влажных полей, проращивание семян в питомниках, пересадка ростков, обеспечение достаточной ирригации – все это требует значительного увеличения трудовых затрат по сравнению с выращиванием пшеницы. Кукуруза дает лучшие урожаи в регионах с теплыми и дождливыми сезонами, но она предпочитает хорошо дренированную почву (Sprague and Dudley 1988). Картофель растет лучше всего там, где лето прохладное, а дожди обильные.
Годовые сельскохозяйственные циклы зависели от доступности воды как в сухих субтропиках, так и в районах с муссонным климатом, а также от продолжительности сезона вегетации в зонах умеренного климата. В Египте разливы Нила определяли годовой цикл земледелия до введения ныне широко распространенной круглогодичной ирригации во второй половине XIX века. Посев начинался, как только вода отступала (обычно в ноябре), и никакую полевую работу нельзя было делать между концом июня, когда вода начинала подниматься, и концом октября, когда она быстро уходила; жатва наступала через 150–185 дней после посева (Hassan 1984; Janick 2002). Этот шаблон практически нетронутым просуществовал до XIX столетия.
В муссонной Азии культивация риса опиралась на летние осадки, обычно обильные, но часто приходящие с задержкой. Например, в интенсивном китайском земледелии ростки риса пересаживались из питомников в открытый грунт в апреле. После первой жатвы в июле немедленно сажали поздний рис, который собирали поздней осенью, а затем следовал зимний цикл. Выращивание двух урожаев в год в умеренном климате давалось несколько легче. В Западной Европе озимые растения сажали осенью, а урожай снимали через 5–7 месяцев. Другие растения сеяли весной, они достигали зрелости за 4–5 месяцев. Холодные северные регионы могли «похвастаться» тем, что почва в них оттаивала только к апрелю, а посадки приходилось делать в конце мая, когда отступала опасность убийственных заморозков, так что у растений оставалось только три месяца до возвращения холодов.
Определяемый климатом цикл культивации накладывал сильно отличающиеся требования на мобилизацию и распределение труда человека и животных. Для регионов с единственным урожаем в год была характерна долгая зимняя праздность; именно так обстояло дело в Северной Европе и на равнинах Северной Америки. Забота о домашних животных была, само собой, круглогодичной задачей, но она все равно оставляла много свободного времени, которое тратили на домашнее ремесло, на ремонт инвентаря или на строительные работы. Многие дни более короткой зимы Северного Китая посвящались поддержанию и расширению ирригационной системы.
Весенние вспашка и посев требовали нескольких недель тяжелой работы, за которыми следовало несколько месяцев более легких рутинных операций (хотя прополка тех же рисовых полей могла быть трудной). Жатва была самым напряженным временем, а осенняя пахота могла затянуться на долгий период. Там, где менее суровый климат позволял озимые посевы – в Западной Европе, на Северокитайской равнине, большей части востока США, – оставалось от двух до трех месяцев между съемом летнего урожая и началом работы над зимним. По контрасту, в странах с не таким равномерным распределением осадков, особенно в муссонной Азии, оставались только ограниченные отрезки времени для выполнения полевых работ. Точное расписание было особенно важным для посадки растений и сбора урожая. Задержка на неделю от оптимальных сроков посадки могла привести к значительному уменьшению урожая. Ранняя жатва могла потребовать трудоемкой сушки урожая из-за его высокой влажности, жатва с опозданием – привести к большим потерям из-за высыпания зерна из переспелых колосьев.
До введения в оборот жаток и сноповязалок ручная жатва была самой длительной работой, она требовала в три-четыре раза больше времени, чем вспашка, и определяла размер участка земли, который могла обработать одна семья. Когда растения требовалось убрать быстро, чтобы сразу посадить следующие, то трудовые затраты возрастали еще больше. Как говорит старая китайская пословица: «Когда и просо, и пшеница созревают, даже прядильщицы отправляются на поля помогать». В некоторых работах (Buck 1937) приведена количественная оценка труда в традиционном китайском земледелии: посадка и жатва (между мартом и сентябрем) при получении двух урожаев требовали использования практически всего (в среднем 94–98 %) доступного труда. В некоторых районах Индии два пиковых летних месяца требовали более 110 % или даже 120 % доступного труда, и схожая ситуация сохранялась в других частях муссонной Азии (Clark and Haswell 1970). Подобное энергетическое «бутылочное горлышко» можно было преодолеть, если все работали почти без перерывов целыми днями или опираясь на труд мигрантов.
Труд животных использовался с еще большей неравномерностью и во многих культурах ограничивался только самыми важными полевыми работами. Например, период максимальной работы для буйволов в Южном Китае – два месяца посадки, боронения и прочих земляных работ ранней весной, шесть недель летней жатвы и месяц подготовки полей (снова вспашка и боронение) для озимых культур, все вместе 130–140 дней, или менее 40 % от года (Cockrill 1974). В Северной Европе с ее единственным урожаем тягловые лошади напряженно работали всего лишь 60–80 дней в году во время осенней и весенней вспашки, а также летней жатвы, а большую часть времени использовались исключительно как транспортное средство. Типичный рабочий день варьировался от пяти часов для волов во многих регионах Африки до более десяти часов для буйволов на рисовых полях Азии и для лошадей во время жатвы в Европе или Северной Америке.
Маршруты интенсификации
Попытка добиться более высоких урожаев не имела шансов на успех без трех важных шагов вперед.
Первый сводился к частичной замене человеческого труда на труд животных. При выращивании риса только самые изнурительные работы вроде обработки поля мотыгой заменялись глубокой вспашкой с помощью буйволов. В растениеводстве на сухих землях труд животных заменил человеческий и ускорил выполнение значительно большего количества полевых и не только полевых работ, освободив тем самым людей для иных, более продуктивных видов деятельности или для отдыха. Подобная смена первичных движителей сделала куда больше, чем ускорила и облегчила работу, она улучшила ее качество, во вспашке ли, в посеве или обмолоте зерна. Второй шаг – ирригация и использование удобрений, и он если не совсем убрал, то ослабил два серьезных ограничения продуктивности сельского хозяйства – нехватку воды и питательных веществ. Третий – выращивание большего разнообразия культур, с помощью севооборота или параллельно, – сделал традиционное сельское хозяйство одновременно более надежным и более продуктивным.
Следующие высказывания китайских крестьян говорят о том, насколько важны эти два фактора: «Будет ли урожай – зависит от воды; насколько большим он будет – от удобрений» и «Сажай просо вслед за просом, и в конечном итоге ты будешь плакать». Использование тягловых животных было фундаментальным энергетическим усовершенствованием, последствия которого вышли далеко за пределы обработки земли и уборки урожая. Тягловые животные стали незаменимым источником удобрений, питательных веществ в навозе и одновременно первичным движителем, позволяющим доставить эти вещества к растениям. Во многих местах они также помогли улучшить ирригацию. Более мощные первичные движители, лучшее обеспечение водой и питательными веществами также позволили эффективнее использовать севооборот и выращивание нескольких культур одновременно. И в свою очередь все это дало возможность содержать большее количество более сильных животных, что запустило весь цикл из трех шагов заново, и так раз за разом.
Тягловые животные
Одомашнивание дало нам много рабочих животных с разными характеристиками, с весом, отличающимся на порядок, от 100 кг для маленьких ослов до более 1000 кг для крупнейших лошадей. Индийский бык весил менее 400 кг, итальянские животные кианской породы и романьола – в два раза больше (Bartosiewicz et al. 1997; Lenstra and Bradley 1999). Большинство лошадей в Азии и Европе были не более чем пони, меньше четырнадцати ладоней высотой и весом меньше азиатского вола. Ладонь, традиционная английская единица измерения, равна 4 дюймам (10,16 см), рост животного измерялся от земли до холки, места на позвоночнике между лопатками. Римские лошади не превышали 11–13 ладоней, самые тяжелые европейские животные – бельгийские брабантской породы, французские булонской и першероны, шотландские клейдесдальской, английские саффолской и ширской, немецкие рейнской и русские тяжеловозы – достигали и даже превышали величину в 17 ладоней и весили около тонны, а иногда и больше (Silver 1976; Oklahoma State University 2015). Азиатский буйвол весил от 250 до 700 кг (Cockrill 1974; Borghese 2005).
В традиционном сельском хозяйстве животных использовали для выполнения различных работ, но, безо всяких сомнений, во вспашку они вносили наибольший вклад (Leser 1931). В общем тягловая сила работающих животных, грубо говоря, пропорциональна их весу; другие переменные, влияющие на их продуктивность, включают пол, возраст, здоровье, опыт, эффективность упряжи, а также особенности почвы и территории. Поскольку все эти переменные могут значительно варьироваться, предпочтительно определять полезную мощность широко распространенных видов в терминах типичных характеристик (Hopfen 1969; Cockrill 1974;
Goe and Dowell 1980). Типичная тяга составляет 15 % от веса животного, но для лошадей она достигает и 35 % при кратковременных нагрузках (около 2 кВт) и даже больше, если речь идет о нескольких секундах предельного напряжения (Collins and Caine 1926). Комбинация большой массы и сравнительно высокой скорости определяет лошадей как лучших тягловых животных, но большинство лошадей не в состоянии работать с мощностью в лошадиную силу (745 Вт), обычно они выдают от 500 до 850 Вт (примечание 3.4, рис. 3.3).
Примечание 3.4. Типичные массы, тяга, рабочие скорости и мощность одомашненных животных
Примечание: значения мощности округлены до ближайших 50 Вт.
Источники: базируется на Hopfen (1969), Rouse (1970), Cockrill (1974) и Goe and Dowell (1980).
Реальные потребности тяги варьируются в зависимости от задачи (пределами тяжелой и легкой работы можно поставить глубокую вспашку и боронение) и от типа почвы (больше в случае тяжелой глины, меньше в случае песка). Неглубокая вспашка (с одним лемехом) и выкашивание травы требуют постоянной тяги в 80-120 кг, глубокая вспашка – 120–170 кг, а тяга в 200 кг требовалась для механической жатки и сноповязалки. Даже средняя пара лошадей могла выполнить все эти задачи, но пара волов не годилась для глубокой вспашки или жатвы с помощью жатки. Механические императивы указывают на то, что маленькие животные лучше: при прочих равных их линия движения меньше расходится с направлением тяги, и результатом становится более высокая эффективность, а при вспашке более низкая линия тяги уменьшает выпирание плуга вверх, для пахаря куда легче вести такой плуг. Более легкие животные часто более проворны, и они могут компенсировать малый вес упорством и выносливостью.
Тягловой потенциал можно перевести в эффективную работоспособность только с помощью хорошей упряжи (Lefebvre des Noëttes 1924; Haudricourt and Delamarre 1955; Needham 1965; Spruytte 1983; Weller 1999; Gans 2004). Тяга должна быть передана на рабочую точку – на лемех плуга или на край жатки – устройством, которое обеспечивает эффективную передачу и одновременно контроль человека за движением животного. Подобная вещь может выглядеть простой, но потребовалось много времени, чтобы она появилась. Крупный рогатый скот, первую тягловую силу, взнуздывали с помощью ярма, прямого или изогнутого куска дерева, который крепили к рогам или шее животного.
Рисунок 3.3. Сравнение тягловой мощности животных, показывающее чистое превосходство лошадей. Основано на данных из Hopfen (1969), Rouse (1970) и Cockrill (1974)
Старейшая месопотамская упряжь (лучше всего подходила для сильных животных с короткой шеей, позже широко использовалась в Испании и Латинской Америке) представляла собой двойное ярмо для головы, закреплявшееся разными способами (рис. 3.4). Это примитивное устройство состояло всего лишь из длинной балки, привязи на которой могли придушить животное во время более тяжелого труда, а угол тяги был слишком велик. Более того, чтобы избежать удушения вола или коровы, нужно было подобрать животных одинакового роста, и приходилось запрягать пару, даже когда одно животное могло справиться с легкой работой. Более удобное одиночное головное ярмо использовалось в нескольких регионах
Европы (восточный балтийский регион, юго-западная Германия). Одиночное нашейное ярмо, присоединенное к двум жердям или веревкам и вальку, было распространено в Восточной Азии и в Центральной Европе (рис. 3.4). Африка, Средний Восток и Южная Азия предпочитали двойное нашейное ярмо.
Рисунок 3.4. Головное ярмо было первой и очень неэффективной упряжью для работающих волов. Шейное ярмо стало доминирующим способом запрягать животных во всем Старом Свете. Взято из Hopfen (1963) и иллюстрации поздней династии Мин (1637)
Лошади – самые мощные тягловые животные. В отличие от крупного рогатого скота, у которого масса тела почти равномерно распределена между передней половиной тела и задней, у лошади перед значительно тяжелее зада (соотношение около 3 к 2), и поэтому она может куда лучше использовать инерцию (Smythe 1967).
За исключением тяжелых, сырых почв лошади могут работать в поле с постоянной скоростью около 1 м/с, то есть на 30–50 % быстрее, чем волы. Максимальная двухчасовая тяга для пары тяжелых лошадей может быть в два раза больше, чем у пары лучших быков. Самые большие лошади на коротких отрезках могут развивать мощность более 2 кВт, то есть около трех стандартных лошадиных сил. Однако горбатый рогатый скот предпочтительнее в тропиках благодаря более эффективной тепловой регуляции, и он менее восприимчив к заражению клещами. Водяной буйвол процветает в сырых тропиках и перерабатывает грубые корма более эффективно, чем европейские породы, а еще может пастись на водных растениях, целиком погруженных в водоем.
Старейшие существующие изображения работающих лошадей не показывают их на полях, они демонстрируют нам, как животные тянут легкие церемониальные или боевые колесницы. На протяжении большей части античности тягловых лошадей запрягали с помощью наспинного ярма (Weller 1999). Подобное ярмо из дерева или металла помещалось на спину животного сразу за холкой и удерживалось на месте грудной привязью, которая крепилась на обеих сторонах ярма с помощью подпруги (ремень, бегущий через спину и под брюхом). Неточная реконструкция римской упряжи (Lefebvre des NoSttes 1924) привела к ошибочному, но многие десятилетия широко распространенному заключению, что это было очень неэффективное устройство, поскольку оно душило животное, так как нагрудный ремень имел тенденцию задираться (примечание 3.5).
Примечание 3.5. Сравнение разных видов упряжи и тягловой мощности
Десятилетиями во многих текстах появлялось заявление, что античная упряжь не годилась для выполнения тяжелой полевой работы из-за слишком высокой точки тяги и удушающего эффекта, создаваемого горловым ремнем. Это заключение базировалось на экспериментах с реконструированной упряжью, проведенных в 1910 году французским офицером Ришаром Лефевромде Нётте (1856–1936), которые он описал в своей книге «La Force Motrice a travers les Ages». Полученные им результаты были приняты не только учеными классической эпохи, но и тремя ведущими учеными двадцатого века, занимавшимися техническими инновациями (Joseph Needham, 1965; Lynn White 1978; Jean Gimpel 1997).
Но эти эксперименты базировались на ошибочной реконструкции: новые опыты, проведенные Жаном Спратом в 70-х годах с правильно воссозданным спинным ярмом (помещалось прямо за лопатками и пристегивалось грудными ремнями) не показали никакого удушающего эффекта. Такая упряжь хорошо работала, когда две лошади тащили груз почти в тонну (Spruytte 1977). Так была опровергнута гипотеза, что «классические культуры «блокировались» неудачной системой упряжи для животных» (Raepsaet 2008, 581). Но в своих тестах Спрат использовал легкую повозку девятнадцатого века (куда легче, чем римская телега) и поэтому, даже если игнорировать разницу в размерах лошадей, его эксперименты не полностью воспроизводят условия, существовавшие два тысячелетия назад. В любом случае, поскольку Кодекс Феодосия (439 год) накладывал лимит веса (500 кг) на движимые лошадьми телеги, то «выглядит определенным, что римляне осознавали мучение, причиняемое лошадям, когда они тащили тяжелые грузы» (Gans 2004,179).
Подгрудная упряжь, появившаяся в Китае не позже чем при ранней династии Хань, определяла точку тяги слишком далеко от самых мощных грудных мышц животного (рис. 3.5). Тем не менее такая форма распространилась по Евразии, достигла Италии уже в V веке, вероятнее всего, с пришедшими остготами, и Северной Европы на 300 лет позже. Но понадобилось другое китайское изобретение, чтобы превратить лошадей в превосходных рабочих животных. Хомутовая упряжь была впервые использована в Китае в I веке до н. э. в виде мягкой подкладки под твердое ярмо, постепенно она превратилась в единый компонент. К V веку н. э. ее простой вариант появился на фресках в Дуньхуане, а филологические свидетельства дают нам понять, что к IX веку хомут добрался до Европы, где распространился повсюду примерно за три столетия и оставался в основном неизменным еще семьсот лет, до момента, когда животных начали заменять машины. Однако хомут кое-где применяется на работающих лошадях в Китае, но их становится все меньше и меньше.
Рисунок 3.5. Подгрудная упряжь, воспроизведена по иллюстрации из Encyclopedic (Diderot and D'Alembert 1769–1772). Она использовалась для легких работ вплоть до XX века
Стандартная хомутовая упряжь состоит из единой овальной деревянной (позже также металлической) рамы (то есть собственно хомута), сделанной так, чтобы она удобно ложилась на плечи лошади, часто с подушечкой-подкладкой. Тягловые веревки соединяются с хомутом прямо над лопатками лошади (рис. 3.6). Движения животного контролируются с помощью узды, металлический мундштук вставляется лошади в рот и крепится к поводьям и оголовью. Хомут обеспечивал желаемый, то есть малый угол тяги и позволял прилагать значительное усилие с помощью мощных грудных и плечевых мускулов животного. Он также позволял эффективно связывать лошадей в один или два ряда для исключительно тяжелых работ.
Эффективная упряжь была не единственным условием превосходной работоспособности лошадей, и поэтому ее введение не стало причиной сельскохозяйственной революции (Gans 2004). Занятых на тяжелых работах лошадей кормили зерном, которое обходилось недешево, и они нуждались в сравнительно дорогой упряжи и подковах, в то время как более слабых и медленных волов можно было содержать только на соломе и мякине и запрягать в ярмо. Подковы представляли собой узкие U-образные пластинки металла, прилегающие к краю копыта и прибиваемые гвоздями, которые входят в лишенную чувствительности роговую стенку копыта (рис. 3.6). Их использование предотвращает быстрое стирание мягкой ткани копыта, а также улучшает сцепление с почвой и увеличивает прочность копыта. Все это было особенно важно в холодном и сыром климате западной и северной Европы. Греки не знали подков, они обували на копыта своих лошадей кожаные сандалии, набитые соломой. Римляне делали подковы, но их soleae ferreae прикреплялись зажимами и шнуровкой, а подковы с гвоздями широко распространились только к IX веку.
Вальки, прикрепленные к постромкам и связанные друг с другом, а затем пристегнутые к полевым инструментам, уравновешивали натяжение при неравномерной тяге. Они облегчали задачу управления животными и позволяли запрячь четное или нечетное их количество. Лошади также отличались лучшей выносливостью (работая 8-10 часов в день по сравнению с 4–6 для крупного рогатого скота) и жили дольше, и хотя те и другие начинали работать в возрасте 3–4 лет, волы проживали часто только 8-10 лет, а лошади обычно 15–20. И в завершение, анатомия лошадиной ноги дает животному уникальную возможность на самом деле полностью исключать энергетические затраты в стоячем положении. У лошади есть очень мощная поддерживающая связка, идущая позади берцовой кости, и пара сухожилий (поверхностный и глубокий пальцевые сгибатели), которые могут «запирать» ногу без участия мускулов. Это позволяет животному отдыхать, даже дремать стоя, почти не затрачивая энергию, и тратить очень мало энергии на выпасе (Smythe 1967). Все другие млекопитающие расходуют на 10 % больше энергии в стоячем положении по сравнению с лежачим.
Даже более мелкие и плохо запряженные животные обеспечивают серьезную поддержку (Esmay and Hall 1968; Rogin 1931; Slicher van Bath 1963). Крестьянин, работающий мотыгой, потратит как минимум 100 часов, а в случае с тяжелой почвой и 200, чтобы подготовить гектар земли для посадки злаков. Даже с простым деревянным плугом, запряженным в пару волов, он может выполнить эту задачу всего за 30 часов. Культивация, завязанная исключительно на силу человека, никогда не может достичь масштабов, которые обеспечивает вспашка с помощью животных.
Помимо того, что он ускоряет вспахивание земли и сбор урожая, труд животных также помогает поднимать большие объемы оросительной воды из более глубоких колодцев. Животные могут приводить в движение такие обрабатывающие пищу машины, как мельницы, дробилки и прессы, со скоростями, недоступными для человеческих мышц. Освобождение от долгих часов утомительного труда ничуть не менее важно, чем более высокая эффективность, но большее количество труда животных требует больших объемов возделываемой земли для выращивания фуража. Это без труда решалось в Северной Америке и в некоторых частях Европы, где на корм для лошадей иногда отводилось до одной трети обрабатываемых земель.
Рисунок 3.6. Компоненты типичного хомута XIX века (основано на Talleen 1977 и Villiers 1976) и разнообразие подков середины XVIII века (Dideror and D'Alembert 1769–1772). Формы (слева направо) показывают типичные английские, испанские, германские, турецкие и французские подковы
Ничего удивительного, что в Китае и других плотно населенных странах Азии бык оставался предпочитаемым тягловым животным. Поскольку быки жвачные, их можно содержать только на грубых кормах вроде соломы и на обычной траве. И во время работы рогатый скот не требуется кормить зерном: концентрированная пища может поступать к ним в виде остатков от обработки растений, например, отруби и жмых от масличных культур. По моей оценке, в традиционном сельском хозяйстве Китая выращивание корма для тягловых животных требовало только 5 % от ежегодно засеваемых земель. В Индии фуражные растения тоже традиционно занимали 5 % обрабатываемых территорий, но большая часть фуража уходила молочным животным, и еще часть – на кормление священных коров (Harris 1966; Heston 1971). Корм для работающих буйволов, вероятно, занимал менее чем 3 % от всех полей. В наиболее плотно населенных регионах индийского субконтинента крупный рогатый скот выживал на комбинации подножного корма и фуража из побочных продуктов земледелия, от рисовой соломы и горчичного жмыха до нарубленных банановых листьев (OdencPhal 1972).
Индийские и китайские тягловые животные были очень удачной энергетической сделкой. Многие из них совершенно не конкурировали за урожай с людьми, а другим требовался для прокорма участок земли, пригодный максимум на то, чтобы вырастить пищу на одного человека в год. Но полезный ежегодный труд животных равнялся труду от трех до пяти крестьян, работающих 300 дней в году. Средняя лошадь XIX века в Европе или Америке могла не обеспечить столь высокий сравнительный возврат, но она тоже предоставляла энергетическое преимущество (примечание 3.6). Ее годовой полезный труд был эквивалентен труду шести крестьян, и земля, использованная для прокорма животных (работающих и неработающих), могла произвести пищи примерно для шести человек. Даже если тягловую лошадь XIX века рассматривать исключительно как заменитель утомительного человеческого труда, то оно того стоило, но сильное, хорошо накормленное животное могло выполнять задачи за пределами человеческих способностей и выносливости.
Примечание 3.6. Энергетические затраты, эффективность и производительность тягловой лошади
Взрослая лошадь весом в 500 кг требует около 70 МДж перевариваемой энергии в день, чтобы поддерживать собственный вес (Subcommittee on Horse Nutrition 1978). Если ее корм содержит много зерна, то это может подразумевать только 80 МДж валового потребления энергии; если в корме много хуже перевариваемого сена, тогда эта величина может подниматься до 100 МДж. В зависимости от трудовых задач потребности в пище во время периодов работы увеличиваются в 1,5–1,9 раза. Удалось выяснить (Brody 1945), что першерон в 500 кг, работающий с мощностью 500 Вт, потреблял около 10 МДж/ч.
Если взять 6 часов работы и 18 часов отдыха (при 3,75 МДж/ч), то всего получится около 125 МДж/сутки.
Ничего удивительного, что традиционные рекомендации по кормлению совпадают: в начале XX века американским фермерам советовали давать рабочим лошадям 4,5 кг овса и 4,5 кг сена в день (Bailey 1908), что соответствует 120 МДж/сутки. Со средней мощностью в 500 Вт лошадь будет выдавать 11 МДж полезной работы за шесть часов, в то время как средний мужчина сможет обеспечить менее 2 МДж, к тому же он не в силах работать с постоянным значением выше 80 Вт и выдерживает только краткие периоды выше 150 Вт, а лошадь может постоянно работать при 500 Вт и выдавать кратковременную тягу до 1 КВт – усилие, которое потребует напряжения дюжины мужчин.
Лошади могли таскать бревна и выкорчевывать пни, когда люди превращали леса в поля, вспахивать богатую почву прерий плугами, тащить тяжелые повозки. Конечно, существовали дополнительные затраты энергии при использовании труда животных помимо содержания размножающегося стада и обеспечения достаточного корма во время полевых работ. Эти дополнительные затраты прежде всего возникали при изготовлении упряжи и подков и при строительстве конюшен. Но были и дополнительные преимущества: лошади давали не только навоз, но и молоко, мясо и кожу. Навоз играл важную роль во всех традиционных сельскохозяйственных культурах как источник редких питательных веществ и органического материала. В по большей части вегетарианских обществах мясо (включая конину в континентальной Европе) и молоко были ценными источниками отличного белка. Кожа использовалась при изготовлении огромного количества нужных для земледелия инструментов, одежды и обуви. И конечно, животные воспроизводили сами себя.
Орошение
Потребность растений в воде зависит от многих генетических, агрономических и экологических переменных, но общая сезонная потребность в среднем в 1000 раз превосходит массу собранного зерна. До 1500 тонн воды нужно, чтобы вырастить 1 тонну пшеницы, и по меньшей мере 900 тонн необходимо для каждой тонны риса. Около 600 тонн хватит для тонны кукурузы как С4-растения, злака, максимально эффективно использующего воду (Doorenbos et al. 1979; Bos 2009). Это значит, что для жатвы пшеницы между 1 и 2 т/га общая потребность на протяжении четырех месяцев сезона роста будет 15–30 см. По контрасту, годовые осадки в пустынных и полупустынных регионах Среднего Востока варьируются почти от нуля до менее 25 см.
В таких регионах требуется орошение, когда поля засеваются за пределами досягаемости сезонных паводков, насыщающих влагой почву долин и позволяющих вызреть одному урожаю; или когда из-за роста населения приходится выращивать вторую культуру во время сезона с низким уровнем воды. Ирригация также необходима для того, чтобы справляться с сезонной нехваткой воды. Подобное особенно значимо на большей части северных территорий муссонной Азии, в Пенджабе или на Северо-Китайской равнине. И конечно, выращивание риса предполагает собственный режим затопления и осушения полей.
Орошение с помощью гравитации – каналы, пруды, резервуары, дамбы – не требует подъема воды и поэтому характеризуется самыми низкими энергетическими затратами. Но в речных долинах с минимальным градиентом потока и на широких равнинах всегда было необходимо поднимать большие объемы поверхностной или подземной воды. Обычно приходилось одолевать низкие насыпи, но часто требовалось справиться с крутыми берегами или стенками глубокого колодца. Неизбежная неэффективность, отягченная грубым сочетанием движущихся частей и дефицитом смазочных материалов, усложняла задачу. Ирригация, движимая мускулами человека, была тяжелой ношей даже там, где утомительная работа считалась нормой. Много творческой энергии ушло на то, чтобы придумать механические устройства, использующие труд животных или силу водяного потока, чтобы облегчить эту задачу, и просто для того, чтобы хоть как-то поднять воду на нужную высоту.
Впечатляющее количество разных механических приспособлений было изобретено для поднятия оросительной воды (Ewbank 1870; Molenaar 1956; Oleson 1984, 2008; Mays 2010). Простейшие – черпаки, ведра или корзины из плотной ткани или плетеные – применялись для подъема воды менее чем на метр. Одно ведро, подвешенное на веревке к треноге, было немного более эффективным. Оба эти предмета использовались в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, но старейшим методом подъема воды, который применяли повсеместно, был «журавль», называемый у арабов shaduf. Его очертания можно видеть на вавилонских цилиндрических печатях от 2000 года до н. э., его широко использовали в древнем Египте, он достиг Китая около 500 года до н. э. и в конечном итоге распространился по всему Старому Свету. «Журавль» в основе своей – длинный шест, опирающийся на перекладину как рычаг, его было легко изготовить и ремонтировать (рис. 3.7).
Ведро на веревке свисало с более длинного плеча «журавля», а к более короткому крепился либо камень, либо кусок сухой земли. Эффективная высота подъема составляла обычно 1–3 метра, но последовательное развертывание нескольких таких устройств (от 2 до 4 уровней) было обычным делом на Ближнем Востоке. Один человек мог поднять около 3 м3/ч на высоту 2–2,5 метра. Вытягивание веревки очень утомительно, но поворачивание архимедова винта (римская cochlea, арабский tanbur), чтобы вращалась деревянная спираль внутри цилиндра, было еще более трудным и обеспечивало только небольшой подъем (25–30 см). Колеса с лопатками обычно использовались в Азии. Китайские водяные лестницы («драконий хребет», long gu che) действовали как ленточные водоподъемники на деревянных квадратных платформах с маленькими дощечками, цеплявшими зубчатые колеса, и формировали бесконечную цепь, поднимая воду по деревянному желобу (рис. 3.8). В ведущее колесо был вставлен горизонтальный шест, приводимый в движение двумя или более работниками. Некоторые лестницы приводились в движение ручными рычагами или с помощью шагавших по кругу животных.
Рисунок 3.7. Гравюра XIX века, изображающая египетского крестьянина, который использует shaduf
Все приведенные ниже устройства всегда получали энергию либо от животных, либо от текущей воды. Подъемник из веревки и ведра, широко распространенный в Индии (monte или charsa), работал с помощью одной или двух пар волов, шагавших вниз по уклону, одновременно поднимая кожаный мех, прикрепленный к длинной веревке. Бесконечная цепь из глиняных горшков на двух петлях веревки, движущаяся сверху вниз через деревянный барабан, чтобы зачерпнуть воду снизу и вылить в желоб сверху, использовалась уже древними греками. Это устройство было известно под арабским названием saqiya и широко распространено в Средиземноморье. Когда энергию ему давало единственное животное с завязанными глазами, ходящее по кругу, оно обеспечивало подъем воды из колодцев глубиной менее 10 метров со скоростью ниже 8 м3/ч. Улучшенная египетская версия, zawafa, доставляла воду с большей производительностью (до 12 м3/ч из колодца в 6 метров глубиной).
Рисунок 3.8. Древняя китайская машина «драконий хребет» действовала благодаря крестьянам, которые держались за шест и переступали по ступицам, прикрепленным к оси. Взято из иллюстрации поздней династии Мин
Noria, другое устройство, широко использовавшееся как в мусульманских странах, так и в Китае (hung che), включало глиняные сосуды, бамбуковые трубки или металлические ведра, прикрепленные к ободу единственного колеса. Через шестерни колесо приводилось в движение ходящими по кругу животными, а колесо с лопаточками – водным потоком. Необходимость поднимать ведра еще на один радиус колеса выше уровня приемного желоба оборачивалась значительным снижением эффективности. Этот недостаток был устранен в египетской tabliya. Улучшенное устройство, приводимое в движение волами, представляло собой двустороннее цельнометаллическое колесо, которое зачерпывало воду на внешнем краю и выливало ее в центре в уходящий вбок желоб. Сравнение типичных потребностей в мощности, параметров подъема и часовой производительности традиционных водоподъемников четко показывает пределы производительности человека (примечание 3.7, рис. 3.9).
Примечание 3.7. Потребности в мощности, параметры подъема и часовая производительность традиционных водоподъемников
Примечание: энергетические затраты рассчитаны, исходя из средней потребляемой мощности в 60 Вт для человека и 350 Вт для тягловых животных.
Источники: скомпилировано и рассчитано по данным из Molenaar (1956), Forbes (1965), Needham and co-workers (1965) и Mays (2010).
Энергетические затраты в случае ирригации с помощью человека были запредельно высокими. Работник мог сжать гектар пшеницы косой за восемь часов, но ему бы потребовалось три месяца (8 ч/сут.), чтобы поднять половину воды, нужной для этого гектара, всего на один метр из прилегающего канала или ручья. Из-за больших вариаций реакции разных злаков на полив нельзя делать обобщения по поводу энергоотдачи традиционного орошения. Большая разница существует не только между видами растений, она зависит от времени, когда доступна вода (арахис, например, мало чувствителен к временной нехватке воды, а кукуруза сильно уязвима). Реалистичные примеры показывают, что энергоотдача может быть десятикратной или даже выше (примечание 3.8).
Рисунок 3.9. Сравнение подъема, объемов и требований к мощности доиндустриальных водоподъемных устройств и машин. Основано на данных из Molenaar (1956), Forbes (1965) и Needham and co-workers (1965)
Примечание 3.8. Энергоотдача при орошении пшеницы
Единственный конкретный расчет демонстрирует значительную энергоотдачу традиционной ирригации. Полевые исследования показали, что урожай озимой пшеницы падает вдвое, если нехватка годовых осадков в 20 % концентрируется в критическом периоде цветения (Doorenbos et al. 1979). Хорошая жатва времен поздней династии Цин в 1,5 т/га могла таким образом снизиться на 150 кг на типичном маленьком поле в 0,2 га. Предположив, что нехватка 10 см дождя требует при орошении 200 т воды, и учитывая, что орошение обычного поля с помощью гребней и борозд имело эффективность в 50 % (из-за испарения и утечки), реальный объем воды из канала должен быть в два раза больше. Подъем 400 тонн воды менее чем на один метр с помощью водяной лестницы, движимой двумя крестьянами, потребовал бы около 80 часов и около 65 МДж дополнительной энергии пищи, в то время как увеличенный урожай пшеницы мог содержать (после вычитания примерно 10 % семян для посева и потерь при хранении) около 2 ГДж пригодной к употреблению энергии. Поэтому водяная лестница могла обеспечить в 30 раз больше энергии пищи, чем ушло на работу с ней.
По контрасту, для некоторых проектов инков возврат энергии мог быть низким. При орошении с помощью ирригации не нужно поднимать воду, но выкапывание длинных и широких каналов (главные русла до 10–20 метров шириной) простыми инструментами в каменистой породе требовало большого объема труда. Главный оросительный канал между Парку и Пикуй тянулся на 700 км, чтобы поливать пастбища и поля (Murra 1980), и испанцы-конкистадоры были поражены, увидев тщательно прорытые каналы, ведущие к отдельным полям кукурузы. Все главные ирригационные проекты требовали тщательного планирования и контроля работ, чтобы сохранить нужный уклон, а также большого количества работников. Вознаграждение – то есть дополнительная энергия от политых злаков, превосходящая огромные вложения труда, – было очевидным образом отложено на много лет, даже десятилетий. Только мощная центральная власть имела возможность перемещать ресурсы между разными частями страны, чтобы предпринимать такие программы общественного строительства. Во многих случаях рациональное водопользование, ведущее к более высоким урожаям, включало орошение полей, но некоторые сельскохозяйственные общества были вынуждены осуществлять и противоположный процесс.
Во многих регионах постоянное земледелие было бы немыслимым без отведения лишней воды. Император Ю (2205–2198 гг. до н. э.), один из семи великих мудрецов доконфуцианской эпохи, занял место в китайской истории в первую очередь благодаря умелому плану и героической деятельности по длительному отводу паводковых вод (Wu 1982). Майя и сменявшие друг друга обитатели Мексиканского нагорья практиковали продвинутые формы земледелия, включавшие водопользование от простого террасирования и весеннего полива до сложных дренажных систем и расположенных на возвышенности полей (Sanders, Parsons and Santley 1979; Flannery 1982; Mays and Gorochovich 2010). Уникальная разновидность культуры дренирования эволюционировала за много столетий в китайской провинции Гуандун
