Месопотамия бесплатное чтение
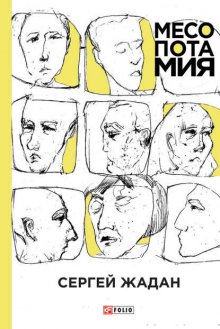
© С. В. Жадан, 2014
© П. Т. Згонников, И. Л. Белов, перевод на русский язык, 2019
© Д. О. Чмуж, художественное оформление, иллюстрации, 2019
* * *
Никто не знает, откуда они появились и почему осели на этих реках. Но их тяга к рыболовству и знание лоции указывают на то, что они прибыли водой, поднявшись по руслам вверх. Язык их, судя по всему, хорошо подходил для пений и проклятий. Женщины их были нежными и непокорными. От таких женщин рождались храбрые дети и возникали серьезные проблемы.
Настоящая история шумеров. Т. 1
Часть первая. Истории и биографии
Продолжение книги
