Неизвестный М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). Воспоминания, письма, стихи бесплатное чтение
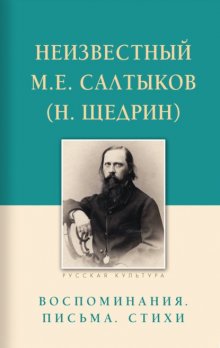
© Строганова Е. Н., составление, подготовка текста, комментарии, 2021
© Издательство «Даръ», 2021
© ООО ТД «Белый город», 2021
«Это был человек всецело литературный…»
Жить для него – значило писать или что-нибудь делать для литературы.
С. Н. Кривенко
Есть у М. Е. Салтыкова рассказ, который называется «Похороны», – о похоронах литератора «средней руки» Пимена Коршунова, «человека всецело литературного»: не было у него другой привязанности, кроме читателя, не было других желаний, кроме общения с читателем. Литературный подвижник, он своим словом пыталась нести правду в мир. Герой рассказа напоминает самого автора своей безраздельной преданностью литературе и самозабвенным служением ей. Но, в отличие от созданного им персонажа, Салтыков был одной из центральных фигур русской литературы и общественной жизни 1870–1880-х гг., одним из тех, кого современники считали «властителем дум».
Михаил Евграфович Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии в семье Евграфа Васильевича и Ольги Михайловны Салтыковых. Крещен младенец был на архангела Михаила, при этом один из восприемников высказал два пророчества: будет он воин и всех врагов победит и еще – будет «разгонщик женский». Первое предсказание сбылось. Салтыкову и вправду оказалось суждено и словом и делом бороться с сильным «супостатом» – «ложью, неправдой, насилием, пороками общественными и частными».
Первые десять лет жизни Михаила Салтыкова прошли в весьма своеобразной обстановке родительского дома, где главенствующую роль играла мать, энергичная и предприимчивая женщина, чьими усилиями угасавшее дворянское гнездо было превращено в процветающее хозяйство. И к восьмерым своим детям Ольга Михайловна относилась вполне по-деловому, не баловала их и редко одаряла материнской нежностью. Авторитет отца был гораздо менее значим, и право решающего голоса во всем принадлежало матери.
Хорошо понимая пользу и необходимость учения, Ольга Михайловна очень заботилась о том, чтобы дать детям образование. Сохранилось ее письмо, адресованное старшему сыну Дмитрию, где она отдает распоряжения по поводу занятий его младших братьев. Оказывается, что в летние месяцы Николай и Михаил Салтыковы должны были каждый день по два часа заниматься музыкой, чистописанием на трех языках (французском, немецком и русском), учить французскую, немецкую и русскую грамматику, историю российскую, историю всемирную, закон Божий, риторику «и так далее, все как должно, без опущения, предметы, каждый по два раза». В перечне этом отсутствуют только занятия литературой: чтение, видимо, не признавалось серьезным делом. В одном из поздних своих произведений – хронике «Пошехонская старина» – писатель вводит в воспоминания рассказчика Никанора Затрапезного некоторые автобиографические детали: вспоминая о детстве, герой говорит, что в доме не было книг, даже басен Крылова. Однако подобные автобиографические моменты в тексте хроники, как и в романе «Господа Головлевы», нельзя воспринимать как буквальное воспроизведение жизни и нравов семьи Салтыковых, о чем в примечании к «Пошехонской старине» сам автор предупреждал: «Прошу ‹…› не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Автобиографического элемента в моем настоящем труде очень мало; он представляет собой просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу». Писатель не фотографировал действительность, но обобщал жизненные явления и реалии, в том числе события и факты, имевшие отношение к его собственной биографии.
При крепостном праве, во времена детства Салтыкова, важнейшей стороной жизни любой помещичьей семьи, были отношения с крестьянами. Господа Салтыковы не проявляли особых жестокостей в отношении своих крестьян, но они безраздельно владели и распоряжались принадлежавшей им «крещеной собственностью», устраивая жизнь бесправных людей по своему усмотрению. Эта атмосфера рабства, в которой прошли ранние годы Михаила Салтыкова, во многом определила будущие идейные настроения писателя, который, по его собственным словам, «вырос на лоне крепостного права», «вскормлен молоком крепостной кормилицы», обучен грамоте «крепостным живописцем». Этим объясняется и его позиция «Я не дам в обиду мужика…», которой он последовательно придерживался, находясь на государственной службе.
Детские годы оставили многообразные впечатления в душе Салтыкова – не только картины несправедливости и страданий, но «радужные воспоминания» и «сладкие слезы». Вспоминались ему и сельский дом, «и тополи в саду, и церковь на небольшом пригорке, и фруктовый сад…» В одном из поздних своих писем он признавался: «Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из десятилетнего деревенского детства».
Михаилу Салтыкову было всего десять лет, когда он покинул родительский дом: в 1836 году он поступил «полным пансионером» (на полное казенное обеспечение) в третий класс Московского Дворянского института, откуда через два года «за отличие в науках» был переведен в Царскосельский (впоследствии Александровский) лицей. Позднее, говоря о «тяжелых годах», проведенных в этих привилегированных учебных заведениях, Салтыков с горечью вспомнит свое положение небогатого и незнатного «казеннокоштного» воспитанника, у которого «не было ни собственного мундира, ни собственной шинели», который умывался «казенным мылом» и ел «казенную говядину». Он сатирически изобразит и некоторых своих наставников, например лицейского профессора русского языка и словесности П. Е. Георгиевского, которого воспитанники прозвали Пепой. Этот педагог был автором двух хрестоматий для чтения – большой и малой, издевательски прозванных теми, для кого они предназначались, «большим» и «малым Пепиным свинством». Но бездарному педагогу не удалось отвратить подростка от любви к литературе.
В лицее жива была память о Пушкине, существовал даже культ его, поэтому на каждом курсе выбирался свой «продолжатель Пушкина» из числа тех, кто отличался особыми литературными способностями. Таким «продолжателем» считался и Салтыков, который «уже в 1-м классе почувствовал решительное влечение к литературе». Преследуемый гувернерами и учителем, он не переставал писать стихи и даже печатал их в журналах. В первом своем опубликованном стихотворении «Лира» (1841) он в возвышенных тонах изображал передачу поэтической эстафеты от Державина к Пушкину, как будто разворачивая известную пушкинскую формулу «Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил». Юный Салтыков с пафосом говорит об этом:
- Два мужа на лире гремели,
- Гремели могучей рукой;
- К ним звуки от неба слетели
- И приняли образ земной.
- Один был старик величавый:
- Он мощно на лире бряцал.
- Венцом немерцающей славы
- Поэта мир хладный венчал.
- Другой был любимый сын Феба:
- Он песни допеть не успел…
Поэтизм «бряцать на лире» сатирик Салтыков впоследствии будет использовать как обозначение литературной деятельности, не имеющей серьезного гражданского значения, но в начале своего литературного поприща он не ощущал его претенциозности. По выходе из лицея Салтыков, как он сам это подчеркивал, не написал «ни одного стиха».
Ко времени окончания лицея Салтыков вполне серьезно задумывается о литературной карьере, но как казеннокоштный воспитанник он был обязан пробыть шесть лет на государственной службе. В августе 1844 года в чине десятого класса он поступает на службу в Канцелярию военного министерства (которое в сатирических произведениях писателя фигурирует под именем «департамента Побед и Одолений»), где два года служит сверхштатным чиновником, не получая жалованья; к 1847 году он дослужился до титулярного советника, то есть самого низшего 14-го чина в иерархической табели о рангах. Истинные его интересы по-прежнему были связаны с литературой.
Не осознанные в детстве демократические настроения Салтыкова получили своеобразную поддержку в юношеские годы. Ему оказались близки идеи социальной справедливости, высказанные в журналах и книгах, о которых он узнавал, общаясь с другими молодыми людьми, ненавидевшими рабство и унижение человеческого достоинства. Позже он назовет имена своих идейных наставников, прежде всего – Виссариона Григорьевича Белинского, статьями которого зачитывался еще в лицее.
В кругу близких по духу и убеждениям молодых людей, посещавших «пятницы» бывшего лицеиста Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского, в общении с Валерианом Николаевичем Майковым и Владимиром Алексеевичем Милютиным, Салтыков приобщается к новейшим экономическим теориям и социальным учениям, в частности к идеям утопического социализма Сен-Симона, Кабе, Фурье. На молодого Салтыкова, как и на многих его современников, огромное воздействие оказали романы Жорж Санд, в которых в образной форме ярко выражались идеи утопического социализма. Об этом увлечении французской литературой Салтыков позднее писал: «Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век“ находится не позади, а впереди нас…» Салтыков принимал не столько конкретную программу, сколько общий пафос социально-утопических теорий. Система Фурье, например, не устраивала его жесткой регламентированностью и попыткой в мелочах расчислить будущую жизнь. Об этой фурьеристской категоричности в предписаниях будущего он в начале 1860-х годов скажет в отзыве на роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», где отметит «некоторую произвольную регламентацию подробностей ‹…› для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных оснований». Впоследствии он еще более определенно писал о том, что невозможно предсказать формы будущего общественного устройства, которые могут выработаться только в процессе самой жизни.
В первые послелицейские годы Салтыков начинает писать прозу. Его дебютные повести «Противоречия» и «Запутанное дело» были написаны одна за другой в 1847 и 1848 годах. Знаменательны названия произведений, семантика которых связана с обозначением диссонансов социальной жизни и мироощущения человека. Прозаик Салтыков усваивает эстетические каноны «натуральной школы» и показывает психологию и поведение человека как обусловленные обстоятельствами жизни. Такой социальный детерминизм и в дальнейшем будет свойствен его произведениям, но с одной важной поправкой. В отличие от авторов «натуральной школы», Салтыков не сваливает вину исключительно на среду и не считает справедливой формулу «среда заела», так как понимает, что среда – лишь одно из обстоятельств и не менее важную роль в самоопределении личности играют внутренние установки, побуждения и потребности, которые не исчерпываются влияниями среды. В конечном счете сам человек ответствен за все, что происходит с ним, и особенно это касается представителей высшего сословия, людей культуры, которых и образование, и образ жизни, и род занятий обязывают сознательно относиться к жизни своей и общей.
В обоих ранних произведениях Салтыкова, особенно во втором, силен элемент социальной критики, в них можно усмотреть следы политического протеста. Приехавший из провинции в Петербург герой «Запутанного дела» Иван Самойлыч Мичулин, «маленький человек», пытается получить «место», то есть устроиться на службу, но в петербургском чиновном мире для бедного провинциала, не имеющего протекции, места нет. В болезненном бреду герою мерещится огромная пирамида, присмотревшись к которой он замечает, что она составлена из людей, и в самом основании видит своего двойника, голова которого «была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера». Этот салтыковский гротеск – образ чудовищной иерархической пирамиды, уродующей человеческую жизнь, равно как и некоторые другие моменты в тексте, стал причиной особого внимания властей к личности автора, не в пользу которого складывалась и политическая ситуация. В феврале 1848 года произошла революция во Франции. Повесть Салтыкова, напечатанная в марте, была сочтена крамольной, в ней, как и в повести «Противоречия», увидели «вредное направление и стремление к распространению революционных идей». В апреле 1848 года Салтыков был арестован и после недолгого следствия отправлен в Вятку.
Двадцатидвухлетний Салтыков, полный планов, надежд и литературных притязаний, на семь лет принудительно был вырван из привычных условий жизни – в Петербург он вернулся уже тридцатилетним.
В Вятке Салтыков начинает службу с низших ступеней чиновничьей лестницы. Через некоторое время он был замечен и получил должность старшего чиновника по особым поручениям при губернаторе, а еще через два года назначен советником губернского правления. Служил Салтыков честно и по-прежнему вдохновлялся «идеалами добра, истины, любви», невзирая на то, что действительная жизнь слишком противоречила этим идеалам. Он заводит знакомства в губернском обществе, наиболее близкие из служебных – с семьями губернатора Акима Ивановича Середы и вице-губернатора Аполлона Петровича Болтина. И ни на минуту не может примириться с положением пленника, мечтая о возвращении в Центральную Россию. Провинциальная жизнь наваливается на молодого человека всей тяжестью своего однообразного и пошлого существования, лишает энергии и убивает силы. «О провинция! – напишет он в рассказе „Скука“, – ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать!»
В Вятке Салтыков ничего не писал, кроме писем родным и знакомым, но это вынужденное молчание стало временем творческого возмужания. По его собственным словам, ссылка имела на него «и благодетельное влияние», сблизив с действительной жизнью: «…дала много материалов для „Губернских очерков“, а ранее я писал вздор». В ноябре 1855 года Салтыков получил известие об освобождении и в конце декабря навсегда покинул Вятку. Почти сразу же по его возвращении из ссылки, во второй половине 1856 года, на страницах журнала «Русский вестник» начинается публикация произведений, объединенных общим названием «Губернские очерки». Повествование в цикле ведется от имени надворного советника Николая Ивановича Щедрина, именем которого были подписаны очерки, – так в России появился писатель Щедрин, чей своеобразный талант был замечен и читателями и критикой. С этого времени Салтыков начинает подписывать свои произведения почти исключительно литературным именем «Н. Щедрин». Достоверных сведений о происхождении псевдонима нет, существуют разные версии. По одной из них, фамилия Щедрин принадлежала купцу-раскольнику, который произвел сильное впечатление на Салтыкова, участвовавшего в следствии по делу старообрядцев. По версии, переданной сыном писателя со слов матери, псевдоним нечаянно придумала она, сказав мужу, что он «щедр на всякого рода сарказмы».
«Губернские очерки», как самая что ни на есть своевременная книга, ошеломили русскую публику. Со смертью императора Николая I и воцарением Александра II начиналась новая эпоха: «прошлые времена», казалось, уходили в небытие, и наступал период политических надежд и социальных упований. Этот перестроечный дух эпохи очень точно почувствовал и изобразил в своем цикле Салтыков. «Ведь выбрал же г. Щедрин минутку, когда явиться!» – писал Ф. М. Достоевский, выразив настроение многих своих современников. Чиновные взяточники, мошенники, вымогатели пестрой толпой проходят перед читателями, но цикл венчается картиной похорон и знаменательной фразой: «„Прошлые времена“ хоронят!» Книга Салтыкова принесла ему известность в самых разных кругах читателей, вплоть до членов царской фамилии. Когда происходило одно из очередных служебных перемещений Салтыкова и царю доложили, что речь идет об авторе «Губернских очерков», он произнес: «…пусть едет служить да делает сам так, как пишет».
«…Писал и служил, служил и писал» – так в одном из набросков автобиографии скажет Салтыков об основном содержании своей жизни на протяжении многих лет. Писал – потому что не мог не писать. Служил – потому что служба была основным источником доходов. Об этом приходилось думать еще и потому, что в 1856 году Михаил Евграфович становится семейным человеком: он женится на дочери бывшего вятского вице-губернатора Елизавете Аполлоновне Болтиной (1838, по др. свед. 1836–1910).
Женитьба на бесприданнице положила начало конфликту Салтыкова с матерью, которая не могла простить прежде любимому сыну его нерасчетливости. Внешне все выглядело как будто вполне благополучно, но возникло отчуждение, которое выразилось и в материальных притеснениях. В 1852 году, когда Салтыков находился в ссылке, умер его отец, и Михаил, по просьбе матери, чтобы не дробить родовое имение, отказался от своей доли в отцовском наследстве. Ему и поступившему точно так же Сергею Ольга Михайловна обязалась со временем передать часть своего состояния. Но недовольство матери женитьбой сына не оставляло Салтыкову надежд на то, что она выполнит свое обещание. Между родственниками возникает имущественный спор, который привел к разладу Михаила Евграфовича с семьей, в первую очередь с матерью и старшим братом. Окончательного разрыва, правда, не произошло, но отношения были испорчены. В результате второго семейного раздела в 1859 году Михаил совместно с братом Сергеем стал владельцем разрозненных имений в Тверской и Ярославской губерниях, управление которыми по обоюдной договоренности принял Сергей Евграфович. На случай возможного раздела для Михаила были определены самые невыгодные условия – этими мерами предполагалось «обуздать» строптивого сына. Салтыкову приходилось рассчитывать в основном на собственные силы.
О. М. Салтыкова умерла в декабре 1874 г. Салтыков на похороны опоздал. Это несостоявшееся прощание с матерью имело для него роковые последствия: результатом поездки стал суставной ревматизм, повлекший за собой другие недуги, от которых писатель страдал до конца жизни.
«Лучшую пору моей жизни я размыкал по губернским городам», – писал о своей службе Салтыков. В губерниях он занимал высокие административные посты: вице-губернаторствовал в Рязани (март 1858 – апрель 1860) и Твери (апрель 1860 – февраль 1862), затем, после краткосрочной отставки, продолжил службу в должности председателя казенной палаты в Пензе (ноябрь 1864 – ноябрь 1866), Туле (ноябрь 1866 – октябрь 1867) и Рязани (октябрь 1867 – июнь 1868). Только в 1868 году с бюрократической деятельностью было бесповоротно покончено. Салтыков вышел в отставку в чине действительного статского советника, который по табели о рангах соответствовал армейскому чину генерал-майора.
Сказать, что Салтыков был добросовестным и честным чиновником, – это значит ничего не сказать. Его служебная деятельность являла собой образец отношения администратора к своим обязанностям, он был бескомпромиссен, энергичен, не считался с затратами личного времени и сил. Начав службу в Рязани, писал брату, что работает «в полном смысле слова, как каторжник ‹…› ежедневно, не исключая и праздничных дней, не менее 12 часов». Примерно так же обстояло дело и в Твери.
В Рязани и Твери Салтыков как вице-губернатор был помощником губернатора в управлении губернией и возглавлял работу 1-го отделения губернского правления. Кроме того, он, в отсутствие губернатора, по нескольку месяцев исполнял его обязанности. Через руки Салтыкова проходили бесчисленные «дела о злоупотреблениях помещичьей властью», и он детально вникал в подробности, добиваясь наказания виновных. Позднее он вспоминал о тех «ужасах», которые ему довелось видеть, – «застенки и деревянные колодки, из которых заставлял при себе вынимать людей». Занимался он вопросами жизни городского населения, в частности положением фабричных рабочих; проблемами загрязнения окружающей среды; в его ведении находилась деятельность чиновников земской и городской полиции. Все вопросы, подлежавшие обсуждению губернского присутствия (коллегиального органа власти при губернаторе), Салтыков предварительно рассматривал сам и по многим вопросам писал или редактировал решения. Помимо всего прочего он был еще и членом многочисленных комитетов, присутствий, комиссий и попечительских советов. И ни к одному из направлений своей деятельности Салтыков не относился формально. Жандармский штаб-офицер, который вел в Твери негласный надзор за бывшим ссыльным, доносил по начальству: «Вице-губернатор Салтыков. Сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных…» Люди же, в разное время находившиеся под его началом, вспоминали, что «трогательно было его сочувствие к нужде человека», и хотя в службе он был «очень строг и нецеремонен», но в отношении к младшим по чину «всегда оставался мягким, ровным и деликатным».
Чиновничья служба фактически не оставляла времени для занятий литературой, но Салтыков все-таки ухитрялся писать. Главным объектом его внимания оказывается жизнь провинциальная, и чиновничья в частности. В 1857–1868 годах написаны произведения, объединенные в сборники «Невинные рассказы», «Сатиры в прозе», «Письма о провинции» и др. В 1860-х годах Салтыков напишет и не публиковавшуюся при его жизни «драматическую сатиру» «Тени», в которой разоблачались механизмы деятельности высшей бюрократии. В эти же годы начинается публикация рассказов, впоследствии составивших цикл «Помпадуры и помпадурши», герои которых губернаторы-«помпадуры» и их любовницы-«помпадурши». В этих рассказах определяются и художественно аргументируются основные признаки «помпадурства»: «невежественность ‹…› легкомысленная страсть к разрушению ‹…› и сластолюбие».
«Ругающийся вице-губернатор» – так обозвал Салтыкова В. А. Зайцев, радикальный критик радикального журнала «Русское слово». Бранная формула Зайцева определяла беспримерное положение Салтыкова в литературно-общественной жизни России: чиновник, занимавший высокие государственные посты, он в своих литературных произведениях был самым ярким обличителем существовавших порядков – царившего на Руси беспорядка. В текстах Салтыкова не раз возникает летописная формула «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет», и он не просто мечтал о том, чтобы порядок был, но словом и делом стремился утверждать его.
Вице-губернаторство Салтыкова в Твери совпало со временем подготовки и проведения крестьянской реформы. По поводу освобождения крестьян высказывались разные соображения о том, в каких формах оно должно происходить и насколько должно быть радикальным. Часть прогрессивно настроенного тверского дворянства – тверская либеральная оппозиция – выступала за освобождение крестьян с предоставлением им земли. Лидером этой группы был Алексей Михайлович Унковский, губернский предводитель дворянства в 1857–1859 годах, младший соученик Салтыкова по лицею, который с конца 1860-х годов становится одним из ближайших его друзей. В начале же 1860-х их объединила общность позиции по крестьянскому вопросу. В этот период Тверь оказалась своеобразным центром антиправительственных настроений. Программа либеральных преобразований, предложенная чрезвычайным собранием тверских дворян, была изложена в Адресе, направленном Александру II. Салтыков, не имевший непосредственного отношения к событиям, судя по некоторым обстоятельствам, негласно участвовал в выработке документов.
В очерках, написанных в Твери в начале 1860-х годов, впервые появляется город Глупов. Но прообразом его послужила не только Тверь, в равной мере на это могли претендовать и Вятка, и Рязань, а позже еще и Тула, и Пенза – любой из губернских, уездных или даже столичных городов, словом – вся Россия.
Уже в этих первых рассказах появляется тема истории Глупова – истории, которая не существует: «У Глупова нет истории. Всякая вещь имеет свою историю; даже старый вице-губернаторский вицмундир имеет свою историю ‹…› а у Глупова нет истории. Рассказывают старожилы, что была какая-то история и хранилась она в соборной колокольне, но впоследствии не то крысами съедена, не то в пожар сгорела…» Слово «история» каламбурно обыгрывается: в нем совмещаются понятия о процессе и об описании процесса. К этому каламбуру автор возвращается в «Истории одного города», где использован прием найденной истории – записей четырех летописцев, развернутых в причудливом повествовании.
Основные события, изображенные в романе Салтыкова, хронологически ограничены 1731–1825 годами, но о сугубой условности этих временных границ свидетельствует, например, число градоначальников – 22: именно столько самодержцев было на Руси, начиная с венчавшегося на царство Ивана Грозного и до правившего в 1860-е годы Александра П. Текст романа насыщен «историческими совмещениями и проекциями» (С. А. Макашин), убеждающими в том, что перед нами не историческая, а, как утверждал автор, «совершенно обыкновенная» сатира. Материал же для сатирических обобщений писателю давала вся российская история – от Гостомысла до современности. «Сумасшедше-юмористическая» (И. С. Тургенев) фантазия Салтыкова гротескно заостряла факты и ситуации действительной жизни, обнажая их подлинное содержание и сущность.
«…Карикатуры нет ‹…› кроме той, которую представляет сама действительность», – заметил однажды Салтыков. Он неоднократно имел возможность убеждаться в этом, но привыкнуть к подобному положению не мог. В 1876 году было принято правительственное решение «О предоставлении местным административным властям права издавать обязательные постановления». Писатель с удивлением сообщал своим корреспондентам о том, что, сам того не ведая, оказался пророком: «Когда я представлял в „Истории одного города“ градоначальника, который любил писать законы, то и сам не ожидал, что это так скоро осуществится».
Лейтмотив «Истории…» – это беззаконие и произвол как принципы внутренней политики и общественной жизни. Головотяпы, будущие глуповцы, возмечтали о сильной руке, и старец Гостомысл, благословляя их на поиски князя, обещает: «…он и солдатов у нас наделает, и острог какой следовает выстроит!» Каждый из глуповских градоначальников, за редким исключением, по-своему старается и преуспевает на этом поприще. «Безумие» власти писатель показывает в гротесковых образах безголовых правителей. Брудастый-Органчик, с «неким особливым устройством» вместо головы, исполнявшим только две пьески: «Не потерплю!» и «Разорю!» Майор Прыщ, голова которого оказалась фаршированной и была с вожделением употреблена в пищу предводителем дворянства, «одержимым гастрономической тоской». Микроцефал, или «короткоголовый», статский советник Иванов, то ли умерший от натуги, силясь постичь очередной сенатский указ, то ли уволенный в отставку «за то, что голова его вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении) перешла в зачаточное состояние». И кульминация этого ряда – «идиот» Угрюм-Бурчеев, задумавший втиснуть в прямую линию «весь видимый и невидимый мир». «Систематический бред» Угрюм-Бурчеева оказывается сатирическим обобщением теории и практики социальных экспериментов – от утопии Томаса Мора до аракчеевских поселений и современных Салтыкову социально-политических учений. Режим, созданный Угрюм-Бурчеевым, стал невольным и страшным пророчеством – предвещанием тоталитарных режимов XX века. Два праздника в году – весной и осенью, которые отличаются от будней «только усиленным упражнением в маршировке»; «серая солдатская шинель» вместо неба, и шпионы, шпионы, шпионы – в каждом доме… Яркая щедринская антиутопия предшествует знаменитым антиутопиям XX века.
Пророчество о том, что Михаил будет «девичий разгонщик», не оправдалось. Собственное юношеское представление о женщине Салтыков передает в характеристике одного из своих персонажей: «Женщина представлялась какою-то теоретическою отвлеченностью, всегда нравственною, всегда окруженною ореолом и благоуханием чистоты. То был идеал, о котором мечтало молодое воображение, но который оно не дерзало себе воплотить…»
Салтыкову показалось, что идеал воплотился, когда он увидел дочь вятского вице-губернатора Аполлона Николаевича Болтина юную Лизу, пленившую его своей красотой. Отголоски этого чувства к «маленькой, миленькой Бетси», «радости и утешению всего живущего», можно найти в его произведениях. В 1853 году он просит руки Елизаветы, но за молодостью невесты ему было предложено подождать еще год. О своих намерениях Салтыков извещает мать, заблаговременно заботясь о ее согласии. Формально оно было получено, но Ольга Михайловна не переставала надеяться на то, что сын образумится. Однако он не передумал даже и после того, как семья Болтиных переехала из Вятки во Владимир. В 1855 году он получает окончательное согласие родителей невесты и, вернувшись из ссылки, первым делом принимается за устройство своего брака, преодолевая откровенное сопротивление матери. Венчание состоялось 6 июня 1856 года в Москве в Крестовоздвиженской церкви.
Как и во всякой другой семье, отношения супругов Салтыковых прошли разные фазы, но в старости писатель ощущал свою семейную жизнь неудавшейся. Прожив вместе почти 33 года, они существовали как будто в разных измерениях. Елизавета Аполлоновна всегда уделяла много внимания своей внешности, любила наряды и развлечения – и была абсолютной противоположностью мужу. Она, правда, умела разбирать его почерк и помогала ему в переписывании произведений, но жизненные интересы их были мало совместимы. Известно высказывание Салтыкова о разных типах женщин, в их числе тех, «у которых вся специальность декольте». К этому типу принадлежала и его собственная жена, к которой он был глубоко привязан. В одном из писем Салтыков дает ей такую характеристику: «У жены моей идеалы не весьма требовательные. Часть дня (большую) в магазине просидеть, потом домой с гостями прийти, и чтоб дома в одной комнате много-много изюма, в другой много-много винных ягод, в третьей – много-много конфект, а в четвертой – чай и кофе. И она ходит по комнатам и всех потчует, а по временам заходит в будуар и переодевается». Но и Елизавете Аполлоновне с ее жизнелюбием, видимо, непросто было жить с человеком, которого многолетние недуги рано превратили в беспомощного и «брюжжащего старика». «Какая ужасная старость! – писал 58-летний Салтыков. – Как хотите, а есть в моей судьбе что-то трагическое»[1].
Брак Салтыкова долгие годы был бездетным, и только в 1872 году, в возрасте 46 лет, Михаил Евграфович становится отцом: у него появился сын Константин, а через 11 месяцев и дочь Елизавета. Салтыков был чадолюбивым родителем и, несмотря на огромную занятость, старался участвовать в воспитании детей, которых мать слишком баловала, что, по его мнению, препятствовало их развитию. О любви и нежной заботливости отца можно судить по его переписке с детьми, когда они с матерью находились за границей: «Советую тебе писать по линейке. Ты еще маленькая, и надо привыкать писать прямо. Попроси маму, чтобы она вас по-немецки говорить приучала: теперь вы легко научитесь, а потом будет очень трудно. Я все дни сижу дома и скучаю. И делать ничего не хочется. Птицы тоже скучают без вас и одичали».
В мемуарах современников сохранился забавный эпизод, как знаменитый писатель безуспешно пытался помочь дочери в написании сочинения и получил то ли тройку, то ли двойку с минусом. Сама Елизавета Михайловна, к сожалению, не оставила воспоминаний об отце. Это сделал сын Константин Михайлович, издавший в 1923 году небольшую книжечку под названием «Интимный Щедрин». Судьба этих мемуаров печальна. М. Е. Салтыков, увиденный глазами любящего человека, представлен здесь домашним образом, не как великий писатель, а как частное лицо. Но именно это и не устраивало идеологизированное советское литературоведение, объявившее мемуары сына «книгой плохой, обывательской, во многих местах малодостоверной». Они были признаны источником, не заслуживающим серьезного внимания, и на долгие годы фактически выведены из научного оборота.
По возвращении из ссылки Салтыков не сомневался, что будет заниматься литературным трудом и даже, видимо, предполагал оставить чиновничью службу. Уже во второй половине 1850-х годов он задумывается об издании собственного журнала, но эти планы остались нереализованными.
Из числа действующих журналов Салтыкову ближе других был некрасовский «Современник», отношения с которым, тем не менее, складывались очень непросто. Именно в этот журнал он первоначально предложил свои «Губернские очерки», но H. A. Некрасов, прислушавшись к негативному отзыву Тургенева («Это совсем не литература, а черт знает что такое!»), отверг их. Правда, успех книги заставил редактора искать сотрудничества Салтыкова, и он печатался там в 1857–1861 годах, но его отношения с редакцией носили сугубо деловой характер.
В январе 1862 года Салтыков подает в отставку, намереваясь издавать собственный журнал «Русская правда», соредакторами должны были стать A. M. Унковский и Алексей Андрианович Головачев. Он написал программу, обосновал его направление и обратился к Н. Г. Чернышевскому с просьбой о сотрудничестве. Но этот проект не получил одобрения со стороны властей.
В 1862 году журнал «Современник» переживал тяжелые времена: в ноябре 1861 года умер H. A. Добролюбов, один из основных его сотрудников; в июне на восемь месяцев было приостановлено издание журнала; в июле был арестован и заключен в крепость Чернышевский. Возобновляя в декабре издание «Современника», Некрасов просит Салтыкова войти в редакцию, и тот соглашается, но этот период сближения с журналом продлился менее двух лет. Сотрудничество писателя, явно далекого от революционной идеологии, в журнале, исповедовавшем радикальные идеи, некоторым современникам представлялось отступлением от убеждений. Но Салтыков, которому был близок демократический дух «Современника», оставлял за собой право на страницах этого издания выражать собственное мнение, даже если оно не разделялось другими сотрудниками. Этим нежеланием и неумением отступать от своей позиции объясняются разногласия Салтыкова с членами редакции, которых он называл «духовной консисторией» (М. А. Антонович, Г. З. Елисеев и А. Н. Пыпин происходили из среды священнослужителей), и его уход.
Возвращаясь к чиновничьей службе, Салтыков известил Некрасова о том, что остается «только сотрудником» журнала. Сотрудничество это постепенно перерастает в приятельские отношения с Некрасовым, который 1868 году, после закрытия «Современника», приобретает право на издание «Отечественных записок» и приглашает Салтыкова стать одним из соредакторов журнала. Салтыков принимает предложение и окончательно выходит в отставку. Новые «Отечественные записки» стали самым авторитетным демократическим журналом в России. В 1876 году, в связи с тяжелой болезнью Некрасова, Салтыков фактически возглавил редакцию, а в 1878 году был официально утвержден редактором.
В журнале Салтыков сразу же возглавил отдел беллетристики и сам стал его активнейшим автором. Все, что он писал в 1868–1884 годах, появлялось на страницах «Отечественных записок». В каждом номере журнала, за редкими исключениями, печатались его произведения.
Работал Салтыков неимоверно много, потому что «жить для него значило писать или что-нибудь делать для литературы» (С. Н. Кривенко). Поистине удивительна была его работа как редактора, о чем сам он впоследствии говорил:
«Наиболее талантливые люди шли в „Отеч‹ественные› зап‹иски›“, как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне – доверяли, моему такту и смыслу, и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял». Существует много рассказов о том, как редактор Салтыков делал чудеса даже с самыми «неудобными для печатания» вещами. Не обходилось, конечно, и без обид, но в основном авторы доверяли редакторской правке. Внешне суровый, но добрый и заботливый по натуре человек, Салтыков был неизменно внимателен к авторам и их нуждам. Никогда не отказывал в материальных просьбах и, как свидетельствует современник, «сам даже предлагал иногда денег, когда узнавал, что человек нуждается, и предлагал людям, которых мало знал, лишь бы только они были писателями и из писаний их было видно, что они люди порядочные…»
Время работы в «Отечественных записках» становится временем «литературного генеральства» Салтыкова, его талант разворачивается во всем своем блеске, среди читателей находится множество людей, кого он по праву мог считать «читателем-другом», для них он становится учителем и пророком, в его произведениях они искали ответы на мучительные вопросы жизни. По словам А. П. Чехова, «две трети читателей не любили его, но верили ему все».
Между тем сам Салтыков не раз испытывал сомнения в пользе своей литературной деятельности, подобные сомнения и разочарования переживают и его герои-литераторы. Таков персонаж сказки «Приключение с Крамольниковым», в один прекрасный момент осознавший, что его слово не способно изменить мир. Особенно остро проблема отношений с читателем встает для Салтыкова после того, как в апреле 1884 года за «распространение вредных идей» были закрыты «Отечественные записки». Он, правда, продолжает печататься в других изданиях – «Вестнике Европы», «Русских ведомостях», «Русском богатстве», но утрату своего журнала воспринимает как отторжение от читателя – единственной «особы», которую любил. Болезненно реагирует он на любые симптомы разрыва с читателем, которые становились известны ему. Один такой эпизод, случившийся в родной Твери, он с горечью комментировал: «Чего со мною не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно заявляли, что я – вредный, вредный, вредный ‹…› мало того: в родном городе некто пожертвовал в местный музей мой бюст. Стоял-стоял этот бюст год или два благополучно – и вдруг его куда-то вынесли. Оказалось, что я – вредный». Постоянные болезни усиливали чувство «оброшенности», хотя те читатели, которые сочувствовали литературной деятельности Салтыкова, по-прежнему ждали его произведений и откликались на них.
«Литература осветила его жизнь, но она же и напоила ядом его сердце» – это сказано о герое рассказа «Похороны», но в первую очередь – о себе самом. И все же ничего важнее литературы для Салтыкова никогда не существовало. И сыну своему писатель перед смертью завещал: «…паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому».
В последние годы жизнь Салтыкова, небогатая внешними впечатлениями, определялась болезнью. Казалась бы, болезнь должна была целиком поработить человека и лишить его творческой энергии и сил, но, вопреки физическим страданиям, талант писателя не ослабевал и раскрывался новыми гранями. Салтыков с печалью замечал, что после 1884 года «утратил юмор». Действительно, его произведения последнего периода в большинстве своем лишены искрометного смеха, в них преобладает трагический элемент, но в художественном отношении эти изменения знаменовали новый виток его творческой эволюции.
Последним произведением Салтыкова стала хроника «Пошехонская старина», возвращавшая к чудовищным временам крепостной действительности, которая и спустя десятилетия после отмены рабства довлела русской жизни. Но, работая над «Пошехонской стариной», Салтыков задумывает новое произведение, от которого сохранился лишь небольшой фрагмент: «Серое небо, серая даль, наполненная скитающимися серыми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клубятся серые гады; в сером воздухе беззвучно реют серые птицы; даже дорога словно серым пеплом усыпана». В библейских, эсхатологических тонах выполнен дошедший до нас эскиз. Но благодаря воспоминаниям современников мы знаем, что в последнем замысле писателя все-таки жила его юношеская мечта о «золотом веке», который «находится не позади, а впереди нас»: обращаясь к своим современникам, он стремился напомнить русскому обществу забытые им слова – «совесть, отечество, человечество»…
Михаил Евграфович Салтыков скончался 28 апреля 1889 года и согласно его завещанию был похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища рядом с могилой И. С. Тургенева (в XX веке могила была перенесена). Вся Россия откликнулась на смерть писателя: некрологи были напечатаны в изданиях, выходивших в разных уголках страны, родные получили сотни соболезнующих телеграмм, к гробу было принесено множество венков, тысячи людей пришли проститься с Салтыковым.
Официальный «Правительственный вестник» поместил некролог, в котором «наиболее выдающимися» литературными сочинениями Салтыкова были названы «Губернские очерки», «Господа Головлевы», «Пошехонская старина» – произведения, чей обличительный пафос не вызывал опасений у «начальства». И в самом деле, не упоминать же в правительственном печатном органе «Историю одного города», «Помпадуров и помпадурш», «Современную идиллию» или «Письма к тетеньке»…
Уже в тридцатых годах XX века появилась частушка:
- Мы за смех, но нам нужны
- Подобрее Щедрины
- И такие Гоголи,
- Чтобы нас не трогали.
История повторяется. Писатель Салтыков всегда был опасен, и для любой власти он – «вредный, вредный, вредный». Но писатель Салтыков всегда был нужен России. Он и сейчас по-прежнему необходим ей.
В этой книге речь пойдет о Салтыкове как о литераторе и человеке. Мы оставляем в стороне его чиновничью деятельность, которой писатель вынужден был заниматься на протяжении многих лет и которая отвлекала его от главного дела жизни.
Первый раздел составляют не предназначавшиеся для печати тексты самого Салтыкова. Они извлечены из его писем к друзьям и во многих случаях имеют раблезианский характер. Это придуманные им очень смешные анекдоты об общих знакомых и некоторых известных деятелях, две сатирические сказки и фантастическая переписка императора Николая I (Статýя) с французским писателем Поль де Коком.
Во второй раздел входят воспоминания о Салтыкове самых разных людей. Прежде всего тех, кто знал его достаточно близко: сына, племянницы, ее матери, детей его ближайшего друга A. M. Унковского, лечащего врача и друга H. A. Белоголового и сотрудника по журналу С. Н. Кривенко. Эти воспоминания создают разносторонний и объемный портрет Салтыкова: родные и близкие пишут о нем в первую очередь как о частном человеке; доктор Белоголовый, опираясь на письма к нему Салтыкова, прослеживает историю его болезни, с медицинской точки зрения объясняя некоторые особенности его характера; сотрудник «Отечественных записок» Кривенко дает представление о редакторской деятельности писателя и его отношении к собратьям по перу. В этот же раздел включены фрагменты из воспоминаний и писем о Салтыкове, принадлежащих людям, в той или иной степени близким к литературе. Воспоминания всегда субъективны, поэтому, обращаясь к приведенным в книге текстам, надо учитывать это, особенно в тех случаях, когда мемуаристы не просто приводят эпизоды из жизни писателя, но дают собственную интерпретацию его личности или пытаются истолковать его политические взгляды, что далеко не всем удается. В отношении идейной позиции Салтыкова справедливо писал его сын: «Он стремился быть свободным в своих суждениях и, наверное, остался бы верным себе, что бы от этого для него ни произошло». Это совпадает с тем, что в 1930-х годах говорил о писателе директор Библиотеки им. В. И. Ленина старый большевик В. И. Невский, который в 1935 году был репрессирован и в 1937-м расстрелян. В разговоре с С. А. Макашиным, написавшим впоследствии капитальную четырехтомную биографию Салтыкова, он задал вопрос, имея в виду Чернышевского и Салтыкова: «Как вы думаете, если бы сегодня были живы и действовали Николай Гаврилович и Михаил Евграфович, где бы они были?» И сам же ответил: «Первый заседал бы в Политбюро, а второй гнил бы в Нарыме или Магадане»[2].
В третьем разделе публикуются прозаические и стихотворные отклики на смерть Салтыкова, которые показывают значение его творчества для современников и глубину постигшей общество утраты. При этом не все современники могли осознать масштаб дарования писателя и его вневременное значение, многие, что вполне естественно, говорили о нем только с позиций своего исторического времени. В противовес этому можно привести сохранившееся в воспоминаниях А. Ф. Кони мнение А. Н. Островского, который считал Салтыкова «не только выдающимся писателем с несравненными приемами сатиры, но и пророком по отношению к будущему».
В приложение включены статьи, рассказывающие о семье писателя и судьбе его потомков.
Все тексты публикуются в соответствии с современными грамматическими нормами, даты приводятся по старому стилю. Допущенные в некоторых текстах купюры принадлежат публикатору и специально не оговариваются; в тех случаях, когда купюра сделана автором текста, это отмечено в примечаниях. Имена некоторых современников Салтыкова повторяются в разных текстах. Для удобства чтения, чтобы читателю не приходилось постоянно листать книгу в поисках пояснений, повторяющиеся имена в большинстве случаев комментируются неоднократно.
Произведения и письма М. Е. Салтыкова цитируются по изданию:
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. М.: Худож. лит., 1965–1977, с указанием тома и страницы в тексте.
Укажем также полные выходные данные книг, отсылки к которым многократно используются в комментариях:
Литературное наследство. Т. 13–14: Щедрин. Кн. 2. М.: Жур.-газ. объединение, 1934.
М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: в 2 т. / Воспоминания собрал, подгот. к печати, комментировал и написал вступ. статью С. А. Макашин. М.: Худож. лит., 1975.
М. Е. Салтыков-Щедрин и его современники. Энциклопедический словарь / Сост. и ред. Е. Н. Строганова. СПб.: Росток, 2021.
Макашин С. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860–1870-е годы. Биография. М.: Худож. лит., 1984.
Макашин С. Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875–1889. Биография. М.: Худож. лит., 1989.
В книге использованы фотоматериалы, предоставленные Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и Тверским государственным областным музеем, а также работы М. В. Наумова, 1981 г. р., г. Киров (Вятка): «История одного города. Голодный город». 2015 г., х./а., 60×50, «Как Салтыков Щедрина в Крутогорске повстречал». 2016 г., х./а., 60×50, «История одного города. Подтверждение покаяния. Заключение». 2015 г., х./а., 60×50.
Е. Н. Строганова
Бесцензурные тексты М. Е. Салтыкова
Михаил Евграфович Салтыков Фотография С. Л. Левицкого, середина 1860-х гг.
Эпистолярные анекдоты из «мушкетерских» писем
«Компанией мушкетеров» Салтыков называл тех людей, с которыми был близок во второй половине 1870-х – начале 1880-х гг. и проводил свой досуг: гурманские обеды, игра в карты, посещение театра. В их числе был известный либеральный деятель 1850–1860-х гг., присяжный поверенный Алексей Михайлович Унковский; инженер путей сообщения, карточный партнер Александр Николаевич Ераков; юрист и поэт Александр Львович Боровиковский; член Петербургского окружного суда, гласный петербургской думы Владимир Иванович Лихачев и некоторые другие. Непременное содержание их досуга составляла карточная игра, но, разумеется, не этим определялись приятельские привязанности Салтыкова. С. А. Макашин писал, что дружеское общение писателя питало его творческую фантазию, давая материал «для сатирической разработки типа „русского культурного деятеля“ из верхушки либерально-буржуазного общества». В общем и целом это так. Но неверно было бы предполагать, что Салтыков в своем дружеском окружении только черпал материал для художественных картин. Ближайшими знакомыми писателя были люди, способные его понимать, чьим мнением он интересовался и дорожил, – свои люди, с которыми существовал единый язык общения. И именно эта сторона дружеских взаимодействий Салтыкова прочитывается в его письмах.
«Мушкетерскими» в ближайшем смысле следует называть письма, адресованные членам «компании мушкетеров», но мы используем это именование расширительно, включая сюда все письма Салтыкова, содержащие шуточные рассказы и реплики, не предназначенные для печати. Эти письма к A. M. Унковскому, А. Н. Еракову, А. Л. Боровиковскому, В. П. Гаевскому, И. В. Павлову и др. отличает свой код, выделяющий их как особый пласт в салтыковском эпистолярном наследии. Признаками этого кода можно считать языковую раскованность, нетабуированность, свободное использование некодифицированной, в том числе и обсценной, лексики, «раблезианский» юмор, нередко эротического свойства. Действующими лицами шуточных историй оказывались друзья Салтыкова и некоторые симпатичные ему люди (Унковский, Ераков, А. Н. Островский, И. С. Тургенев), а также лица, к которым он испытывает явную антипатию (К. П. Победоносцев, Т. И. Филиппов и др.). За каждым из них закрепляются определенные признаки и характеристики: изображению Еракова сопутствуют эротические мотивы, Островского отличает «благообразие», Тургенева – «благовоспитанность», доминантой рассказа о Победоносцеве становятся противоестественные сексуальные наклонности, в рассказах же об Унковском акцентированы наклонности «естественные»: эротизм, чревоугодие, сквернословие. Такого рода рассказы сам Салтыков называл «анекдотами». Кроме анекдотов в письмах есть также тексты, обладающие иными жанровыми признаками. К ним относятся сказки «Архиерейский насморк», «Сенаторская ревизия» и «переписка» императора Николая Павловича с Поль де Коком, которые С. А. Макашин определил как «эпистолярные сатирические миниатюры». Это удачное обозначение может быть применимо и ко всем остальным текстам, что не отменяет необходимости видеть жанровые различия между ними и признавать, что основным видом «эпистолярной сатирической миниатюры» у Салтыкова был анекдот.
Понятие «литературный анекдот» отграничивает анекдот как культурный феномен, по функции близкий мемуару и составляющий часть «малой истории», от анекдота бытового, фольклорного. Однако под пером некоторых авторов анекдот становится и литературным жанром, как, например, цикл анекдотов Хармса о Пушкине или же псевдохармсовский цикл о русских писателях. Творцом именно таких литературных анекдотов был Салтыков.
Эпистолярные анекдоты Салтыкова отвечают одному из исконных признаков анекдота как «первичного» жанра: героями придуманных им историй являются реальные лица, курьезные же случаи, происходящие с ними, основаны не на фактическом, а на психологическом правдоподобии (В. Э. Вацуро). Иронизируя и злословя, Салтыков обыгрывает не только бытовые привычки, интересы и занятия, личные привязанности известных в свое время людей, чьи имена остались в истории русской культуры и общественной жизни, но также и те институции, с которыми ассоциируются эти имена. Его суждения о современниках и современности пристрастны, но всегда имеют под собой определенные основания. Анекдот, представляющий собой «текст в тексте», помещен в соответствующую эпистолярную раму и в каждом случае по-своему соотносится с ней, обладая, однако, свойствами изолированности и завершенности. Каждый анекдот, как правило, имеет пограничные приметы, хотя они не всегда бывают отчетливо выражены. К таким приметам относятся начальные формулы (вроде «кстати о…») и финальные пуанты (см., например, в анекдоте о Победоносцеве заключительную реплику: «А на другой день все либералы говорили: и не то еще будет, ежели доступ на высшие курсы будет для женщин затруднен»). Степень автономности анекдота от контекста различна в каждом конкретном случае. Так, письма к Боровиковскому часто строятся как серия известий об общих знакомых, своего рода отчет или сводка событий, что определяет каскадный принцип соединения – нанизывание различных историй, порой развивающих одну тему, венцом которой становится кульминационный анекдот.
Анекдоты Салтыкова, не рассчитанные на широкую публику, предполагают посвященного читателя, который без дополнительных комментариев способен понять, в чем соль, и не будет спрашивать, в каком месте надо смеяться. Такая ориентация на осведомленного реципиента, знание им актуальной исторической конкретики необходимы и для современного анекдота. Анекдоты же Салтыкова, подобно всем другим его текстам, нуждаются в комментировании, объяснении исторических реалий, положений и лиц. Современному читателю наверняка будет непонятно, почему советчиком Статуя (так Салтыков именует Николая I) оказывается именно Поль де Кок. А дело в том, что имя этого ныне почти забытого, но популярного в XIX в. французского писателя воспринималось как нарицательное обозначение фривольной литературы. Шутливая по форме «переписка» сатирически характеризует императора как представителя высшей власти: в своих политических решениях русский император пользуется советами легкомысленного француза, и само фантастическое сопряжение столь различных фигур создает комический эффект.
«Мушкетерские» письма Салтыков писал в 1875–1885 гг., в основном в те периоды, когда отсутствовала возможность непосредственного общения с близкими людьми. Обычно это было время пребывания за границей (1875–1876, 1880, 1881 гг.); постоянным и любимым адресатом его российских посланий был Боровиковский, длительно живший вне Петербурга (к нему обращено наибольшее количество «мушкетерских» писем). Анализируя датировки, можно заметить, что эпистолярные произведения появляются именно в те периоды, когда Салтыков не пишет для печати. Его писательская натура не выносила молчания. В 1876 г. он сетует на то, что не может продолжать цикл «Культурные люди», так как не хватает веселости и легкости для завершения большого замысла, но в письмах этого времени, как бы компенсируя свое публичное молчание, он создает продолжающуюся «переписку» Николая I с Поль де Коком. Или другой пример. В апреле 1884 г. были закрыты «Отечественные записки» и Салтыков прекращает писать для публики, сообщая одному из адресатов: «Пытался несколько раз и не могу» (20, с. 55). Но именно в это время он отправляет несколько «каскадных» писем Боровиковскому. Таким образом, эпистолярные произведения возникали как своего рода «параллельная», бесцензурная литература, в которой реализовалось стремление Салтыкова писать в своей любимой юмористической манере. При этом он предполагал, что его эпистолярный текст будет прочитан не только адресатом, но станет известен более широкому кругу лиц и разойдется в списках (именно благодаря этому сохранились сказки «Архиерейский насморк», «Сенаторская ревизия» и «переписка» с Поль де Коком). О том, что Салтыков стимулировал подобное тиражирование в среде своих близких знакомых, свидетельствует его фраза в письме к H. A. Некрасову: «Я сегодня послал Унковскому историю о том, как Ераков лишил целомудрия дочь нашей хозяйки. Но боюсь, что он прочтет А‹лександру› Н‹иколаевичу›, а тот, пожалуй, обидится. Прочтите это письмо Вы – наверное, улыбнетесь. Там же два письма из Поль де-Коковой переписки. Думаю, что Ераков тоже будет смеяться» (18–2, с. 279). Значительная часть эпистолярия Салтыкова, в том числе и «мушкетерского», к сожалению, утрачена: сохранилось ничтожное количество его писем к Унковскому, остальные же – более сорока! – были уничтожены.
В своих эпистолярных произведениях Салтыков использует те же приемы сатирической разработки, что и в профессиональном творчестве. Литературно кодифицированное соответствие им можно найти в «Пошехонских рассказах», что можно рассматривать как подтверждение «литературности» эпистолярных историй и аргумент в пользу того, чтобы рассматривать их в составе не только эпистолярного, но и художественного наследия писателя. В своих воспоминаниях В. И. Танеев передает рассказ Унковского о том, что в 1889 г. С. П. Боткин, лечивший Салтыкова, велел сделать анализ его мочи. Когда Салтыков получил результаты, то «положил их в конверт, запечатал и сделал надпись: „Моя моча. После моей смерти завещаю отдать сукину сыну Бартеневу[3] для „Русского архива“»[4]. Анекдот этот, показательный во многих отношениях, косвенно свидетельствует и о том, что сам Салтыков не исключал будущую публикацию своих писем, а соответственно и более широкую известность помещенных в них «параллельных» текстов.
Недавно я получил из Москвы письмо, что там какой-то аферист сватался и даже употребил девицу под моим именем, как вдруг явился обличитель, который доказал, как дважды два, что сей ‹– – –› совсем не тот.
Из письма к П. В. Анненкову [5] от 16 января 1860.
Рязань (18–1, с. 224).
Замечательнее всего, что переписка с Поль де-Коком[6] велась в форме рескриптов, в которых знаменитый автор «Gustav le mauvais sujet» везде титулуется: господин Статский Советник Поль де-Кок! Но что еще замечательнее: мысль о возбуждении вопроса по поводу ключей от храма Гроба Господня впервые возникла в голове Поль де-Кока, который прямо советовал воспользоваться господствовавшими тогда во Франции неурядицами (это было в 1848) и взять Константинополь. Что это действительно так, в том свидетельствует следующий рескрипт:
Господин Статский Советник Поль де-Кок.
Мысли Ваши насчет взятия Константинополя и отобрания известных вам ключей вполне одобряю и усердие Ваше к престолу нахожу похвальным. Но теперь я имею другое занятие: учу войска ходить по морю, яко по суху, в чем мне верный пособник генерал Витовтов[7]. Когда они сего достигнут, то без труда до Константинополя добегут и оный возьмут. А впрочем, пребываю вам доброжелательный
Статуй.
Но в 1849 году, в виду агитации в пользу избрания Бонапарта президентом республики[8], Поль де-Кок опять настаивал и предупреждал, что с Бонапартом будет потруднее ладить, нежели с Ламартином[9]. На это Статуй отвечал:
Господин любезно верный полковник Поль де-Кок!
В воздаяния отличного усердия Вашего переименовываю Вас в полковники с зачислением в Изюмский гусарский полк[10], коего историю, по моему приказанию, пишет в настоящее время лихой ротмистр Гербель[11]. Но рекомендуемый Вами план кампании Витовтов принять не советует, а равно и комендант Башуцкий[12], которому я тоже приказывал сказать правду об этом деле. Во-первых, войска мои еще не научились ходить по морю, яко по суху, но скоро научатся. А во-вторых, и Нессельрод[13] не надежен: того гляди, продаст. А впрочем, видя в Вас таковое усердие к составлению планов, остаюсь доброжелательный
Статуй.
В 1853 году наконец войска были выучены и решено было идти по морю, яко по суху. Вот в каких выражениях получил об этом известие Поль де-Кок.
Господин полковник Поль де-Кок!
Мысль, Вами в 1848 году заявленная, приводится ныне в осуществление. На сих днях Константинополь будет взят, и по совершении в нем молебствия с водосвятием, открыто будет Константинопольское губернское правление, а в Адрианополе – земский суд. В ознаменование чего, купив в гостином дворе орден Меджидие 1-й степени[14], повелеваю Вам возложить оный на себя и носить по установлению.
Статуй.
Любопытно, что Поль де-Кок действительно начал носить орден, но был уличен и отдан под суд за неправильное ношение орденов.
Скажите Семевскому[15], что если он хочет купить эту коллекцию, то пускай поспешит. Ее уж торгует один англичанин.
Из письма к А. Н. Еракову[16] от 9/21 декабря 1875.
Ницца (18–2, с. 238–240).
Если будете продолжать характеристики писателей, то имейте в виду следующее:
Краевский Андрей[17]. В 1841 году, когда заблудившийся Чичиков ночевал у Коробочки, последняя в ту же ночь понесла, а через девять месяцев родила сына, которого назвали Андреем и который впоследствии соединил лукавство Чичикова с экономической бестолковостью Коробочки.
Стасюлевич Михаил[18]. По прошествии нескольких месяцев по рождении Андрея, Коробочка снова была в охоте, и к ней, заблудившись в хрестоматии, попал Алексей Галахов[19]. После чего родился сын Михаил, который соединил тупоумие отца с бестолковостью матери.
Пыпин Александр[20]. После того, через некоторое время, Коробочка вновь была в охоте и, гуляя в саду, почувствовала, что в нее заполз живчик. Живчик этот был принесен ветром из Общества любителей истории и древностей в общем собрании с Обществом любителей российской словесности. И хотя Коробочка могла сказать: «како могло быть сие? греха бо не знаю» – тем не менее достоверно, что через 9 месяцев родился сын Пыпин, который уже ровно ничего в себе не соединил.
Из письма к A. C. Суворину от 23 января/4 февраля 1876.
Ницца (18–2, с. 251).
Умер Авдеев[21]. На могилу его я сочинил след‹ующую› эпитафию. Авдеев, Михаил Васильев. Духом вольноотпущенный. Будучи крепостным, пел на манер Рубини[22], играл на скрипке на манер Контского[23] и готовил котлетки на манер пожарских. Впоследствии приобрел привычку собак у каждого столбика ‹– – –›; ‹– – –› Лермонтова, ‹– – –› Тургенева, задумал ‹– – –› Льва Толстого, но смерть застигла его в этом намерении. Мир праху твоему, добрый человек!
Я думаю, что это и справедливо, и прилично. Скабичевский[24] на эту тему написал бы три статьи по 4 листа каждая, и все-таки нельзя было бы понять, кто кого ‹– – –›. А я люблю писать кратко, справедливо, ясно и прилично. Оттого и нравлюсь… иногда.
Из письма к П. В. Анненкову от 15/27 февраля 1876.
Ницца (18–2, с. 261).
Сидим мы с Унковским[25] и удивляемся: как это ты так нерасторопен, братец! Тертий[26] вот уж с месяц как назначен, а ты и до сих пор с поздравлением не бывал! В прошлый сезон мы с ним в сибирку игрывали, а нынче думаем: вот кабы Павлов[27] приехал, он бы к нему съездил, а от него к нам, – все бы хоть частицу аромата с собой принес. Он говорит, что это второй пример: Ломоносов и он. Он еще хуже, ибо незаконнорожденный. Прямое, говорит, доказательство, что Россия государство демократическое. Ржевский протоиерей прислал телеграмму: блаженно чрево родившее (носившее, кажется!) тя и сосцы яже еси сосал. И он не сам ответил, а Брилианту велел: читал с удовольствием и благодарю ржевское духовенство. Многие из смеявшихся над ним покаялись, и многим благочестивым людям являлся Татаринов и говорил: ныне только разрешились узы, сковывавшие душу мою![28] Он же, когда ему о сем было повещано, только сказал: откуду мне сие? Великий Михаил[29] обиделся: как это на место его, сына секретаря московского магистра, сделали незаконнорожденного сына ржевского аптекаря! Говорят, он и до сих пор не может опомниться: сидит и плачет, а митрополит Филофей[30] клетчатым платком утирает ему слезы.
Это, говорит он, слезы благодарности, батюшка! сладкие слезы! пущай текут! И в благодарности, отвечает Филофей, не надлежит чрезмерного дерзновения выказывать, но смириться и рещи: твори господи волю свою! На первый раз ему поручено: устроить хор певчих при домашней церкви в дому Г‹осударственного› конт‹ролера›, и я слышал, будто он выписывает тебя, чтобы ты показал, как нужно читать «Апостол». Но это еще неверно, потому что интригует Брилиант[31], которому хочется самому отхватать «Апостола». Чиновники не только не удивляются, но говорят, что так и следовало ожидать. Что он и умнее и красивее Михаила, и что даже ‹– – –› у него больше.
Из письма к И. В. Павлову от 27 ноября 1878. Петербург (19–1, с. 89–90).
Пушкинский праздник[32] произвел во мне некоторое недоумение. По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу, и медная статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с ее пьедесталом возникли два суднышка, на которых сидят два человека из публики. Достоевский всех проходящих спрашивает: а видели вы, как они целовали у меня руки. И по свидетельству Тургенева (в Петербурге подагрой страдающего, но, кажется, сегодня уезжающего за границу), будто бы прибавляет: а если б они знали, что я этими руками перед тем делал!
Из письма к А. Н. Островскому от 25 июня 1880.
Петербург (19–1, с. 157).
Видел в Париже Тургенева и хотел писать статью под названием: «Кто истинно счастливый человек?», но больно уж коротко выходит: Тургенев. Соблюдает все правила общежития, как-то: встречаясь с незнакомой женщиной (разумеется, дамой) на лестнице, поклонится (не бойся! не ‹– – –›!), встречаясь с знакомой дамой на улице, не поклонится (может быть, она к любовнику идет и не желает, чтобы ее узнали) и т. д. Слегка пописывает, слегка ‹– – –›, ездит в посольство, но не прочь поддерживать сношения и с рефюжье[33]. Одним словом, умирать не надо. И Вы увидите, всех он переживет, и когда Виардо последние деньги из него высосет, то примет звание наставника при будущем наследнике престола. Вот-то озлится Достоевский![34]
Из письма к А. Н. Островскому от 22 октября 1880.
Петербург (19–1, с 182–183).
…В Париже проливные дожди, сырость, слякоть, а я не остерегся, ходил в театры и схватил жесточайшую простуду. Выходит, что я живу здесь взаперти совершенно так, как бы жил на Колтовской или в 1-м Парголове[35]. Даже в эту минуту жена и дети присутствуют на представлении «La Biche au bois»[36], а я, как дурак, сижу дома. А представь себе, в этой пьесе есть картина «Купающиеся сирены», где на сцену брошено до 300 голых женских тел (по пояс), а низы и ‹– – –› оставлены под полом в добычу машинистам. Я слышал, что Унковский нарочно приехал инкогнито в Париж и перерядился машинистом, чтобы воспользоваться ‹– – –› (300 ‹– – –›!). Но как только мне будет полегче, я сейчас же отправлюсь. А может быть, тоже машинистом переоденусь.
(Из письма к В. П. Гаевскому[37] от 30 августа/ 11 сентября 1881.
Париж (19–2, с. 33).
Виктор Павлович Гаевский
Был в «La biche au bois». Урусов[38] сидел около меня и все кричал, чтобы его на сцену пустили. Задницы были голубые, зеленые, розовые, красные, белые с блестками, и у всех – ангельское выражение.
Из письма к В. П. Гаевскому от 13/25 сентября 1881.
Париж (19–2, с. 40).
Коснуться женского вопроса в деревенской среде было бы интересно, но, разумеется, нужно избежать некоторого похабства. Вы справедливо сказали, что барам нужно то же, но другими словами, и Ваш анекдот о замене говна калом очень хорош, но ведь носим же мы штаны даже летом, когда могли бы совершенно свободно обойтись без оных. Я Вам скажу даже, что без штанов ходить только молодым людям может казаться желательным – для них оно и красиво и сподручно, а для нас, седеющих старцев, выгоднее, коли подальше наши инструменты запрятаны, и теплее и смехоты меньше.
А в ответ на Ваш анекдот о говне и кале расскажу другой анекдот. Работал плотник Кузьма на барском дворе и нечаянно зашиб себе ‹– – –›. Видит барыня из окна, что Кузьма сидит сам не свой, посылает девку узнать, что случилось. Возвращается девка и не смеет барыне доложить. – Зашиб, говорит. – Да что зашиб? – Не смею, говорит, доложить. – Да ты, дура, обиняком. – Маялась-маялась девка и вдруг надумала. – А вот что под ‹– – –›-то, говорит.
Так и надо писать. Ежели неприлично сказать «‹– – –›», пишите: то, что под ‹– – –›. И ясно и деликатно выйдет.
Я иногда к этому способу прибегаю, и выходит благополучно. Попробуйте и Вы. Ежели неблагополучно выйдет, то я приложу руки и постараюсь найти соответствующую замену.
Из письма к А. Н. Энгельгардту[39] от 10 октября 1878.
Петербург (19–2, с. 47).
Устал ужасно. Да и ругают меня как-то совсем неестественно. Хорошо еще, что я не читаю газет и только в «Московских ведомостях» узнаю, что я безнравственный идиот. Каторжная моя жизнь. Вот Островский так счастливец. Только лавры и розы обвивают его чело, а с тех пор, как брат его сделался министром[40], он и сам стал благообразнее. Лицо чистое, лучистое, обхождение мягкое, слова круглые, учтивые. На днях, по случаю какого-то юбилея (он как-то особенно часто юбилеи справляет), небольшая компания (а в том числе и я) пригласила его обедать[41], так все удивились, какой он сделался высокопоставленный. Сидит скромно, говорит благосклонно и понимает, что заслужил, чтоб его чествовали. И ежели в его присутствии выражаются свободно, то не делает вида, что ему неловко, а лишь внутренно не одобряет. Словом сказать, словно во дворце родился. Квас перестал пить, потому что производит ветра, а к брату царедворцы ездят, и между прочим будущий министр народного просвещения, Тертий Филиппов, который ныне тоже уж не ‹– – –›, но моет ‹– – –› мылом казанским. И все с кн‹язем› Воронцовым-Дашковым[42] разговаривают. Хоть бы одним ушком эти разговоры подслушать.
А Аспазия[43] у них – Феоктистиха[44] и старая бандерша Евгения Тур[45].
Из письма к И. С. Тургеневу от 6 марта 1882.
Петербург (19–2, с. 100).
Вчера был боткинский юбилей[46], и я был на обеде, о чем Вас и уведомляю. Обедало около 400 человек, и распоряжался, главным образом, Соколов[47]. Но распоряжался не совсем благополучно, и порядку было немного. Обед стоил 6 р. с рыла, но качеством своим напоминал кухмистерскую «Афины». Даже удивительно: на дворе тепло, а для Боткина отыскали мороженого судака. Может быть, впрочем, что юбиляру и супруге его получше подавали пищу, но я и по сие время опомниться не могу. С правой стороны у Боткина сидел Глазунов[48], с левой – Богдановский[49]. Напротив – супруга юбиляра рядом с m-me Грубер[50]. Мы с Унковским и Лихачевым[51] сидели поодаль, но тоже могли видеть. Тут же снами сидели: Стасюлевич, Утин[52], Корш[53], Краевский и… Поляков[54], который поил нас настоящим шампанским, а не юбилейным. Торжество было шумное; читали речи; сначала можно было разобрать, а потом – нельзя. Под конец явились и пьяненькие. Кто-то, педагог, вскочил на стул и начал чествовать юбиляра во имя педагогии, но его тут же прозвали педерастом и не дали кончить, приказав музыке играть. Г-жа Манасеина[55] с тетрадкой в руках, хромая, подбрела к Боткину и с четверть часа что-то шептала, а Боткин кивал. Вероятно, это было приглашение на любовное свидание, потому что Екатерина Алексеевна[56] ужасно сердилась. Получено было более сотни телеграмм, сначала их читали, но когда дело дошло до какого-то сифилитического отделения московской чернорабочей больницы, то плюнули и только сказали: вот еще сколько. Присутствовал и обер-полицийместер Козлов[57], но не в качестве оного, а в качестве почитателя. Боткин сказал несколько теплых слов, обращенных к молодежи, но говорил тихо, медленно и прерывисто, ибо был взволнован. С утра раннего его терзали. Сначала в Думе с 11 до 4½ часов, потом у Бореля с 6½ до 9 часов. Г-жа Манасеина еще в Думе его ловила, но не изловила, а у Бореля поймала. И вдруг, среди гама и шума, встает Сеченов[58] и предлагает тост за Вашего покорнейшего слугу. Можете себе представить мое волнение и даже испуг. И начал коварно так, что и ожидать было нельзя. Боткин, дескать, знаменит как диагност, а между нами есть еще и другой диагност… Клянусь Вам, меня почти паралич хватил. Разумеется, я как дурак кланялся во все стороны. Хорошо, что еще кашель не захватил, а то картина была бы полная.
Из письма к H. A. Белоголовому[59] от 28 апреля 1882.
Петербург (19–2, с. 107–108).
Боткин тоже купил в Финляндии именье. Говорят, будто у него там четыре дома, и будто бы он купил сто сорок матрацов, чтобы разложить на них домочадцев. Унковский сказывал: пять пудов швейцарского сыру Боткины на лето повезли в деревню да икры три пуда и 100 бочонков сельдей и все голландских. И Соколов с Алышевским[60] будут закуски есть; им тоже по матрацу приготовлено. С имением Боткин купил 20 коров и при них бык. Коровы дают прямо сливки, а некоторые даже масло. И все мало. Еще 20 коров и быка купили. Соленой осетрины 20 пудов. И виолончель[61], как ни просила Кат‹ерина› Ал‹ексеевна› оставить.
Из письма к H. A. Белоголовому от 8 июня 1882.
Ораниенбаум (19–2, с. 116).
Наша дача с приятностями. На прошлой неделе маленькую Лизу[62] укусила змея. К счастью, подле оказался врач Грацианский[63], который прижег рану. Целый день мы были в величайшем страхе. А через день после того ночью вздумали залезть к нам воры и уже оторвали у окна задвижки, но тут уж я выручил: стал кашлять, и воры, убоясь, ретировались.
Из письма к Н. А. Белоголовому от 7 июля 1882.
Ораниенбаум (19–2, с. 121).
Ераков купался в грязях в Аренсбурге и заметно поглупел. Влияние лет очень заметно. Наблюдая за ним последние два года, я воочию вижу, как он глупеет. А он, может быть, видит, как я глупею. Это круговая порука. Но по мере того, как он глупеет, желудок его делается все исправнее да исправнее, так что съедает он массу.
Из письма к Н. А. Белоголовому от 11 августа 1882.
Ораниенбаум (19–2, с. 129).
Вам, как толкователю русского гражданского кодекса, вероятно, известен процесс ‹– – –›[64].
А мы между тем ежеминутно здесь об Вас вспоминаем, читая Вашу книгу[65] и соображая, в скольких смыслах Вы могли бы каждого из нас лишить имущества! Но прежде всего – в карты!!!
Вчера мы решили: послать Вам несколько рецептов дешевых кушаний. Вот на первый случай:
Взять травы клеверу, а ежели нет, то осоки; полить уксусом, а ежели нет, то водой; нарубить трюфлей, а ежели нет, то пробок, все взболтать и, помолясь, кушать.
О говядине в этом рецепте не упоминается, потому что ныне и в Петербурге уже возбужден В. И. Лихачевым вопрос о выпуске особой ассигнационной говядины, которая заменяла бы настоящую в такой же мере, как ассигнационный рубль заменяет настоящий рубль. ‹…›
Стихов!! Ибо если мы будем продолжать печатать ассигнационные стихи Вейнберга[66], то у читателей произойдет понос.
Из письма к А. Л. Боровиковскому[67]
от 18 октября 1882.
Петербург (19–2, с. 136).
Александр Львович Боровиковский
Вы отсутствуете из Петербурга в самое горячее время. В музее Лента появилась девица Виолетта, без рук, которая рисует ногами. Ноги без перчаток; выше колен надето трико, так что видны только ягодицы, но больше – ни-ни. Сверх того в том же музее показывают мужчину Антона, без рук и без ног, который делает детей… угадайте чем? И когда нужно демонстрировать, то с дозволения об‹ер-›полициймейстера приводят к нему девицу Виолетту, и через три-четыре минуты ребенок сделан!
Что касается до того, каким образом Эвель Утин сделался христианином[68], то настоящая правда всей этой истории представляется в след‹ующем› виде. Старый Исаак, побуждаемый обер-полициймейстером Галаховым к выезду из Петербурга, не решился, однако ж, лично познать свет истинной веры, а пожертвовал сыном Эвелем, при котором и полагал навсегда поселиться в Петербурге, в качестве родственника (это дозволяется). Пригласили протодиакона из Исакиевского собора для наставления Эвеля в правилах веры, но протодиакон, вместо «Начатков», принес колбасу, сказав: довольно с тебя и этого. И когда Эвель съел колбасу, то сейчас же сам от себя прочитал «Богородицу». После второй колбасы – прочитал «Отче наш». Тогда протодиакон принес третью колбасу, полагая, что, съевши ее, Эвель прочтет «Верую», но как ни старался Эвель произнести «И во единого господа нашего Иисуса Христа» – не мог. И когда пришел протодиакон, то, вместо исповедания веры, прочитал ему «Боже, царя храни». Протодиакон был приятно этим изумлен и, сказав «это, пожалуй, еще лучше», свел его в кухню и посадил в кадку с водой: ныряй! Причем оказалось, что Эвель не только обрезан, но златообрезан. А восприемниками были: Пассовер и Куперник[69].
Вот после этого-то и состоялся знаменитый закон, дозволяющий при обращении евреев допускать сокращенный чин, т. е. не требовать от них молитв, а только знания «Боже, царя ‹храни›».
Несколько слов о наших общих знакомых.
Унковский – сделал ребеночка, но какого пола – неизвестно, потому что дите родится месяца через четыре. Эта неожиданная радость, по-видимому, остепенила Ал‹ексея› Мих‹айловича›, так что он уж не знает и сам, смеяться ему или нет. Иногда вдруг выпалит – и сейчас же вспомнит: шестой! Видимся мы очень редко, потому что я почти совсем не выхожу из дома.
Владимир Ив. Лихачев деятельно готовится к посту министра каких бы то ни было дел. Утром ездит в съезд, вечером – заседает. Газеты полны его именем. Воскресенья[70]
