Огневица бесплатное чтение
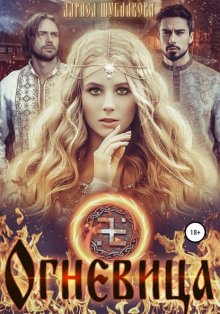
Глава 1
Где-то в Древней Руси до крещения. Все события выдуманы, все совпадения случайны.
— А ну стой! Стой, Некрас, кому сказала?! Ах, ты нелюдь! Щеня блудливый! — Видана выскочила в сени, но не успела ухватить сына за рубаху. — Вот я тебя!
Выбежала за ним на крыльцо, да и там не смогла поймать проворного парня! Пришлось грозить кулаком и ругать непослушное чадо издалека.
— За что?! — Некрас с хохотом соскочил со ступеней и встал посреди двора: босой, рубаха дорогого льна, штаны крепкие новые.
— Ты зубы-то не скаль! Ишь удумал девок портить! Как нам теперь людям-то в глаза смотреть? Кобель, как есть кобель!
— Матушка, прости. Я и близко к девкам не подойду. Хочешь зарок дам, а?
Видана после его речей слегка унялась, но бровь, все же, гнула недобро.
— Клянись, Некрас. Велесом* клянись, — и правда ждала сыновней покорности.
Парень вытянул из-за пазухи знак Велесов на суровой нити, приложился губами и громко на весь двор прокричал:
— Чтоб я сдох! По девкам более не пойду, токмо по бабам. А если девки сами будут тянуть, то отказа не дам, — после таких слов осталось одно — поскорее за ворота и бежать подальше от богатых хором. Видел, паскудник, как мать взялась за коромысло, что бросила у крыльца нерадивая холопка*.
Босым бежать неурядно, но кто же сына самого Деяна Квита осудит? Вот и бежал Некрас — пыль из под ног. На повороте к реке напоролся на дружка своего верного — Местяту Борового. Тот шапку на макушку сдвинул и глазами хлопал что телёнок.
— Некрас, ты чего босой-то? Никак батька отходил?
Квит остановился, дух перевел и засмеялся громко так, весело. Местята смотрел на друга своего заполошного и удивлялся. Вот влетело, а хохочет. И как оно так?
— Не батя, а мамка. Грозилась коромыслом.
— Ну-у-у! Тётка Видана? А ты чего?
— Чего, чего…утёк, — Некрас оправил рубаху, поглядел на босые ноги свои. — Айда на Прилучу? Там нынче девки купаются. Вон день-то какой аж с утра палит.
— За что грозила? — Местята и без слов определил, за что схлопотал друг его, но был слегка тяжел на мыслишки, а потому и просил рассказать все, как есть.
— А то ты не знаешь? За Жданку Сомову, — Некрас улыбнулся глумливо, глаза прикрыл, будто в мысли свои провалился.
Местята смотрел на высокого, крепкого Некраса, оценивал. Вот вроде некрасивый: волосы темные, глаза бесстыжие, а девки вешаются. Не сдержал зависти мужской и спросил:
— И чем ты их берешь, Некраска? Ну, стать есть, чего уж, но морда вроде обычная. Вон Перемысл Кудин и кудрявый, и ясноглазый, и статный. А ты что?
— Дурень ты, Местята, — Квит очнулся, на небо синее поглядел. — Девки любят крепче не за морду нарядную. Даже не за подарки щедрые. Да и стать ни при чём.
— А чего ж им надоть? — Местята в делах любовных славы не стяжал, а потому и слушал серьезно, даже подался к товарищу своему ближе.
— А чтоб сердчишко у них, дурёх, стучало. Пламенем окатывало. Для того рассмотреть деву надо, да узнать, что ей любо, а что нет.
— Ага, как же, — загрустил Местятка, — так она и рассказала. Я ни об чем думать не могу, когда девка-то рядом. Токмо о плотском.
— А вот это никак нельзя. Сам разума не роняй, инако она вмиг под себя подомнет, и будешь ты, как тот козел на веревье вокруг нее бегать. Уразумел?
— Не-а.
— Эх, Местька, хороший ты парень, но туговат, — Некрас потянулся рукой к шапке друга и надвинул тому на нос, мол, примолкни и соображай.
Боровой шапку на место вернул и засопел злобно. Ведь Некрас ему ровесник — двадцать зим обоим стукнуло — а наставляет, как волхв*. Пока обиду свою нянчил из-за поворота показался Деян Квит: сам верхом и человек пять дружинных князя при нем.
— Некрас, тикай! Батька твой! — и шмыгнул в кусты, что росли у тропы.
Некрас лицом посуровел, но не сбежал. Повернулся к отцу, плечи распрямил.
— Во как. Хорошо ль тебе, сын, босым скакать? Чай не холоп, не закуп*, — отец поравнялся с Некрасом, но с коня не сошел, заставил смотреть снизу вверх. — На-ка, обуйся, борзый, и подпоясайся.
Вслед словам полетели в Некраса сапоги, пояс, а чуть позже ударило мягко по голове шапкой.
— Спасибо, отец, — поклонился шутейно.
— Ну, ну, скаль зубы-то, коль охота есть, — хохотнул Деян. — Вот тебе слово мое — еще раз девку спортишь, ответ будешь держать уже передо мной, а не перед матерью. Я не пожалею — не баба слезливая. А вот еще мое тебе слово — сговорил я за тебя Цветаву, дочь Рознега Новика из Лугани. Ты с пару зим еще попасись, купеческое дело перейми, баб потопчи. Но, токмо баб, уразумел? Вдовых навалом, того и ждут. За девок платить — разоримся. Понял, щеня?
— Новикову? Да ну-у-у! Бать, да она ж из богатейшего рода. Ай, спасибо, — Некрас поклонился еще раз, но теперь уж безо всякой шутки.
— То-то же, — Деян подкрутил ус гордо. — Знал за тобой, что не дурень. Да и через бабье не угодишь в беду. Не того ты корня, Некрас. Свою выгоду не упустишь. Моя кровь — купеческая! Иди нето. Нынче девки в Прилучи купаются. Я б не пропустил. Третьим днем собирайся. Князь Ладимир зовет на вече*. На границах люди Военега Рудного озоруют. Так и до нашей веси* докатятся. Он нам не ворог, но кто ж его разберёт. В башку-то стукнет и пожжёт тут все. Понял?
— Понял, отец, — Некрас шапку на голове поправил, кивнул Деяну, мол, чего же не понять?
— А коли понял, то чего встал столбом? Кыш отсель, шельма!
Некраса словно ветром сдуло, а отец долго еще ухмылялся, ус крутил. Радовался сынку: смекалистому, умному, пускай и озорнику.
По дороге Некрас уцепил за рукав рубахи дружка своего и оба пошли к берегу Прилучи — светлой, многоводной — высматривать себе красавицу. А у реки уж и места для схрона не осталось. Почти все парни веси в кустах засели. Отовсюду тихий глумливый перешепот и смешки потаенные.
— Тихо ты, — Некрас толкнул локтем одного конопатого, — услышат и врассыпную. Так любуйся, примечай себе зазнобу.
А посмотреть-то было на что. Девки и бабы-молодухи в реке резвились. Иные и рубахи побросали — жаль лён беленый в воде красить. Солнце светит-слепит, ивы ветвями над водой полощут. Девки визжат, аукаются, жизни радуются. И нет в такой день мыслей дурных и серых: ни о войне, ни о голодухе не вспоминается. Юность плещет через край, жизнь легкой делает.
Вот уж и солнышко покатилось к закату. Девушки уселись косы сушить-плести, иные еще в воде нежились. Парни часа своего дождались тихим посвистом себя и обозначили.
На берегу переполох, смех, прибаутки. Среди всех красавиц углядел Некрас одну: сама стройная, мокрая рубаха льнет к телу, не скрывает спелой груди, тугих округлых бедер. Двукосая, а стало быть, мужатая. Некрас улыбнулся хитро да встал во весь рост.
Молодуха не растерялась, смело взглянула на Некраса, еще и спину изогнула, мол, любуйся, а что дальше, видно станет.
— Стыда у вас нет, охальники! — крикнула сердито, а взгляд с младшего Квита не спустила.
— Есть стыд-то, красавица, а сил на тебя не глядеть нету. Не сердись, но от такой-то красоты не отвернешься так просто. Уж не приворот ли? — Некрас бровь приподнял, словно удивился.
— Тебе, молодец, все хороши. Ай, не так? — сама косы от воды отжала и потянулась за понёвой*.
— Так, не так — не ведаю. А вот нынче кроме тебя никого не вижу, не замечаю, — и будто прилип взглядом к женщине красивой.
Вокруг шум-гам, парни гурьбой на берег высыпали, девушек смешили, разглядывали. А Некрасу хоть бы что — все на молодуху смотрит. Та не снесла горячего взгляда и заговорила первой:
— Меня Ружаной зовут. Муж до свадьбы Ружкой кликал, а как помер о прошлом годе, так и прозвание позабылось.
— Меня-то ты знаешь поди, да, Ружка?
— Все Решетово тебя знает, Некрас Квит, — подошла ближе, косы за спину перекинула.
— А коли знаешь, так и… — замолчал, ждал ее ответа.
— Приходи, как стемнеет к баньке старой. Она аккурат супротив мостка через Прилучу. На крыше конек надвое развалился. Узнаешь, коли охота будет.
— Охота, Ружана.
Вдовая пошла по тропке крутой, а Некрас все смотрел вслед, любовался, как косы по спине ее вьются, как мягко ступают небольшие ножки по зеленой мураве.
Уже в ночи Некрас тихо собрался. Накинул чистую рубаху, порты, в сапоге удобно нож устроил. А как иначе? Бывал уж в передрягах по ночному делу. На пороге осмотрелся и крадучись вышел со двора. У старой баньки оглянулся, никого не увидел и толкнул тяжелую дверь.
— Долго идешь, молодец, — Ружана молвила тихо, вздохнула глубоко, прихлопнула дверь за Некрасом и скинула с себя рубаху.
Он горячим взглядом прошелся по спелому женскому телу, не ответил, только качнулся к Ружане и обнял. А что говорить, когда вон оно, живое, горячее и дрожащее в его руках.
Много время спустя, когда уж рассветная муть пробивалась сквозь малое оконце баньки, Ружана счастливо выдохнула, улыбнулась и уронила голову на грудь Некраса: тот растянулся на лавке, в потолок смотрел бездумно, руки под голову себе положил.
— Выдумщик ты, озорник. Я такой-то любви сроду не знала, — целовала крепкую грудь, ласкала мягкими распущенными волосами. — Токмо стылый ты, никого кроме себя не любишь.
— Как не люблю? Тебя вон люблю…сегодня, — хмыкнул лениво. — Ай, не угодил? Так ты скажи, Ружка, я удоволю так, как пожелаешь.
— Охальник, — засмеялась и оттолкнула жадные его руки. — Не о том я, Некрас. Сердца в тебе нет, любви.
— А что это за зверь такой любовь, а? Все твердят о ней, а кто ее видел? Чуял? Все к одному сводится, Ружана. Мы как раз то самое сейчас и вытворяли. Не так?
— Разве это любовь? Это плоть неугомонная. Любовь — иное дело, — вздохнула Ружка, прошлась ласковой ладошкой по тугому Некрасову животу.
— Не знаю, красавица. Люблю, как умею. Скажешь не сладко тебе? — Некрас схватил ее, подмял под себя, навис.
— Сладко. Люби еще…
Проснулась Ружана одна. Солнце высоко на небо забралось, светило и согревало. Вдовица потянулась сладко, принимая радостно свою женскую истому, оглянулась и увидела на лавке подле себя серебряную деньгу. Хотела брови свести сердито, но передумала. Подарок уж очень щедрый. А любовь…Так может прав Некрас? Нет ее, и не будет никогда.
От автора:
Ремарки в конце каждой главы.
В тексте будут встречаться просторечные выражения, автор не станет делать сносок, предполагая, что читателю известны значения слов.
Велес — "скотий бог" в славянской мифологии — покровитель домашнего скота и богатства, воплощение золота, попечитель торговцев, скотоводов, охотников и землепашцев.
Холопка (холоп) — лицо, находившееся в зависимости по форме близкой к рабству.
Волхв (волхвы) — (др. — рус. вълхвъ «кудесник, волшебник, гадатель») — древнерусские языческие жрецы, осуществлявшие богослужения и жертвоприношения, которым приписывались умения заклинать стихии и прорицать будущее. Волхвы составляли особый социальный слой.
Закуп — упрощенно — должник. Хозяин не имел права распоряжаться личностью закупа, в отличие от раба, и после отработки долга закуп вновь становился лицом свободным.
Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси — и во всех народах славянского происхождения, до образования государственной власти — для обсуждения общих дел и решения вопросов общественной, политической и культурной жизни; одна из исторических форм прямой демократии на территории славянских государств.
Весь — многозначный термин, в данном случае — древнерусское слово для обозначения деревни.
Понёва — женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани.
Глава 2
— Беги, беги, Медвянушка! Капелька моя, кровиночка, — мать обнимала крепко, целовала мокрые щеки и заплаканные глаза. — Помни про схрон. Помнишь?
— Помню, все помню, — Медвяна вцепилась в рукав матушкиной рубахи все боялась отпустить. — А ты? Мама, ты как?
— Не думай. Беги! К бабке Сияне беги. Спрячет. Схоронись и не вылезай пока я не приду. Слышишь, капелька моя? — мать поцеловала в последний раз и вытолкнула дочь в морозную темень с задней двери богатых хором. — Храни тебя Лада Матушка*.
Медвяна, утопая в сугробах, пробиралась задками к малой соседской избушке, а за спиной слышались крики, вопли, лязг мечей. Страшно, ох, страшно! Более всего за мать тревожилась. Все вернуться хотела, но отец велел слушаться, вот и пришлось. Ведь не холопка, а родовитая — отцовское слово крепко блюла.
Добралась до избы, когда позади всполохи огненные замерцали. Жгут! Лютуют дружинники Военега Рудного!
— Сюда, сюда, — Вейка, дальняя родня Медвяне, манила рукой с обледенелого крылечка. — Бабка спрячет.
Затащила в сени, подпихнула в спину. Бабка Сияна перехватила растерянную девушку, приподняла дверцу подпола и толкнула вниз по приступке крутой.
— В угол забейся. Там ямка. Ляг в нее, я тебя землей закидаю. Вейку опосля схороню рядом-то. Молчком, деваха, молчком сиди, инако услышат лиходеи.
Медвяна лежала в студеной земляной ямке ни жива, ни мертва. Бабка проворно накинула на нее полотнище старое, драное и землей присыпала. Чуть погодя зашебуршалось снова: Вейкин голос и копошение.
— Девки, тихо тут! Род*, спаси и сохрани. Отведи напасть, — бабкины тяжелые шаги и стук дверцы.
А потом тишина — могильная, земляная — укрыла Медвяну. Она не слышала Вейкиного дыхания, не ощущала ничего, кроме ужаса и слез, что текли по щекам, попадали в рот, солонили и горчили. Все замерло вокруг, затишилось, словно лес перед бурей.
Буря не миновала, явилась и показала всю свою страшную мощь. Грохот вышибленной двери, вскрик бабки Сияны и мужские голоса — громкие, дурные. Дернули дверцу подпола, загрохотали сапогами по ступеням.
— Ищи, Ганька. Тут она. В хоромах девку-то не сыскали. Ее Военег ждет. Слышь? Ищи.
— Тут, Хотен! Глянь, затихарилась!
Медвяна услышала визг Вейки и громкий глумливый смех мужчин.
— Не та, дурень. Медвянке Лутак шстнадцать годков. А эта уж в летах. Глянь, вдовая! Давай ее сюда. Ты-то куда, Ганька? Еще смотри.
Медвяна дышать перестала, заледенела от крика Вейкиного и хохота мужицкого, что раздавался сверху.
— Без меня не берите! Сотрете бабу-то, а мне как всегда — мертвячка! — невидимый Ганька шарил руками прямо над головой Медвяны. — Тьфу, нет никого. Меня-то, меня погодите!
Стукнулась дверца подпола и Медвяна осталась в темноте одна. Сверху слышался отчаянный крик Вейки и гомон мужиков, леденили кровь ужасом и разумением того, что творили сейчас дружинные с молодой женщиной.
Медвяна лежала долго все боялась перевернуться на другой бок, застыла. Губы искусала в кровь, слезами умылась. А Вейка все кричала, кричала, кричала… Потом умолкла. Мужики погоготали недолго и все стихло.
Медвяна выходить не спешила, помнила наказ матери и ждала. Чуть погодя провалилась с забытье муторное, что принесло ей сон недобрый и непонятный.
— Ты не тряси их с рубахи-то, дурка. Пчелы того не любят. Смирно стой и смотри. У отца-то твоего первейшее в округе бортное хозяйство*, а ты что ж, так и будешь неумехой? Братьев нет, так тебе-то и быть главой рода Лутак. Чего лупишься? Лутаков хоть и немногие знают, но срамить родню не можно. Учись, Медвяна, поглядывай, — Богша Кривой все говорил, говорил.
Медвяна ходила меж бортей за здоровым мужиком и слушала. Пчелы гудели ровно, правильно. А что ж не гудеть? Лето-то какое: травы с цветами да солнышко, небо синее да облака сметанные. Зелено вокруг и привольно. Вон из-за хоромины матушка показалась — улыбается, глазами сияет. Тятенька подошел, мать обнял, сморщился-засмеялся. Всё глядели на Медвянку с улыбкой, а потом отец рукой взмахнул, мол, прощай, дочка. За ним мать простилась, светлую слезу уронила.
Медвяна испугалась, что уйдут, бросят ее и уж хотела бежать к отцу и матери, да встала столбом. Пчелы роями вылетали из бортей, кружились страшно, все не пускали, удерживали.
— Дядька Богша, а чего это пчелки красные? Глянь, искры сыпят! Дядька, дяденька!
Проснулась и, себя не помня, сдернула дерюгу, под которой пряталась. Села, прислушалась… Тишина страшная, дурная, разливалась по избе: ни вздоха, ни шевеления. Медвяна услышала только стук двери о косяк. Ветер? Запах дыма прополз даже в подвал бабкиного домка…
— Мама, мамочка… Где же ты? — заскулила, запричитала шепотом тихим.
Чуть позже, все же, осмелилась и поползла из подпола. В избе скверно: лавки перевернуты, полки с горшками порушены. А посреди единой гридницы лежит Вейка…
Руки и ноги привязаны туго к четырем кольям, что вбиты тяжелой рукой прямо в деревянный пол. Рубаха бабья разодрана от горла до пят. Голое тело отсвечивает синевой в тусклом зимнем свете. И до того оно поругано, избито, расцарапано — места живого нет. Распяли, надругались и оставили подыхать, что собаку ….
— Веечка, Веечка… — Медвяна тряскими руками бросилась отвязывать веревьё да куда там!
Туго прикрутили: вгрызлась веревка в запястья, в щиколотки. Медвяна задохнулась ужасом, кинулась в бабий кут* за ножом, с трудом разрезала путы. Только потом додумалась потрогать Вейкино лицо — жива ли?!
— Жива, спаси тя Макошь* светлая! — потянула молодуху с пола.
Та застонала, забилась, пятками застучала по полу — видно приняла Медвяну за мужика-насильника.
— Тихо, тихо Веечка. Я это, я!
Молодуха голос девичий узнала, страшно посмотрела одним глазом — второй заплыл — и потянулась к лавке, что одна осталась стоять в избе. Упала на нее, сжалась в комок, подтянула колени царапанные к животу и замолкла.
Медвяна бросилась за шкурой, накинула на Вейку, дверь притворила, чтобы дом не студить. Уселась на полу в уголочке, все прислушивалась — ушла Военегова дружина или нет?
Уж когда солнце к закату склонилось, вышла наружу и ахнула — не было более веси Лутаков, все спалили-сожгли. Остались всего три домка — Богши Кривого, бабки Сияны, да старая баня, что сама уж готова была развалиться, до того ветхая. Дым везде и тишина до одури страшная: дети не кричат, скотина не шевелится.
В сугробе поодаль приметила девушка темное пятно и едва не закричала, когда поняла — бабка Сияна, только без головы. Зажмурилась поскорее и к своему дому метнулась. Все надеялась, глупая, что мать с отцом живы. Пока бежала тут и там натыкалась на мертвяков. Всех не узнала, но уразумела — посекли Лутаков, вчистую род свели.
К дому прибежала в страхе, а на месте богатых хором одни головешки лишь ворота остались, а на них…
На одной створке висела мать, прибитая здоровенным колом: голова низко опущена, руки плетьми болтаются. На другой отец: синий, жуткий. Узнала по броне — на ней знак Лутаков — бочка с медом и копье. Ветер подул, качнул ворота, дернул жутко мёртвые тела на них.
Медвяна хотела кричать, но горло сдавило, сжало страхом и горем. С трудом ступая, дошла до матери, обняла тело стылое, повисла. Все на руки ее смотрела: вот они ласковые, теплые, те, что гладили по волосам, утешали да голубили, а теперь…
Упала на колени, взвыла, что собака, все качалась из стороны в сторону, горе свое нянчила. Сколько просидела неведомо, но что-то перевернулось в Медвяне, взросло в ней муторное и темное. Злоба лютая горе вытеснила, залила душу и сердце, в голову кинулась. Без единой слезы поднялась девушка, сдернула с матери оберег-огневицу*, с которой та не расставалась, сажала в кулачишке и к темнеющему небу глаза подняла.
— Военег, будь ты проклят, — не сказала, а прохрипела жутко. — Жизни не пожалею, а отомщу. За всех. За матушку, за отца, за всех Лутаков. Слышишь? Ты слышишь, пёс?!!
Голос взвился, разлетелся страшным посулом по мертвой веси, забился о высокие сугробы, отскочил от жутких ворот с кошмарным приветом Военеговским. Медвяна осела на землю и замерла. И вовсе заиндевела бы, но руки — крепкие, знакомые — обняли хрупкие плечи, согрели теплом.
— Медвянка, вставай. Чего сидеть-то? Идем нето, — Богша Кривой тянул девушку. — Идем в тепло избяное. Сил надо набраться. Ищут тебя, Медвяна. Военег не взял того зачем пришел. Кубышка* Лутаков у тебя? Знаешь где? Вот и молчи. Никому не говори. Идем, деваха.
Потащил к избе бабки Сияны, втолкнул в гридницу и на лавку усадил. Вейка лежала все так же, молчала и слез не лила.
— Вон оно как… — Богша все сразу понял, — Медвяна, уходить надоть. Люди Военеговские еще шныряют. Я насилу утёк. Издалека видал, как секли Лутаковских-то. Как отец твой помер тоже видал. Собирайтесь. Обе! — прикрикнул, но ответа не дождался.
Вейка даже не шелохнулась, а Медвяна только глаза прикрыла, и еще крепче сжала в кулаке матушкин оберег.
— Пока не схороню своих — не уйду, — сказала-то тихо, но властно, уверенно.
— Нельзя, девка, никак нельзя. Поймут, что жива ты. Ведь не уймутся, пока не сыщут. Военег-то не дурень, догадается поди, что не всех Лутаков посёк. Из-под земли достанет. Кому ж охота мести родовой* дожидаться? Убьет тебя, слышь?
— Ты о чем? Не разумею я, — Медвяна непонимающе смотрела на Богшу. — Так оставить? Деток, родню? Пусть валяются по веси?
— Мертвым — мертвое, живым — живое. Не уйдешь — рядом с родней ляжешь. Ты последняя из Лутаков.
Медвяна вняла, будто очнулась и взгляд, уже осмысленный, перевела на Вейку.
— Дядька Богша, в шкуру ее заверни и в сани. Есть сани-то? — дождалась кивка. — Вот и неси. На заимку едем. К ней путь никто не знает. Отсидимся, а далее решим что и как.
— Дело говоришь, — подхватил Вейку, понес на возу устраивать.
Медвяна чуть погодя за ними отправилась. Богша уж ждал, поводьями тряс нетерпеливо. Девушка посмотрела в последний раз на мать, отца, упала в возок и более не оглядывалась. А зачем? Мертвое останется мертвым. Не погребения ждёт родня — мести.
С тем и уехала последняя из Лутаков, покинула гнездо родное.
От автора:
Лада Матушка — богиня любви, красоты, процветания, благополучия и плодородия, покровительница семейных союзов, поддерживающая лад и мир в доме.
Род — является Богом-Творцом славянского пантеона и миропонимания. Он стоит над всеми богами, людьми, зверьми, духами и прочими существами и мирами.
Бортное хозяйство — это вид хозяйственной деятельности связанный с добычей мёда диких пчёл.
Бабий кут — пространство избы между устьем русской печи и противоположной стеной, где шли женские работы.
Макошь — богиня судьбы и чародейства, семейного счастья, женского колдовства, материнства и рукоделия.
Огневица — два значения: болезнь, лихорадка и главный женский оберег для замужних женщин в славянской культуре.
Кубышка — в данном случае — копилка.
Родовая месть — практика "кровь за кровь" была обычным явлением, настолько обычным и распространенным, что Ярослав Мудрый внес её в "Русскую Правду". В стародавние времена, если человек не мог отомстить за убитого родственника — это считалось оскорбительным для всех членов его семьи, поэтому ему возбранялось садиться с ними за один стол.
Глава 3
На дальней заимке тихо: деревья вековые снегом укутаны, сугробы едва не в рост человека. По глуши лесной гулко разносится стук-молоток дятла. Покойно, ворогов нет, а все одно как в могиле.
Медвяна на крылечке стояла, смотрела на солнце яркое, что сияло на снежных шапках елей, на петли звериных следов, куталась зябко в шубейку беличью, ту самую, что накинула на нее мать в страшную ночь, когда Военег напал и сжег родную весь.
Три недели прятались втроем в лесной заимке. Вейка тем временем в себя стала приходить: синяки-царапины сошли, взгляд осмысленный стал. Но слов от нее ни Медвяна, ни Богша так и не дождались. Сама Медвяна возилась с Вейкой: в баньку водила, кашу в миске подсовывала. Жалела молодуху. Да и за такими хлопотами и свое горе забывалось, мутной пеленой покрывалось. Не уходило, но уж мучило и болело тише.
— Веечка, ты бы вышла на морозец, вздохнула. Глянь, снега какие аж глаз слепит. Вон и солнышко играется. Пойдешь, нет ли? — ответа Медвяна так и не услыхала.
Богша уехал третьего дня: посмотреть, проверить, что и как. Не ищут ли, не пора ли бежать? Вот и осталась Медвяна с молчаливой Вейкой, слушала безмолвие ледяное и сама индевела. Злоба и горе подернули ее холодком, будто инеем присыпали скрипучим. Была девчонка, а в один день повзрослела, построжела: детство окончилось. Вот оно как бывает — мать с отцом ушли и нет никого более меж тобой и смертью. Некому защитить, некому пожалеть-приласкать. Один воюй с жизнью, сам вертись, как хочешь и как умеешь. Сироты все на одно лицо, если приглядеться — глаза недетские, хоть и от горшка два вершка.
— Богша никак едет? — Медвяна глаза прищурила, вгляделась.
И правда, стайка птиц вспорхнула, указала — есть кто-то на дороге лесной. А кроме Богши тут и быть-то никого не могло. Через малое время показалась мохнатая низкорослая лошадка, тащившая за собой сани. Богша в черной шапке и тяжелом тулупе, присыпанный снежком, сидел в возке.
— Как вы тут? — из саней вылез легко, ненатужно.
— Все хорошо, дядька Богша. Тихо, — Медвяна, придерживая полы шубейки, подошла к возку, подхватила мешок с мукой, — Ну что ж молчишь, а? Узнал чего?
— Узнал. Идём-ка в дом там все обскажу. Намёрзся. Только мерина сведу в тепло.
Медвяна хлопотала: поставила перед дядькой на стол горячего травяного отвару, принесла миску с кашей, кус хлеба отломила. Однако браться за ложку Богша не спешил, отхлебывал отвар малыми глотками. Вейка сидела на лавке, головой прислонясь к стене, в окно бездумно глядела.
— Уходить надоть. Шныряют дружинные Рудного. Ежели сей день решим куда податься, то завтрева надо выезжать. Да не по большаку Лутаковскому, а лесом. Я так мыслю — надо ехать в городище поболее. Там народу тьма. Кто ж найдет? А, стало быть, к князю Мезамиру.
— Нет, Богша, — сказала жёстко Медвяна. — Уж слишком далеко от Военега
— Опять ты? Да где это видано, чтобы девка сопливая взялась мстить родовитому, а? Сколь раз уж говорил тебе — брось, забудь! Смерть на себя накличешь. И мы обое с тобой пропадем.
— Я не держу, дядька Богша. Иди, куда глаза смотрят. Деньгой не обижу, — сказать-то сказала, но сердце ёкнуло.
Как без мужика? Если б не Богша, они бы с Вейкой погибли: либо от мороза, либо от голода.
— Тьфу. Какая деньга? За тебя боюсь. Отец твой велел следить да беречь, — Богша головой поник: жесткие черные с проседью волосы упали на высокий лоб, плечи широченные согнулись, будто ноша на них неподъемная легла, глаза карие с медовым ободком погасли, замутились горем.
— Дяденька, я зарок дала. Не отступлю. С тобой ли, без тебя ли, все равно помщу. Слово мое крепкое, — Медвяна выпрямилась, блеснула яркими глазами. — Никто меня с пути того не своротит. И все на том.
Кривой ничего не ответил на такие слова, огрел тяжелым взглядом, головой качнул. А вот Вейка сказала, тем и удивила Медвяну и дядьку.
— Я с тобой. Сдохну, но сквитаюсь со всеми. Каждого найду. И прятаться надобно не в городище, а под самым носом у Военега. Чем ближе, тем лучше, — сказала и опять отвернулась, принялась в оконце смотреть.
Богша перевел взгляд с Вейки на Медвяну, снова покачал головой, будто удивляясь чему-то.
— Стало быть, планида*. Второго дня ехал мимо веси Сокуров. Встретил мужика одного, так он сказал — перемерли все. Лихоманка чудная одолела. А Нельга Сокур вроде как, утекла. Мать ее к родне спровадила.
— И что, Богша, что? — Медвяна давно знала дядьку, понимала, что не просто так взялся он рассказывать страшное.
— А то, Медвяна. Недалеко Нельга-то утекла. Нашел ее и девку-холопку ейную. Обе мертвые давно в овражке лежат. Волки обглодать успели. А грамотки-то при них.
С теми словами достал из-за пазухи два берёсты* — Нельги, рода Сокур и холопки ее Новицы, родства не помнящей.
— Дядька, так Сокуры-то Военегу дань платили, а стало быть, не ратились, — Медвяна тряскими руками приняла страшную находку Богши. — И что ж теперь, а? Куда? Прямо к Военегу? Сказать ему, что я Нельга?
— Не примет, — промолвила Вейка тусклым голосом, — пришлых не любит. Про то знаю от знакомицы своей. У Сокуров-то родня есть — Рознег, глава рода Новик. С Военегом не дюже дружен, но и не враг ему. Бают, заезжает к нему Рудный. Куда б побежала обезродевшая девка? К родне, хучь и дальней. Ты теперь Сокур, значит, ищи защиты у Новиков. Надо же, как совпало. Не иначе Сварог* перстом огненным кажет — иди, мол, путь твой мне виден.
Медвянка схватилась на матушкин оберег-огневицу, что не снимала с себя, за ней Богша лоб наморщил, глядя на грамоты с затаенным страхом.
— И чего ждем? — Вейка скинула свою сонную одурь, с лавки поднялась. — Медвянушка, так я начну собирать пожитки. Ты бы перстни свои сняла и спрятала, кольца с косы тоже убери. Серебро ведь, не деревяшка. Да и шубейку надо поплоше, эта дюже богатая. Сокуры не Лутаки, им такой деньги, как в твоем роду видать не доводилось.
— Дело говоришь, Вея, — Богша прихлопнул широкой мозолистой ладонью по столу, соглашаясь. — Токмо без деньги мы на новом-то месте набедуемся.
Глянул из-под кустистых бровей на Медвяну, мол, понимаешь ли, о чем я? Она поняла — в схрон надо наведаться.
— Ты, Богша, передохни, поешь да запряги мне Василька, — бровями показала, мол, поняла все.
— Как скажешь, Медвяна, — и поклонился слегка, признавая ее первенство в таких делах. Ведь не кто-нибудь, а последняя из Лутаков.
Когда солнце окрасило небо закатным пламенем, а морозец прихватил еще сильнее, Медвяна и Богша неторопливо добрались до кромки леса, там расстались ненадолго.
Отец с детства учил Медвяну по лесу не блуждать, путь находить, тогда же и показал, где припрятаны богатства медовые, Лутаковские. Под обрывом, при сходе к речке Шуйке, неприметная нора. С одной стороны ее скрывал крутой холмик, с другой не пускала сама речка, делая петельку-подковку. Вот в ту нору и сунулась опасливо Медвяна, вошла в пещерку малую и под большим камнем выискала сундук. Смахнула пыль, отомкнула замок, крышку приподняла, а там…
Золотые монетки, серебряные деньги, собранные в холстинковые мешочки. Не одним годом скоплены — всей жизнью отца. Дорого брал Лутак за свои мёды стоялые*, за медовуху* легкую. Как делал, чего добавлял бортник в свои настои, никто не знал, кроме Медвяны. Она отцу зарок дала, поклялась никому и никогда не рассказывать. Бочки с десятилетними медами тут же были прикопаны: большие деньги можно было выручить за них, если отвезти к княжьему двору. На каждом бочонке знак — бочка и копье. Отцовские-то ценились выше иных. А как теперь везти? Лутаков нет, осталась Медвяна, и та уж имя сменить посулилась, чтобы смерти избежать.
Долго смотреть на схрон не стала, взяла несколько мешочков с серебром и один с золотой деньгой, замкнула сундук, заложила камнем, будто нет под ним ничего, и пошла к свету.
— Богша, тут я, — подошла неспешно и напугала дядьку так, что он подскочил на возке.
— Эх, ты! Ведь не приметил. Хорошо по лесу ходишь, тишком, — одобрил мужик. — Вались на сани да едем.
Мерин Василёк вез бодро. Закатным солнцем снега окрасило, будто кровью мазнуло. Тихо вокруг, не тревожно, но и не отрадно. Ехали молча, пока Богша не откашлялся степенно и не спросил:
— Много ли взяла, Медвяна?
— Смотри сколь, — показала мешочки. — Мыслю так, что хватит.
Богша оглянулся через плечо, брови высоко поднял.
— Деньга немалая. На такую-то всю жизнь можно не бедовать. Все вытащила никак?
Медвяна промолчала, не стала говорить, что всего лишь малая толика богатств Лутаковских. Просто кивнула пожившему дядьке.
Вечеряли в темноте. Очаг давал тепло и свет малый. Пареная репа Вейке удалась. Сама ж она очнулась, хлопотала, носилась по заимке. И все бы ничего, но блеск во взгляде — опасный и яркий — показал и Богше, и Медвяне, что не с радости она задышала, а с одного лишь горя и близкого отмщения обидчикам своим.
Ранним утром тронулись. Положили требы богам на добрый путь, и меринок покатил их сани по лесной дороге. Морозец ослабел и через час повалил крупный снежок, будто умягчил путь странникам.
— Эвон как. Прям в руку. Следы-то заметёт-спрячет, — Богша коснулся легонько оберега Сварожьего у себя на шее, — Вейка, нож-то при тебе?
Та кивнула, закуталась покрепче в тулупчик душистый и плат теплый.
— Я тоже взяла, Богша. Путь неблизкий, — Медвяна проверила ножик в сапожке: не намнет ли ногу.
— Не боись. Доберемся, чую, — вожжами тряхнул. — С этого самого мига нет средь вас, девки, ни Медвяны, ни Веи. Есть Нельга Сокур и Новица. Уясните и инако дружка дружку не кличьте.
Девушки переглянулись, угукнули дядьке и наказ его исполнили.
Через две недели лесных мытарств въехали в Лугань. Медвяна во все глаза смотрела по сторонам, а посмотреть-то было на что. Крутые, высоченные берега полноводного Молога с одной стороны, с другой мелкая, но широкая Свирка. Народу тьма! Лугань не весь, а целое городище! Хоромы большие, богатые, дворы просторные — до трех десятков семей селилось. Волховской домина особняком стоял: нарядный красный конёк на крыше, забор с фигурками богов сильных.
На Новиковском подворье встретил их хозяин — Рознег — принял Нельгу-Медвяну за свою, обмана не углядел. Путники с дороги лгали хмуро, немногословно с того и поверили им, уставшим, потерявшим дом свой и род.
Снежана, большуха* Новиковская, смотрела стыло, но мужу перечить не взялась, приняла в дом пришлых Сокуров. Сыновья Новика, оглядев неприметную Нельгу, и вовсе вышли из гридницы, а вот дочка — Цветава — осталась смотреть и улыбаться ехидно.
Красивая, статная, коса цвета темнейшего мёда, глаза — синева небесная по летнему времени, брови вразлёт, губы — вишни спелые. Вольно ж ей было посмеиваться над Нельгой. Та то лицом вроде недурна, но таких воз да тележка малая в каждой веси. Вот разве что волосы цвета молодого медка могли б затмить многих. Но косу-то на лик не повесишь, волосами его не украсишь.
Через месяц неуютного житья на Новиковском подворье Нельга решилась жить своим домом. Новик посмеялся — виданное ли дело, девчонка сопливая, шестнадцати лет, безмужняя и хозяйка? Но соплюха упросила дядьку Рознега дать ей малый земляной надел на краю городища, поклонилась ему серебряной деньгой тот и согласился по жадности. А к лету у Нельги уж новый домок стоял и поодаль заимка с бортями. На чистом подворье объявились трое холопов из булгар*. А потом и денежка потекла к девице: медовуху делала и на торг носила.
Рознег стал было расспрашивать — откуль, мол, знаешь про бортное дело — но Нельга отговорилась Богшиными умениями. Языком попусту не трепала, отмалчивалась больше, Рознег и отстал. Так и полетело времечко, покатилось…
От автора:
Планида — доля, участь, судьба.
Берёсты — автор несколько ускорила появление грамот, определяющих личность. Не было на Руси до государственности никаких паспортов)) Только знакомец или член семьи мог подтвердить личность. Ранее всего появись грамоты для купцов, которые торговали с разрешения выборных князей.
Сварог — бог небесного огня, отчасти соответствующий греческому Зевсу и Гефесту.
Меды стоялые — жутко дорогая вещь! Упрощенно — чтобы получить алкогольный напиток такого плана из меда, нужно было ждать не менее пяти лет. Вот и закапывали бочки в землю. Могли пролежать лет десять. Могли быть травяные добавки для разнообразия вкусов.
Медовуха — упрощенно — забродивший мед, разбавленный водой. Слабоалкогольный напиток. Могли быть травяные добавки для разнообразия вкусов.
Большуха — старшая женщина в доме. В данном случае — жена главы рода.
Булгары — тюркские племена. В Древней Руси до появления государственности славяне очень редко становились холопами. Чаще иностранцы. Рабовладение было эдаким патриархальным, отеческим, можно сказать — мягким. А потому любой холоп мог стать вольным человеком и вернуться домой.
Глава 4
Два года спустя
— Некраска, ты ли?! — Местята бежал к другу давнему. — Вот где довелось свидеться. Здрав будь, Квит.
— Боровой! — Некрас шагнул навстречу, обнял крепенько, по спине ударил широченной ладонью. — Ты как тут? Слыхал, что подался в дружину к князю Ладимиру.
— Подался, да не пригодился, — вздохнул тяжко Местята. — Теперь тут обретаюсь. В Лугани пристал к мельнику Шуеву. Работаю за деньгу малую и харчи.
— Вон как… — Некрас покивал. — А что ж домой в Решетово? Мамка твоя по зиме болела. Батя седой весь стал.
— Не поеду, — от друга отвернулся, руки на груди сложил. — Чего я там не видал?
— А здесь-то что? Медом помазано? Иль зазнобу сыскал? Говори уж, Местька.
Некрас улыбался озорно, словно хвастался зубами: белыми, крепкими.
— Стыдно. Куда я поеду? Без деньги да без ремесла? — Местята спесь унял, загрустил.
— Эх, друже, не туда глаза твои смотрят. Ты вот что, головы-то не опускай. Айда ко мне на насаду*? При мне будешь. Сленишься — не спущу, а помогать начнешь — без деньги не останешься, — Некрас хлопнул по плечу дружка своего неудачливого.
— Возьмешь, Некрас? Взаправду? — Местята удивился, но и обрадовался. — К себе? Ты теперича птица важная. Слыхал, что отец тебе грамоту* свою отдал. Теперь ты сам-один купечествуешь.
— Ну, будет тебе, — Некрас вроде и удерживал друга от слов льстивых, а все же, гордился. — Я за себя беру Цветаву Новикову. Гостить к новой родне приехал, подарки привез. Лёд тронется через месяц, так и собирайся. Токмо помни, коли со мной, значит мой ты человек. Уяснил, голова твоя дубовая?
— Да я…я… Некрасушка, я жизни не пожалею….Я … — Местятка заметался, не умея подобрать нужных слов. — Погоди-ка, Цветаву? Брешешь! Первая красавица в Лугани. Богатейшего роду.
— Так и я не пальцем деланный. Квитов все знают. Ай, не так? — Некрас подбоченился, шапку на макушку сдвинул. — По себе беру.
— Так, а я чего? Я ничего. И то верно, Квиты род известный не токмо в Решетово.
— А если так, то давай-ка, друже, обмоем уговор наш, а? Вот тебе полденьги, так ты иди и купи медовухи. Самое то по времени. Глянь, весна-то борзо принялась. Снега быстро подались. Не дороги — речки малые.
Некрас и Местята стояли у высокого забора. Вдоль широченной улицы выставлены торговые лотки. Народ по теплу первому сновал возле торговцев, деньгой сорил. Чего тут только не было! И свистульки, и ткани иноземные, и бусы девичьи, и пряники последней муки.
Капель звенела, что птичья трель. Солнце согревало, делая белый снег серым, а потом и вовсе сжигая. Девки, что толпились у лотошников, распахнули тёплые зипуны*, платки с кос скинули. Смеялись весело, будто пташки щебетали после ледяной зимы.
— Так я побегу, а, Некрас? Возьму медовухи Сокуровской. Уж дюже хороша, — Местята подпрыгивал на месте, словно молодой нетерпеливый жеребчик.
— Беги, Местька, беги, — Некрас отдал половину деньги, посмотрел вослед убегающему дружку, а сам с места не двинулся.
Прислонился широченной спиной к нагретому деревянному забору, вроде как прижмурился на солнце. А сам-то на девок глядел. Много их, все разные, а для Некраса будто на одно лицо.
За целый год с половинкой, что Некрас ходил на своей насаде, успел пересмотреть дев великое множество: иноземных и своих. Долго-то ни с одной не задерживался. Скучно становилось, и уходил, бросал дурёх. Все купеческим своим делом отговаривался, мол, вода зовет, деньга сама собой не делается. Слёз повидал, ругани наслушался, но и в бабье научился разбираться не в пример прежнему.
Одна ждала подарков, другая льстивых слов, третьей хотелось гордиться мужем — знатным купцом. А более-то и не было у девок мечтаний и мыслей. Бывало, что и влюблялись в Некраса, только любовь девичья короткая, но с дальним умыслом — женой стать. Под такой умысел и притворялись девки: кто тихоню из себя строил, а кто веселушку.
Некрас помнил отцовские приговоры и советы. Тот все твердил, что из девки может получиться неведомое, а как стала бабой, так сразу вся ее суть налицо. Некрас-то не верил, но жизнь показала — прав был батька, ой как прав. Насмотрелся на друзей окрученных, на их жён молодых и понял — как стала девка мужатой, так и изменилась. Была улыбчивой девицей, а получилась баба с унылым ликом. Слыла разумницей, а стала дура дурой. Вон и невеста Цветава, вроде ласковая, а что потом? Сварливая тётка?
Стоял младший Квит, думки свои думал, грелся на раннем солнышке, смотрел на толпу пеструю и вроде видел всех, а никого не замечал.
Долго думать не пришлось — приметил девушку одну. Поначалу поблазнилось, что высока, а уж после, когда пригляделся, понял — спину прямит, с того и смотрится выше. Плечи ровные, шея длинная. Коса цвета светлого мёда — тугая, блестящая и долгая. Лоб под вышитым очельем бел и гладок. Из-под распахнутого дорогого зипуна рубаха девичья виднеется — вышивкой богатая — а под ней грудь высокая, и по всему видно, упругая. Стан тонкий, гибкий. Ножки в приметных сапогах. Руки белые, на запястьях обручи хоть и тонкие, но серебряные. Ликом и проста, и непроста. Вроде нет ничего особого, но глаз не отвести.
Рот великоват, но тем и манит, брови изогнуты гордо. Нос, щеки — все как у людей. А вот глаза… Некрас подался от забора, будто подкинуло его. Глаза-то зеленые. И светят той самой зеленью, что на поздней листве проступает. Глубоко да ярко. И взор такой, что омут в Мологе, самой полноводной реке в округе.
Сама неулыба. То и показалось Некрасу чудным. Вокруг все зубы скалят, перешучиваются, а эта идет, словно все мимо нее, не с ней. Квит и так смотрел, и эдак разглядывал — не понял, не уразумел какого она корня. По всему видно не из бедных. Вроде родовитая, а идет одна: ни холопки рядом, ни брата. В зеленых глазах таилось что-то, а что не догадался.
Бусы и свистульки она смотреть не стала, прошла и мимо пряников. Мазнула взглядом по белому льну, что лежал на лотке у торговца, но и там не задержалась. Стылая? Ну, нет! Таких Некрас уж давно определял c одного взгляда. Эта огневая, только на вид холодная.
Не успел мысль свою уцепить, как девица лицом переменилась, засияла улыбкой, ослепила Квита. Губы румяные изогнулись красиво, зубы белые сверкнули, озарили лик простой и сделали его во сто крат милее.
— Кому ж улыбку кинула, а? — проследил зеленый взгляд и рыкнул с досады.
Парень молодой и ладный шел неторопливо к чудной деве. Красив, не отнять: волос светлый, глаз голубой. Статный и высокий. Вот ему и досталась улыбка яркая.
— Некраска, глянь-ка, вот она, медовуха, — Местята подлетел, затоптался, как щеня-подлеток. — Ты чего замер-то, а?
— Кто такая? — Некрас головой мотнул в сторону зеленоглазой. — И кто это с ней?
— Эта? — голос Местяты посуровел. — Нельга Сокур. А это Тихомир Голода, чтоб ему…
Некрас к другу повернулся удивленно — уж очень злой голос у парня. Обижен?
— Ты чего, Боровой? Знакома она тебе? — по глазам догадался, что знакома. — Чего ж брови насупил? Никак отлуп тебе дала? Эх ты, тетёха.
— Что ржешь? Она всем отлуп дала. Ходит с Тишкой своим, как прилипла к нему. Тьфу!
— Чего ж не посмеяться? Что, сильно обидела? — Некрас с другом-то болтал, а сам снова прикипел взглядом к Нельге.
— А то нет? Я к ней по-хорошему, с подарком, а она возьми и тресни меня дрыном промеж глаз. Ажник искры посыпались, — жаловался Местята.
— Завираешь, друже, ох, завираешь. Коли по-хорошему, так и драться бы не стала. Руки распустил, да? — ответа Некрас уж не услышал.
Нельга и Тихомир поравнялись с забором, возле которого стояли приятели. Квит выпрямился, подбоченился, уставился на зеленоглазую, а она и не посмотрела. Мазнула равнодушным взглядом, словно никого нет, место пустое. Прошла мимо, за ней протопал красивый Тишка, снуло глядя под ноги.
Некрас рассердился, что взглядом-то за него не зацепилась. Про себя выругался да и послал подальше светловолосую, мол, катись ты, и без тебя не заскучаю. Девок вокруг полно, да еще и краше тебя, поганка. Только не понял, отчего шею изворачивал, провожал взглядом чудную девицу до той поры, пока она и парень ее видный не свернули в проулок.
А вот Местята понял, перехватил поудобнее малый бочонок с медовухой и оглядел Некраса. Вырос, друг его шебутной, заматерел. Высок, плечист. Морда как была, так и осталась — не красавец, но пригож. Брови вразлёт, борода окладиста, усы густы. Глаза темные, блескучие. Одет не в пример самому Местяте: и рубаха, и штаны, и сапоги — дорогой работы. Пояс тисненой кожи, а на нем проушины. А для чего? Ведь купец, не дружинный. Меча вроде не должно носить.
— Что, понравилась? Да Нельга та еще… И нет в ней ничего, вот ничегошеньки, а парни липнут. Знаешь, Некраска, мыслю, что от походки ейной. То ли идет, то ли плывет. Стать у ней особая, руки сами тянутся приобнять да пощупать. Не инако Лада ее челомкнула при родах. А еще душистая она… Цветами-травами пахнет. И как такую мимо пропустить, а?
— Расщебетался, что воробей в кустах. Нужна она больно, гордячка бледная. Ничего в ней нет.
— Ну, так-то глянуть и, правда, нет. Цветава твоя вот точно жар-птица! Аж смотреть боязно. Красивая. Удачлив ты, Некрас, ох и удачлив.
Некрас в ответ на такие речи ничего не сказал, подумал только, что на одной удачливости далеко не уедешь, не уплывешь. Окинул взглядом Местятку — кудрявого, высокого, нескладного — уразумел, что не поймет его друг. Квит, когда насаду от отца принял — измучился. Собрал ватагу свою, а как ей указывать, куда вести, что покупать-продавать, и знать не знал. Учился денно и нощно, перенимал науку торговую у отца, упирался, и вышло. Обжигался, выгоду свою терял, но мудрости набрался. Скрытно и мечному мастерству выучился. А как иначе? Лихие людишки на чужое добро всегда зарились, а стало быть, без защиты никак нельзя. Хоть и не урядно, но меч при себе носил. Ватагу свою обучил и уж не тратился на наймитов дружинных для охраны, сам отмахивался. Про умение своё никому не рассказывал, дурачком прикидывался.
— Удачлив, Местята. Велес меня хранит. Идем нето, медовуха-то мерзнет, — хлопнул по плечу дружка, повел подальше от торговых лотков.
Ввечеру явился Некрас на Новиковское подворье. Цветава уж ждала, топталась у ворот. Квит улыбнулся, любуясь ее красотой: глаза синие, коса толстая, улыбка яркая, губы спелые. Стать особая — округлая, гладкая. Некрас рад был такой невесте, но не боле. Цветава до поцелуев жадная, решись Квит сделать ее своей без вено* она б и не противилась. Но позорить новую родню не стал — выгода велика. Денег в роду много, и за Цветавой приданого давали богато. Невеста в самый раз для купца! Как знакомство свели семьями, так она первым делом выпытала — сколь деньги у женишка, велик ли дом, холопы будут ли. Некрасу отрадно было слушать, ведь и сам не без жадности к злату
— И где бродишь? Кому подмигиваешь? Улыбаешься? — Цветава подошла плавно неспешно, прижалась спелой грудью к плечу Некраса.
— Ревнивая никак, Цветавушка? Сама помысли, кому тут улыбки дарить? У меня самая красивая невеста в округе. Разве можно на других-то смотреть? Все они рядом с тобой поганки бледные. Веришь мне?
Некрас давно уж понял — лесть любит, привыкла к ней и иных слов не ждет, одну лишь похвалу.
— Верю. Так ты знай о том и помни, что я для тебя одна. Некрасушка, скучала за тобой. Все глаза проглядела, — вздохнула глубоко и волнительно.
Обнял девушку, потянул за собой в дальний угол подворья, а уж там заласкал-зацеловал. Больше для нее старался, сам-то привык к иным ласкам — погорячее, позабористей.
Одно странно — в голове тонкой деревянной иглой засела зелень глаз и коса цвета светлого мёда. Колола та иголка неприятно, о себе забыть не давала. Некрас проводил Цветаву до крыльца и пошел к домку, где ему ночевать отвели новые родственники. Дорогой все морщился, бровь изгибал и бормотал:
— Сокур…Сокур… Откуль такие, а?
От автора:
Насада — речное плоскодонное, беспалубное судно с высокими набитыми бортами, с небольшой осадкой и крытым грузовым трюмом. Имело одну мачту и парус. Ладей тогда еще не делали))
Грамота — в данном случае — купеческая грамота, которая выдавалась выборным князем торговцам.
Зипун — верхняя мужская и женская одежда.
Вено — выкуп за невесту, уплачиваемый женихом.
Глава 5
— Нельга, иди-ка. Опять твой пришел. Глянь, стоит, красуется, — Новица-Вейка стояла на крылечке небольшого опрятного домка. — Вот имя-то прямо по нему — Тихомир. Слова не допросишься, тихий да мирный.
Нельга услыхала, взметнулась с лавки, косу за спину перебросила и бегом в сени. Подхватила зипун, накинула на плечи и к Тише. Тишеньке…
Как полюбила, когда, за что и сама не могла понять. Тихомир Голода красив, не отнять — глаза голубые, кудри мягкие пшеничные. Стать видная — плечи широкие, руки крепкие.
Сокуры особняком держались среди Луганских. Молча и тихо. Однако людей не сторонились — трудно прожить наособицу. То там, то тут попадался Нельге на глаза красивый парень. Не заговаривал, но смотрел так, что делалось тепло и боязно, а вместе с тем и окатывало приятной тревогой, шевелило сердечко затаенным девичьим.
Однажды после посиделок у Рознега Новика пошел Тихомир провожать Нельгу по вечерней поре. Молчал, но и не отставал. А Нельга волновалась-тревожилась, все никак не могла унять бешено стрекотавшее сердечко. У своего подворья остановилась, обернулась к парню и вымолвила:
— Что ж провожатый такой тихий попался? Ай, слова по дороге растерял?
— Слова что? Звон пустой. А ты красивая, Нельга. И молчишь все время. То любо мне, — голос тихий и нежный, а взгляд теплый.
— Так уж и любо, Тихомир?
— Любо.
С тех пор о сердечном он не говорил, а Нельга и не просила. Гуляли вечерами, смотрели на одно и то же, видели одинаково. Со временем и сама Нельга уверилась — зачем слова, когда и так все ясно.
С Тишей ей покойно было, нежно. Бывало, усядутся на поваленную березку на берегу полноводного, светлого Молога, и смотрят, как бегут-перекатываются глубокие воды его. Нельга склоняла светлую голову на плечо Тихомира, тот обнимал ее осторожно за плечи и сидели до темноты, будто говорили молча. В такие вот дни чудилось Нельге, что отступает злость ее, горе прячется, а месть кажется не такой уж и нужной. Легче становилось рядом с ним. За то и любила, голубила Нельга красивого нежного парня.
Он провожал домой, тихо касался губами ее губ, гладил теплой ласковой ладонью ее волосы и отпускал. Уже в хоромцах, на лавке широкой возвращались к Нельге тяжелые мысли о мести и удушливая злоба. Дышать тяжко, жить муторно. И ждала девушка новой встречи с любым, коротала дни свои за работой.
Но была и малая ложка горя в том сладком любовном меду. Сильно боялась Нельга, что Тиша заговорит о вено. Знала, что женой его стать не может. Месть Военегу Рудному — дело опасное, а тянуть Тихомира на верную погибель не могла никак. Любила крепко. Знала, что недолго продлится радость девичья, с того и смотрела на Тишу подолгу, все старалась запомнить любовь свою первую, а там кто ж знает, может и единственную.
— Тиша, здрав будь, — Нельга подошла к воротам, где ждал ее парень. — Идем нынче к Мологу?
— У воды знобко еще, Нельга. Лучше промеж изб держаться. Идем вдоль улицы, а там наискось к дому волхвы, — Тихомир кивка дождался, сам в ответ головой качнул и повел девицу.
Она впереди на шажок, а он за спиной ее, словно приклеенный. Хрустит под ногами крупчатый подтаявший снег, пахнет талой водой весенней. И запах тот шальной будоражит кровь молодую, веет скорым теплом, радостью летней, близкой.
В конце улицы у дряхлого домка Суропиных наткнулись на шумную, веселую толпу парней и девчаток.
Впереди всех красавица Цветава Рознеговна, рядом с ней нарядный парень — высокий, крепкий. Нельга поняла, что он и есть тот самый жених Новиковский — Некрас Квит. Звала ее тётка Снежана на смотрины да Нельга отмолчалась, а потом и вовсе не пошла. Опасалась чужаков — а ну как узнает кто, что она и не она вовсе, а беглая Лутак?
— Тишенька, Нелюшка, — голос Цветавы сочился сладостью непривычной. — Все гуляете, все бродите. А и чего ж не походить? Дело-то молодое, любовное.
Смех красивой дочки Новика прозвенел колокольцем, только Нельга не поверила ему. Знала давно, что Цветава девица жесткая, иной раз и злая.
— Здрава будь, Цветавушка, — широко улыбаться не стала, лгать лишний раз не пожелала.
— Айда с нами, — Цветава махнула белой рукой, сверкнула новым обручем на запястье. — Чего одним бродить?
Нельга и догадалась — хвастаться будет женихом и подарком его. Открыла уж рот, чтобы отказаться, но Тихомир опередил, молвил:
— Нам покамест и вдвоем не скучно, Цветава Рознеговна, — улыбнулся светло, взял Нельгу за руку, мол, идем, чего стоять.
Пока болтали, толпа веселая далеко ушла, унесла с собой смех громкий и шутки озорные. Нельга оглянулась на них, поглядела вслед, а потом взгляд перевела на Цветавина жениха. Лучше бы не смотрела…
Глаза Некраса будто светились, иначе не скажешь. Нельга от такого его взгляда вздрогнула, попятилась, но разума не утратила. Сделала малый шажок и скрылась за широкой спиной Тихомира. А Квит, как нарочно, вбок подвинулся и снова уставился на Нельгу.
У нее от дурных мыслей сердечко застучало быстрей! Чего смотрит, а? Неужто признал? Вроде не знакомы и раньше-то не виделись. С того Нельга лицом посуровела и глянула прямо на Некраса. А тот, приметив взгляд недобрый, бровь вскинул, но смотреть не перестал.
— Нелюшка, завтрева у нас гулянье в дому. Ты приходи, чай родня, не чужачка, — Цветава заливалась соловушкой. — И Тишу приводи. Одной-то тебе, поди, скучно будет, а?
И снова смех колокольцевый, но лживый и прохладный.
— Спасибо, Цветава. Я до гулянок не охоча, — Нельга от Некраса отвернулась, но знала, что все еще смотрит, глаз не отводит. — Невеселый гость из меня.
— Вот и развеселишься. Некрас-то мой — затейник. Он скучать не даст. Да, любый? — Цветава взяла жениха за руку, улыбнулась светло.
— Верно. Приходи, Нельга, — голос у Некраса глубокий, певучий. — И ты, Тихомир, заходи.
- До завтрева еще дожить надо, — отозвался Тихомир негромко. — Прощевайте. Идем, Нельга.
— Идем, Тишенька. — Нельга пошла быстро, не желая более смотреть в темные глаза Некраса Квита и слушать Цветавины лживые речи.
И снова скрипучий талый снег под ногами, тишина сумеречная. А и хорошо было Нельге идти просто так, зная, что за спиной ее Тиша любимый. Жаль одним недолго пришлось гулять. У подворья волхвы их снова окликнули.
— Нельга, что ж не зайдешь? — сама волхва стояла у ворот своего дома.
— Здрава будь, Всеведа, — Нельга легонько поклонилась, иначе никак, ведь сама волхва!
— Давно уж жду. Ай, боишься? — голос добрый, а взор внимательный и серьезный.
— Не боюсь, Всеведа, — Нельга выпрямилась, взгляда не отвела.
— Вот так-то лучше. Так ты приходи. Токмо одна, без Тихомира. Посидим, поговорим, — вроде приказала.
— Приду. Благодарствуй.
Тихомир тоже головой кивнул, мол, почтение тебе, волхва. Потянул Нельгу за рукав и уж далее шли они обычным своим порядком — молча, тихо и благостно.
У домка Нельгиного остановились. Она ждала поцелуя… Тиша нежно и легонько коснулся губами, погладил волосы ладонью, а вот Нельга вздохнула грустно. Уж сколько времени вместе, а он все нежно да тихо. Девичье молодое просило большего, а Тиша…
Простились тепло и разошлись по домам. Только вот Нельге дом не в радость. Новица совсем плоха сделалась. Только про Военега и говорила. Все ждала заветного часа, когда приедет он и получит месть свою. И он сам и его дружинные. Вот и сейчас, как только Нельга ступила на порог, Новица бросилась к ней: глаза сверкают, брови высоко выгибаются.
— Едет! Едет он! Наозоровался на границах-то. Слышь? И дружину ведет. Два года ждали, Медвяна. Два! — выкрикивала, будто радовалась.
— Тише, тише Веечка, — Нельга прижала ее голову к своей груди. — Не называй меня так. Услышат.
— Пусть слышат. Скоро уж… — но голос умерила, обняла Нельгу и замолкла.
— Правда едет?
— Верное слово. Нынче слыхала от закупа Новиковского. Через месяц-другой ждут. Ты уж будь настороже.
— Буду.
Сказать-то сказала, а сердечко заныло-забилось. И все о нем, о Тишеньке. Стало быть, близка разлука.
Ночью уж на лавке под теплой шкурой металась-ворочалась. Месть из головы не выкинула: мать с отцом часто снились, ждали расплаты. А вот Тихомир… Решила Нельга, что станет его и безо всякого вена. Кто знает, какой судьбой боги оделят? И не убьют ли после родственники Рудного?
Утром приехал с дальней заимки Богша, выслушал Новицу, насупил брови, кивнул, молча, мол, понял. Поманил за собой Нельгу во двор. Та подхватила ведро, вроде за водой к колодцу собралась.
— Одумайся. Ведь убьют тебя. Кому с того хорошо сделается? Мать с отцом не вернешь, а себя погубишь.
— Не могу, дядька, не могу. Каждую ночь снятся и мама, и батюшка. А еще ребятёнок Желаны. Помнишь ее? Вдова Добрева. Сыночку ее дружинные шею своротили. Я еще помню, как он в сугробе в одной рубашонке лежал. И не проси, Богша. Не спущу, — Нельга сверкнула зелеными очами, руки на груди скрестила, будто отгородилась от Кривого.
Тот помолчал немного, поглядел на двор, на дом и высказал:
— Ну, раз так, то пропадать вместе будем. Ты вот что, Нельга, как решила, так и делай. Дурман-то приготовила? Разумница. А я ужо расстараюсь, вывезу тебя с Новицей. Покумекаем еще.
Нельга кивнула и обернулась на громкий смех редкой завлекательности. Из тех, которому хочется и можется вторить.
— Вона, глянь. Идет подрунька твоя. Иди нето, прогуляйся до колодезя. Я тебя в сарайке жду. Травки для медовухи мне соберешь? Ну, добро. Иди уж, мстявая.
Кривой ушел, а Нельга поторопилась навстречу подруге своей из местных — Званке.
— Нельга, где ж бродишь? Ищу тебя у колодезя, а там токмо бабье сварливое.
Нельга уж собралась ответить, но не понадобилось. Званка завсегда сама на вопросы-то свои отвечала. Оттого и подружились.
Молодая вдовица рода Красных приметила молчаливую Нельгу, не постеснялась подойти и заговорить. Вот с того дня и дружили Звана и Нельга. Сейчас симпатичная двадцатилетняя женщина махала рукой, манила пойти поболтать. А где ж еще лясы точить, как не у Ямкиного колодца? Самое ушлое место во всей Лугани. Там собирались девки, бабы, старухи и всласть чесали языками. Кто кого, кому с кем, зачем да почему — все там выведывалось, передавалось из уст в уста и летело по городищу. Мужики то место обходили большим кругом: не приведи Перун попасться на язык бабской толпе.
— Идем нето, — Звана взяла Нельгу под руку и потянула. — Нынче Шелепиха своего сынка расписывает. Вот врет, баба, я аж заслушалась! И богатый он у нее, и сильный. Да видала я того Замяту — дурак дураком. Зенки выпучит, брови под волоса возведет — на Новиковского мерина похож. Чего? Не помнишь? В начале зимы, когда тебе восемнадцать стукнуло, аккурат в день, когда я тебе рушник расшила? Тьфу, Нельга. Мерин-то понес! Чуть Листвянку Зыкову не потоптал. Вот у него и были зенки пученные, хвост трубой и харя такая…аж…ну…дюже изумленная и неосмысленная. Прям Замята!
— Званочка, ты чего ж наговариваешь? Скотину с человеком путаешь? — Нельга едва не засмеялась, уж очень смешно Званка пыталась показать глаза мерина.
— Ты Замятку не видела! Честное слово, мерин Новиковский! — пока болтали, дошли до колодца.
А там, ужас что! Шелепиха сцепилась с бабкой Сечкой. Пух и перья! Званка глазами показывала Нельге, мол, а я что говорила? Сечка про Замяту не постеснялась высказать в подробностях, за что и получила от Шелепихи за чадо родное и любимое.
Бабы смеялись, подзуживали. Званка с Нельгой набрали воды, и уж подобрались пойти по домам. Отошли-то недалеко.
— Нельга, глянь, никак Соловушка, — Званка затряслась от смеха.
А вот Нельге не смешно вовсе. Рядом с мельниковым работником — Местятой — вышагивал высокий Некрас Квит. Заметил ее, бровь изогнул и взглядом ожёг, будто жаром печным окатил.
— Идем-ка, Званушка. Ты все сулилась мне про Местяту рассказать, — Нельга поторопилась уйти подальше от темных блескучих глаз Квита.
— Такое девице слушать не надобно, — Званка глазками ясными сверкнула, но по всему было видно, что рассказать ей очень уж хочется. — Ладноть, ты уж не соплюха. Вон и Тихомир похаживает. Глядишь, к осени обряд справим.
Нельга услыхала тихую печаль в голосе подруги. Давно уже знала, что поглядывает она на Тишу не с простым интересом — с бабьим. О том никогда слова друг другу не сказали, и приятельствовали крепко.
А Местятка… Нельга не рассказала Зване о случае, когда кудрявый нескладный парень подстерег ее вечерком на дроге и к забору прижал. Получил крепко по лбу дрыном из хлипкого плетня Зеленевых, попавшемся под руку напуганной Нельге.
— Расскажи, Званочка, — Нельге и самой любопытно было.
— Ну, слухай… — открыла уж рот Званка да ее окликнули.
— Здрава будь, Звана, — Местята, насупившись, оглядывал то Нельгу, то Звану.
— И тебе не хворать, Соловушка, — Званка постаралась не смеяться, однако не вышло, и залилась симпатичная молодуха звонким хохотом.
Нельга не сдержалась — заразительный смех у подруги — и прыснула, но себя одёрнула. Уж очень странно посмотрел на нее Цветавин жених. Местята дернулся, рассердился, но друг его руку опустил на плечо, вроде как успокоил.
— Что ж смеетесь, красавицы? Расскажите и мы с вами, — Некрас молвил, голосом заворожил глубоким и сладким.
— Пусть друг тебе твой обскажет, — Звана подбоченилась, подмигнула игриво Квиту.
— Язва ты, Званка! — вскинулся Местята.
Званка принялась отругиваться со смехом, Местята в ответ. А Квит, меж тем, подошел к Нельге и смотрел молча. Взгляд тягучий, медленный. Начал с очелья, оглядел внимательно, а потом ниже прошелся, да с таким мужским горячим интересом, что Нельга едва не вспыхнула.
— Очелье красивое. Сама вышивала? — Квит улыбнулся и ближе двинулся.
— Не умею. Звана дарила, — Нельга отвернулась уж, чтобы уйти.
— Постой, Нельга. Неужто не хочешь два слова кинуть? Не меня ли боишься?
— Бояться не боюсь, но и говорить недосуг.
— Вышивать не умеешь, то я уразумел. А что умеешь? — Некрас сделал пару широких шагов, путь перегородил, заслонил широкими плечами.
— Не одарили боги пресветлые, — Нельга попыталась обойти дюжего молодца, а тот ни в какую.
— Ой, ли? Так ничего и не дали? Ходишь неумехой? — подзуживал с улыбочкой.
— Так и хожу, Некрас. — После ее слов Квит улыбку с лица смёл и задумался.
— Интересно ты имя мое говоришь. Местные так не бают. Откуда ты, Нельга?
Нельга подобралась, крепче сжала в руке веревье ведерка с водой, и уставилась на балагура.
— Твой какой интерес? Откуда надо, — сказала недобро и зло.
А Квит будто вспыхнул, метнул взгляд огненный, плечи развернул во всю ширь.
— Вон как… Говорили молчунья ты, тихоня, а глаза-то пламенем горят.
— То не твоя забота. Пусти. Пусти, Некрас. Дома меня ждут, — и пошла мимо, будто нет его говоруна любопытного.
— Тихомир поди? Ну иди… Иди, Нельга. Вечером-то приходи на посиделки, — уже в спину говорил.
— Недосуг.
— Врешь. Прячешься?
Нельга будто споткнулась, застыла, пытаясь унять стук сердца. Испугалась! Никак узнал чего? Вздохнула глубоко, обернулась к противному парню.
— С чего бы мне? Цветаве скажи — приду. Прощай нето.
— Передам, красавица. И сам ждать буду.
Глава 6
Некрас ждал вечера нетерпеливо. Все на солнце смотрел пузатое, что никак не хотело боком своим круглым касаться дальнего берега Молога. О Нельге вспоминал, а если по правде, то забыть не мог. Взгляд, что кинула на него зеленоглазая днем у колодца, едва не сжёг. Огонь, чистый жар! Вот и маялся в нетерпении, а когда время подошло, не рад стал.
Некрасу те посиделки попрек горла встали. Поначалу вроде все по-людски: девчатки пришли и парней привели. Расселись в большой гриднице — лучинки трещали, печь тепло давала мягкое — и давай болтать-шутить. Громче всех Цветава. Уж и хвасталась женихом богатым, и подарками щедрыми похвалялась. Холопки несли угощения: снетков, киселю ягодного. Никого не обделили, всем досталось. А чуть позже пришла она — зеленоглазая. За ней шел Тихомир, словно спал на ходу. С того самого мига Некрас и перестал зубы скалить, шутки шутить и прибаутничать.
И спроси его сейчас хоть сам Сварог, не ответил бы что стряслось-то? Откуда злость непонятная? Одно знал наверняка молодой купец — все это в голове вертелось только тогда, когда глядел на Нельгу Сокур. Та сидела прямехонько, да вот голова светлая клонилась к плечу красивого Голоды. Взгляд сиял самоцветами, губы румяные изгибались в улыбке до того нежной, что Некрас позавидовал. Едва ли не в первый раз в жизни сердился, что не ему чужая девица улыбку кидает, не с ним сидит, не ему протягивает плошку киселя. А более всего злился, что Нельга на него не единого раза не взглянула, будто он место пустое.
Повезло, что и без Некраса говорунов была тьма на посиделках. Разговор не смолкал, байки и сказки сыпались, что горох из мешка с дырой. Смотреть-то не мешали, Квит и смотрел. Досмотрелся…
Нельга говорила мало, все только с Тишей своим, а когда тот принимался отвечать, светилась, да бездумно трогала оберег, что висел на шее белой. Некрас приметил — оберег-то бабий. Огневицу дарила Лада Пресветлая, Праматерь. А тут на девке… Не прошло мимо Квита и то, что дорог он ей, ой как дорог! Прикасалась к кружку серебряному, будто ласкала. Так-то все больше на грудь любовался — высока, округла. Рубаха ластилась к Нельгиному телу, обвивала красиво — глаз не отвести.
— Некрас. Нерка-а-а-а-с, — смех Цветавы и щипок ее болезненный. — Ты чего застыл? Дозваться не могу.
— Задумался, красавица, не взыщи, — заглянул в глаза невестины и вмиг стал серьезным.
Видела Цветава, куда смотрел он, на кого любовался. Вон как глаза синие сверкают, едва искры не летят. Очнулся, взял невесту за руку, приласкал теплые пальцы, заговорил, зашутейничал. Все через силу — не того хотел, не о том думал.
Уже к ночи, когда толпа с гомоном повалила из дома Новиковского, поднялся с лавки и вышел на порог. Цветава, будто чуя его стылость, руки не отпускала, все прижималась. Тем сердила, но Некрас терпел. Глаза его невеста не смогла взять в полон, а потому он снова прикипел взглядом к Нельге и Тихомиру: они шли первыми, будто сбегали от шумной и веселой толпы.
Блеснуло что-то? Некрас подался вперед, выдернул руку из крепких Цветавиных пальцев. Шагнул с порога и вгляделся. Оберег, что ласкала Нельга, валялся в талом снегу, истоптанном конскими копытами и людскими сапогами. Подошел неспешно и поднял находку свою.
— Вон как… — мысль-то сразу поймал, да и сообразил, как избавиться от волшбы непонятной и опасной, от зелени глаз и медовой косы, что донимали во сне минувшей ночью.
Сунул серебряный кругляш за пояс*, повернулся, заслышав быстрые шаги по хрусткому снегу.
— Некрас, что ты? Никак обронил чего? — Цветава стояла рядом, глаз с жениха не спускала.
— Поблазнилось, голубка. Пойду я. Завтрева рано вставать. Скоро отец приедет по купеческой надобности, так хлопот много. Надо товара на насаду искать. Лугань-то богатая у вас. Ай, не рада? Что бровь изгибаешь?
— Иди, коль нужда есть. Держать не стану, — гордый вид, а глаза-то слезливые.
Пришлось обнять, приласкать, хоть и мыслями уж далеко был — там, где шагала сейчас зеленоглазая поганка, та, что из головы не шла никак.
— Спи спокойно, Цветава. Вскоре с отцом придем к вам на подворье, ты уж своих упреди, — пригладил ее мягкие волосы и выскочил за ворота.
Постоял минутку малую вдыхая шалый весенний дух — то ли горький, то ли сладкий — и побежал по крупчатому снегу туда, где на отшибе стоял малый домок Нельги. О нём ему уж успел поведать друг его Местятка.
В темноте сбился, но вывернул туда, куда хотел. Рыкнул, когда увидел у ворот дома Нельгу и Тихомира. Луна полная на небо вылезла, осветила улицу, словно солнце дневное, нарисовала для Некраса неприглядное — красивый парень склонился и поцеловал легко румяные губы, пригладил медовые волосы.
— А и дурень, — прошептал себе под нос Квит. — Кто ж так милует? Чай, не сестра, не мамка.
Тихомир дождался, пока за Нельгой дверь прикроется и пошел восвояси. А Некрас остался дожидаться, понимая, что скоро девушка хватится оберега и выскочит на улицу, а уж поймать ее проще некуда.
Спохватилась она сразу. Выбежала из дома: зипун нараспашку, коса по ветру. Заметалась по темному двору, разве что руками не шарила по талому снегу. Головой мотнула и побежала за ворота, все под ноги глядела. Хлопнула глухо калитка, тишину покоробила. Нельга направилась по улице, но далеко не ушла. Некрас окликнул:
— Потеряла чего, Нельга? — Некрас сделал шаг к ней, зацепился взглядом за светлые волосы, что красиво мерцали в лунном свете.
— Некрас? Ты как тут? Цветава послала? — она шагнула ближе к парню, да и тот на месте не остался, качнулся навстречу.
— Что ж сразу Цветава? У меня своя голова на плечах есть. Да и обряда пока не справили, — Некрас бровь изогнул сердито. — Так что ищешь, медовая?
Она вздрогнула, да так сильно, что Некрас удивился: никак испугалась? Чего? Вроде не обижал еще.
— Как ты сказал? — глаза ее распахнулись широко.
— Я спросил, чего ты ищешь, медовая? — ответил парень, и вновь удивился перемене: Нельга выдохнула с облегчением, словно гору с плеч скинула.
— Оберег обронила, а где не ведаю, — Нельга оглянулась, руками развела, мол, что делать?
— Не этот ли? — Некрас достал из-за пояса огневицу.
— Храни тебя Макошь! Где же нашел? — Нельга бросилась к парню, потнулась за серебряным кружком, а Некрас руку одернул, приподнял повыше.
— Торопишься, медовая. Вижу, что дорог он тебе, так отчего бы я просто взял да отдал? Откупись, — сказал и совсем близко встал к зеленоглазой.
— Чего ж хочешь за огневицу? — попятилась, но Некрас не пустил — обнял большой ладонью стан тонкий, притянул к себе.
— За огневицу — поцелуй огневой, — с теми словами сделал шаг по талому снегу, прижал Нельгу к забору. — Поцелуешь, как я хочу и отдам. Я не жадный, медовая — щедрый. Удоволишь, так и подарок оставлю. Скажи, что любо тебе? Бусы, лён белый? Или серебром одарить?
Говорить-то говорил, а в голове помутилось, иначе и не скажешь. Запах ее цветочный, тепло девичьего тела под зипуном, стройный стан совсем с ума свели. Того и гляди полыхнет яростное мужское! Сам себе удивлялся: глупости своей, настойчивости непривычной.
— Пусти, — строгий голос Нельги не образумил парня, наоборот, раззадорил и подстегнул, словно плеть.
— Только поймал, и отпустить сразу? Нет, Нельга, — прошелся жадной ладонью по телу от спины до бедер. — Поцелуешь и оберег твой.
— Отпусти, Некрас! — вскрикнула, затрепыхалась, попыталась оттолкнуть парня, да куда там — вцепился не оторвать. — Не стану! Слышишь? Не стану целовать! Пусти! Все Цветаве расскажу!
— Рассказывай. И Тишке своему снулому расскажи, — разум обронил, прижался жаркими губами к ее рту, поцеловал жадно.
Нельга вскинулась, уперлась руками в грудь, ногой пнула по его ноге, а Некрас без внимания. Не отпустил. Прижал к забору еще сильнее, да так, чтобы почувствовала Нельга крепость тела, жар в нём полыхающий. А она взяла да и укусила больно!
Некрас взвыл, руки разжал, Нельга отскочила и побежала вдоль забора к воротам. Уже оттуда говорила:
— Верни оберег. А про нелепие, что ты сотворил — смолчу. Пусть боги пресветлые тебя судят.
— Надо же… — Некрас вытер губы, оглядел ладонь. — Укусила, как пчела ужалила. Оберег не верну, Нельга. Я тебе свою цену назвал, а ты не расплатилась.
— Тебе для чего оберег женский, а? На себя не наденешь. И продать — навару немного. Верни, Некрас, — в голосе ее проступила мольба.
Квит, будь он в здравом уме, ту мольбу услыхал бы, но в голове звон, на губах укус, а пуще все то, что на руках осталось тепло ее тела. Парень вызверился на несговорчивую Нельгу, а сильнее того на себя и все за то, что таким дуроломом себя выставил. В первый раз так-то девицу нахрапом пытался взять. Волшба, не иначе!
— Не твоя забота, что я с ним сделаю. Захочу выкину, захочу в печь брошу. Тебе отдам токмо за поцелуй. То мое последнее слово. Теперь-то цена иная, Нельга. Укусила — плати. Теперь сама ищи меня, сама проси и сама целуй, — грозился, злобствовал Некрас, только откуда-то знал, что не согласится.
Не согласилась, поганка.
— Вот ты какой Некрас Квит, — Нельга руки на груди сложила, оглядела надменно парня. — А и чего ждать от купца? Торгуешься, покупаешь? Не продаюсь я ни за серебро, ни за бусы. Ищи другую. А оберег…
Тут она запнулась, а Некрас зверея, все же приметил, как подернулись отчаянием яркие зеленые глаза, как задрожали губы, те самые, что он целовал так жадно вот только что.
— Оберег — память о матери моей, Некрас. Тебе с него проку никакого, а мне единственное, что осталось. Верни. Просто так верни. К чему тебе поцелуи мои холодные? Иных не жди. Не тебя люблю, — сказала ровно, будто с берёсты прочла*.
— Мне любовь твоя не надобна. Кого хочешь, того и голубь, Нельга. А мне мое отдай. Промедлишь с поцелуем, назначу иное и тогда сама будешь врать на обряде, почему холстинка без крови*, — сказал и выпрямился: гордо, нагло.
— Стало быть, не вернешь? — Нельга руки опустила, сжала кулачки.
— Я все сказал, медовая. Сама меня ищи, — развернулся и пошел.
Дорогой злился, плевался и сам себя не узнавая, горел, словно в печи — вспоминал теплые мягкие губы и дурманящий запах Нельги.
— Ох, ты! Никак Некрас Квит? И как же Цветава жениха своего разлюбезного отпустила в ночь, а? Ведь умыкнут такого-то молодца, — симпатичная женщина стояла у ворот неприметного домка и улыбалась, глядя на Некраса.
— Ты умыкнешь, красавица? — ответил по привычке, но на бабу симпатичную глянул и оценил — взгляд смелый, стать есть, хоть и приземиста.
— А если и я? — подмигнула игриво, но голос умерила и оглянулась на свой домок, в котором свет еще не гасили.
— Так чего ждешь? Идем нето, — бросился к ней, схватил за руку. — Моя будешь сегодня.
Знал Квит — такой его голос не каждая могла вынести. Вот и эта вмиг стала покорной, плечи опустила и поплелась смирно за Некрсом, будто собака за хозяином.
В сарайке, что стоял на подворье, Некрас толкнул молчавшую женщину к стене, навалился сзади, поднял подол и взял — быстро и сильно. Брал не с большой охоты, скорее со злости.
Через небольшое время, женщина заскулила, впилась крепкими зубами в ладонь свою, заглушила вскрик бабий, и выдохнула счастливо.
— Силён ты, Некрасушка. Ох, и силён… — оправила рубаху, поневу и обернулась к Квиту. — Смолчу о том, и ты не болтай. Муж-то у меня дюже сердитый. Убьёт.
— Уговор, красавица, — натянул порты. — Чем отдариться тебе не знаю. Вот разве что…
Потянулся за деньгой.
— Дурной. Оставь, не надобно. Давно уж не любилась так жарко. Иди нето. Узнает Цветава, все волосья мне повыдергает.
Некрас выбрался из сарая, осторожно прошелся до ворот, выскользнул ужом на улицу и вздохнул. Сам себе противен стал, сам себя ненавидел и злился.
— Нельга, поганка, отомщу тебе, мало не покажется, — так и шел к своему дому, все ругался, ворчал, что старый дед и поминал зеленоглазую.
Утром проснулся поздно, сел на лавке и понял — беда. Трясло, словно в огневице.
— Дурень, — обозвал сам себя. — Добегался. Ганка! Отвару дай. Вроде простыл я.
Холопка заметалась по бабьему куту, поставила в печь малый горшочек. А Некрас следил хмуро за ее хлопотами, и понимал — нет лихорадки. Лоб холодный, не ломит ничего, не болит. Жар, что случился с ним внутри и расползается там, будто мох по камню.
— Проклятая девка! — помянул Некрас Нельгу, что снилась всю ночь и заставляла его метаться на лавке, будто в болезни. — Ганка, сама отвар пей!
С теми словами встал, оделся, выскочил в сени и там зачерпнул ковшом воды из кадки, выпил жадно, укусил льдинку. Она жара не уняла, огня не затушила.
— Щур* меня. Что за напасть такая?
От автора:
За пояс — не было карманов, всё носили на поясе или за поясом.
С берёсты прочла — не так давно ученые обнаружили ряд доказательств того, что в древней Руси население было грамотным. Вне зависимости от достатка и положения. Женщины и дети, также, обучались грамоте.
Холстинка без крови — обряд первой брачной ночи сопровождался проверкой непорочности невесты. Тест простой — есть ли на холстинке с брачного ложа кровь))
Щур — славянский Бог, созданный Родом, Творцом Мира, чтобы оберегать людей.
Глава 7
— Так и сказал? — Цветава в дальней гриднице богатого своего дома допрашивала холопку, которую послала вечор следить за женихом.
Та стояла перед хозяйкой, опустив голову, и говорила тихо:
— Так и сказал, мол, обряда еще не было. А потом не слыхала. Он ту Нельгу целовать кинулся, а она его укусила и отлуп дала. Потом-то я утекла. А ну как увидел бы?
Цветава брови свела грозно и прикрикнула:
— Чтобы нема была, как рыба! Расскажешь кому — высеку. Поняла? — В ответ девушка кивнула, но не ушла — хозяйка еще не отпустила. — С кем водится Сокур?
— Со Званкой из Красных. Вдовица. Языкастая.
Цветава задумалась. Нельга родня, пусть и дальняя. Рвать волосы сопернице не с руки, да и ронять себя при народе невместно. Разве что принизить при всех? Так Званка подруга, пожалуй, и отругиваться примется.
— Звана та, у которой муж свалился в Молог с Дурной тропы?
— Та самая, Цветава Рознеговна. Муж ейный упал в реку по осени почитай три зимы тому. И что ж все через ту тропу бродят? Смотреть страшно.
— Примолкни и иди отсель.
Холопку словно ветром сдуло, а Цветава косу переплела, принарядилась и отправилась искать жениха своего. Была бы умнее не стала бы торопиться, а подсказать некому. Мать ее, Снежана, такого же корня — неуемного и яростного. Редко когда язык за зубами держать могла. Дочка хоть и тише была, а все же характера не скрывала — род богатый, известный, так кого бояться?
Некраса нашла в лоточных рядах, тот торговался за веревье и лён. Цветава оправила нарядное очелье, перекинула богатую косу на пышную грудь, подошла тихо и плавно.
— Некрасушка, здрав будь, — голос ласковый, взгляд теплый, улыбка сладкая.
— Вот так подарок. Здрава будь, красавица, — Некрас мазнул взглядом по невесте, но улыбки не подарил, оттого Цветава и свою спрятала, посуровела лицом.
— Ты где же пропадал вечор, а, Некрас? — спросила строго, и тут же испугалась перемены, что случилась с Квитом.
Брови его сошлись у переносья, жесткая складка легла у губ, сам он будто распрямился и стал больше.
— Дома был, Цветава. Спал, — грозным голос будто предупредил, что расспросов не желает, только кто же помешает ревнивой девице?
— Врешь ведь. Еще обряда не справили, а уже обманываешь. Не ты ли говорил, что я одна у тебя буду? Что иных жен брать не станешь*?! — Цветавин голос оборвался на негромком пока взвизге.
— Твоя правда. Обряда еще не справили, а ты уж пилить меня вздумала? Гляди, Цветава, я вено дал, я его и заберу. В моем дому я хозяин. Хочешь женой мне быть справной, учись языком не молоть. — Тихий голос его напугал Цветаву до того, что она сделала шаг назад, попятилась от Некраса.
Парень стал иным, грозным, совсем не тем улыбчивым балагуром, которого знала Цветава.
— Так как же? Терпеть мужа-ходока? Знаю, поди, куда вечор-то тебя занесло. Что? Не получил того, зачем ночным делом-то бегал? А и мало тебе!
— Посмеешь выслеживать меня — пожалеешь. Домой иди. — И вроде не сказал ничего, а Цветаву окатило испугом.
Смолчала, развернулась и пошла домой. На половине пути застал ее снег мокрый, липучий. Спрятал, укрыл девичьи слезы. Кто ж поймет — дождь на щеках или соль горькая?
Уже у хором своих увидала Тихомира Голоду: шел, тащил на плече палку со связками вяленой рыбы на торг. Цветава оглядела пригожего парня, слезы вперемешку со снеговым дождем смахнула белой рукой и заулыбалась. И чего, дурёха, раскрылетилась, расколыхалась? Некрас жених завидный, слов нет, но Нельга отлуп ему дала, а Тишка красавец, каких мало. Стало быть, любит Сокурова дочь Голоду, не Квита. А ей, Цветаве, достанется богатый муж и не придется пачкать руки белые работой, не нужно будет горбатиться с ранней зари до темени. Есть вкусно и спать сладко — вот и вся ее забота. Злато многие блага дарило, и Цветава понимая это, сдержала ревнивый нрав.
На порог дома ступила уже веселой. Девичье настроение, что погода весенняя — то дождь, то солнце.
Тихомир торга не любил: шумно, многолюдно и хлопотливо. Народ мечется, торгуется громко, сбивает с мыслей плавных, злит гомоном. А торговать надо!
Род Голодавых испокон века занимался промыслом — рыбаки знатные. Сам Тихомир любил поутру, по теплой поре уйти на однодеревке* на спокойную Свирку и рыбалить с рассветной мглы до высокого солнца. Тишь, гладь. Закинул сеть не спеша, дождался добычи и выбирай в лодку потихоньку. Пескари-то не говорили, и то Тихомиру было любо. Рыбы в реке немало, однако, не сравнить с тем, сколько ее водилось в полноводном Мологе. Туда на лодке соваться опасно, по нему лишь насады ходили, уж слишком сильным было течение.
По зиме рыбалка какая? Только в дом, на стол, а жить чем-то надо. Вот и приходилось рыбку, пойманную по теплу, вялить, солить да продавать. Какая-никакая деньга приставала к рукам и в морозы.
Сидел Тихомир, ждал покупцов. Манить не заманивал, не умел балагурить и товар свой расхваливать. А и молчком дождался. По рыхлому после дождя снегу, шел к нему Некрас Квит: зипун дорогой нараспашку, шапка редкого меха лихо заломлена.
— Здрав будь, — кивнул Квит. — Сколь хочешь за связку?
— По деньге за мелкашку, по две деньги за крупную. Сколь надо? — пришлось встать с чурбачка и заговорить с купцом молодым.
— Вялите насухо? Червя нет? — Словам Квита Тиша не удивился, купец на то и купец, чтобы товар брать с разбором.
— Гляди, — выложил связку рыбы на лоток. — Чистая. Сам ловил в Свирке по глубокой осени. Вялил отец. Коптил на березке.
— Добро. Все заберу скопом. За все даю по половине деньги за мелкую и одну с половиной за крупную. Идет?
Торговались долго, но Тишке пришлось уступить уж очень нахрапистый Квит. Одно слово — купчина. Сговорись, по рукам стукнули.
— Товар передай человеку моему Местяте Боровому. Знаешь его? — Некрас полез за пояс деньгу считать.
— Как не знать.
Некрас рассчитался по уговору, но от лотка не ушел. Тихомиру поблазнилось, что купец насупился недобро, но сдержал гнев.
— Ежели еще есть, все куплю. Вечером приходи-ка ко мне в дом побалакаем, цену рассудим. Посиделки у меня прощевальные. Парни придут. Обряд через месяц-другой.
— Приду, — вздохнул Тихомир.
Идти-то не хотелось, не любил шумных ватаг, но деньга сама собой в руки пришла, и отец похвалит, если товар продать вчистую.
— Добро. Так жду, Тихомир, — рукой махнул, ожёг недобрым взглядом и отошел, увязая в талом снегу.
Голода навесил рыбу на палку, дождался нескладного Местяту и передал, как было уговорено. А уж после с легким сердцем направился вон с торжища.
Дорогой разглядывал чужие торги: Новиковский с выделанными кожами, Зыковский с пряниками. Прошел мимо лотка Нельги, за которым стоял мужик из закупов — орал, товар нахваливал. Уже на выходе столкнулся и с самой Нельгой. Она улыбнулась светло, так, как только она и умела, рукой махнула и головой показала, мол, недосуг, вечером свидимся. Тихомир кивнул и только потом сообразил, что вечером не получится встречи — Квит ждет. Опечалился Голода, но дело есть дело. А Нельгу и завтра можно повидать, чай не в Новом Граде она, а тут в Лугани, под боком.
Тихомиру по сердцу была тихая, нежная девушка, что подолгу молчала, не донимала разговорами о вено и никогда не поднимала голоса до противного девичьего визга. Отец давно уже твердил Тихомиру — пора жену в дом вести, так Нельга была самой из всех подходящей. И с разумом, и с деньгой. Борти кормили исправно. Голода уж видел тихий домок вдали от городища и смирную Нельгу, что ждет его на крыльце после рыбалки. Все медлил, обдумывал, но уж знал, если брать жену, то только ее, Сокурову дочь. Одно злило — начал замечать, что Нельге вослед парни смотрели. Ну да не беда, станет мужатой, так кроме него никому и не нужна будет. Не красавица, чай, не придется махаться с другими за такую-то мышку. Да и покорна будет, до подарков не охоча.
От автора:
Иных жён — до Крещения на Руси было многоженство.
Однодеревка — челн-однодеревка, выдолбленный из целого дерева.
Глава 8
Нельга шла по торжищу, улыбалась. Рада была, что поутру Тишу встретила — то к удаче. Уже не раз такое бывало — улыбнется любый с самого утра и целый день все ладится и спорится.
Проскочила мимо пахучих кож Новиковских, миновала лоток с белёным льном, а вот уже и ее хозяйство.
— Вторуша, как торг нынче? — кивнула закупу, что работал на нее с зимы.
— Все путём, Нельга. Был утресь купец Квит, торговал бочонки с медовухой. О цене сговорились, токмо он хотел с хозяйкой балакать, — проворный мужик успевал и хозяйке отчет давать, и деньгу принимать от покупца.
Нельга брови свела, однако сердиться не сердилась. Радовалась, что Некрас донимал по парнячьей слабости, а не оттого, что узнал ее. Была ведь мыслишка неприятная, что понял он, догадался, кто такая безродная Сокур.
— Что говорил? Вернется ли? — пытала закупа Нельга.
— Сказал, опосля будет.
На том Нельга и унялась. Задумала торговать у Квита оберег матушкин, а если уж он посулился быть за товаром, то можно цену сбить: и мед продать, и огневицу назад получить безо всяких поцелуев.
Торжище гомонило на все лады! Народ толпой валил к шумным продавцам, что кричали шутейно и заманчиво. Сновали мужики и бабы с лотками, полными пряников, бус, посуды. Нельга любила это хлопотливое копошение, слушала не без радости веселые прибаутки и вспоминала отца.
Тот частенько брал маленькую дочку с собой на торг в Заречень, все показывал, мол, тут рыбка, а тут капустка сквасилась в кадушке, а там шапки разные. Нельга, как зачарованная ходила меж рядов, глядела восхищенно на лодки и насады, что причаливали к мосткам и мечтала хоть разочек единый проплыть по реке от края и до края. Повидать людей разных и жизни их подивиться.
Сама не заметила, как улыбнулась памяти своей, а вот кое-то приметил и сказал ей об этом:
— О чем задумалась, красавица? Такой-то улыбкой снега растопить можно, — голос медовый, глубокий.
— Здрав будь, Некрас, — Нельга очнулась, посмотрела на Квита, но улыбку с лица убрала — еще чего, улыбаться охальнику!
— Так не рада мне? — Некрас подбоченился, руку положил на пояс богатый, что виднелся под распахнутым дорогим зипуном.
— Чему радоваться? — Нельга приметила на Квитовской подпояске обереги: колесо Перуново, Велесов знак и свою Огневицу. — Ты, смотрю, решил бабий оберег на себя навесить? Засмеют люди-то.
— Да пусть смеются, лишь бы слезы не лили. Я к тому без интереса. А ты, вижу, все по огневице своей скучаешь? Так уговор-то в силе, Нельга. Глянь, меня и искать не надо, сам пришел. Откупись и оберег твой, — Некрас улыбался, красовался, а вот взгляд его Нельге не понравился вовсе: на дне темных горячих глаз пламенело что-то опасное и тревожное.
— Мало тебе вечор показалось? — девушка глянула не без ехидства на чуть припухшую губу Некраса, которую она вчера укусила. — Еще раз захотел?
— Я уж сказал тебе, чего хочу, — Квит сердиться не стал, только улыбнулся шире и коснулся пальцами губы. — Так об чем думала, когда улыбалась сладко, Нельга? Жуть как интересно.
Некрас подался к Нельге, встал близко.
— О чем думаю — не твоя печаль, — глаз не отвела. — Ты вот, знаю, купец неплохой, так давай договоримся? Хотел торговать медовуху мою? Я уступлю тебе деньгу-другую, а ты мне оберег верни. Все ж выгода. А поцелуи, Некрас, у других проси. Вон хоть у невесты своей, Цветавы. Такая красавица рядом, а ты принялся на сторону глядеть.
Нельга ждала его бровей насупленных, злости, а он опять смолчал, мазнул только горячим взглядом по ней и снова заулыбался шире некуда.
— Ежели твои думки не моя печаль, то и мои хотелки не твоего ума дело. Сказал целуй, значит целуй. Это моя цена, — смотрел прямо, полыхал взглядом горячим. — Глаза у тебя… Был о прошлом годе у Нового Града, так там дерево есть, не помню, как его местные называют, а вот листья на нем аккурат той же зелени, что очи твои.
— У самого Нового Града? — против воли подалась ближе любопытничая. — А правду говорят, что там домины огромные?
— Правду, Нельга. Я два дня насаду свою не мог причалить к берегу — людей тьма! Кожевенные ряды за город вынесены и дух от них, хоть мертвых выноси. Кругом звон из кузней, а опричь лавок с хлебами аж пузо сводит от запаха. И медом веет, и иным чем-то. На торгу и бабы стоят, считают лихо, товар нахваливают.
Нельга заслушалась, глаза распахнула широко и не заметила, как оказалась близко к купцу молодому, чуть не касаясь его груди.
— А домины, Некрас? Домины-то?
— Высоченные. Коньками небо скребут. А волховской промеж них самый высокий. Идолищи едва не три роста человеческих. Резьба по ним тонкая рунная, — манил голосом сладким, сверкал темными очами.
— Так прямо и в три? А девицы? Есть девицы на торгу. Вот такие, как я? — забылась Нельга, разум обронила от любопытства, позволила заманить за торговый лоток, все незаметными мелкими шажками шла за сладкоречивым Квитом.
— Таких, как ты нигде нет, Нельга. Глаз, как у тебя еще не встречал. И дух от тебя дурманный, сладкий. Травами иль цветами, не пойму, — руку поднял, заправил прядь светлую за ушко.
С того Нельга очнулась и напустилась на безобразника:
— Ох, и хитёр ты! Руки-то не распускай, Некрас, — шагнула от парня. — Ничего не выйдет у тебя. Поцелуев не жди. Торгуй медовуху, бери деньгу за оберег и ступай на все четыре стороны.
— Вон ты какая…Надо же, — Некрас будто и не слыхал суровой ее речи. — Все тебе интересно — домины, люди да города дальние. Что ж тут осела, а? Лугань-то городище нарядный, кто бы спорил, но ведь маловат. Тебе бы в Новый Град, красавица. Хочешь, свезу? Лёд сойдет с Молога и возьму тебя на насаду свою.
— А платить чем придется, а? Некрас, уж со вчера тебе говорю — отступись. Не тебя я люблю и поцелуи свои и ласки, отдавать не стану нелюбому. Так что? Продашь мне мой оберег?
Сказать сказала, да и застыла. Некрасовы глаза совсем темными сделались, сверкнули опасно.
— Тихомира своего снулого голубишь? Ну что ж, люби его. Оберег при мне останется — цену знаешь. А упрешься, я найду чем гордость твою сломить. Медовуху свези в домок у поворота к Свирке. Деньгу человеку твоему передам. А за оберегом сама притечешь, никуда не денешься.
Ей бы впору испугаться, но не смогла, обозлилась.
— Много берешь на себя, купец. Я вольная, ни перед кем головы не клоню. Глазами на меня не сверкай и на тебя сила сыщется. Поди вон и никогда более на моем пути не встречайся, — руки на груди сложила, голову высоко подняла.
— С норовом, — Некрас рот скривил, но в глазах мелькнуло восхищение, не схоронилось. — Ну, слово твое я услыхал. Теперь за мной дело. Не взыщи, ежели несладко придется. И глазами-то меня не поедай. Еще не хватало грозящей девки бояться. Здрава будь, медовая. Встретимся еще.
Нельга долго еще смотрела на то, как Квит гордо вышагивал по торжищу. Когда он повернул за угол, выдохнула облегченно, но и поняла — не спустит. Такой способен на многое, а что хуже — на страшное.
— С кем балакала, Нелюшка? — Звана подошла, улыбнулась ясно. — Никак, Квит? Торговалась?
— Званочка, посоветуй, как быть? Совсем я потерялась, — Нельга обняла подругу, а та встревожилась.
— Щур меня! Что сотворилось-то?
Нельга и рассказала Званке о Некрасе, об обереге. Та подумала малое время, да и захохотала.
— Ох, мамочки. И всего-то? Прижал к забору постылый? Нельга, ты как дитё. Взяла бы, да целовнула парня. Ты глаза-то разуй. Такой кусок лакомый подвалил. Непростой он, ох, непростой. Глаза такие…такие…я бы за ним в Молог сиганула. Ручищи-то, плечищи-то, ух! Жаль, Цветаве не повезло стать женой такого ходока. С таким-то приятно ночку-другую провести, а жить с ним, не приведи Лада. Токмо знай, такие дюже горячие, обиды не спускают. Подойди с лаской, повинись, мол, не то сказала и целуй. Оберег отдаст, еще и одарит чем.
— Звана, я Тихомира люблю. Мне иного не надо и поцелуи другому дарить противно. Квит купец ушлый. Нынче поцелуй, а завтра что? На лавку толкнёт? — Нельга брови свела печально.
Подруга тоже задумалась, а потом расхохоталась пуще прежнего.
— А ты скажи ему, что откупится за тебя подруга. Что глазами хлопаешь? Мне за радость! Так и говори, мол, Звана придет, красавица, каких мало, — и снова смеется.
— Бесстыдница, — Нельга прыснула. — Как так-то? Ты ж его не знаешь совсем.
— Дурка. Жизнь короткая и что там после яви неведомо. Чай, никто не вертался с иного свету. Тут надо жить, любиться, радоваться. Детей зачинать. Кто знает, сколь нам дадено? Вон муж мой молодой был, здоровый, а в один миг ушёл. Оступился на Дурной-то тропе и сгинул в Мологе, — Званкины серые глаза затуманились печалью, подернулись горем давним.
— Званочка, ну что ты… — Нельга бросилась подругу обнять, а та грусть стряхнула и вновь засияла.
— Идем нето. Я за льном. Вон, глянь, рубаха опять тесна стала, — Званка распахнула зипун. — И куда растет? А и на радость! Парни такого не пропускают. Чего встала? Идем, говорю.
Звана пошла меж торговых рядов, а Нельга поулыбалась и отправилась догонять подругу. На торгу повеселились: льна купили белого, угостились пряниками. Нельга и думать забыла о Некрасе.
Днем работа одолела: травы тереть, по холщовым мешочкам прятать, за холопами следить, мешать старый мед. Богша работал исправно, ему Нельга верила, как самой себе, но к травам не допускала — помнила завет отца и секретами Лутаковскими не делилась.
Ночью уже, так и не дождавшись Тихомира, улеглась на лавку, накинула душистую теплую шкуру и провалилась в сон.
— Смотри, медовая, вон там, видишь? Новый Град. И домина волховская, — Квит обнимал за плечи, указывал рукой на огромадное городище.
Нельга глаз не могла отвести от красных крыш, больших домин. Народ кругом толпами и весь нарядный, будто праздник великий. Девушки с золотыми очельями, парни в вышитых тонких рубахах. А торг-то, торг! Сколько глазу видно — ряды, ряды, ряды…
— А Молог вон там, — Некрасов глубокий голос пробирался под кожу, звенел в голове тревожно и волнительно.
Она оглянулась на реку и увидела чудное, страшное. Воды темные кровавой пеленой шли. Муть, мощь и волны.
— Некрас, а река-то…Глянь!
А тот промолчал, прижался горячим жадным ртом к ее губам, задушил жарким поцелуем. Нельга затрепыхалась, забилась в его руках.
— Пусти! Пусти, постылый!
— Никогда не отпущу. Моя будешь! — пламенем окатил его взгляд темный.
Нельга подскочила на лавке, затряслась листом осиновым, уже понимая — сон недобрый. Так и вышло.
— Нельга! Нельга! — Новицу внесло в чистую гридницу, залитую ярким утренним солнышком. — Тишку твоего поколотили. Вечор, опосля посиделок парнячьих.
Вскочила Нельга, с лавки, шкуру откинула. Заметалась по гриднице: косу чесать-плести. Умылась наскоро и побежала к дому Тихомира.
Увидела любого сразу: сидел на скамье, тяжко привалясь спиной к стене дома. Глаза заплыли, синева по лицу, а сам рукой за грудь держится.
— Тиша, — промолвила и в слезы. — Что с тобой? Как вышло?
Подошла осторожно — не хотела домашних его тревожить.
— Нельга, — парень поднял к ней разукрашенное лицо, попытался улыбку подарить. — Живой и то славно.
— Кто же тебя так? — присела рядом, рукой легонько по груди провела.
— Квит. Вечор на посиделки прощальные заманил, рыбу сторговал, а потом как все бражки выпили, так и совсем чудной сделался. Дурной. Все подначивал, мол, молчун я и тихоня. Пришлось ответить. Слово за слово, а там уж и все парни меж собой погрызлись. Вывалились во двор, махаться стали кто с кем. А Квит на меня налетел и … Нельга, правду говорят, купцы ярые. Махался так, будто насмерть хлестался. Меня Суропин до дома доволдохал.
Нельга выслушала, заледенела. Вмиг припомнила грозные слова богатого купца на торгу вчерашнем. Ведь знал, лиходей, как укусить больно. Тишу, Тишеньку задел-зацепил. И все из-за нее…
— Тиша, ты может, хочешь чего? Так я метнусь. Только слово молви, — слезы лила тихие, без всхлипов, вину свою смывала.
— Не надь. Ты посиди со мной тихонько. Опричь тебя легче становится, — голосом приласкал.
— Посижу, посижу, любый, — голову на плечо ему склонила осторожно, боясь потревожить ушибленную грудь, а сама уж мыслями далеко была.
Про себя решила разговор держать с Некрасом: все высказать, пригрозить. Правда, знала откуда-то, что не внемлет, не разумеет он ее. Горяч и своенравен. Но мыслью была крепка, ведь не за себя, за Тишу горой решила встать.
Глава 9
— Вставай, Местята. Разлегся, не пройдешь, — Некрас держался за голову, что гудела после вчерашних посиделок. — Отец в пути. Того и гляди приедет, а у нас тут дух бражный. Айда умываться.
— Иди к лешему. Харя твоя наглая, — вяло отругивался Местька. — Сколь бражки-то в тебя лезет, а все как с гуся вода. Ты чего вчера учудил? Всех подначил. А все одно, хорошо посидели. Давно так-то не бились.
— Чего надо, того и учудил, — рыкнул Некрас. — А ты ничего, справно махаешься. Не зря в дружине был, хучь и недолго.
— Ты и сам не промах, Квит. Думал ты Голоду вчера на тот свет отправишь. А ничего, обошлось. Меру знаешь, и башки-то не теряешь. Рассолу бы капустного, а, Некрас?
— Ганка! Ганка, лешачья дочь! — Квит крикнул холопку и поморщился. — На стол мечи. И рассолу давай!
Пока холопка посудой гремела, на стол снеди накидывала, парни умылись, переоделись в чистое. Первый кусок полез скверно, но рассол сделал дело свое, подлечил больные головы и жизнь пошла веселее.
Через малое время услышали оба конский храп и хруст снега под полозьями саней.
— Батя, — Некрас поднялся, оправился и пошел встречать отца.
Тот уж вошел в сени: шуба богатая, шапка большая.
— О, как, — хохотнул. — Морда мятая, а стало быть, махнул вчера лишку. Так, Некрас?
Ругать сына не стал, знал верно, что все по обычаю. Прощальные посиделки перед грядущим обрядом — дело важное. Обнял Некраса, крепкой отеческой ладонью стукнул по спине.
— Здрав будь, — Некрас ответил тепло на отцовскую ласку. — Поешь с дороги. Людей с тобой сколь?
— Поем, благодарствуй. Трое. Скажи холопке, пусть сведет в избу с товаром. Много ль взял?
Пока шубу Деян скидывал, пока ручкался с Местяткой, Некрас рассказал о делах, о товаре и о мене*.
— Добро, сын. Вижу, время даром не терял. Справно поторговался, — Деян уселся за стол, в окно взгляд бросил и заулыбался. — Экая бабёнка. Тутошняя? Глянь, кругла, а стан тонкий. Румянец. Кто такая?
Местята глянул в оконце и признал Званку Красных. Тут же насупился, лицом потемнел.
— Бать, а это знакомица Местькина. Который день пытаю его, за что молодуха обозвала его Соловушкой. Молчит! Как сыч надувается и молчит. Может, тебе не откажет, а?
— Рассказывай, чай, все свои, — подначил Деян, отхлебывая горячий взвар.
Местята, отпив теплого, опьянел наново, и рассказал:
— Не инако Лада меня наказала, когда толкнула к этой окаянной вдовице. Ить ладная, гладкая, а языкастая, будто помело у ней во рту. Тьфу, зараза! Я к ней о прошлой осени подвалил, дай думаю, попытаю парнячьего счастья. Все, как у людей — купил пряник, бусы светленькие и пошел. Она, вроде, обрадовалась. Суть да дело — ведет меня в сарайку. И главное плавно так качается. Я аж пыхнул! Грудь большая, понева на заду натянута, хоть вой от хотелки. Сарайка та новая дух в ней древесный густой. Званка целовнула жарко, рубаху рассупонила я и обомлел. Завалил ее на лавку, порты стянул и ….
— Что? Не тяни теля за то самое! — Деян двинулся к Местяте, боясь пропустить хотя бы слово.
— Удом по не струганной доске прошелся. Думал, сдохну, до того больно! Заорал, да от жути голос сломился и такую трель выдал, будто я и не я, а птах весенний.
Деян и Некрас грохнули так, что холопка Ганка подпрыгнула.
— Будя ржать! — Местята разозлился, кулаком по столу грохнул. — Вам бы так! Я потом уд свой в кадушке с ледяной водой мочил. Думал все, конец моей мужицкой силе.
— А она? Она-то что? — Некрас провздыхался с трудом.
— А что она? Лежит на лавке и гогочет. Я за дверь, а она мне в спину, мол, знать не знала, что мужики соловушками кричат.
Оба Квита снова зашлись хохотом, а Местята понурился, загрустил.
— Ну, чего, чего ты гриву-то опустил? Бывает. Чай, с удом, не мерин холощеный, — Деян утер слезы, что выступили на глазах от смеха.
— Чего, чего… Того! Невезучий я, проклятый. Будто сглазил кто. За что берусь, все валится из рук. Чего ни жду, задом ко мне оборачивается, — Местята обхватил голову кудрявую свою руками.
— Не боись, Местька, утрясется, — Некрас друга по плечу стукнул. — А иди нето к волхве? Всеведа разумна, говорят. Мудрая. Может, подскажет чего, а?
— Щур меня! Всеведа на меня страх наводит. Видал, какие глаза у ней? Рысьи! Как глянет, так я столбом встаю. Не, не пойду.
— Вот беду нашел. Хочешь, с тобой метнусь? Вдвоем веселее, — Некрас ткнул друга кулаком в плечо. — Вставай и идем. Чего тянуть?
— И то верно, катитесь отсель. Дюже шумные, — Деян зевнул. — Я хучь посплю малёхо. Ночь обозом шли тряско. Снег подтаял.
Некрас потянул Местяту из-за стола, накинул на него зипунишко худой, и вывел за дверь в солнечную весну — Ярилину радость.
У подворья волхвы Боровой затоптался нерешительно, с того Некрас подтолкнул его крепкой рукой и сам ступил безо всякого опасения в богатый волховской дом.
— Вот так гости, — волхва сидела на лавке, покрытой дорогой шкурой, за большим столом. — Ну, коли пришли, так и садитесь. В ногах правды нет.
На Местяту кинула взгляд быстрый, а на Некрасе задержалась. Оглядела с головы до ног и улыбнулась странно.
Парни сели прямо, ждали слова волховского: неурядно вперед видящей говорить.
— Ты чего ж, кудрявый, на себя оберегов нацеплял? Шею-то не ломит от такой тяжести? — верно приметила!
На Боровом чего только не было: и Перунов, и Велесов, и Сварогов знак. А там еще и женские затесались чуть поменьше.
— Так эта….От сглаза и невезучести, — промямлил Местята.
— Дурень. С того все твои беды. Боги-то промеж себя не поймут, когда помогать и вперед кого. Отсель и путают жизнь твою, стезю кривой делают. Снимай!
И так голосом надавила, так глянула, что бедный парень вмиг скинул с себя бренчавшие обереги и на стол положил перед волхвой.
— Возьми их и спрячь. А я тебе, невезучий, дам один оберег. Носи его. Потеряешь — радуйся. При себе оставишь — тоже хорошо, — потянулась белой рукой к коробку малому, что стоял на краю стола, и достала оттуда деревянный кружок в металлическом круге. — Накось. Нить суровую найди и носи.
— Благодарствуй, Всеведа, — Местята цапнул оберег, встал и поклонился. — Чем дарить тебя?
Волхва поднялась с лавки, обошла стол и стукнула Борового кулаком по лбу. Тот слегка опешил, но смолчал.
— Иди и дыши легко. Как что надумаешь, дыхалку сдержи и отсчитай десять стуков сердца, а потом уж и делай. Уяснил, кудрявый?
— Ага.
— Ага, коровья нога. Кыш отсель! — Местятка и сбежал.
За ним потянулся Некрас, но Всеведа задержала, уцепила на рукав богатого зипуна.
— Стой, Квит, не торопись, — сказала весомо, словно разговор хотела вести серьезный. — Давай уж, говори, зачем пришел?
Некрас едва не вздрогнул, но сдержался, только зубы сжал крепче. С Местятой потащился вовсе не просто так, а с умыслом. Только откуда об этом волхва узнала? Вот волшба, так волшба…
— Что смотришь? Думала не пойму? — Всеведа улыбнулась и Некрас с удивлением заметил, что не старая она еще, симпатичная. — Ох, ты и ходок. На волхву такие взгляды кидать. Уморил.
Засмеялась, вмиг помолодев на десяток лет.
— А и чего не посмотреть, когда есть на что? — хотел улыбнуться Квит, но сдержался. Опасное дело волхвы. Слишком много силы и власти у них.
— Бедовый ты, купец, отчаянный. Зачем пришел, Некрас? — улыбку с лица смела, будто ее и не было.
— Всеведа, как ты поняла-то? Ведь молчал я.
— Ко мне люди ходят уже с десяток лет. По лицам вижу, по глазам читаю. Ты с другом пришел, так? А тогда чего же не на него смотрел, а на меня пялился? Видно дело ко мне. Угадала?
— Угадала, волхва, — Некрас вздохнул глубоко и спросил, словно в воду ухнул. — Приворот на мне? Ответь, мудрая?
— Не приворот, а Огневица, — с теми словами указала длинным перстом на Нельгин оберег, что висел на поясе Квита. — Не тот ты парень, чтобы женские обереги носить. Да и сама Огневица приметная. В Лугани нет таких мастеров, чтобы тонкую работу по серебру делать. Оберег этот Нельги Сокур. По доброй воле она бы с ним не рассталась. А стало быть, украл ты его. А зачем? Ты, чай, не без деньги, так к чему тебе этот кружок серебряный?
Некрас от изумления шапку на макушку сдвинул.
— Вот правду говорят — волхвы все видят. Так приворот? Или иное что?
— Иное, парень, — голос ее смягчился, по губам улыбка скользнула совсем женская, теплая. — Это расплата тебе за все девичьи слезы, что по тебе пролиты.
— Мудрёно говоришь, Всеведа.
— Так мудрёно? Что, Некрас, думаешь, заболел ты? — в тот момент пламя в очаге вспыхнуло, осветило страшно лицо волхвы, сверкнули опасно на лице ее рысьи глаза. — Сначала думал о ней, потом запотряхивало, как в огневице, а теперь злость взяла? Так? Дальше горше, Некрас.
Квит все ж вздрогнул — от слов ее верных, от глаз рысьих, от пламени, а более всего с того, что в большой гриднице вроде как свет померк, темно сделалось среди белого дня.
— И что ж это? — голоса своего не узнал.
— Любовь. Лада Пресветлая тебе благодать послала. Через эту напасть огневую себя найдешь, уразумеешь, что ты за человек и какого корня. Везунчик ты, Некрас. Любят тебя светлые боги, — пламя в очаге унялось, солнце вновь засияло ярко, играя привольно на стенах и лавках богатой гридницы. — Иди нето. Местята твой весь порог мне истоптал. Боится за друга-то, душой болеет.
Некрас как в полусне двинулся на выход, но остановился, вернулся к Всеведе и посмотрел внимательно. Женщина в летах, стройная, прямая. Волосы с проседью густой. Глаза с рыжим ободком, вокруг ресницы пушистые. Квит голову набок склонил, задумался, да и поправил на плечах волхвы теплый плат, вроде как укутал.
— Вон ты какой… — взгляд Всеведы потеплел. — Ходок, да непростой. Уважил старуху, заботой удоволил. Иди уж, бедовый.
Толкнула легонько в грудь, Некрас и пошел, а она ему в спину:
— Цветавы опасайся. Ярая у тебя невеста, Некрас. Как бы беды не вышло. Понял?
Некрас только кивнул и бросился вон из чудного дома. На подворье уже выдохнул, шапку с головы стянул и замер.
— Некраска, эй. Чего там? — Местята подлетел, встал напротив и заглядывал в глаза преданно. — Ты чего обезмолвел-то?
— Все путём, друже. Идем нето. Дел невпроворот. Ты куда направишься? — Некрас головой тряхнул, скинул с себя мысли странные.
— В избу товарную. Людей батьки твоего проверить, товар счесть. Глянуть, куда распихать и сколь еще надобно, чтобы насаду загрузить.
— Вот и иди. Если раньше меня домой завалишься, отцу скажи на торгу я. Мену беру на солонину. Ступай, не топочись бездумно, — гнал потому, что подумать хотел, а с Местяткой болтливым это было бы непросто.
— Ага. Пошел, — Боровой резво припустил через улицу и скрылся за забором Суропинским.
Некрас сделал шаг, второй и встал посреди дороги. Припомнил, как иголкой кололи мысли о Нельге, как снилась она и снится, как лихорадило его… Вздохнул глубоко и сказал, обращаясь непонятно к кому:
— Бабьи россказни. Любовь какая-то… Дурь все! — высказался и пошел по дороге, раздумывая о том, как сделает Нельгу своей, подомнет под себя на лавке, а там уж и отпустит его чудная огневица.
Знал Некрас не понаслышке, как оно бывает: горишь-пылаешь, а после первого раза все, как рукой снимает. И уж не красавица желанная пред тобой, а обычная девица, каких в мире этом великое множество.
Шел, радовался ясности, что пришла в его мысли, оглядывался на талый снег, на домки, на людей, что спешили по делам своим дневным, но споткнулся, застыл и забыл как дышать. Из-за поворота вышла прямо на него Нельга. Увидела, и таким взглядом одарила, что впору было лечь и умереть. Едва не спалила!
От автора:
Мена — упрощенно — обмен товара на товар за вознаграждение.
Глава 10
Нельга торопилась, хотела застать Квита на торгу, а как завернула за забор Зыковский, так и наткнулась на противного парня.
— На ловца и зверь… — голос у Нельги жесткий, ледяной. — Что смотришь? За что ты его? Зачем?
По глазам поняла — Квит разозлился, шагнул ближе и сверкнул темными очами.
— Я упредил, Нельга. По-хорошему не хочешь, будет по-плохому. Ай, забыла?
— Про меж нас дело. Ты к чему Тихомира приплел?
— Не поняла еще? По моему все будет. Теперь цена иная. Ночь мне должна и такую, какую я захочу, — Квит не шутил, не улыбался, а требовал, с того и поняла, что разговора путного не выйдет.
— Себе оставь Огневицу. Велика цена за нее. Моя память при мне. Матушку и без кругляша серебряного не забуду, — собралась уж уйти, но Некрас встал на пути.
— Нужна мне твоя Огневица, как седло корове. Иного хочу, и ты мне это дашь. А если вздумаешь препираться, знай, Тишку твоего в порошок сотру. Отделаю так, что сляжет навсегда. И род его до нищеты доведу. Одно слово Квита-купца и никто не купит рыбы Голодавой. Сей миг пойду на торг и прокричу, что продал он мне товар с червём. Нашепчу, что рыба та проклята и от нее хворь случается. А вот тогда и поглядим, как дорожит тобой Тишка снулый.
— Ой, ли? Болтаешь складно, Некрас, — с ненавистью высказала Нельга, уперлась злым взглядом в парня. — А ежели я Рознеговне все передам? И что ж тогда Цветава сделает, а? Не видать тебе Новиковского приданого, как своих ушей. Вон поди, в который раз прошу.
— Богатых невест много, иную найду. Да и кто тебе поверит? Рот заткнут, себя срамить не станут, — Квит подошел так близко, что Нельга уловила жар его тела и сделала шаг назад. Поняла — не шутит, сделает так, как говорит.
— Зачем я тебе, Некрас? Дурной ты. Не инако боги тебя разума лишили, — решила злость свою умерить. — Хочешь денег? Скажи, сколь надо. Золотой? Два?
После этих ее слов с Некрасом сделалось и вовсе чудное. В глазах его мелькнул свет странный, ожёг Нельгу горячо и скрылся скоро.
— Надо, значит. А золото при себе оставь. Без нужды оно мне. По закатному солнцу найдешь меня и сведешь туда, где никто не увидит. Не придешь — Тихомира не пощажу, — сказал и застыл: огромный, черноглазый, страшный.
— Ненавижу тебя. За все обиды сквитаюсь с тобой, — прошипела змеей.
— Напугала, аж затрясся. Я сам Квит, сквитаюсь поскорее тебя и побольнее, — сказал и пошел по дороге прочь от нее.
Одного Нельга не уразумела, отчего после ее слов злых показалось, что Некрасов взгляд затуманился болью. Или поблазнилось?
Она на месте стоять долго не осталась, пошла скорее по дороге к подворью Званки. Совет нужен был скорый и дельный. Богше сказать — рассердится, а того хуже с места сорвет и никогда уже Нельга не увидит Тишу, не отомстит Военегу Рудному. К дядьке Рознегу бежать и вовсе напрасное дело — дочь родную и жениха ее губить не станет из-за пришлой Сокур. Что же делать?
Шла и просила знака от светлых богов. Помянула всех: Ладу Праматерь, Макошь светлую, разумную, Рода великого Праотца и Перуна Воителя. Просила дать сил, разума и удачи.
День светлый померк, хрусткий снег не радовал скорым теплом, всего лишь злил тем, что идти было тяжко. Люди, что шли по своим делам виделись размытыми пятнами …уж не от слез ли?
До Званы не дошла, услышала злой холодный голос Цветавы:
— О чем задумалась, змея-разлучница? — красивая дочка Новика стояла у забора, куталась в дорогой зипун, смотрела ревниво.
— Цветава, с чего речи такие? — пришлось Нельге остановиться и ответить рассерженной сроднице. — Я провинилась чем перед тобой?
— Дурой-то не прикидывайся. Глаз свой бесстыжий на чужого жениха положила? Охаживаешь его, голову морочишь. Мышка-тихоня! Стыда в тебе нет, тварь пришлая. Отстань от него, мой он. Слышишь? Мой! — взвизгнула Рознеговна.
— Цветава, и в мыслях не было. Ты что говоришь-то? Не нужен он мне. Сама, поди, знаешь с Тихомиром я. Он мне люб, не Некрас, — Нельга попыталась утешить, унять ревнивицу.
— Золото Квитов глаза застит? На чужой каравай рта не разевай! — зло сказала Цветава, словно выплюнула.
Нельга сделала шаг к Цветаве, оглядела внимательно красавицу и не сдержалась. Выпрямилась гордо, сверкнула взглядом недобрым.
— За женихом своим следи сама. Чтобы не бегал опричь меня, и на других не заглядывался. Верьевьем привяжи к себе, сделай такое одолжение. Всем легче с того будет. А лаять меня, винить без вины не смей. Поняла ли?! — Нельга сверкнула недобрым взглядом.
Схлестнулись два взгляда — синий с зеленым — сошлись в схватке безмолвной и опасной.
— Вона как… — Цветава прищурилась, рот скривила. — А все тихоней прикидывалась. Глаза-то искры мечут. Я тебя упредила, и наново повторять не стану. Не лезь к Некрасу!
— Уши-то очисти, Цветава. Ужель не расслышала слова мои? — Нельга голосом надавила, но все без пользы.
И то верно. Ревнивицу наставлять и вразумлять — дело бесполезное. Свои мысли вперед всех лезут.
Замолкли обе и, не сговариваясь, разошлись в разные стороны: Цветава к хоромам своим богатым, а Нельга к Зване. Ступала Нельга ровно, с шага не сбивалась, все еще не отпускала ее злоба на клевету Цветавину. Уже у домка Красных становилась и окликнула брата Званкиного — Вторушу — что шел через двор и нес кадку тяжелую.
— Вторак, здрав будь. Званка-то дома?
— Не. Утекла в соседнее Белянино. Там свекровь у ней захворала. Звала к себе. Утресь и отправилась с отцом-то. Стой! Куда ты? Погоди, Нельга. Давай хучь поговорим, — парень посмотрел вслед девушке, что быстрым шагом шла по улице. — Эх, ядреная.
Нельге не до разговоров: растерялась, опечалилась. С одной стороны Некрас навис, с другой Цветава. А посреди них Тишенька ее любый. Ведь Некрас и убить может! Вирой* отплатит и выйдет сухим из воды. Квиты род богатый, золота в достатке — откупятся.
Шла мимо заборов, под ноги не глядела, и вывела ее дорога снова к дому Тихомира. Глянула через ворота открытые и вовсе разум обронила. Род большой, не голодный, но и не сытый. Детишек на подворье тьма, бабы снуют, месят весеннюю грязь худыми сапогами. Лиши их рыбы, так и вовсе род обнищает, распадется, по миру пойдет.
Как в тумане добрела до торжища и встала столбом перед лотком Сизых. Меж свежими хлебами приметила девушка нож с оплетенной рукоятью. Мысль родилась сразу — заманить Некраса в новый сруб, что стоял в дальнем углу ее подворья и припугнуть, а там и чиркнуть, если будет нужда. Вот только нож нужен поменьше, чтобы в руку лёг удобно.
— Не дамся тебе, постылый. Лучше сама себя порежу, — прошептала себе под нос, утвердилась в верности решения своего и отправилась домой: работа ждать не станет, деньга сама не прилипнет.
Солнце уже начало заваливаться за Молог, сияло не ярко, но и до темени еще далеко. Нельга тряскими руками устроила небольшой ножик в рукаве, поправила очелье, перекинула косу за спину и вышла за порог своего дома с высоко поднятой головой.
— Нелюшка, куда? — Новица окликнула с крыльца. — Когда к столу ждать? Или опять одной вечерять? Богша утёк на заимку и сидит там, как лешак.
— После, Новица, после.
За Нельгой калитка стукнулась, как отрезала — не вернуться, не спрятаться в доме под теплой шкурой. Воевать шла девушка: за Тишу, за честь свою.
Некраса увидела у домка старого Новиковского. Он стоял у воротец, смотрел по сторонам. Приметил Нельгу, и вроде как выдохнул. Заулыбался, но не глумливо, а как-то странно. С того Нельга удивилась, но вида не показала — злилась и боялась того, что надумала сотворить с молодым купцом.
Прошла мимо, кивнула незаметно, мол, за мной иди. Тот качнулся и пошел. Так и сделали круг — она впереди, он поодаль за ней — вернулись к подворью Сокуровскому и тихим порядком обошли забор, а уж в дальнем углу, пролезли в щель и вошли в новый сруб.
Солнце в окошко малое глядело, красило свежие деревянные стены розовым цветом, ложилось пятнами на бревна. Дух свежий, сладкий — сосновый. Стружка на светлом полу и две широкие лавки по стенам. Стол — большая домовина — только долбить начали. Стоял он посреди будущей гридницы, словно горка малая, изумлял своей неказистостью.
— Нельга, — Некрасов голос прозвучал глухо, напряженно и напугал девушку сильнее, чем сама мысль о том, на что она отважилась. — Зипун скинь.
Нельга сжалась, отошла от Некраса, что остался стоять у двери просторной новой гридницы. Разумно мыслить не перестала, поняла — скинет, нож перехватит незаметно и за спину спрячет. Так и сделала. Одежка плавно соскользнула с девичьего тела, нож остался в руке.
Некрас скинул и свой богатый зипун и шапку, бросил небрежно на лавку и двинулся к Нельге.
От автора:
Вира — древнерусская мера наказания за убийство, выражавшаяся во взыскании с виновника денежного возмещения. Также вирой именовалось денежное возмещение за другие преступления.
Глава 11
Квит себя не узнавал, не верил, что сердце его может стучать так громко, так быстро от одного только взгляда Нельгиного. Кровь бросилась в голову от ее покорности, от того, что не стала спорить с ним, сбросила по его приказу зипун, тихо отошла к стене и встала рядом с окном. Прислонилась спиной к светлым бревнам, голову вскинула и смотрела так, будто внутри нее пламя бушевало, гудело и рвалось на волю.
Он старался, пытался, упирался и уговаривал себя не бросаться, словно оголодавший волк на законную добычу, но не вышло. В три больших шага прошел гридницу, обхватил Нельгу крепко и приник жадными губами к ее шее, вдохнул запах ее медовый, едва удержался на ногах — голова закружилась, кровь вскипела.
Был бы в разуме, понял бы сразу — не так все и не то. В руках его была не девица живая, а столб: каменный, холодный, застывший. Но Некрас не заметил, целовал жадно.
Опомниться не успел, как почувствовал холод ножа на своей шее, а вслед за этим услышал тихий и опасный голос Нельги:
— А теперь Квит, меня слушай и слушай хорошо, ни единого слова не упусти, — глаза ее сверкали самоцветами, едва искрами не сыпали.
Некрас отпустил Нельгу, руки вдоль тела повесил и застыл. Нет, не боялся — выбить нож из тонкой руки дело простое — любовался. Светлые волосы повисли вдоль лица прядями красивыми. Румянец полыхал ярко на гладких щеках. Брови гнулись дугой, а губы дрожали, манили к поцелуям жарким.
— Слушаю, медовая, говори… — сказал тихо, ровно.
— Сей миг клянись, что не тронешь Тихомира. Велесом клянись! — нож в ее руке дрожал, дрожала и сама Нельга.
Квит понял — боится она. Его боится, себя и того, что замыслила. Ему бы злиться на упрямую девку, а он дрогнул. В груди тихо ворохнулось сердце, окатило теплом и нежностью непривычной. Стоял, смотрел на Нельгу и винил себя за эти вот губы дрожащие, ресницы трепетные. Сам удивился, когда разумел — поклянется. Этой чем угодно поклянется, все пообещает, лишь бы целовала, любила…
— Клянусь, Нельга. Не трону, — и снова любовался, а после и рассердился.
Ведь не за себя просила, за Голоду! Все мысли, вся боль сердечная ему, а Некрас как же? Чем хуже Квит снулого рыбака?! Себя сдержал, снова вернулся мыслями к тому, что после лавки жаркой отпустит его приворот Нельгин.
— Поклялся. Помни о том. Род его не смей пускать по миру. Снова клянись, Квит! — подступила ближе, почуяла силу свою.
— Снова клянусь, медовая, — дал ей подойти, улыбнулся и легонько по руке ее стукнул.
Нож с лязгом упал на деревянный пол, подпрыгнул разок и улетел под лавку. Нельга проворно отскочила от Некраса и бросилась вон из гридницы, но он поймал, зажал руки цепко, прижал к стене горячим телом и прошептал в медовые волосы.
— Куда собралась? Не договорили. Ты мне еще должна. Ай, не помнишь? — прошёлся жаркими губами воль щеки, мазнул румяные губы своими.
— Ты поклялся! Стыда нет? Страх обронил? — вырывалась, дергалась, а он не пускал.
— Поклялся, верно. Не трону ни Тишку, ни род его. А про себя, медовая, ты слова не молвила, — провел широкой ладонью по ее груди, нетерпеливо дернул ворот рубахи, да сил не рассчитал.
Треснул ворот запоны и беленый лён рубашки нательной, рубаха девичья раскрылась. Некрас почти ослеп: кожа белая гладкая, как шёлк, что видел он на княгине в Новом Граде, грудь высокая дрожит, в руки просится.
— Отпусти! Уйди, постылый! — Нельга извивалась ужом, пыталась укусить, но поняла видно, что с Некрасом ей не справиться и закричала.
Квит накинул большую ладонь на ее рот. Рукой дернул подол запоны девичьей и прошелся грубой лаской по ее ноге, по бедру, обхватил теплое, упругое. Чудом сдержал порыв жуткий, принялся целовать белую грудь.
Нельга не кричала уже, не билась. Замерла, поникла в его руках и глаза прикрыла. Некрас словно очнулся! В малое оконце солнце закатное било, ложилось кровавым отблеском на кожу Нельги, красило причудливо. Но не эта красота дурная сбила Некраса, а жилка трепетливая, что билась на шее девичьей.
Вмиг плотское слетело с Квита, остались только горечь и злоба на себя самого. Никогда не брал женщину силой, не мучил, не радовался девичьим слезам. А что же с ней, с Нельгой так-то? Ведь дорога ему, так дорога, что странно. Обидел ее, а себе самому еще горше сделал.
Опустил подол, обнял дрожащую Нельгу, прижался лбом к ее лбу и сказал немыслимое, нежданное. Язык сам с себя стряхнул тихие слова:
— Медовая, хоть на миг полюби меня… — сказал и понял — только того и хочет.
Потянулся ладонью, забрался под косу, лицо ее к себе повернул и на себя смотреть заставил.
Она глаза на него подняла, распахнула широко, удивленно и всмотрелась внимательно. Миг ничего не говорила, а уж потом взгляд ее потемнел, ожёг ненавистью.
— Никогда.
Слово это больно ударило Некраса, словно в сердце ткнуло длинной иголкой.
— Ужель так противен тебе? — и голос дрогнул.
— Сколь раз тебе говорила — постылый ты, — она и сама шептала тихо, тревожно.
Не снёс слов ее злых, обидой залило. Оттолкнул от себя Нельгу, сделал шаг от нее, встал посреди гридницы.
— Полюбишь.
— Чего?! — удивилась сильно, забыла, что рубаха чуть не до пояса распахнута, рукой не дернула, чтобы свести края и не мучить Некраса красотой белой.
— Того! Сказал меня люби, значит так и делай, — и понял, что говорит нелепое, а смолчать не смог.
— Да ты совсем дурной… — опомнилась, рубаху на груди запахнула, но смотрела в Некрасовы глаза ошарашено. — Кто же любит по наказу? Ты ополоумел, Квит.
— Уж постарайся! — злился, голосом давил. — Не отстану.
— Некрас, опомнись. Я Тихомира люблю и кроме него мне никто не надобен. Ты слышишь ли?
— А ты меня слышишь? Сказал — меня люби, Нельга. Я клятвы не нарушу, слово Квита верное, но о тебе я не клялся, зарока не давал. Полюби, — упрямым взглядом жёг растерянную Нельгу, да и сам себе изумлялся.
Она молчала, только дышала тяжело — грудь высоко вздымалась. Слёз не лила, и Некрас вновь изумился ее характеру непростому и крепкому. Такой и у парня-то редко случается.
— Откуда ты взялся? За какие мои дела послали тебя боги светлые? Донимать меня, мучить. Что тебе до меня? Зачем сдалась? Невеста есть и не какая-то там, а сама Цветава Новик. Глаза-то раскрой, оглянись, — и увещевала, и удивлялась.
— Знать бы! — рассердился Квит. — Тебя послали мне в наказание! Что уставилась? Глаза эти твои окаянные…
— Дурной! — Нельга сжалась, но смотреть не перестала, глядела сердито, но Квит приметил в зеленых глаз страх отчаянный.
— Вот что, Нельга, я завтра уеду. Ты погоди радоваться-то, еще не все сказал. Ты мне теперь зарок должна. Тишке своему разлюбезному не давайся! Слышала? Месяц сроку тебе даю. Меня полюби!
— Некрас, выходит, я тебе кругом должна! Не ты ли меня сильничать пытался вот токмо что? Ничем я тебе не обязана! — взвизгнула Нельга, зло, но и испуганно.
— Распищалась! Так-то я не ушел еще. Допросишься! — брови сдвинул, напугал девушку. Но сам знал наверняка, что не посмеет более обижать и брать насильно.
— Не дам я тебе никаких сроков! Любить не стану! — выкрикнула и пошла к выходу.
Не пустил Некрас, не смог. Обнял тихо, согрел нежными руками.
— Станешь, Нельга. И чего препираешься со мной? — ухватил застывшую девушку за подбородок и поцеловал.
Никого так не целовал, никогда. Утешал, успокаивал, тепло дарил и защиту. Все в этом поцелуе слилось. На малый миг показалось Некрасу, что губы ее дрогнули, отвечая, но только на миг.
— Зарок. И отпущу, — оторвался от нее с трудом, задышал тяжело.
Она замерла, посмотрела так, словно душу его видела и кивнула тихо.
— Бери Огневицу свою и на ней клянись, — с теми словами вытащил из-за пояса проклятый оберег и протянул Нельге, а та коснулась его большой ладони горячими пальцами, ухватила нить перетертую и зажала в кулачишке. — Жду, Нельга.
— Что б тебе… Клянусь! Пусти нето! — толкнула Некраса в грудь, а тот отступил, противиться не стал.
— Смотри, приеду — проверю.
— Чего? Как это? — Нельга быстро захлопала ресницами, похоже, догадалась, что купец хотел сказать.
— Так это. В следующий раз не отвертишься, медовая, — сказал и ослепил яркой улыбкой, зубами белыми блеснул. — Дыши, Нельга, дыши. И меня люби.
Нельга злости не сдержала!
— Тебе откуль знать? Может я его уже, а? Люблю без вено, и он любит! — После тех слов Некрас прищурился, оглядел сердитую девушку и хохотнул.
— Мне-то не ври, Нельга.
Подхватил одежки свои, двинулся к двери, но на пороге остановился, обернулся и спросил:
— Ты почему Тихомиру не сказала, что я прилип к тебе? Почто защиты у него не искала, медовая? Ведь не пень какой, а мужик, — огрел взглядом чудным.
Ответить не смогла, так и стояла посреди гридницы, сжимала в одной руке оберег, другой прикрывала себя разорванной одежкой.
— Молчишь? Ну, молчи. Обидит кто — мне говори. Не скажешь — сам прознаю. Жди меня и люби, — толкнул дверь и вышел в весенние сумерки.
Накинул зипун, шапку на голову натянул, словно во сне. Как из забора лез не понял, брел по улице, будто в тумане плыл. Остановился, прихватил ледяного талого снега с забора и в лицо себе кинул. Потом стер большой ладонью крупку льдистую и вслух выругался.
— Девка окаянная! Лешачья дочь! Все нутро перевернула! И я дурень, вот как есть дурень! — обругал себя и двинулся к своему домку.
Дорогой все рычал, все ругал себя: то останавливался, то снова шел. Добрался до подворья, уже у ворот сдвинул шапку свою богатую на макушку и засмеялся. Громко так, на всю улицу. Продышался и пошел к крыльцу, где уже отец стоял и Местята опричь него топотался.
Не заметил Некрас двух старух, что с интересом наблюдали за его чудачествами.
— Глянь, у Цветавы-то жених тронулся, умишком ослаб. То волом бредёт, то жеребцом ржёт.
— А кто их родовитых разберет? Можа игрища у них такие. Иди уж, глазастая. Вона, дед твой снова за бражкой попёр. И куда в него лезет?
Глава 12
— Новица, не спишь? — Нельга прошла в гридницу и тяжко опустилась на лавку, не сняв зипуна. — Что-то знобко мне. Баньку бы…
— Нелюшка, что ты? — Новица подошла, приложила теплую ладошку к холодному лбу девушки. — Нет огневицы, спаси тя Макошь. А в баньку-то сходи. Я холопа кликну, чтоб растопил.
Она за дверь вышла, а Нельга и не шелохнулась. Так и сидела бездумно, пока Новица не прокричала, что готово все.
— Идем нето, попарю тебя, — манила вдовица.
— Сама я. Тут будь, — взяла узелок с чистым и пошла по темному подворью в теплый банный сруб.
Предбанник встретил запахом трав, светлым паром. Нельга скинула порванную одежку и ступила в жаркие клубы. На полати уселась, голову опустила и заметила на груди белой пятна — следы жадных Некрасовых поцелуев. Миг разглядывала привет Квитовский, а потом руками лицо закрыла и зарыдала.
За все отплакалась: за испуг свой, за Тихомира, за мысль страшную — лишить человека жизни. Так и сидела в жаркой парной, лила слезы, а уже потом и поняла — легче стало, яснее. Мысли уже не трепыхались, беспорядком своим не донимали.
— Дурной! Что б ты…Что б тебе… — сердилась Нельга, а слов подобрать не могла. — Зарок ему, любовь ему! Морда наглая, глаза бесстыжие!
Паром легким нежгливым сняло с Нельги все дурное, грязное и постылое. К хоромам брела не печально, а всего лишь устало. Свалилась на лавку уже сонной, почувствовала только, как Новица укрыла сверху теплой шкурой и лучину затушила. Вот ее-то шипение, возня самой Новицы на соседней лавке и спугнули Нельгин сон.
Странное дело — вот только что глаза сами закрывались, а теперь не заснуть, не уняться. И так повернулась, и эдак прилегла, а сон не шел! Уже и Новица засопела покойно, и утихло подворье, по которому бегали холопы, завершая дела дневные, а Нельга все не спала, все думала.
Некраса помянула тьму раз, все сердилась, все кляла купца молодого: за пыл неприятный, за силу, за приказы его дурные, за улыбку до того уверенную, что становилось злостно и хотелось смахнуть ее с наглого лица рукой. Когда уж по десятку раз помянула все его окаянства, тогда и задумалась.
Ведь пожалел, не ссильничал, оберег отдал и ….приласкал. Вот тут Нельга подхватилась и на лавке села. Поцелуй, что подарил Квит на прощание, взволновал ее. Крепкий, но и нежный. Вроде как сберегал, утешал, голубил и все сразу. И не хотела думать девушка о таком, а память подкидывала, подзуживала и до того доняла, что Нельга полыхнула жарким румянцем.
Еще раз помянув недобрым словом Квита, Нельга все же, устроилась на лавке, собралась в сон провалиться, а мысль последняя не дала. Вспомнила слова Некраса о Тихомире и задумалась.
— Чего, чего… Не рассказала, стало быть не захотела… Зачем Тишу маять понапрасну дурными-то вестями? — шептала вслух, будто с Квитом переругивалась.
А чуть позже и уразумела — Тихомир для нее, словно крыло голубкино: тепло и нежно. А вот чтобы защитником, так Нельга никогда и не мыслила о красивом парне. Шевельнулось в душе неприятное, обидное для Тишеньки, но Нельга отогнала от себя все дурное, улеглась на бок и в тишину прошептала:
— Что б тебе, Некрас, не спалось так же, как и мне. Вертись и виновать себя, охальник, — кулаки сжала. — Век ждать будешь любви моей, паскудник, не месяц!
А уж потом и подумала — месяца-то может и не быть. Военег Рудный в любой день мог приехать, дружину свою привести. А там уж только светлые боги ведают, убьют Нельгу сродники его, нет ли. Помстит, сведет на тот свет обидчика и сама станет кровным врагом роду Рудных. И ни Тихомира, ни любви… Одна радость — Некасу она тоже не достанется.
Утро встретило Нельгу ясным солнышком, легким морозцем — весенним, последним — и вкусным запахом распаренной каши. Новица толклась у стола, принимала из рук холопки миски дымящие и на стол ставила. Густо лила на варево желтого масла, хлеб утренний крушила ломтями.
— Проснулась? А и поздно ты, Нелюшка. Иди нето, каша поспела.
И правда, поспела. Нельга и подскочила. Слетала по легкому морозцу на двор, умылась в сенях, косу сметала туго и села утричать. Новица говорила, говорила… Все о Военеге, о помщении, о дурман-траве, что давно уж была припасена. Нельга слушала, кивала, но сама не отвечала — знала, что Новица ее не услышит. Умом тронулась уже давно, лишили боги ее понимания и разумения.
— Нелюшка, здрава будь, — нежный, тихий голос послышался в сенях.
— Белянушка? Случилось что? — Нельга с лавки подскочила, прихватила под локоток молодую женщину на сносях. — У дядьки Рознега?
— Что ты, что ты… Все тихо, хорошо, — Беляна, Новиковская меньшуха, тяжко опустилась на лавку, улыбнулась кротко и светло. — Меня Снежана послала. Нынче Некраса провожаем, так надо всем сродникам быть. Идем нето. Обычай соблюсти надоть.
Нельга задумалась, промолчала. Беляна не торопила с ответом, покорно ждала слов. А и как не быть покорной? Младшая жена в дому едва ли не чернавка. По крайности до тех пор, пока не понесла от мужа. Злых и своенравных меньшух не бывает, не каждая идет последней в род, зная, как нелегка такая доля.
Беляна чуть не единственная из всех Новиков, кроме дядьки Рознега, что привечала Нельгу. Снежана все волком глядела, скалилась. Сыновья Новиковские норовили цапнуть за девичье, округлое, Цветава и вовсе не терпела рядом с собой девиц, хоть сколько-нибудь пригожих. С того Нельга и добра была к меньшухе, жалела, угощала медом, до которого молодая женщина была большой охотницей.
Дружбы особой не водили — Снежана сердилась — но взглядами перекидывались, улыбками тайными обменивались. С того, видно, и послала старшая жена Рознега за несговорчивой Нельгой именно Беляну, а не иного кого. Знала тётка недобрая, что ей девушка не откажет и придет на проводы, обычай поддержит, дурной приметы не сделает.
— Иди, Нелюшка, иди, — Новица откинула крышку сундука, вытянула нарядный теплый зипун. — Вот, надень-ка. Морозно нынче, как бы не простыла. Вот и шапочка. Ох, хороша! Справный мех-то, справный. Лиса-серебрянка редкость ныне.
Беляна заулыбалась, мол, вот и славно, вот и пойдем. Нельга и не снесла тепла и заботы — собралась и повела непраздную женщину к богатому Новиковскому дому.
На подворье многолюдно: бабки, дети, жены сыновей Рознега. Снежана кивнула меньшухе, а Нельгу окинула взглядом ревнивым — углядела и наряд богатый, и стать девичью, такую ненужную рядом со свой дочкой.
Нельга встала позади толпы, задумалась, и не заметила, как получилось быть наособицу. Вроде при всех, а вроде и сама по себе. Из мыслей выдернул красивый мужской голос:
— Ну что ж, Рознег, спаси тя Род за угощение, за кров. Теплом-то жди, будем вместе с сыном к обрядному танку*. Здрава будь, Снежана. И ты, Цветавушка-красавица, жди жениха, себя береги, — говорил высокий мужик в летах, в нарядной шубе.
Нельга поняла — отец Некраса, сам купец Деян Квит. Старалась особо не глядеть, но любопытство девичье взяло свое и разглядывала внимательно, чуть подвинувшись за спину младшего Цветавина брата.
На Некраса и полвзгляда не кинула — злилась, да и противно было после вчерашнего. А промеж этого и волнительно как-то, и тревожно. Сам Некрас тоже по сторонам особо не смотрел: взгляд недобрый, брови насуплены. Когда уже время пришло, урядно расцеловал невесту — троекратно в щеки — поклонился будущей родне. Потом повалился в сани, прикрылся кожухом овчинным и уехал, ни разу не оглянувшись.
Нельга вздохнула вольно, на солнце прижмурилась. Будто гору с плеч спихнула! Не рассердилась на среднего Новиковского сына, когда тот прицелился хлопнуть пригожую родственницу чуть ниже спины. Улыбку ему кинула, пригрозила, мол, уймись, охальник. А потом и вовсе бодро зашагала по улице под громкий посвист того же Новиковского озорника.
Вот ведь как — кому-то радость, а кому-то горесть. Нельге и невдомек было, что с Некрасом сотворилось, когда выехал обоз за Лугань.
— Некраска, а что за девка была у Новиков? Такая с косой светлой? Ох, и глазищи, аж зеленью светят. И пряменькая, будто стрела. Новики-то приземистые, округлые, а эта прямо пава средь них, — Деян ткнул сына кулаком в плечо. — Ты уснул что ль? Ну, спи, спи…
Некрас накинул на голову кожух, смотрел муторно на снежную крупку под полозьями саней и едва сдерживался. На подворье, на проводах едва зубы не раскрошил, все старался не смотреть на медовую. Сжимал так, что хруст слышался. А как тронулись, и вовсе дурным стал — хотел выскочить из возка, хоть раз поглядеть на Нельгу, обнять, к себе прижать и молвить слово прощальное. Стерпел!
Рассудил так — вдали от глаз ее чудных и запаха цветочного уймется его огневица, подернется пеплом-золой костер, что полыхал в груди жарко. Забудется окаянная Сокур и дурость покинет, мысли заполошные сгинут. Ведь все ясно было для Некраса — сторговал, деньгу взял, погулял. И невеста такая, как Рознеговна не каждому попадается. А тут поганка Нельга с пути, с мыслей сбивает, одним взглядом всю жизнь переворачивает. Некрас привык уж жить по своим указкам, кроме отца и не слушал никого. А эта поганка принялась им крутить. И больно ведь, ломко!
От Лугани уехали далеко, а Некрас все думал, горел. Уж очень хотелось выскочить из возка, вернуться в городище и накостылять Тишке Голоде так, чтобы вовек не поднялся, не целовал румяных губ Нельги, не касался нежно ее медовых кос, не тянул к себе тонкий девичий стан.
От автора:
Танок — (от слова танцевать) — жанр древних южнорусских, западнорусских и московских народных массовых обрядовых танцев, с песней и элементами игры, вид хоровода. Характерное движение в танце — хождение широкими рядами, взявшихся под руки (за руки).
Глава 13
— Видка, ты тут ли? — Деян Квит стоял на крыльце своего богатого дома, звал жену.
— Туточки. Что ты, Деянушка? — женщина вышла из сеней, оправила расшитый плат на голове. — Надо чего?
— Ничего. Постой со мной, — с теми словами обнял жену, прижал к боку. — Глянь, отрада какая. Весна-то спорая, аж страшно. Солнце палит, Ярила милует землю. И листья уж повылезли. Три седьмицы тому снег еще лежал.
— Твоя правда. Хорошо-то как, — Видана опустила голову на плечо мужа, глаза прикрыла.
Из дальнего угла широкого подворья слышался постук топора — частый и дробный.
— Деян, никак снова Некраска принялся рубить? — Видана брови тревожно взметнула. — Не узнаю его. Сглазил кто? Раньше-то в дом приезжал, так и бегался, как чумной по Решетову. Смехом все, шутками. А ныне молчит, как сыч.
— Оставь его, Видана. Все путём. Подумаешь, опалило маленько, — Деян хмыкнул, поцеловал жену в лоб.
— Чего?! Опалило? Это как так? Ты чего такое говоришь? — затрепыхалась, затревожилась. — Что с ним? Говори нето!
— Что, что… Что надо. К девке присох.
— Ну-у-у-у… Ай Цветава, ай молодец, — Видана заулыбалась, глазами засверкала. — Ужель образумился озорник-то наш?
— Нет, Видка. Не угадала. Не про Цветаву его мысли, — Деян бровь изогнул, мол, мудрый я.
— Ты что?! Говори, старый, чего вызнал? — Видана вывернулась из-под мужниной руки, посмотрела сердито.
— Старый? Я-то? Ах ты… — поймал ее, обнял, поцеловал сладко.
— Дурной, как есть дурной. И Некраска весь в тебя, заполошного, — ворчала, но рада была ласке его и любви. — Чему ты радуешься? Обряд скоро, а он к девке какой-то присох. Что ж будет?
— Видана, — Деян голосом построжел. — Цветава ему не пара. Девка хороша, спору нет. Красивая, роду крепкого. Деньга водится в дому, но не пара. Сердца в ней нет, токмо злато видит. За свое цепляется, себе слаще делает. Такая Некраса к дому не привабит, корни не даст пустить. Так и будет носить его по свету. Видел я, как стыло он на нее смотрит.
Видана брови высоко возвела, ахнула.
— Ты ж сам ее сговаривал. Говорил, Лугань теперь под нами, торговать можно без оглядки. И Некраска радовался богатой невесте.
— Мало ль что я говорил? Дурак был. Знал бы, отлуп дал Рознегу, — Деян вздохнул тяжко, повинно. — Вспомни, как у нас-то было? Я тебя брал — ничего не имел. Токмо порты в заплатах. А встала ты за моей спиной, любовью своей сил дала и вон оно Решетово. Виданушка, все, что стяжал я, все, что имею — все ты. Не был бы я Деяном Квитом без тебя. Сама знаешь…
Видана улыбнулась светло, рукой пригладила темные с густой проседью волосы мужа. В глазах лучистых слеза сверкнула.
— Что ты, любый? С чего вдруг принялся о таком?
— С того! Моя вина, Видка, моя. Заставил парня вено давать за Рознеговну. А боги взяли и инако решили. Ты его не тронь, не донимай. Пусть сам думает, какого он корня — золотого и бездушного иль горячего Квитовского. Порешит вено забрать, я слова поперек не скажу. Поняла ли?
Видана долго молчала, раздумывала, а потом кивнула тихо, безмолвно.
— Одно изводит, Видка. Кто ж та жар-птица, а? Наш оглоед с разбором, чай, повидал всяких. И ведь нашлась такая. Ладноть, поживем увидим. Можа не так и дорога. Про вено он еще ничего не баял.
— Повидал… Ходок он! Весь в тебя, окаянного! — толкнула мужа в грудь, уйти собралась.
— А ну стой! Чего говоришь-то? Я тебя в жены взял и никого боле не миловал! На обряде еще зарок дал — одна ты у меня. Не веришь? Не веришь мне?! — Деян жену за плечи обхватил, глазами высверкивал.
— Уймись ты. Верю, — обняла и поцеловала. — Ты давеча мне шубейку посулил новую. И где она, а? Болтун!
— Будет, Видка. Хучь три шубейки.
Некрас не слыхал родительского разговора, рубил тяжелые весла для насады. Три седмицы уж миновало с того дня, как уехал он из Лугани, оставил окаянную Нельгу. Временами казалось парню, что утихла его огневица, сошла, но ночи терзали и донимали разным — плотским и думным. Последнюю неделю не вспоминал уж слишком часто зеленоглазую и порадовался. Оздоровел!
А тут возьми и тресни лёд на Мологе широком. То знак — пора в путь. Сердце застучало скорее, руки принялись за работу яростнее. Недалек тот день, когда он ступит на насаду свою и понесет ее течением и ветерком вниз по реке. Гнал от себя Некрас мысли ненужные, все думал — соскучился о воде, о людях разных и городищах. Себе врал, но в том уверился.
— Некраска, когда грузим-то? — Перемысл, ватажник его насадский, кричал из-за забора.
— Завтрева. На воду вторым днем. Собрался ли? — Некрас обирал с себя душистую деревянную стружку.
— А чего собираться-то? Подпоясался и айда, — улыбался красивый парень.
— Ну, айда, так айда. Утресь будь.
Следующим днем загрузили насаду Решетовским товаром, оставили место для другого, того, что ждал в товарных избах по всему Мологу: в Журках, в Бобрах, в Озерово и Лугани. А там уж до Нового Града полной насадой на большой торг.
Некрас дергался, собирал короб свой, разбирал и наново укладывал. Потом и вовсе пошел ночевать на насаду. Мать ругалась, увещевала, мол, зябко еще на воде, простынешь. А Некрас слушать не стал, все думалось, так быстрее утро настанет.
Простилась ватага Некрасова по обряду: требы положили, родным поклонились и пошли ходко. После льдов течение в Мологе скорое, вода высокая. До Журок добрались одним днем и сами подивились. Не инако ворожит кто.
К концу третьего дня пришли к Лугани. Товар по мене передали, загрузили новым и разошлась ватага на постой: в баньку сходить, бражки хлебнуть, а если свезет, то и найти сговорчивую красавицу.
Некрас по уряду собрался в дом невесты, а она сама притекла, поджидала у сходней. Улыбнулась ярко, незлобно и под руку взяла.
— Здрав будь, любый. Что ж так долго? И ведь ни весточки, ни знака. Решетовские-то обозом приходили посуху, что ж с ними не передал слов ласковых? — прижималась, ластилась Цветава.
— Прости, красавица, дел невпроворот. Сама знаешь для кого стараюсь, деньгу делаю, — говорил и сам себе верил, думал ясно и заполошных мыслей не чуял.
— Вечером придешь ли? — сверкнул глаз синий, игреливый.
— Приду, Цветавушка. Токмо прежде с отцом твоим свижусь, инако неурядно, — поцеловал легко вишневые губы, и подтолкнул, мол, иди, потом буду.
Собрал короб свой, отправился к старому Новиковскому домку, а по сторонам старался не глядеть и мысли о косе светлого меду из головы выдавливал.
С Местькой посидел в баньке, тот ждал, когда на насаду его возьмут, товар стерег. Пока Боровой болтал, Некрас злился, а чего злился и сам не знал.
В дом Новика явился нарядным и с богатыми подарками. Никого не забыл! Цветава вилась рядом, все радовалась новому дорогому очелью, навесям* звонким. А вод вечер потянула Некраса в дальний край подворья, целоваться и ласкаться.
Некрас удоволил, но без сердца, словно деревяшку миловал. Понял, что Цветава не чует, глаза застили подарки дорогие и желанные. Уговорил ее и сбежал.
Сел в домке своем на лавку и уперся взглядом в стену, словно бревна считал. Как солнце позднее заклонилось к Мологу, подскочил и ринулся вон с подворья. У калитки одумался, и вернулся. Все старался не думать о Нельге, не бежать к ней сломя голову.
Посидел на лавке, не вынес и уж твердой походкой отправился снова на Новиковское подворье. Знал, поди, что при невесте не станет вытворять нелепое.
Цветава выскочила на крыльцо, слетела со ступеней и остановилась подле Квита.
— Некрасушка, что ты? Забыл чего? Или соскучился за мной? — радовалась, глазами сияла, улыбкой манила.
— Соскучился. Пройдемся, Цветава. Одному муторно. Вечер-то нарядный, дома сидеть — радости весенней себя лишать, — говорил об отрадном, а сам снуло глядел на темнеющее небо, на дымку зеленую листвяную, что стала приметнее за день. — Токмо охабень* накинь. Чай не лето еще.
Пока Цветаву носило за одежкой, Неркас оправил на плечах свою, богато расшитую. Смотрел на холопов, что толклись на краю подворья, волдохали тяжелые кожи.
— Идем нето, — нарядная Цветава взяла Некраса за руку и потянула за ворота, туда, откуда слышался тихий вечерний людской гомон, посвист птах и запах свежей листвы.
От автора:
Навеси — височные кольца — это женские украшения, которые вплетались в волосы у висков.
Охабень — (о́хобень, о́хобен, от охабить, то есть охватить) — старинная русская верхняя мужская и женская одежда из сукна домашней выработки.
Глава 14
— Званушка, что скажешь мне? Я уж измучилась, — тихо шептала Нельга подруге, сидя в телеге, что везла их с дальней Сокуровской заимки.
Правил Богша, вез тихо без спешки. Мало когда можно вот так проехаться, полюбоваться на тихую блёсткую Свирку, на небо голубое предзакатное. Порадоваться красоте яви, вдохнуть свежесть весеннюю.
— Ты еще раз обскажи, — шептала на ухо Звана. — Значить ты его челомкнула жарко, прижалась, а он тебя на колени-то взметнул, полез под запону и вроде как вздрогнул, да? А потом чего?
— Чего, чего… Задышал часто и головой мне на грудь упал. А потом вроде как рассердился, по волосам меня погладил и утёк. Едва не бежал. И потом так же, и в другой раз опять, — жаловалась Нельга, грустно глядя в ясные глаза подружайки. — Что я не так делаю-то, а? Обижаю?
Звана задумалась, теребила в пальцах край подпояски.
— Себя не виновать, Нелюшка. То не твоя беда, а Тишина, — обняла Нельгу, и зашептала в ухо, чтобы Богша не услыхал. — Ты хучь и девка еще, но знать уж должна. Бывают такие парни…ну…себя не держат, разумеешь? Вот как девку пощупал так и отдал семя.
Нельга ресницами захлопала, покачала головой, мол, не пойму о чем ты.
— Тьфу! Вот мука мученическая с тобой. Я сама-то таких скорых не встречала, а вот сноха моя та вроде знает. Я дуркой прикинусь и выпытаю, а потом ужо и тебе обскажу. Не печалься раньше времени. Придумаем нето, как Тишку твоего … усмирить, — высказала, подумала и захохотала. — Ой, умора!
— Звана! Перестань сей миг! Люб он мне, а ты так о нем… — Нельга от подруги отвернулась, нахохлилась, вроде как по сторонам смотрела.
— Ну, будя… Будя серчать, — толкнула локтем в бок. — Глянь, Нельга, красота-то какая! Аж петь охота. Богша, а ты петь-то умеешь?
— Ась? Петь-то? Не-е-е-е. Вона Нельга поет. Уж дюже сладко про пташечку завывает, — Богша посмотрел на девушек через плечо. — Спела бы, душа просит.
— А и спою! — Нельга блеснула яркими глазами, улыбнулась Богше и запела.
Во зелёном во саду пташечка пропела.
Есть у пташки той гнездо, есть у ней и дети.
Есть у пташки той гнездо, есть у ней и дети.
А у меня, у сироты, нет никого на свете.
А у меня, у сироты, нет никого на свете.
Ночь качала я детей, день коров доила
Ночь качала я детей, день коров доила.
Подоивши ж я коров, в хоровод ходила.
В хороводе ж я была весело гуляла.
Ой, хорошим ж я хороша, да дурно одета.
Ой, хорошим ж я хороша, да дурно одета.
Никто замуж не берёт, ой, меня за это*.
— Ох, и хорошо! — Званка хохотала-заливалась. — Чегой-то плохо одета? Глянь, рубаха-то, запона-то! Нелюшка, а хороша банька на заимке так бы и парилась, красоты себе добавляла. Богша, а Богша, глянь, я похорошела?
— Тьфу, дурёха, — хохотнул мужик. — Две косы на головушке, а все как девка! Прикройтесь, курёхи, чай не лето. После бани кто ж рассупонившись бегается? Вон зипунок мой накиньте. Поляжете в огневице, носись потом с вами.
— Чегой-то зипунок, а? Можа сам обогреешь? Ты мужик видный, хучь и смурной. Богша, а Богша, однова предлагаю, потом отлуп дам! — Званка подзуживала, шутейничала, а Богша ей в ответ.
Так и ехали-веселились. У подворья Красных, Званка подхватила с телеги узелок с пожитками.
— Хорошо на заимке, отрадно. Одно жаль, что парней нет. Нельга, так о следующей седмице я снова с вами. Как уговорено, я работу, а ты мне мед. Мамка ягод в нем на зиму мочить станет.
— Прощай, Званочка, — Нельга обняла подругу, поцеловала крепенько. — Свидимся.
— Прощай. И ты прощай, Богша. Надумаешь меня согреть, приходи нето, — и пошла, озорница, плавно покачивая тугими бедрами, смеясь переливчато и завлекательно.
— Огонь баба! — Богша крякнул, хохотнул и стеганул меринка.
В дому их встретила Новица: обрадовалась, захлопотала.
— Вечерять-то будете? Не рано? Скажу холопке, чтобы молочка дала, хлебца покрошила.
— Ты не суетись, Новица. Сыты мы, — Нельга уселась на лавку, прислонилась головой к теплой стене. — Что в Лугани? Новости какие? На заимке-то тихо. Поедешь с нами через день-другой?
— Нет, — решительно головой покачала. — А если Военег приедет? Нет, Нельга, не проси. Тут стану ждать.
Богша скривился, Нельга встала и обняла Новицу. Стихло в гриднице, болью опалило и каждого своей, глубинной неизбывной.
— Ныне насада пришла Решетовская. Расторговались. А вечор у Ямкиного колодезя девки сцепились. Говорят, что Радима Голубина волос повыдергала этой…как ее… Ладе Зеленявых. Видать, парня не поделили, — Новица уютно устроила голову на плече Нельги, отчет давала тихим, тусклым голосом.
— Решетовская? Квит привел? — Нельга сжалась, напугалась. — Некрас-то здесь?
— Здесь. Бают, привез невесте очелье нарядное, аж глаз слепит.
— А и давай молока. Хлеб уж дюже пахнет, пузо подвело, — Богша уселся за стол, холопка поставила перед ним миску с молоком и покрошила мягкого хлебца.
Новица села рядом, тоже за ложку взялась, а Нельга уселась на лавку с размаху. Совсем и думать забыла, что Некрасовский срок вышел. Повертелась немного и сама себя успокоила — Квит может и позабыл о ней давным давно.
— Нельга, твой пришел, — Новица указала ложкой на открытое окно.
— Тихомир? — Нельга подскочила с лавки и бросилась на улицу.
Уже в спину Богша и Новица прокричали:
— Охабень накинь!
Да девушка их и не слышала. Скучала о красивом парне на заимке. Шутка ли, почти целую седмицу не виделись.
У калитки Тиша поцеловал легко, взял за руку и пошли они обычным своим порядком по улице, любоваться весной и новой зеленью.
Когда добрались тихим шагом до волховской домины, солнце наполовину спряталось, захолодало. Нельгу и затрясло. Выскочила-то к любому в одной запоне. Рубаха тонкая. А Тихомир шел себе и шел, тепло ему в плотной одежке.
Через два двора наткнулись на парочку — Некрас и Цветава вышагивали степенно по дороге, молчали. Только вот Квит смотрел волком, а Цветава улыбалась, словно медку выпила легкого.
— Вот так встреча, — Рознеговна засияла, ухватила за руку Некраса и к себе потянула. — Весна-то, а? Вовсю принялась. Все спросить хотела, когда ж обряд у вас? Гуляете давно, голубитесь, а о вено никто и не говорит.
Должно быть боги светлые в тот миг озаботились каждый своим, а потому и те, что встретились, подумали о разном. Цветава улыбалась ехидненько, Тихомир задумался и кинул осторожный взгляд на Нельгу, Квит полыхнул злобой, но сдержался, а Нельга испугалась. И замолчали все, затихли. Даже пташки, что щебетали по светлу, примолкли.
Откуда-то повеяло ветерком свежим, едва ли не холодным. Нельга задрожала, а спустя миг подпрыгнула, испугавшись громкого скрежета. Рядом открылись со скрипом небольшие воротца, и младший сын Суропиных вышел на улицу. Обвел всех пьяными глазами, икнул громко и грохнулся рядом со скамеечкой у ворот. Засопел быстро и сладко.
Со всех и слетело дурное, задумчивое.
— Вона как, — сморщила носик Цветава. — Скотина-то умнее, бражку не хлебает бездумно. И откуль токмо деньга у него, а?
— Счастливый, — высказался Некрас.
— Спит-то как, — Тихомир смотрел на парня. — Тихо.
Одна Нельга промолчала, приметила взгляд Некраса: опасный, жаркий.
— Идем, Тиша, — потянула парня за руку. — Прощевайте.
И двинулись уже, а тут Некрас…
— Стой, — голос глубокий, теплый. — Стой, Нельга. Возьми нето. Замерзла ведь.
Стянул с себя богатый охабень, подошел к девушке и накинул на плечи, укутал потеплее.
И снова боги светлые отворотились: Тихомир брови выгнул и на Нельгу глядел, Некрас взглядом искры сыпал и Тишку разглядывал, Нельга замерла и смотрела на то, как Цветавино лицо пошло красными пятнами от злости, а сама Рознеговна жгла недобрым взглядом спину своего жениха.
— Благодарствуй, Некрас, — пискнула Нельга, голову в плечи вжала. — Пойдем мы.
И двинулась. За ней Тихомир. По дороге молчали, пока Тиша не спросил:
— Что это он вздумал тебя одежкой дарить, а, Нельга?
— Так скоро уж сродниками станем. Видать, пожалел, — и пошла быстрее, опасаясь новых расспросов.
Дорогой думала о том, что Цветава сделает с Некрасом, даже пожалела парня за такое-то. Уже у ворот, Тихомир потянулся целовать, Нельга не противилась, но и не радовалась, будто пропала в мыслях своих. Приняла лёгкий поцелуй и пошла в дом.
В сенях скинула Некрасов охабень, но не бросила, задержала в руках богатую одежку. Поднесла к лицу и вдохнула запах. Поблазнилось, что доской свежей пахнет, а еще рекой… Миг спустя одумалась, да и кинула на сундук сенной.
В гриднице за столом сидел Богша, ремешок кожаный выстругивал. Новица за прялкой устроилась по последнему свету. Нельга бездумно побродила от стены к стене, послушала, как жужжит веретено — тихо, шершаво и дробно. А уж потом подхватилась и снова за порог.
— Нельга, куда?! — Богша ей в спину.
А Нельга-то уж в сенцах! Накинула свою одёжку, прихватила охабень Некраса и вон со двора.
— Ох, и хитёр ты, купец. Думал, не догадаюсь? Ишь ты! Нашел повод наново прилипнуть. А вот не выйдет, — ворчала Нельга, торопливо шагая по глухому проулку. — Вмиг верну. Да вон хоть на забор тебе повешу!
— Не меня ли ругаешь, медовая?
Нельга подпрыгнула, обернулась и наткнулась на горячий взгляд Квита.
От автора:
«Во зеленом во саду пташечка…» — часть песни Пелагеи. Инфо о том, чьи стихи — невнятна. Автор не нашла приемлемого текста старославянских басней — очень непривычно для слуха современного человека)) Песня «Во зеленом во саду пташечка…» более позднего периода, нежели тот, о котором идет речь в книге, а потому всего лишь часть)))
Глава 15
Цветава все то время, что шли до Новиковского подворья ругала и совестила Некраса. Парень злился, но виду не подавал, а спустя малое время и вовсе перестал слушать невесту. Задумался о Нельге…
— Ты оглох? Некрас! — взвизгнула Цветава.
— А? — очнулся, головой помотал, будто стряхивая с себя сон мутный о зеленых глазах и косе цвета молодого мёда. — Ты что, Цветава?
— Гляньте, не слышит! — злилась, ножкой топала. — Ты почто позорить меня принялся? Кому охабень кидаешь, охальник?
— Не ревнуй, красавица. Замерзла она, пожалел. И себя с ней не ровняй — разные вы. Вроде одних лет, одну землю топчите, а как с разных краев, — смотрел на красивую свою невесту и понимал, что истину молвил.
— Пожалел? — Цветава и не разумела о чем он. — Так-то да. Жалкая. Ходит мышь-мышью. Да еще и Тишку за собой таскает. Голодавые род бедный, голодный. Почитай четыре десятка ртов на подворье, а Нельга-то его голубит. Дурёха. Что с ним за жизнь? Токмо хребет работой ломать от зари до зари.
— Скажи, Цветава, а был бы я не Квит, а иной кто, пошла бы за меня? С пустым-то кошелем?
— Батюшка не сговорил бы за худого, — улыбнулась ласково, прижалась горячим телом. — Некрас, может обряд-то пораньше справим, а? Истосковалась…
Потянулась целовать, а Некрас качнулся от нее.
— Люди кругом. Неурядно. Ты иди, Цветава, иди. Завтрева увидимся, — пригладил завиток над ушком и подтолкнул легонько.
Она улыбнулась да и пошла к своему подворью. Квит дождался, когда за невестой калитка стукнет и бросился бежать вверх по улице, туда, где на отшибе стоял малый домок Нельги.
Летел и ног под собой не чуял, думать забыл о том, что еще второго дня сам уверовал в свое же исцеление от непонятной Сокуровской волшбы.
Нельгу он заметил издалека. Та шагала быстро, сердилась, несла подмышкой его одёжку. Как только девушка завернула в глухой проулок, пошел за ней, догнал тишком и встал у забора под старым кленом. Прислонился плечом к шершавому стволу и слушал, как Нельга кляла его и ругала. Улыбался, как дурной, разумел глупость свою, но пересилить себя не смог.
— Не меня ли ругаешь, медовая? — пугать не хотел, а Нельга, услышав его голос, подскочила, обернулась и таким взглядом одарила, что Квит простил ей все: ночи свои бессонные, мысли свои тягучие и горькие, а зараз и то, что гуляет она с Тишкой снулым.
— Это ж надо, а? Так и знала, — смотрела зло, но и опасливо. — Вот, держи одёжку свою и иди прочь. Повод нашел, чтобы меня донимать?
Она протягивала ему охабень, а он брать его не спешил, любовался сердитой Нельгой, пытался скрыть дурную улыбку.
— Эва как. Медовая, мне чтобы тебя донимать никакого повода и вовсе не нужно, — оттолкнулся плечом от ствола и двинулся к ней, но встал, как вкопанный.
Глаза ее окаянные распахнулись испуганно, сама она дернулась и сделала шаг от Некраса.
— Не подходи. Стой, где стоишь, Некрас. Закричу! Народ всполошу! — сердилась. — Бери одёжку свою и иди по добру.
— А ежели не уйду? — с места не тронулся, смотрел, как щеки Нельги заливает гневный румянец, как от дыхания ее покачивается светлая прядь волос, упавшая на лицо.
— Я уйду, — с теми словами кинула его охабень на землю, развернулась и пошла.
Не снёс Некрас, в два больших шага догнал ее, дернул за руку и обнял крепко. Прижал большой горячей ладонью светлую головку к своей груди и зашептал жарко в медовые волосы:
— Постой, Нельга, хоть на миг останься.
Нельга рвалась, билась, что птичка в силках. Некрас не отпускал, держал крепко, будто самое дорогое сей миг в его руках оказалось.
— Пусти. Отпусти ты… — шипела, извивалась.
— Отпущу. Не рвись, — а сам обнимал еще крепче. — Не обижу тебя, слышишь? Не бойся меня.
— Некрас, закричу! — вцепилась пальцами в его рубаху, дергала от себя.
— Медовая, скучал за тобой… — поцеловал легко светлый завиток у ушка. — Ты обо мне и не вспоминала, верно. Думать забыла. Как ты, Нельга? Чем живешь? Не обижает ли кто? Здорова ли? О чем думаешь, кому улыбаешься? Может, работа тебя одолела?
Шептал жарко, тихо. Слова сердечные сами собой с языка прыгали, шелестели по глухому проулку.
— Задушишь, вздохнуть дай, — рваться перестала, тем и удивила парня.
Он руки разжал, но отпустить не отпустил. Только вздрогнул, когда понял — ладонь Нельги легко легла на его грудь. Не отталкивала, но и не ласкала. А мигом позже сердце его затрепыхалось едва ли не сильнее, чем сама Нельга вот только что в его руках.
Девушка смотрела прямо в глаза, молчала, но взгляд сам за себя говорил. В нем увидел Квит много непонятного: удивилась, растерялась. Глядела так, словно увидела в первый раз.
— Что, Нельга? Сказать хочешь? Так говори, не молчи! — голос-то дрожал, дрожал и сам Некрас, дивясь этой Нельгиной волшбе, что выворачивала его, задевала и больно резала по сердцу.
Нельга оттолкнула его ладошкой легко, а Некрас и подался, отступил на шаг. Но плечи выровнял, уцепился за пояс и встал перед ней гордо. Только пальцы побелели от того, что крепко сжимал опосяку.
— Не пойму я тебя… — то ли прошептала, то ли выдохнула. — То сильничаешь, то заботишься. Зачем? Зачем охабень отдал? Невестиного гнева не побоялся. К чему тебе знать о жизни моей? Чужие мы, ужель сам не видишь?
— Вижу, не слепой. Токмо чужие по твоей вине, медовая. Все сбежать норовишь, спрятаться от меня. Остановись, приглядись. Вот он я, Некрас Квит. Какой есть.
От парня не укрылся ее интерес! И поглядела, и ресницами глаза прикрыла так по-девичьи робко. А потом переменилась, взглядом высверкнула сердито.
— Знаю я, какой ты. Людей покупаешь, бьешь почем зря. Девушек силой берешь. Ай, не так, Некрас? Разные у нас с тобой дороги. Ты уж ступай своей, а меня оставь. Не по пути нам, — отступила на малый шажок, но уходить не торопилась.
Некрас обрадовался, но виду не показал, залился соловьем, да не простым, а тем, у которого горло мёдом густо смазано. Голосом стал глуше, но жарче, глазами потемнел.
— Обидел я тебя, то правда. Но ты сама в том виновата, медовая. Что смотришь? Заворожила, привабила, а вроде как и ни при чем. Не хочу думать о тебе, а думается. Это пытка, Нельга. Казнь тяжкая.
— Я виновата? — Нельга от такой-то клеветы даже растерялась. — Сразу сказала, что не люб ты мне. Моя ли вина, что не услыхал?
— А кто виноватый-то? Ты! У кого глаза самоцветами сияют? Кто улыбается так, что свет меркнет? — виноватил растерянную девушку, и любовался ею. — Спрячь взгляд, медовая. Косу убери. И не дыши так глубоко. Смотреть больно.
— Больно? — глаз не отвела, не послушалась. — А мне не было больно, Некрас? Из-за тебя дурное задумала, нож в рукаве спрятала. Ты мне руки заламывал…
Замолкли оба. Накрыло тяжелой тишиной глухой проулок меж двух заброшенных домков. Сюда разве что ветер залетал, качал неспешно свежие листки на высоком клене. Вдали пёс зашелся звонким лаем, послышался скрип ворот, но все будто на другом берегу широкого Молога. Не здесь, не в яви.
— Медовая, прости. Самому не в радость было… Веришь? — сжал крепко пояс, да так, что ногти едва ли не до крови впились в ладони.
Промолчала, но не ушла. Голову опустила, смотрела под ноги, задумавшись. Спустя время, ответила:
— Не знаю, что и сказать тебе, Квит. Так посмотреть — змей ты, верткий и противный. Но, верю. Сама себе дивлюсь, — развела руками, мол, прости за дурость. — От сердца винишься, то я вижу. Не скажу, что обиду отпустила, но и злости поубавилось. Чудной ты, Некрас. Дурной, заполошный.
Некрас едва не сплясал на радостях, но лица не уронил, стоял крепко, спины не гнул.
— Добро. Услыхал, медовая. Теперь ты винись.
— Я?! За что? — глаза распахнула, и сердилась, и изумлялась его нахальством.
— Правду говорят, у девок память коротка, не то, что коса. Я тебе что наказывал, а? Меня любить. И где оно? Винись, мол, так и так, вскоре полюблю, — улыбнулся, блеснул зубами белыми. — За то, что слово свое сдержала — хвалю. Голода млявый, как та рыба, что он ловит, но тому я рад. Тебя не тронул и вено не дал.
— Ты…ты…, — сжала кулачишки, слова искала, чтобы больнее ударили. — Ох, ты и скользкий! Хаешь всех подряд, а сам-то? Днем с невестой вышагиваешь, а вечерами девушек ловишь в проулках. Стыда у тебя нет!
— Ревнуешь, медовая? Вот и хорошо, вот и молодец, — злил нарочно, уж очень нравилось Некрасу как блестят ее глаза, как цвет их темнее становится. — Словами можешь не виниться. Иди, целуй и я обиду забуду. Слово мое крепкое. Ну? Иди нето.
Руки расставил, мол, жду, не медли Нельга. Улыбался до того весело, что девушка не снесла и полыхнула ответной улыбкой. Короткой, но яркой.
— Балабол, — а улыбку все же не смогла спрятать. — И как такого земля носит?
— Сам дивлюсь. А коли стряхнет меня земля-то, печалиться станешь? — голову набок склонил, вроде шутил, а ответа ждал не без боязни.
— И без меня будет кому печалиться, Некрас. Не так? — наклонилась, подняла с земли охабень его богатый, встряхнула. — Держи нето. И…спаси тя светлые боги.
Запнулась, но через миг проговорила:
— За заботу. Не знаю, с чего бы ты принялся вдруг за меня болеть, голубить. Без привычки я к такому-то от чужих, — сказала от сердца, не солгала, тем и обожгла Некраса.
— Я бы голубил, медовая. Не то сказал… — головой тряхнул. — Беречь стану. Слышишь ли?
— Бери одежку, Некрас, и уходи. Вдруг увидит кто? Сплетен потом не оберешься.
Подошла ближе и протянула охабень. Некрас взял его, накинул на широкие плечи. Потом блеснул взглядом озорным, подхватил Нельгу, к себе потянул и одарил поцелуем горячим и быстрым.
— Опять! — Нельга больно ткнула по ребрам. — Как верить тебе, охальник?
— Верь, — руки убрал, улыбался радостно. — И люби.
— Не стану. Другого люблю. Сколько еще раз сказать надобно? — не солгала, снова правду молвила.
Квит опять не показал боли своей, улыбнулся еще шире.
— Сколько еще говорить-то? Полюбишь.
Она моргнула — раз, два, а потом и засмеялась. Удивила и Некраса, и себя, похоже. Потянулась и сняла с его охабеня приставшую травину. Квит накрыл своей теплой ладонью ее руку, задержал.
— Что привезти тебе из Нового Града? Все, что пожелаешь, только слово молви.
— Ничего не надо. Легкой воды, Некрас. И забудь обо мне. Скоро роднёй станем, и хорошо, что без злобы. Иди нето.
— Не о том ты. Что хочешь в подарок, Нельга?
Не понял Некрас, чем задел ее, голосом ли, взглядом ли, но только она задумалась, а потом и ответила:
— А вот… если попрошу корешок один иноземный?
— Все, что захочешь, медовая, — и дышать перестал, рад был, что говорит с ним.
— Инбирь* сушеный. Мне и нужен-то мешочек малый. Горсточку. Я бы тебе заплатила, — дернулась, за пояс полезла, а деньги-то и не нашла. — Не взяла с собой серебрянок. Кто же знал, что купца встречу? Некрас, так поверишь? Я заплачу! Слово Лу…
Испугалась, застыла, но продолжила:
— Слово Сокур.
— Поцелуй. И все на том. Привезу, медовая, не сомневайся. Ты меня жди, — с печалью смотрел на руку ее, что она убрала с его груди. — Провожать-то придешь?
— Нет. И не надо о том, Некрас. Невесту свою береги, не меня. Иди, — больше слов никаких не обронила, развернулась и пошла по проулку.
— И чего ты упёрлась? Все равно по-моему будет! — Некрас кричал ей вслед. — Две седмицы жди!
— Не буду ждать. Не тебя люблю, — слова сказала те, что Некраса больно задели, но не разозлили.
Нельга ушла, унесла с собой отраду, оставила взамен тишину проулка и далекий заливистый собачий лай.
От автора:
Инбирь — имбирь. Специя в сушеном виде уже появилась на Руси.
Глава 16
Нельга шла по темной улице: ступала ровно, голову несла высоко. Все думала о Некрасе, о словах его. Да не тех, что о любви, не о тех, что заботой дышали о ней, безродной. А о том, что красивой ее видит.
— Глаза самоцветами? И откуль слова-то такие? Вот брехун, — бормотала себе под нос, а улыбка на губах играла-сияла.
Ступила на порог домка, скинула охабень и направилась в гридницу. Там темно, тихо. Новица, скинув поневу, сидела в одной рубахе на лавке, чесала гребнем волосы.
Нельга огляделась, посмотрела на стол, на лавки, на то, что привычно было взгляду, и затосковала. Будто праздник кончился, радость ушла, и настали снова серые долгие дни: беспросветные, безнадежные. Там-то под кленом, когда слушала сладкие слова Квита — волновалась и тревожилась. В проулке-то жизнь была, а тут слякоть и муть.
Вздохнула тяжко, уселась на лавку и потянулась снять запону. Следом сапожки скинула, провела рукой по гладкой ноге, приподняла рубаху, уставилась на белую кожу.
— Новица, скажи, я красивая?
— Ты-то? — вдовица гребень отложила, улеглась на лавке и шкуру на себя накинула. — Есть и краше тебя, есть и дурнее. Ты с чего спрашиваешь, Нелюшка? Обидел кто словом?
— Что ж сразу обидел? Может, порадовал? — и понимала Нельга, что зря обиду кинула, но как сдержать в себе девичье?
— Тихомир? Ну, так оно и есть. Любит тебя, а стало быть, ты для него самая красивая. Спи уж.
Новица еще повозилась малое время, да и засопела сладко, а Нельга все сидела, все думала. Ведь ни разу не сказал ей Тиша того, что говорил Некрас. Ни единым словом не помянул красоту ее девичью, не приветил ярким взглядом. А еще припомнила его дрожь после поцелуев и неприятный страх в красивых голубых глазах.
Рассердилась на злые мысли свои, на темные думки о Тишеньке и снова помянула болтливого Квита:
— Речи сладкие, глаза бедовые. Ходок! При невесте, а другую милует, другой о сердечном поёт. Провались ты!
С тем и улеглась, и уснула.
Утром солнечным, отрадным поднялась Нельга с лавки, потянулась сладко и загляделась на косые лучи солнечные, что пятнали узорами бревенчатые стены гридницы. Босая, простоволосая бросилась в сени, ухватила ковшик и зачерпнула прозрачной воды из кадки. Поднесла ее, студёную, к губам, да и выронила ковш, расплескала воду по полу.
Не успела опечалиться, как на пороге появился Тишенька. Глянул ласково так, улыбнулся светло и ткнул больно в Огневицу, что висела на груди Нельги.
— Тиша, Тишенька…. Что это?! — взвилась Нельга.
Огневица вспыхнула ярко, загорелась споро да скоро, полыхнула страшным жаром и осыпалась горячими искрами!
— Лада Пресветлая, Праматерь, помоги! — со стоном проснулась, уже понимая, что сон скверный.
Вода на полу, да огонь — то к слезам, к бедам сердечным и глубоким.
— Нелюшка, что ты? — Новица уж хлопотала, на стол ставила миски с кашей, масла лила. — Иди умойся, сон и стечет с водой, в землю уйдет. Вон, принесла холопка ключевой Старовешенской.
Нельга улыбку-то выдавила, не стала печалить Новицу — и без того несладко приходится ей. Встала да пошла. Вода-то в кадке холодная, стылая. Сняла сон, стряхнула морок, что родился не в яви.
Вспомнила Некраса, слова его, что кинул ей вечор, и улыбнулась. Глянула в кадушку, поймав воде отражение свое рябливое — и так лицо повернула и эдак. Подумала, что не соврал купец молодой, и правда, глаза сияют, губы румянятся, а щечки радуют белизной.
Кашу ели — не молчали. Новица твердила о скорой мести, Нельга болтала о нарядах новых, мол, чего лежат в коробейке, а? С того обе бросили ложки и занялись одёжками.
— И то верно, чего им лежать? Давай-ка, надень запонку-то. Зря что ль Званка старалась, подол вышивала? И рубаху бери новую. Я тебе очелье сметала. Глянь, руны обережные. Любо ли?
Новица опустилась на колени у сундука-коробейки, вытянула наряды новые, положила на лавку очелье, мол, бери Нельга, носи. Когда ж еще доведется?
Нельгу и тряхнуло… Ведь не просто так взялась Новица радовать ее, знала поди, что недолго землю топтать бездумно да безбоязно. Близок Военег, как никогда!
Косу метала ей Новица: нагладко, накрепко. Кольца вплела, увесила кистями серебряными. Очелье накинула, стянула на гладком лбу. Навеси звонкие приладила, чтобы качались, позвякивали, отгоняли хвори и иное какое лихо. Рубаха белая села мягонько, запона — ладненько.
— Ох, ты ж… — Новица ладошки к груди прижала. — Хороша! Вот она, последняя из Лутаков! Их кость, их кровь. Вытравливай хучь тьму лет, а все одно в тебе сидит, никуда не девается. Стать особая, спина прямая. Родовитая ты, Медвяна, издалече видать.
— Будет тебе, — увещевала, но радовалась таким-то словам. — И чего ты тут соловьем заливаешься? Веечка, ты бы тише была. Услышат нето.
— Кто? Холопов утресь Богша на заимку погнал. Туточки и нет никого. Вот разве что Плава. Так она на заднем дворе, скотину гоняет.
— Новица, и вот куда я в этом пойду-то? — оглядела себя, нарядную. — Мне еще с Богшей трав надо натереть. Пылью покроюсь.
— Иди вон до Новиков. Нынче жениха провожают до Нового Града. Родня ведь, хучь и вранье. Уважь, — Новица кивала, а сама уже и в спину толкала.
— Чего я там забыла-то?
— Иди, сказала. Иди! Продышись. Всё в сеннике болтаешься, пыль травяную собираешь.
И Нельга пошла… Пока по дороге вышагивала — нарядная, красивая — все думала, точно ли из-за совета Новицы шла? Ее ли слушало сердечко? Сама от себя скрывала, что красоваться хотела перед купцом молодым. Мол, и я не хуже красавицы Рознеговны, и слова твои верные — хороша.
У Суропинского домка наткнулась на Тишу и зарумянилась. Рада была любого встретить, но более всего отрадно то, что себя оправдала вот сей момент. Наряжалась ради Тихомира! Ему и послала улыбку яркую, светлую.
— Нельга? Ты как здесь? — подошел, за руку взял и сжал тихонько пальцы. — Я ныне уж на Свирку слетал. Батя говорит, надоть в верховья идти на лов. По всему видать дожди скоро зарядят. Рыба-то вглубь уходит. Идем нето, прогуляемся перед разлукой.
— Надолго ли, Тиша? — встрепенулась, брови вскинула печально.
— Седмицу, не менее. Батя говорит вода спокойная. Ты чего? Никак запечалилась? Вернусь я, куда денусь? — и повел девушку по дороге.
Сами не заметили, как вышли к подворью Новиков, а там проводы. Снова родня толпилась, снова Квит стоял у ворот, прощался с невестой и родом.
Нельга сама и не заметила, как сжала руку Тиши сильнее. Подобралась, выпрямилась и смотрела в спину Квита. Тот говорил что-то Рознегу, улыбался. Рядом Цветава стояла — сверкала глазами синими, изгибала брови, и даже теперь гордилась богатым и статным женихом.
— Охабень-то снова при Некрасе. Когда забрал? — тихий голос Тихомира Нельгу встряхнул.
— Так это… Утресь Новица снесла к нему, — сказала и зарумянилась, ведь врала любому впервой.
— Добро. Не нравится мне Квит, уж дюже наглый, нахрапистый. Все зубы скалит, прибаутничает. А сам-то ярый, спесивый. И как токмо он тебе охабень свой отжажел?
Нельга слова Тишины поймала, да и обиделась и поняла — так тоже впервой. Ранее-то не лгала любому, обидок на него не таила. Может с того и слетели слова с языка:
— А что ж я не человек? Не девица? — взвила гордыню свою еще сильнее. — Может, приглянулась ему. Чай не мухрая* какая.
— Ему? — Тихомир хохотнул тихо, слабо. — У него вон какая жар-птица под боком. Первая девка на Лугани. А там, кто ж знает, может и в Новом Граде.
Нельгу окатило холодом. Вот оно как? Вмиг померкло все: и день блесткий, и радость от наряда нового. Навеси звенели вовсе не капелью весенней, а насмешливой докукой.
Не снесла последняя из Лутаков такой-то обиды: выпрямилась, голову вскинула гордо. Ни одного слова не молвила Тихомиру. Взыграло, укусило то, что Тиша мало ценит ее, да еще и говорит о том безо всякой утайки. Озлилась, и подумала — уж лучше бы молчал, как всегда. Руку свою из его руки выдернула.
Тем временем Квит вышел за ворота и остановился аккурат напротив Нельги с Тихомиром. За ним вышла Рознеговна, а уж после повалили сродники те, кто помоложе и полюбопытнее. Видно собрались проводить Квита до насады, поглядеть вслед и посвистать богам на тихую воду.
Нельга глянула на Тишу, а тот рассматривал Цветаву, Квита — всех, только не ее, нарядную. Цветава добавила маслица в огонёчек — кинула взгляд победный на мышку-тихоню, мол, глянь, как прощается со мной жених.
С того глаза Нельгины сверкнули опасно, кровь гордая, лутаковская обожгла вены, побежала ходко и бросилась в голову. Думку породила, да и явила свету.
Еще и не разумев, что творит, Нельга перекинула богатую косу свою на грудь, пальцами начала перебирать светлый пушистый ее конец. Голову набок склонила так, как делала это Званка, когда заманивала парней и уперлась взглядом в Некраса.
Тот, будто почуяв, повернулся и прилип-прикипел. Нельга глаз не отводила, дивилась яркому приметливому взору молодого купца. Ведь ничего не пропустил, ни единой складки на ее новой запоне. Нельга дышать-то позабыла — взгляд темный воздуха лишил. Некрас смотрел зорко: очелье заметил, поглядел на губы румяные, увидел косу, и честное слово, даже сапожками Нельги полюбовался. И только потом снова глянул в глаза растерянной девушке.
Что там было, что бушевало в глазах Квита — Нельга не поняла. Почуяла только что обдало жаркой стыдливой волной. Краем глаза приметила, как Тихомир, опустив голову, смотрел себе под ноги, будто пыль дорожная ему милее, чем иное что-то. Цветава вновь покрылась злым румянцем и чуть не взвизгнула:
— Некрас, когда тебя ждать к танку?!
Квит вздрогнул, поглядел на невесту и тихо молвил:
— Через две седмицы.
— Ждать стану, любый. Скучать буду, — голос ласковый, только ресницы дрожали обиженно.
Тут и родня повалила, окружила, загомонила на все лады. Некрас и пошел к реке, все оборачивался, все смотрел на Нельгу, а та, себя не понимая, глядела ему во след.
Жаль, не приметила, как зло смотрела на нее Рознеговна. В синих глазах едва ли не омуты бешеные. Если бы увидала Нельга, может и не стала бы глядеть вслед чужому жениху, может, встревожилась бы за себя и испугалась бы того, о чем упреждал взор ревнивицы.
Сон-то Нельгин сбылся, только седмицу спустя….
Дожди сыпали с неба почитай всю седмицу: редкие и частые, спорые и медленные. Заборы посерели, земля — тяжелая, влажная — стала осклизлой глиной. Стволы деревьев почернели, трава примялась, небо казалось низким и муторным. Птицы примолкли, люди попрятались, даже злые дворовые псы перестали лаять, словно напитались небесной влагой и отяжелели, живь свою утратили.
Мутная хмарь повисла над Луганью, прикрыла мглой серой свежую зелень, блеск Свирки, затмила солнце ясное. Только мощный Молог катил воды свои сильно и привольно. Сквозь дождливую тишину слышен был рокот глубокой реки.
Нельга, прикрывшись старым мятлем*, стояла у ворот и тоскливо смотрела на сизую морось. Прижалась к мокрому столбу, будто сил не было на ногах держаться. Уже который день сидела в дому, словно птичка в силке. Новица дурной погодой становилась говорливой. Все повторяла одни и те же слова, и все о том, о чем Нельга думала, но и боялась. О Военеге…
Сейчас, глядя в туман, понимала Нельга, как никогда — вот вся ее жизнь. Иной не будет, да и эта получается смурной и короткой. Что видела она, что поняла о бытие? Только лишь сиротство, злобу и мысли о мести.
— Все? Это все? — шептала тихо, обращаясь к серому небу. — Ничего более? Ни полюбиться, ни дитя родное, кровное к груди поднести?
Дождь припустил сильнее, запятнал каплями бледное лицо девушки, смешался с солью слез. Она бы так не тосковала, будь Тиша рядом, но не было его. Уже седмицу он пропадал на дальнем берегу — отцу помогал, рыбу добывал. Утешала себя тем, что скоро увидит красивого своего парня, но … Не утешила.
После проводов Квита смотреть стала на Тихомира иначе. Старалась, уговаривала себя — все блажь, пустое, оговорился Тишенька, не то молвил, и думал вовсе не так. Дорога она ему, дорога! Но себе же и не верила.
Дало сердечко червоточинку, прохудился мешочек любовный, посыпалась песком нежность и отрада, что переполняла раньше. Тиша…как же так?
Хотела взвыть, хотела крикнуть, высказать боль свою, но кому? Куда кричать, кого виноватить? Оттолкнулась плечом от столба, качнулась и пошла по дороге. Знала, куда ноги-то несут. Понимала, идти более некуда, только к ней, к Всеведе. Не пойдет — прыгнет в Молог и прекратит разом все свои мытарства, дурные мысли и тоску.
Шла, оскальзываясь на глине, едва не падая. Перед домом волхвы угодила в глубокую лужу, промочила сапожки, но даже не заметила. Ступила на порог, потом в сени. И все будто в тумане, будто не в яви.
— Вона как… — Всеведа стояла у двери гридницы, смотрела на Нельгу строго. — Почитай два года с половинкой ждала, когда явишься. Иди уж к огню, гордячка. Да мятль скинь инако половицу угваздаешь.
Нельга скинула мокрую одежку прямо на пол и пошла туда, куда Всеведа указала. Упала на лавку, да и застыла льдиной.
— К огню садись, — указала рукой на скрыню*. — Лихоманку-то поймаешь, мечись с тобой потом.
Нельга уселась на сундук, смотрела в очаг бездумно. Не поняла, как в руках оказался горшочек с теплым отваром.
— Ну, говори нето, — Всеведа устроилась на лавке рядом. — Ведь не просто так глину-то месила, ко мне брела.
Девушка глотнула питье, вдохнула запах и распознала травы.
— Березовые листья, кислица и сныть, — Нельга говорила тихо, но не настолько, чтобы волхва не расслышала.
— Травы знаешь? Ведаешь никак?
— Нет, премудрая, не ведаю. Токмо знаю. Матушка учила.
— Добро. Хорошее ученье, — поднялась, подошла ближе и провела ладонью по Нельгиным волосам. — Что ты, Нельга? Беда?
Услыхала девушка в голосе волхвы тепло, добро и расплакалась — горько, громко.
— Ну, порыдай, порыдай. Иной раз надо. Бабьему горю оно на пользу, многое слезами смывается. Мужикам того не дано, а жаль. Можа добрее были бы.
Рыдала Нельга недолго, но от души. Слез не жалела, засолонила весь отвар, которым волхва угощала. Через малое время, вздохнула и высказала:
— Скажи, премудрая, отчего тоска случается? Да такая, что хоть в омут прыгай.
— Да ведь у каждого свое. Кто-то через дурость жизни себя лишает, кто-то по любви, кто-то от обиды. Ты, вижу, не курица безмозглая, в любви безответной не утонула, от обиды тебя, гордую, не понесет в навь*. Так мыслю, что пути своего не видишь. Идешь по жизни ощупкой, вона как токмо что по глине плелась. Что, не знаешь, где светит тебе? К кому идти, к чему поспешать?
Нельга только сморгнула изумленно. И как это волхва с рысьими глазами все взяла, да и угадала?
— Ты, Нельга, таишь в себе много. Но выспрашивать не стану, не скажешь. Сама поведаешь, когда время-то придет. А совет мой такой — ищи в себе то, что греет или злит. Люди разные бывают, кому и злость подпоркой. Разумела?
— Разумела, Всеведа, — и правда, разумела.
— То-то же. Ты как пух с дерева, нигде не уцепилась, не прижилась. Чтоб знать, для чего и как жить, надоть корни пустить. А ты того места еще не сыскала. Вот и слушай себя. Найдешь, точно знаю. И вот еще что… в доме Новиков не угощайся. Все, что дают нюхай, вот как сей миг отвар мой разложила. А не поймешь что за угощение, макни Огневицу свою. На серебре темное останется. Поняла, о чем я? Цветава девка решительная.
— Так…это… — Нельга снова изумилась. — Откуль знаешь-то?
— Был тут один… — волхва улыбнулась ясно. — Иди уже, плаксивая. Недосуг мне. Надумаешь говорить — жду.
Нельга подскочила, метнулась к выходу, но вернулась. Поглядела на Всеведу, подумала и обняла.
— Эк вас разбирает-то, — улыбалась женщина. — Один в плат кутает, вторая обнимает. Иди, сказала! Кыш!
— Чем дарить тебя, премудрая?
— Ничем, дурёха. Уже согрела.
Нельга отмахнула низкий поклон и вышла в сени. Там вновь накинула мятль и ступила в сизую морось. Шла по дороге — думала. Новица при ней, Богша тоже. Они и были, и будут до того дня, когда придется ответ держать перед людьми за месть кровную. Тиша будто потонул в Свирке, виделся словно издалека, подернулся серой зыбью. Так что же? О чем думать?
Сама не заметила, как встала посреди дороги.
— Ну, чего раскрылетилась? Чай не в болоте застряла! Двинься хучь в сторону, княжна медовая, — бабка Шелепиха тащила кадушку, ругалась на Нельгу, что путь ей загородила.
Нельга пропустила сварливую, прислонилась к забору, а голове слово-то билось: «Медовая». Враз вспомнился Квит, руки его горячие и наглая белозубая улыбка. Окатило волнующим, но и злобным.
— Вот же… Ведь явится скоро с инбирем-то. Поцелуев станет просить под расчет, — Нельга бормотала себе под нос. — Докука! Ходок! Морда наглая!
И пошла уж бодрее, на глину и не смотрела, дождя не видела. Хмарь рассеялась, сверкнуло будто вдалеке просветом. А Нельге-то полегчало, токмо не поняла она с чего.
От автора:
Мухрая (мухрыга) — невзрачная, неряшливая. Синоним в современном языке — замухрышка.
Мятль (мятель) — разновидность плаща, сшитого из грубого сукна, кожи, иного плотного материала.
Скрыня — деревянный ларь (ящик) с крышкой.
Навь — то, что до жизни и после нее. Небытие.
Глава 17
— Местька, лезь давай. Рад тебе, шельма кудрявая! — Деян Квит прятался от докучливого дождя под кожаным мятлем. — Который день тут мокну один. Выпить не с кем, посмеяться не над кем. Иди, сказал! Куда побёг?
— Бать, а сынка родного приветить? — Некрас сбежал со сходней, обнял отца. — Застрял?
— Накрепко, сын. Посуху обозом пришли ходко, а в обрат дороги развело. Не колея — болото! — Деян обнял Некраса в ответ, стукнул по спине широкой ладонью. — Справно дошли? Баяли, что ушкуйники* по реке озоруют.
— Проскочили, бать. Выше по Мологу видали насаду разваленную и мертвяки по реке рассыпаны. Надоть посторожиться.
— Худо. Худо, Некраска. Ты давай, клювом-то не щелкай, поглядывай обратным ходом, — Деян брови насупил, но и быстро отошел, завидев кудрявого дружка сына. — Местька, а, Местька, идем за брагой. В Новом Граде чудо как хороша.
— Дядька Деян, так мороки еще. Вона, глянь сам — товар снести, счесть, покупцам распихать, деньгу забрать, — ныл Местята.
— Без тебя разберутся! — ухватил нескладного парня на шиворот и за собой поволок. — Чего пищишь, как девка нещупаная? Идем нето. Расскажешь, как ты у Ладимира-то ратничал.
— Тьфу! — Некрас вызверился. — Никого не позабыл, батюшка?
— А ты давай, шевелись. Товар скидывай. Наново грузить я уж нашел чем. Остановился я опричь торжища, там, где домок с белой тряпицей на коньке. Там нас ищи.
И ушли довольный Деян и поникший Местька, оставив Некраса у сходней под мелким дождем в большой и гомонящей толпе.
Делать нечего, пришлось заняться товаром. Часа два ватажники Квита таскали по сходням тюки, катали бочки, пока Некрас рядился с покупцам. Свезло! Молодой купец продал и рассчитался прямо у реки. Взял две мены до Журок и наварился небедно. Выдал ватажникам деньгу, оставил на насаде людей верных и пошел, меся богатыми сапогами грязь, до того домка с белой тряпицей на коньке.
Шел, думал в баньку угодить и сильно надеялся пошкрябать ковшиком по дну бочонка с бражкой, о которой так сладко пел батька.
Далеко-то не ушел… На повороте к большому Новоградскому торжищу приметил под забором семейство. И, вроде, ничего такого — кто по миру-то пошел, всех заносило в Новый Град. Нищих, болезных, обиженных богами в большом городище и не счесть — тьма и еще десятков десять. А тут…
На земле, прямо в глине мокрой сидела молодая баба, прижимала к груди младенчика. Тот орал, видать с голодухи надсаживался. А рядом устроилась девчушка-соплюшка. Вот на нее-то Некрас и уставился, словно чудо узрел. Сама тощенькая, ручки веточками, волосенки по плечам мокрые — цвета молодого медка — глаза зеленые… Некраса тряхнуло, Нельгу вспомнил…
Рядом с девчулькой стоял мужик, прислонился спиной к забору, голову поднял, глаза прикрыл, и лицо под дождь подставил. Борода клочковатая, нечесаная. Хлебнул, видать, горюшка.
Некрас, глядя на девчонку, качнулся к мужику, подумать не успел, а уж заговорил:
— Давно мытаритесь?
Мужик вздрогнул, глянул светлыми глазами: опасливо, сторожко.
— С начала весны. Твоя-то какая печаль?
— Это у тебя печаль, не у меня. Не моя жёнка под забором сидит, глину задом греет. Откуль?
— С Подвешенок. Погорельцы.
— Это городище малое? На Свирке?
— Оно.
— Как звать? — Некрас спрашивал, а сам на девочку глядел, уж больно на Нельгу похожа.
— Радим Белых, — мужик подался к Некрасу, вроде просить хотел, но передумал.
— Что умеешь? Ремесло? Рать?
— Очаг сложить, сруб поставить. Белых-то многие знают, токмо по миру пошли. Все сгорело, все в дым ушло.
— А чего ж новый дом не срубил, ремесло, чай, знаешь.
После тех слов Радим лицом почернел, отвернулся.
— Что воротишься? Говори, как есть.
— Извергся я из рода.
— Через норов свой дурной? — Некрас хмыкнул. — Оно и видно.
— А хучь и так! Тебе-то что?
Некрас задумался, застыл. И надо бы мимо пройти — всех не накормишь, всем благо не купишь, не подаришь — но не смог. Девчушка — маленькая, бледная, жалкая — тряслась от дождя и холода, как заяц.
— Вот что, Радим, ступай на торг. Опричь кожевенных рядов домок увидишь, на воротах знак — колесо и в нем парус. Станешь на постой с семейством. Завтрева поутру найдешь меня у реки, где насады. Деньгу дам, а ты ко мне в закупы. Разочтемся нето. Дом я думаю новый ставить в Решетово. Это весь на Мологе две седмицы по реке отсель. Обманешь — боги помстят. Решишь наново человеком стать — помогу, но и с тебя спрошу работы.
Мужик обомлел, глазами захлопал, будто узрел чудище какое.
— И что…на слово поверишь?
— А что? Обманешь? — Некрас сверкнул темным взглядом, напугал мужика еще сильнее.
— С чего бы ты так?
— Да уж не с твоей красы-сияния. Дочку твою пожалел… — запнулся на миг Некрас, но продолжил. — На невесту мою похожа.
Радим молчал малое время, а потом молвил:
— Средь Белых отродясь вралей не было. Пойду в закупы, коль не обманываешь. Работать стану не за страх, за совесть, — выпрямился гордо.
— Вона как, — Некрас хохотнул. — Сам в грязище, а нос высоко задираешь. Ну, добро. Держи деньгу и иди семью греть-кормить.
Достал из-за пояса три серебрушки и положил в мозолистую грязную ладонь Радима. Тот в кулак деньгу зажал и высказал:
— Спаси тя. Токмо не привык я одалживаться, — с теми словами полез за худую подпояску и вынул обережек малый — Знич* — протянул Некрасу. — Накось. Не раз меня выручал. В огне не дал сгореть, да и на воде помог, вытащил из омута.
— Я не просил, Радим. Себе оставь, — Некрас смотрел на бедный оберег.
— Бери. Не привык подарки-то просто так получать, — брови сдвинул, насупился.
— Вон ты какой. Гордый? Ладноть, уступлю тебе, Радим, однова, — взял Знич и повесил на пояс. — Иди нето. Инако младенец твой криком изойдет.
И пошел не оглянувшись, услыхал только, как баба Радима охнула и зарыдала облегчённо.
До баньки, все же, добрался, а потом и браги хлебнул изрядно. Уже поутру, по мелкому дождичку пошел на торг искать инбирь сушеный. Нашел ведь! Да и не токмо его.
— Бать, разговор есть к тебе, — Некрас стоял рядом с отцом на вечевом поле Нового Града в толпе купеческой общины*.
— Вона как, нашел место. Ты не где-нибудь, на совете, — ворчал Деян, поглядывая на княжий стул пока пустой. — Сейчас осоветуемся, погужуемся, а уж опосля и побалакаем.
— А чем тебе не место? Ты стой, а меня слушай, — упирался Некрас.
— Отлезь, докука! Ить не на игрища пришли. Ладимир-то вече созвал, чтобы про Военега Рудного решать. Крутенёк стал, опасный. Свою дружину под стяг собрал и грабит под шумок. И пойди его поймай! Пожжет все к псам.
— Ладно, послухаем.
Через малое время князь вышел, опричь него общинники дружинные, а следом волхв Новоградский — Свебож. Ладимир сел на стул, руку поднял и вече примолкло. Шепотки слышались, но тихие, будто ветерок шуршал. Свебож — худой, высокий — встал у стула княжьего, оперся на посох и замер истуканом.
— Вече! Слушай! — громкий голос князя пролетел над головами, разнесся далёко. — Одна забота у нас ныне — Военег Рудный. Силу взял, дружину собрал немалую. Что скажешь, вече? Ратиться или уговариваться?!
Общины примолкли, задумались.
Первым слово молвил купец Шавлов:
— Прибить его, как пса, а над Рудными пущай брат его главой будет, — важно произнес, вдумчиво. — Радомил мужик справный, не дурной. Поди не хуже Военега род держать станет.
— Так он те и дался. Пойди, слови его. Стрелу промеж глаз поймаешь и всех дел, — ответствовал пузатый Хмыркин из кожевенных ремесленников.
— Сойтись в поле, да и выбить дурь. Свести его ватагу вчистую. Токмо ополченцев надоть поболе. У Военега ратников многонько, — а вот и Вяхирев из мукомолов голос подал.
— Прям набежало к тебе. Откуль деньгу брать на оружных? Ты об том раздумай, Вяхирка, — мосластый кузнец Снытин сказал внятно, громко, а община его поддержала гомоном и стуком сапог об склизлую от дождя землю.
— Деньга не беда, иное страшно. А ну как не сдюжим, а? Охота вам под Военега ложиться? — снова Хмыркин.
— А так и так лягешь, коли не остановишь. Супротив надоть идти! — повысил голос Вяхирев.
Некрас вертел головой в разные стороны, вертел, и довертелся. Увидал, как переглянулись Ладимир и Свебож, кивнули друг другу незаметно, но речей говорить не стали — слушали вече.
А вече-то загудело! Не орали, чай не простой люд, но гомонили знатно. И хоть не сошлись в том, как сковырнуть Военега — ратью или уговором — но согласны были в том, что главу рода Рудных надо бы сменить, инако опасно.
Малое время погудело вече, а уж потом встал князь.
— Ратников у нас в достатке, новоградцы. Токмо на чьей земле столкнемся, ась? На твоей что ли, Вяхирев? Ты ж кричишь — биться надоть. Вот и веди нас в свое Зубово. Что? Боязно?
— А я чего?! Чего сразу в Зубово-то? Иных мест нет?
— Вот то-то же… — Ладимир, задумался, а Свебож возьми, да и скажи.
— Военег ведет ватагу свою во Мхи. Награбил — не увезти. Стало быть, в скором времени поедет по своим. Как там его? Рознег Новик? Луганский? Туда надо ехать и рядить. Сечи избегать надобно, то воля светлых богов, — поднял посох свой и на небо указал.
И свершилось чудо! Вот только что дождь сеял мелкий, докучливый, затяжной, а тут появилась в серых тучах прореха и замерцала светом солнечным, словно указующий перст судьбяной.
Вече притихло. Узрели, уразумели и послушались. Еще побалакали о том, сколь дружинных брать в Лугань, да кого послать гонцом к Военегу. Решили, поклонились князю и потянулись по делам своим. И то верно — болтать-то недосуг! Торг ждать не станет: кузни охолонут, кожи перележат, мука последняя сама собой не наскребется.
— Ну, чего встал? Идем нето. Порешали вон, — Деян нахмурился. — Теперь Новикам достанется. Как бы Лугань не спалили. Надоть родню будущую упредить. Некрас! Ну чего встал-то?!
— Бать, упредить надо. Токмо не родственников, — Некрас остановился у забора большой богатой хоромины. — Цветаву за себя не возьму.
Деян помолчал, поглядел задумчиво на синее небо, на солнце, что проглянуло малое время назад, и уже успело опалить зноем сырую землю.
— Что так, сын? Ай, девка нехороша? Вроде не смурная, не болезная. Сундук-то у ней полон, чай, не безродная.
— Не моя, — и замолк Некрас, ожидая от отца злых речей, ругани, а может и зуботычин.
— Вона как… А какая твоя-то? — Деян хохотнул беззлобно, чем и удивил сына. — Не инако со звездой во лбу. Это же какой надо быть, чтобы Рознеговну обскакать, а, Некраска?
Некрас брови вознес изумленно, на отца смотрел, и глазам не верил — смеется, балагурит, а ругать не ругает.
— Чего уставился? Думал, батька не заметит, что Цветава тебе постыла? — Деян бровь изогнул глумливо, но тут же лицом стал серьезен. — Рознеговну позорить не дам. Сам буду говорить с Новиком. Пусть вено вертает, будто они отказывают, а не мы забираем. А ты, дурилка, стыд тот проглотишь, перетопчешься и возьмешь за себя свою.
— Отец… — Некрас от изумления едва не споткнулся. — Вот так запросто? Я-то ждал, что орать начнешь.
— А чего попусту на скотину безмозглую орать? Все равно ведь упрется, зенки выпучит и сделает так, как захочет. Ты решил уж все, так с чего я стану дитю единственному жизнь ломать? Не, я внуков хочу, да не каких-нибудь, а крепких, упрямых, горячих вот таких, как ты.
— Спаси тя… — вот и все, что молвил Некрас отцу.
— Обозом пойдет заместо меня Местята, а я с тобой на насаде. Дойдем до Лугани быстрее, — Деян скинул мятль. — Парит-то как, Некрас. Изжаримся. Ты вот, что скажи мне кто та девка-то?
Некрас только вздохнул, брови свел к переносью, запечалился.
— Че? Отлуп дала? Будя врать! Тебе?! — хохот старшего Квита полетел по широкой новоградской улице. — Вот молодец девка!
— Будя ржать! — Некрас насупился так, что смотреть стало страшно.
— Стыдобень! Квитам еще никто не отказывал.
Все то время, что сын и отец шли к насадам, Деян смеялся, подзуживал и добился таки от Некраса ответной улыбки. А уж после подбодрил и взял с него обещание, что обскажет в подробностях о той паве, что отворотила сынка от богатого приданого и красавицы-невесты.
От автора:
Ушкуйники — речные пираты. Это упрощенно. На самом деле история возникновения ушкуйников очень интересна, их выделили в особенный класс населения, но вне каких-либо общин, этакие вооруженные дружины под парусом — независимые и грозные.
Знич — оберег, одно из назначений — защита и помощь в сложных ситуациях, требующих мудрого решения, отваги.
Купеческая община — на Новгородское вече собирались уважаемые представители общин: торговых, военных, ремесленных и т. д. Вопреки расхожему мнению вече не было сборищем кричащего люда. Это был настоящий совет мудрых мужей (иногда и женщин). Упростила объяснение, дабы не утомлять Читателя.
Глава 18
Свирка поутру тиха, мила и покойна, будто спящая девушка или младенец рядом с матерью. Нежные, светлые воды катятся неспешно, манят прохладой и свежестью, блазнятся защитой от жаркого солнца.
По неспешному течению, вниз по реке идут себе спокойно лодки-однодеревки. Крепкие руки рыбаков тянут сети, гнутся привычно спины, одолевая работу, вынимая улов.
— Тишка, опять заснул? — голос отца выдернул Тихомира из полусна-полуяви. — Шевелись, инако на торг не поспеем. Пахать через две седмицы, стало быть надоть рыбы поболе собрать. Да очнись ты, снулый!
— Слышу, бать, не глухой, — с тяжким вздохом принялся Тиша помогать отцу, все надеялся, что тот помолчит и даст покоя.
Но не тут-то было…
— Деньги нет совсем. Рыба уходит. На днях веди в дом Нельгу Сокур. Без ее бортей по миру пойдем. Что лупишься? Вено за нее давать некому, чай не ближняя родня Новикам. Да не жалей девку! Приведешь, пущай работает. Видал я руки-то ее, уж дюже белые. Работой не плющила видать. Задарма кормить ее не стану.
— Приведу.
Тихомир давно уж ждал от отца таких слов, вот и дождался. Стало быть, придется держать разговор с Нельгой. Про себя Голода думал о том, что пора бы извергнуться из рода, скинуть с плеч лишнюю докуку, поселиться у Нельги, а уж потом и вовсе перебраться из шумной Лугани в малую весь и там уж домок ставить. Чай борти кормят везде, да и рек рыбных в округе немало.
Более не сказали сын с отцом не слова, занялись работой, а уж по полудню, когда солнце палило вовсю, вернулись в Лугань. Пока братья и дядьки Голодавые таскали рыбу, Тихомир искупался в прохладной воде, провел пятерней по пышным светлым волосам и направился к Нельге.
Увидал ее через воротца — девушка шла из своего домка к сеннику, несла в руках большой мешок — по всему видать не тяжелый.
— Тиша? — улыбнулась светло, похорошела вмиг. — Ты как тут? Случилось чего?
Тихомир не ответил, подошел ближе, забрал мешок из рук Нельги и потянул к сеннику, что стоял в дальнем углу подворья. Втолкнул девушку в темное его нутро, притворил дверь.
Трав-то в сеннике полным полно. Аромат дурманный, такой, что словами не передать: свежий, сладкий, горький и все сразу.
— Тиша… — она и договорить-то не успела.
Тихомир кинул мешок в угол, потянулся, обнял тонкий стан и к себе прижал. Думать о плотском себе запретил, зная уж, что вольные мыслишки ему не в помощь, а во зло.
— Скучала? — прошелся большой ладонью по груди высокой, смял рубашку в горсть, уцепил мягкую девичью плоть. — Как вернулись с верховьев, так ты и двух слов мне не молвила. Ай, разлюбила?
Ткнулся губами в ее губы, поцеловал.
— Ты что, Тишенька? — голос ее дрогнул, но Тихомир и думать не стал о том.
Цветочный запах Нельги ударил в голову хмельным чем-то, раззадорил. С того и принялся целовать еще крепче, но приметил, что Нельга не шелохнулась, не ответила.
— Не рада? Что так, Нелюшка? — руки от нее убрал, отступил на шаг малый. — Моей будь. Хучь завтра ко мне перебирайся, а потом и обряд справим. Вено-то за тебя давать некому.
— Тиша, ответь, люба я тебе? Почему обряда просишь? — Нельга не двигалась, строго смотрела в глаза Тихомира и тем удивляла.
— Говорил уж, Нелюшка. Люба. Инако и не просил бы моей стать. С чего речи такие? — сердиться начал, но виду не подавал.
— Давеча говорил, что Цветава жар-птица, не я вовсе. Нужна я тебе? Дорога ли? — Нельга ждала ответа, а Тиша взъярился.
— Нельга, сама не видишь? Стал бы я тебя за себя брать, если бы не дорога была? Зачем мне жар-птица? В небеса лететь? Ты мне нужна, тут в яви, на земле, — голос повысил, брови насупил. — Ты скажи, пойдешь, нет ли? Батька ответа ждет.
— Батька? А ты? Ты-то, Тиша? — Нельгины глаза сделались темными, опасными, такими, которых Тихомир никогда и не видел у неё.
— А я что? Я тоже жду. Работы невпроворот, поспешать надоть до пахоты. Вторым днем собирайся, все бабы Голодавые идут сети тянуть. Вот и ты с ними. А обряд уж как-нибудь. Не до того сейчас, Нельга.
После этих слов сделалось с тихой девушкой и вовсе несусветное! Выпрямилась, голову высоко вознесла, брови вскинула и руки сложила на груди. Тише поблазнилось, что перед ним вовсе не безродная Сокур, а ни много, ни мало княжна Новоградская.
— Вон оно как? — голосом Нельга тоже изменилась. — Стало быть, руки рабочие надобны? Ты мне обскажи, Тихомир, борти-то мои никак Голодавым отойдут?
— Так все по уряду, Нельга. Ай, нет? Жена к мужу добро свое перевозит, — Тихомир аж залюбовался девкой — до того хороша стала, до того горда и вольна, что не передать.
Шевельнулось в парне плотское, обдало горячим. Смотрел, и не узнавал тихую Нельгу, желал ее сейчас так, как никогда. Уд в портах высоко взметнулся, руки сами собой в кулаки сжались, будто упреждали хозяина: «Держись, терпи, скоро возьмем ее».
— По уряду? А где ж вено мое? — наступала, сверкала взглядом, волновала гордой статью. — Коли батька твой ответа ждет, то и я жду вена за себя. Вон хучь Богше снеси, уж давно родня мне, пусть и не по крови. А я еще и подумаю, надо ли мне за рыбака-то простого идти. Спину гнуть послушно и руки работой маять.
— Эва как… Говорила, что люб я тебе, а принялась серебрушки считать? — сделал шаг к ней, кулаки еще сильнее сжал.
Она взгляда не отвела, еще выше голову вскинула, да так, что звякнули серебряные тонкие навеси на висках.
— Люб, того не скрывала. Одного токмо не знала, что я батьке твоему нужна, а не тебе, — голосом дрогнула, но слезы не уронила. — Я бы тебе все отдала, Тиша. Все, что имею и себя до горки, а вон поди ж ты… батьке твоему я милее, чем тебе. Все бы с тобой пережила, слышишь?! Хучь голод, хучть немочь! Если бы знала, что любишь!
— Нельга… — выдохнул Тихомир изумленно. — Вон ты какая….
— Что? Такой не нравлюсь? Тихая нужна? Ты взглядом-то меня не сжигай. Поздно уж. Раньше надо было так-то смотреть, Тишенька. И про вено забудь, мне не надобно. Твоей не стану, Тихомир. И не потому, что обида меня точит, а по иному горю. Возьмешь меня хозяйкой в дом, пожалеешь. То к беде. Любила я тебя, и сейчас люблю, а с того и не хочу явь твою печальной делать. Уходи.
А и ушел бы, но не смог. Думки-то разные в голове крутились. Не такую жену искал Тихомир. Не с норовом, не крепкую, не гордую. С такой, пожалуй, не сладить. Характер-то ее борзый всё и вся перепрёт, не будет в доме порядка и покоя, одни токмо крики, да ссоры. Но задела она, зацепила сильно. Завлекла волей своей, гордым взглядом и красотой, которую не примечал в ней.
Мужицкое и пересилило! Кровь в голову кинулась, мыслей лишила всяких, кроме одной — своей сделать, вот сей миг. Увидеть, как подчиняется ему — Тихомиру — как послушно отдает себя вот прямо тут, на прошлогоднем сене. А что ж не взять? Сама же сказала, что и посейчас любит….
Сделал к ней шаг широкий, сжал крепко тонкий девичий стан, вздрогнул счастливо, но сдержался и не отдал семя скоро. Обхватил Нельгу крепче, вздернул подол запоны, просунул руку мозолистую меж гладких бедер, коснулся в грубой ласке сокровенного, смял пальцами крепкими нежные складки. Влаги ее не почуял, отклика не заметил, но не о том думал сейчас, не о том пёкся.
— Тихомир, нет… — она сжалась, руку его от себя отталкивала. — Что творишь? Не слыхал меня?
— Тихо, Нельга. Молчи…молчи…. Больно не сделаю… — дышал тяжко, грудь ходила, как мех кузнечный.
— Тиша, нет! Пусти!
И слушать не стал, толкнул ее на сено, навалился поверх, развел широко белые колени. Дернул ворот рубахи, развалил надвое ткань тонкую. Принялся целовать высокую белую грудь. Да не ласкал! Клевал жадно, словно птица хищная добычу. Нельга извивалась, кусалась, а уж спустя миг закричала громко. Тихомир не медля, накинул руку на ее лицо, удержал крик, скрыл нелепие, что творил сейчас. Тряскими руками рассупонил порты, стянул и не успел…
Откуль взялась палка та сучковатая, он и не уразумел. Одно почуял — как больно ударила она по макушке, царапнула по лицу. С того Тиша весь пыл свой любовный и утратил вмиг. Скатился с Нельги и упал на спину в темное старое сено. Дышал тяжело, рукой осторожно трогал зашибленную голову.
— Ты что? — воззрился удивленно на девушку.
А та вскочила на ноги, палку откинула, свела края порванной одежки и смотрела так, словно белый свет померк, мир рухнул в один миг.
— Тиша…за что ж ты… — не сдержалась, заплакала. — Силой-то зачем? Я же тебя …
Не договорила, слезы утирать не стала, но снова голову вскинула гордо.
— Холопов кликать не стану, себя позорить не дам. Уходи тихо и не возвращайся, Тихомир. Тут наши с тобой дорожки расходятся, — с тем повернулась и пошла, а на пороге остановилась, обернулась и глянула яркими глазами. — Скажи, ты хоть миг малый любил меня? Хоть сколько-нибудь?
Лежал Тихомир на сене, смотрел на гордую и разумел — скажи он сейчас о любви, соври, она поверит. Токмо понял, что не за чем. Женой не станет, в род подмогой не войдет. И на что ему та докука, а? С того и молвил:
— Нельга, какая любовь? Все вы девки одинаковы, всем надо слов отрадных. Ты меня обманом при себе держала, тихоней прикидывалась. Вот и получай нето. Сиди одна, как сычиха на болоте. Кому ты сдалась, перестарка* бледная?
Потом смотрел, как за Нельгой закрылась дверь сенника. Порты натянул, уставился в потолок деревянный и понял — что-то ушло из жизни. А что?
От автора:
Перестарка — взрослая незамужняя девушка. Нельге уже 18, по тем временам возраст зрелый, но еще небезнадежный)))
Глава 19
— Званка, Званочка… — с порога кинулась на грудь подруге, слезами умылась. — За что?
— Щур нас! Нелюшка, что стряслось? — Званка обняла подружку, все пыталась в глаза ей заглянуть, а та не давалась. — Уймись! Слово-то молви, плаксивая! Кто обидел?
— Тихоми-и-и-р…. — и снова в слезы: горькие, крупные.
— Да ну! Силой взял? — Званка брови изогнула печально. — Не реви! Мы его сим днем к ответу! Пущай в дом к себе берет! Вот ведь обсосок неумытый!
— Не-е-е-т…
— Что нет? Да сколь еще ты ему в рот-то глядеть будешь? Бегаешь за ним, как собачонка! Я такой визг подниму, что псом болезным приползет, виниться станет! Голодавых ославлю на всю Лугань! Это же надо, сироту ссильничал! — Званка ругалась, ярилась.
Голос ее метался по овину, где и нашла ее Нельга за работой.
— Не ссильничал…не успел, — всхлипнула горько и опять в слезы. — В дом к себе звал, вместе жить.
— Вона как… — Званка задумалась, а потом и потянула Нельгу в дальний угол, где лежали большущие связки с трёпаным льном. — Сядь, да обскажи все. Через крик твой дурной ничего не разумела.
Нельга утерла слезы рукавом рубахи и поведала Званке все, ничего не утаила, не приукрасила.
— И всего-то? Тю-ю-ю, дурка, — и хохочет, заливается. — Радуйся, что к Голодавым в дом не попала. Ить там бабы в год стареют, живут недолго. Пупки надрывают работой. Давно уж хотела тебя остеречь, да тебе любовь глаза-то застила. Ты меня за такие-то слова поди и удавила бы.
— Званочка, ведь люблю я его, люблю! А он меня так… И перестаркой, и бледной… — слезы сдержала, но голос все одно дрожал. — Не любил, и не любит.
— Вот смотрю я на тебя, и диву даюсь, — Званка откинулась на связку мягкую, руки за голову заложила. — Вроде не шальная ты, с разумом, а того не ведаешь, что парнячья любовь у нас промеж ног схоронена. Ты чего ждала-то, курёха?
— Как чего? — Нельга ресницами захлопала. — Отрады, заботы….
— Редкий мужик так-то голубит. А у Голодавых таких отродясь и не было. Род такой, Нелюшка. Парни рождаются пригожие, находят вот таких дурёх, как ты и в дом приводят. Те дурки все и отдают. Деньгу, любовь, молодость. А в ответ токмо работы прилетает поболе. Радуйся, что спихнула ты с себя такую-то долю. Тиша пригожий, кто б спорил, я и сама на него заглядывалась. Но свезло тебе, что не хитёр. Все выболтал, дубина. Ты слезы-то утри, да пойдем кваску хлебнем.
— Званочка, а что ж больно так? — Нельга вздохнула тяжело, плаксиво.
— Больно, это когда мордой об забор. А это не боль, Нелюшка, это дурость твоя. Уж сколь раз говорила тебе, живи и радуйся. Обидел тебя? Плюнь и иди искать иного счастья. Кому ты хорошо сделаешь, коли рыдать тут будешь? — Званка потянулась, выгнулась, и улыбнулась сладко. — Идем нето, квасу тяпнем. Третьим днем танок будет в роще-то. Поведет Цветава, не инако. Ее ж обряд скоро. А там еще у Зимки Суропиных. Эх, поскачу по рощице, пощупаю парней пригожих!
— Званка, вот как ты так живешь? Вовек тебя не пойму, — Нельга подруге вняла, рыдать перестала, и уж о квасе вкусном задумалась.
— Как живу? Всяко лучше, чем ты. Не влюбляюсь в дурачков-то, — засмеялась, поднялась и опять потянулась, напомнила Нельге кошку, что жила у ней в дому: мягкую, округлую, с бедовыми глазами. — Ты вот что, приходи ввечеру нарядов искать к танку. И по роще-то не мечись, пусть тебя споймает парень пригожий, поцелует крепко. А я уж, так и быть, поклонюсь Ладе светлой, чтобы попался не такой скорый, как Тишка твой.
И наново смеялась Званка, а за ней и Нельга. И вот пойди и пойми, с чего это радость явилась?
Квасу они все же выпили, а потом разошлись по домам.
День Нельги тянулся муторно, долго. Одолевали мысли о Тихомире, точили обидой сердечко, а более всего печалило то, что все еще думалось о красивом парне. А как инако? Любовь-то одним махом с сердца не сковырнешь, из мыслей не выкинешь. Живет там надежда последняя — а ну как вернется любый, повинится, и скажет, что милее и дороже тебя на свете этом нет?
Вечером, когда солнце заклонилось за Молог, Нельга умылась, повечеряла с Новицей и отправилась к Званке. Шла опичь крайних к Свирке домков, все смотрела на блескучую воду. Шла, шла, да и остановилась, поняв сей миг, как тяжко смотреть на красоту яви и нести в себе горе, злобу и любовь безответную. Упала на колени посреди малой березовой рощицы и зашлась слезами.
— Макошь, светлая, помоги. Избавь от маяты, дай вздохнуть. Вразуми, за что, за какие мои дела не любит меня явь, казнит тяжко? Лада, матушка, что ж такого сотворила я, чтобы любый мой от меня отворотился? Почто не одарила меня красой? Род, батюшка, зачем осиротил так рано? Зачем не уберег отца и мать? Куда голову склонить, кому плакаться на житье свое горькое? — заскулила жалко, тихо, будто щеня слепой и руками лицо закрыла. — Подайте знак, не оставьте в беде…
Договори, доплакать не успела, как услыхала вдалеке звонкий бабий голос:
— Некрас! Некраска, куда побёг? Батька не велел к Свирке ходить!
Нельга руки от лица отняла, носом шмыгнула, что девчонка плаксивая. Вспомнила о Некрасе Квите…
— Вот же еще прицепился! Да что ж за наказание? — поднялась, подол отряхнула и пошла потихоньку.
Дорогой все думала о купце молодом, о инбире, и расплате, что потребует за него Квит. Сама не заметила, как зарумянилась, как мысли тоску утратили и взволновали приятно. Припомнила Нельга, как целовал Некрас в новом-то срубе, как ласкал и как пожалел. А Тихомир, вишь, не сжалился… И если б не та палка, что попалась под руку, быть бы Нельге уж не девкой, а бабой бесчестной.
У подворья Красных увидала Нельга подругу свою. Вдовица стояла у заборца невысокого, о чем-то говорила с пригожим мужиком: в нем Нельга признала Осьму из Чихиных. Мужик что-то ласково шептал симпатичной Зване, а она улыбалась ему заманчиво, и по всему было видно, что разговор у них дюже занимательный. Большого-то ума не надо, что бы понять — о встрече уговариваются.
Званка кивнула, бровями шевельнула, мол, иди отсель, Осьма, потом договорим, да и двинулась к домку. А шла-то как! Тело упругое, налитое несла ровно, будто и не шла вовсе, а плыла. Нельга залюбовалась, и позавидовала впервой подруге-то. Живет так, как хочется, ни на кого не оглядывается, только себе радости ищет.
С того Нельга рассердилась на себя и свою вечную плаксивость, да и решила хоть раз в жизни ни о чем не думать, а просто порадовать себя. Снова в мысли вскочил Некрас, а вслед за тем и подумалось:
— Поцелую его, вот возьму и поцелую так, что искры из глаз посыпят! Лада, матушка, об одном прошу, сделай так, чтоб Тихомир все увидел, да и понял, что не сильно-то я по нему убиваюсь. Я — Лутак! И гордость свою ронять не стану ни перед кем!
И порешила для себя искать радости малой, вот прямо как Званка. Уже ровным шагом прошла до крыльца Красных, умылась водой из кадушки и в дом. А там смех, веселье!
Красные — род отрадный, не злобливый: девки крепкие, задорные. И набилось их в малую гридницу Званкину, как горошин в стручок. Нельга, увидев такую-то ватагу, заулыбалась, а уж потом и вовсе развеселилась. Наряды выбирали с шутками-прибаутками. И то верно! Чего горевать?
Следующим днем Богша повез Нельгу на заимку, а там за делами, заботами и не осталось времени, чтобы о печальном думать. Пахать в скором времени — тут не до грусти и слёз. Не будет нови* — не будет яви.
Третьим днем вернулись в Лугань на краткий роздых перед страдой. Обряд вершить, веселиться крайний раз перед тяжкой работой.
Званка по уговору прибежала в Нельгин дом — нарядная, счастливая — схватила подругу за руку и повела в светлую рощицу на берегу отрадной, светлой Свирки, где уж собрались луганские. Ждали танка, веселья и жарких поцелуев, что случались вот в такие вот праздники, светлые ночи.
В толпе нарядных парней и девчаток увидела Нельга Тихомира. Сердечко забилось быстро, но не с радости, с обиды. Девушка все смотрела на красивого парня, все ждала от него взгляда, а тот снуло смотрел себе под ноги, головы не поднимал. Вся Нельгина радость сгинула, растаяла, словно снег по весне и оставила по себе горький вкус неспелой рябины.
Танок не начинали, ждали Всеведу, а она не торопилась отчего-то… Шепотки поползли по толпе, но веселья не убавили. Радость-то во всем можно сыскать, даже в ожидании. Поглядеть на светлую речку, на солнышко вечернее, на листву кружевную, зеленую, на людей красивых и довольных.
— Вот такое мое слово, Рознег. — Деян прихлопнул ладонью по столу. — Ты не виновать Некраса, он девки не спортил. Позор на себя берет, сам сказал. А чтобы Цветава уж дюже сильно не серчала, ты с вена возьми ей два золотых. Будет девке радость и приданое.
— Деян, что родней нам не быть, то я уразумел. Одного не пойму, чем дочка-то моя не угодила? Чай не мухрая! С чего отлуп даете, а? — Рознег хмурился, ярился.
— Сын так порешил, а я согласился. Все на том, Рознег. С домка твоего мы выселимся сей день, а торговать в Лугани будем, как и везде. По чешуйке с деньги. Токмо и ты уж плати полную цену, Новик, за то, что товар твой насадой возим, — и хитро так прищурился старший Квит.
— Погоди, Деянка. Вот ты шельма! Ить пошел торг-то, чего ж на корню рубить? Ну, не снюхались дети наши, а мы-то с тобой, чай, не расплевались, — Рознег тревожился, говорил быстро, слова сыпал часто.
— Откуль мне знать? Ты вон брови насупил, аж смотреть боязно. Коли хочешь дела вести, как раньше, так я не противлюсь. Деньга-то сама не прилипнет. Так что, Рознег? С домка-то съезжать? — Квит улыбался уже, ус подкручивал.
— Сиди уж, хваткий. С вена два золотых за Цветаву мне пойдут, остальное верну токмо опосля пахоты. Перетопчись малое время, а я к тому дню Цветаву отправлю к родне дальней. Незачем ей тут сплетни на себя навешивать, — Новик подался к Квиту, подмигнул.
Купец купца завсегда уразумеет: сошлись, срядились, и стукнули по рукам! Запили кваском холодненьким, а уж потом и нашептал Деян приятелю о Военеге, о вече и упредил готовиться. А промеж всего и торг делать шире — деньгу сшибать. С Ладимиром притянется в Лугань два десятка дружинников, да и Военег приведет своих. А уж те точно пойдут сбывать награбленное. Так отчего же не заработать, а?
Шептались два мужа бывалых, рядились до тех пор, пока солнце не опрокинулось к Мологу, и в окошко малое не внесло свежего ветерка. Поручкались купцы, поклонились друг другу и разошлись.
Рознег прощально махнул с крыльца богатой домины своей Квиту, и крикнул:
— Цветавка! Подь сюда!
Девушка словно того и дожидалась, выскочила из-за угла хоромины — нарядная, красивая — подлетела к отцу, улыбнулась. Видно ждала новостей о грядущем обряде.
— Вона как! Вырядилась к танку? Забудь. Ныне дома сиди и от людей прячься. Забирают Квиты вено за тебя, не будет обряда. Позорить не стали — навроде как мы вертаем и отлуп даем. За тебя вира два золотых. Подарочек тебе, Цветава, — Рознег нахмурился, руку поднял, и влепил широкой ладонью по щеке дочери, ударил не сильно, но обидно. — А это тебе от меня подарочек! Кормил тебя, кобылища, одевал, работой не маял! А ты парня не смогла удержать? На кой ты сдалась такая бездельная? Теперь сиди и смотри, как золотишко Квитов у тебя из-под носа уплывает.
Сказал и пошел в дом, оставил дочь одну на крыльце. Жаль не видел отец, какой лютой злобой сверкнули синие глаза Цветавы, как хищно скрючились пальцы, унизанные кольцами.
— Нельга, разлучница, пожалеешь, за все мне ответишь. А ты, Некрас, рано волю почуял. Мой будешь, мне обещался, — прошептала зло, решительно.
От автора:
Новь — новый урожай.
Глава 20
— Некрас, ты очелье-то не забудь и навеси. Какая же девка без них, а? — Деян расселся на лавке, держал в руках малый жбанчик с брагой.
— Чего? — Некрас уставился на отца, не разумея, что тот говорит.
— Того. Вырядился, как баба, ну так и приукрась еще. Вона, возьми лучинку и брови себе подчерни, — отец потешался, но не зло, а отрадно.
— Тьфу! За что тебя мать любит, не ведаю. Я б с тобой и одного дня не прожил, — отругивался сын, но как-то вяло, без огонька.
— Во, и говоришь, как баба. Давай, сын, черни брови-то, — Деян скис от смеха, едва не расплескал бражку.
— Бать, спасибо, — Некрас поклонился отцу. — За все. И вот еще что, с Цветавой я сам переговорю. Повинюсь. Девка-то обижена.
— Что, гложет тебя? Ну так-то оно так… Повинись, сними камень с сердца. Но помни, что правда твоя. С постылой не жизнь — маята. Себя запечалишь и девке через то счастья не прибавится. Иди нето, ищи паву свою, — Деян кивнул, мол, понял тебя, сын.
Некраса как ветром сдуло. Выскочил на крылечко, в который раз оправил нарядную рубаху, тронул богатую подпояску и провел рукой по волосам. Оглянулся сторожко и посмотрелся в кадку с водой — на себя полюбоваться. Нового ничего не приметил, а тем, что было остался доволен. А уж потом быстрым шагом направился к берегу светлой Свирки, откуда слышался гомон людской толпы, смех и заливистый посвист дудок.
Танок шел отрадно! Впереди всех Зимка Суропина — девка круглая, светленькая, вот прямо как этот тихий теплый вечер. Цветавы не было, и понятно с чего. Обрядный танок завсегда невеста ведет, а Рознеговна жениха лишилась. С того теперь вела танец Зимка, и как вела! Извивала таночную ленту* меж деревьев, и так вильнет, и эдак, а все одно — красиво.
Венок на Зимке огромадный, улыбка на всю мордашку, рубашка беленькая, а сама девка — счастливая. Непригожа, то правда, но любовь и не таких красит. Девичья краса недолгая, и вся в пригожести, а бабья в ином: в глазах счастливых, в морщинках добрых, что появляются у глаз, коли улыбаться все время и радоваться. При любимом и любящем муже каждая жена — красавица.
Квит на танок любовался недолго и издалека. Промеж березовых светлых стволов пытался углядеть Нельгу, а ее и не было. Парень затревожился, головой завертел туда-сюда, и ведь приметил! Вдалеке мелькнула белая рубаха, и коса цвета светлого медка. Вот на ее мягкий блеск и кинулся Квит, понимая, что ведет себя, как подлеток неразумный.
Бежал по рощице, прижимал к боку холщевую суму, что висела на плече, и выискивал любую. А она как морок, как наваждение то появлялась меж деревьев, то пропадала. С того Некрас сердился, радовался и сам себя не разумел.
Остановился, выдохнул и понял — ловить надо не так. Побежал широким кругом, да и встал на пути Нельги. Иной дорогой она бы не двинулась. И ведь поймал, шельмец!
Нельга вышла прямо на него, да и пошагала мимо, будто спала на ходу. Некрас приметил слезы в ярких глазах.
— Медовая, хучь бы глянула. Чай не дерево, живой человек, — удивился, когда девушка вздрогнула и на него уставилась.
В глаза красивых горе плещется, да не простое, глубокое. Заволновался, но себя сдержал, шагнул к Нельге и улыбнулся.
— По всему вижу, что не ждала. А я то, дурень, все сапоги стоптал, инбирь искал для красавицы одной луганской. Улыбку-то кинь, жадная.
— Некрас, здрав будь… — голос ее прошелестел листвой опавшей, инако и не скажешь.
— Я-то буду, а вот ты? Плакать принялась? С чего? Вот он я, живой и здоровый. Слезы-то по мне льешь? — шутить шутил, но с тяжелым сердцем.
Она молчала, смотрела внимательно, а потом взяла и улыбнулась. Несмело так, осторожно. Но улыбка эта светлая, сквозь непролитые слезы, Некраса подкосила. Не удержался, шагнул к Нельге и обнял крепко.
— Скучал за тобой, медовая. К тебе ехал, а ты печалишься. Ты слово молви, кто обидел? Вмиг того башки дурной лишу. Веришь мне? — зарылся носом в душистые волосы. — Не молчи.
А она возьми и зарыдай! И так жалобно, словно дитёнок. Голову на грудь ему уронила, горячими слезами всю рубаху залила.
— Боги меня обидели, Некрас. Ума не дали, — всхлипывала, прижималась тесно, словно защиты искала.
Некрас едва разум не обронил от нежности такой и покорности, но плотское сдержал, разумея — не до того ей сейчас.
— Нашла об чем слезы лить. Я вон живу без разума и радуюсь. Много ума — много горя, — погладил плаксу по волосам, словно по шелку рукой прошелся.
— Не умею я радоваться, — Нельга щекой прижималась к его груди, старалась слезы сдержать. — Не научилась.
— Делов-то. Хочешь научу? Идем. Чего встала? Идем, говорю, — с трудом оторвался от теплой Нельги, взял ее за руку и потянул за собой. — Тут недалече. Свирка изгиб делает, к Мологу ближе подходит, так на ней по закату красотища. Бежим, Нельга, инако не увидим солнца последнего.
И побежал, а Нельга за ним, рука в руке, как на привязи. Бежали-то недолго, и задохнуться не успели. Встали на бережку и загляделись на светлые воды. Цвет-то редкий — будто ягодой какой мазнуло по Свирке, но не огневливо, а нежно и чудно.
— Видала? Я приметил уж год назад, когда насадой шел с Нового Града по течению. Это нам свезло, медовая. Редко когда бывает, — Некрас не знал куда смотреть, то ли на явь, то ли на Нельгу.
Глаза блестели после слез, коса сверкала, а лицо такое, будто узрела саму Макошь.
— Некрас, я сколь тут живу, никогда такого не видала… — улыбнулась смелее, обрадовала Квита.
Да и не только улыбкой — руку-то свою из его не забрала, стояла смирно, будто так и надо.
— Да ты завсегда не в ту сторону смотришь, медовая, — шутил, но с правдой в словах. — Тишку привечаешь, а меня нет. Что уставилась? Ответ давай — полюбила или как?
Спросил и не обрадовался. Нельгин взгляд ясный наново потух, слеза блеснула снова.
— Не полюбила, но ждала… — сказала честно, спокойно, а у Некраса внутри будто пламенем полыхнуло!
«Ждала»!
— Хвалю, Нельга. Дождалась, вот он я. Теперь люби. Я против слова не скажу, веришь? Вот как хочешь, так и люби, — болтал глупое, нелепое, но не молчать же.
А потом смотрел, как по щекам Нельги ползёт румянец, как она осторожно втягивает свою ладошку из его руки и отступает на шаг.
— Экий ты скорый. Сказала же, что не полюбила, так чего ж неволишь? — голос ее потеплел, с того Некрас приосанился и залился соловьем.
— Ладно, уступлю тебе. Два дня еще дам. Так ты потом помни доброту-то мою, медовая. Люби горячее, инако я не согласен.
Оглянулся, приметил поваленную березку и пошел к ней, заулыбался, когда услышал за спиной тихие Нельгины шаги. Стало быть, пошла за ним, не сбежала.
— Садись, упрямая. Я тебе подарков привез из Нового Града. Токмо… — замялся, но сказал правду. — Токмо не дорогие они, а сердечные. Думал о тебе, вот и взял. Может, по нраву придутся?
Уселся, дождался, пока Нельга притулится рядышком и полез в сумку свою холщевую. Краем глаза приметил — медовая уж дюже любопытствует — подалась к нему, и едва нос в сумку не засунула.
— Так не просила я подарков-то, токмо инбиря, — опомнилась и села прямо, от Некраса отодвинулась.
— Пока бы я ждал, что попросишь, весь волос белый стал. Из тебя слова не вытянешь, медовая, — брови супил, а улыбку давил. — Вот инбирь. Слушай, Нельга, он пахучий такой. Куда сыпать станешь?
Нельга приняла из его рук холщевый мешочек, поднесла к лицу, заулыбалась.
— В медовуху. Если настой сделать, то в самый раз. Спаси тя, Некрас. Уважил, — голову склонила, будто поклон положила.
Собралась подвесить мешочек к подпояске своей девичьей, но Квит не дал.
— Погоди, не торопись. Вот еще тебе… — порылся в мешке холщевом, вытянул странное, непривычное, навроде маленькой сумы: тонкой кожи, с кистями и бусинами, а сверху проушины.
— Что это? — Нельга от любопытства даже руку протянула и уж схватилась за подарок.
— Что, что… Сума девичья. В Новом Граде у многих видал. Вешают на пояс и складывают туда то, чего другим не хотят показывать*.
— Я не могу взять. Не серчай, Некрас, — говорить говорила, но видел парень, как загорелись глаза зеленые, как зарумянились щеки гладкие.
— Осерчаю. Бери нето, инако выкину в Свирку, — и уж замахнулся, а она руку его остановила и взяла.
Долго разглядывала, бусины перебирала… Потом приладила на пояс, а миг спустя уже прятала в суму инбирь. Затянула шнурком и улыбнулась совсем весело.
— А что там еще у тебя?
— Вон как. Порадовал, вижу? Ладно, покажу, токмо уговор — не смеяться! — и грозно так посмотрел на девушку, а она засмеялась.
С того Некрас впал в мысли дурные, парнячьи, и хотел вот сей миг требовать оплаты. Той самой, что обещала Нельга за инбирь. Чудом пересилил себя и снова полез в суму. Достал ….свистульку.
Нельга глаза широко распахнула, дышать перестала. И ведь было с чего! Нарядная маленькая глиняная птичка, с раскинутыми крыльями, а по ним тонкая резьба. До того кружевно, до того красиво, что глаз не отвести!
— Это мне? — голосок тихий, тряский.
— А кому? Не себе же я брал детячью пищалку. Ты погоди руки-то тянуть, слушай, как поет, — и засвистел.
Полилась по бережку трель соловьиная, звонкая. Словно не свистулька пищала, а птица пела. Нельгины глаза вовсе огромными сделались, брови высоко поднялись.
— Держи уж. И не смотри так жалостно! Я словно дитя обижаю, — сунул в руки Нельге свистульку.
Сам принялся разглядывать девушку, а она взгляд его почуяла, взглянула ему в глаза, и замерла. Сей миг для Некраса померкла явь: птиц не слышал, Свирки не видел, солнца закатного не замечал. Только вот зеленые омуты глаз Нельги. Так бы и кинулся, но себе запретил.
Встала перед глазами та Нельга, которую он пытался взять в срубе. И кожа ее гладкая, и грудь высокая, шелковая. И та трепетливая жилка, что билась на шее… За малый миг Некрас тьму раз проклял себя за дурость свою прежнюю и напор ненужный. И как не понял, как не догадался — нельзя с ней так. Теперь сторожится его, всякий раз отступает на шаг, когда он рядом встает. Вон ведь как — обидел один раз, а расплачиваться многажды.
— Что смотришь? Нравлюсь? — злился на себя, а выговаривал ей.
— Не смотрю я вовсе. С чего взял? — отвернулась, глиняную птичку сунула в суму.
— А то я не вижу. Ладно уж, разгляди хорошенько. Авось вразумишься и поймешь, что я лучше Тишки твоего снулого.
Ждал от нее слов гневливых, а она удивила. Подсела ближе и смотрела! Долго, со вниманием, ничего не упустила. На миг показалось Некрасу, что она руку потянула потрогать его лицо, но раздумала.
Квит сам чуть не полыхнул румянцем. Одно сдержало — узнает батька, что он краснеть перед девкой вздумал, так домой лучше не возвращаться. Со свету сживет, смехом в землю сырую вгонит.
— Нельга, взглядом-то изжаришь.
Она тотчас и отвела взор. Квит себя обругал дернем, но не унялся.
— Во как! Тебе значит можно глядеть, а мне нет? Теперь мое время. Сиди смирно, а я смотреть стану.
Двинулся к ней, и лицом к лицу уселся. Увидел гладкую кожу — без единого пятнышка, без единой засеченки — глаза ясные, светлую прядь волос, что у виска закручивалась. Любовался до пьяной одури.
— Некрас, теперь уж ты не спали меня… Что там смотреть? Некрасивая я… — и сказала так твердо, будто знала, что так оно и есть.
— Ты? Нельга, вот верно ты сказала прежде — боги разумом тебя обделили, — проговорил с трудом. — Никого краше не встречал. Уразумей, медовая, краса девичья не в белом лике, не в круглых щеках. В ином. Ты бы видела себя, глупая. Как идешь, как голову несешь, как смотришь опасно, как улыбаешься… Чай не один я к тебе прилип. Что, не так?
— Некрас, ты не говори слов таких. У тебя обряд в скором времени, а ты вздумал такое. И подарки твои…не к месту. Пойми ты.
— Не будет обряда, медовая. Цветава не невеста мне, а я не жених. Танок-то не ее ныне.
Нельга заволновалась, вскочила с поваленной березки. Глаза круглые, напуганные. За ней Некрас поднялся.
— Что, бежать собралась? Ты погоди, не разочлась еще со мной.
— Не пойму я… Ты не из-за меня ли с Новиками расплевался*?
— А если из-за тебя, тогда как?
— Тогда дурень ты, вот и весь мой сказ!
— Да ну-у-у-у! И кто тебе сказал, что ты людей-то разбирать можешь? Кто дурень, кто умник. Что ты знаешь-то, медовая? Уши у тебя забиты! Говорю тебе — ты мне надобна, никто другой, — снова ругал себя, снова не то говорил и не так.
Кто ж девке такие слова кидает? А вот нате вам, само выскакивает. Нельге врать трудно, то Некрас уж уразумел.
— У тебя забиты! Сколь раз еще повторить? Не люблю тебя… — сказала и загрустила.
— Не, не так говорила. Слова твои помню, железом каленым по сердцу прошлись. Ты говорила, что не меня любишь, а вон как перевернулось. Теперь не любишь меня, но и другого тоже… Нельга, из-за него рыдала?
Она выпрямилась, сверкнула зелеными очами, голосом построжела.
— Слезы мои не твоя печаль. С чего взял, что люб мне?
— Я через тебя весь разум растеряю! То ты скулишь щенём, то княжной новоградской смотришься. Ты кто такая, каких кровей, медовая? Говори сей миг! — ругался, сердился Некрас, но и любовался ею.
— А ты кто таков, а? То сильничаешь, то голубишь! То стращаешь, то подарки носишь! — теперь и Нельга взвилась.
Так и стояли друг напротив друга, ярились, жглись взглядами.
— Нельга, все равно ведь перегляжу тебя. Нравишься… Так бы и любовался, — улыбнулся нежданно.
А она в ответ! И засмеялись оба. Со стороны глянуть — разума-то нет. То ругаются, то хохочут.
— Дурной ты, Некрас, заполошный.
— А я и не таюсь. Какой есть, весь перед тобой, — руки раскинул, мол, смотри сама.
Она и задумалась, правда молчала недолго:
— Верно, какой есть. Врать не врешь, не скрываешься, другим не притворяешься, — вздохнула, словно в воду собралась прыгнуть и опять заговорила. — Ты цену свою назвал за инбирь, Некрас. Разочтемся нето.
Слово ее прозвучало тихо в вечерней роще, но Некрасу почудилось, что гром грянул. Сама? Целовать решилась? Подобрался, кулаки сжал, но с места не двинулся. Только глаза сверкнули опасно и жарко.
— И долго мне стоять, ждать, когда насмелишься?
Нельга шагнула к нему, глаза подняла, а в них и решимость, и испуг. Но не отступила, руки белые положила ему на грудь осторожно, привстала на цыпочки, и прижалась губами к его рту. Через миг отскочила, встала поодаль, но головы не опустила, смотрела прямо.
— Это расчет? Нельга, инбирь настоящий, сама видала, а поцелуй пустяшный, — вот теперь соврал!
Даже этот в этот краткий миг опалило Некраса и сильно.
— Как умею, так и целую, — губы дрогнули, показали Квиту, что сама не рада.
— Ладно, покажу нето, как надо.
В два шага оказался перед ней, взял личико светлое в ладони и почуял, как вздрогнула. Глаза зеленые распахнулись встревожено.
— Нельга, не бойся меня. Богами светлыми клянусь — не обижу. По сей день ругаю себя за дурость свою…веришь? — шептал жарко, смотрел огненно.
— Не боюсь, Некрас… — поверила…
Он и поцеловал, да так, что едва на ногах устоял. Всего ждал, только не ее ответа — жаркого, правдивого. Подалась к нему, упала на грудь, себя доверила. Вот грянь сейчас гром, разверзнись земля, встань перед Некрасом сам Сварог, не выпустил бы Нельги из рук. Сам бы издох, но только с ней рядом.
Губы сладкие, горячие, тело податливое, и как тут разум не утратить? Целовал ее, будто последний раз перед смертью — жарко и жадно. Руки сами собой потянулись к тонкому стану, собрали в горсть тонкую ткань запоны, смяли, прижали крепче. Услышал как сквозь сон чудесный, тихий ее стон, и сам ответил те же…
Сколь времени все длилось никто и не счёл, не вспомнил, очнулись оба уже когда руки ее запутались в его волосах, а сам он ласкал спину прямую, горячую даже сквозь рубаху. А все через громко хрустнувшую ветку…
Нельга опамятовала первой, руки Квита с себя стряхнула… и попятилась. Через миг скрылась за светлыми стволами берез, оставила парня одного.
Некрас головой помотал, осмотрелся, а потом подошел к Свирке, на колени встал да и сунул голову в светлую прохладную воду. Охолонул, встряхнулся псом и заулыбался. Как есть дурной!
Жаль не увидели оба, что не одни они были в роще той. Сквозь ажурную листву с разных сторон смотрели на них, да не в два глаза — в четыре! Два глаза синих, злых, и два голубых, снулых.
От автора:
Таночная лента — танок, как танец имел несколько видов. Это и хоровод, и линейное движение. Девушки брались за руки и шли лентой меж деревьев или между рядами парней. Женские танцы — скромность, плавность, но и эротизм)) Так себя показывали красавицы красавцам)) Танец обрядовый. Родился в южной части Руси, но имел место и в северных регионах. Сопровождался песнями, не музыкой. В моем случае дудки, и все потому, что автор не решилась вставлять в текст обрядовых песен. Очень сложны для восприятия современного человека)))
Другим не хотят показывать — на поясах носили все самое красивое, как подтверждение своего благосостояния. Карманов, повторюсь, не было. В сумы прятали то, чего показывать не желали. Упрощенно.
Расплевались — не буквально, разумеется. Ударили по рукам — выражение расхожее, но перед уговором плевали на ладонь, а уж потом ударяли по рукам. Поплевали — уговорились. Когда говорят — расплевались, имеют в виду разрыв договоренности. Обычай, к слову, не только славянский.
Глава 21
— Ну, чего молчишь-то, красавица? — Всеведа смотрела на Цветаву уж долгонько. — Пришла, так говори.
Девушка очнулась от мыслей своих, глянула на волхву неприветливо.
— Сама не знаешь? — голос-то злой, недовольный.
— Знаю, Цветава, почему пришла. А зачем — того не ведаю. Что надобно тебе? — Всеведа положила тонкие руки на стол, сверкнули богатые перстни.
— За правдой! Бросил меня Некрас, ушел к разлучнице! И что теперь? Молча сидеть, слезы глотать?! — взвизгнула Цветава. — Я ль не хороша? Ответь, мудрая?! Научи, как вернуть его! Проси, что хочешь, отказу не будет!
Всеведа выслушала молча, задумалась, загляделась на очаг без огня.
— Цветавушка, зачем он? Ведь не тебя любит, не тобой дышит. Знаю, больно тебе, голубка, но сама подумай, может не он участь твоя? Время пройдет, перемелется все, боль утихнет. А там, глядишь, и сыщется любовь твоя настоящая?
— Любовь?! Что та любовь, когда позор на мне?! Я ли не голубила его? Я ли не стелилась перед ним, как травка под ноги? А теперь все добро его, все злато ей? Мыши серой? Твари пришлой? — синие глаза злобой светились, завистью.
— Вон оно что-о-о-о… Я то не догадалась, что не любовь безответная тебя точит, а жадность… — Всеведа голову к плечу склонила, сверкнула очами рысьими. — Скажи, красавица, тебе Некрас-то дорог?
— Дорог, не дорог — не об том разговор! Мой он, мне обещался! Зря я в девках сидела? Богатого ждала?? Как вернуть?!
— Никак. Забудь и участь свою прими, Цветава. Его боги светлые любовью одарили, а ее не перепрёшь ни наговором, ни зельем приворотным. Нужен тебе муж, который не о тебе думает, не о тебе сны-то видит?
— Гладко стелешь, Всеведа, да не того мне надобно! Продай взвар… Пусть по твари этой бледной струпья пойдут! И приворотное дай! Мне бы только дитя от него зачать, а там уж не отопрется! — Цветава полезла за пояс, выложила на стол золотую деньгу.
— Думаешь, что за все золотом можешь рассчитаться? Все купить? Нет, девка, — Всеведа встала с лавки, выпрямилась и глядела грозно. — Вон пошла. И не вертайся, пока разум свой оброненный не найдешь. Ни жалости в тебе, ни понятия.
Цветава вскочила, кинула злой взгляд на волхву и метнулась к двери, но вернулась, сгребла золотой со стола в горсть и выскочила в темную теплую ночь.
Шла, не разбирая дороги, слушала шепотки ночные любовные, а перед глазами все стояли Некрас и Нельга, все целовались жарко в рощице. Злили, ярили сердечко, токмо не любовью грустной, а разумением — не быть ей купчихой богатой, не есть сладко, не холить белых рук бездельем.
Уже у дома своего богатого, остановилась, глаза к небу темному возвела и прошептала жарко:
— Все равно изведу тебя, разлучница. Не взваром, так иным чем. Мой Некрас, мой! Дай срок, уедет Квит, а там ужо…
— Нелюшка, что-то разоспалась ты, — тихий голос Новицы разбудил девушку.
Подскочила Нельга на лавке, головой покрутила, руку протянула в изголовье и нащупала там глиняную птичку, что дал Некрас вечор. Наново загляделась на красоту-то такую. Пока рассматривала, вспомнила глаза яркие, речи жаркие и горячий поцелуй Квита. Румянцем полыхнула так, что не передать словами. Сладко ведь было, ох как сладко!
— И чего расселась? Солнце-то уже высоко, голубка, — Новица поставила на стол миску с молоком. — Утричай и иди. Богша притёк с заимки, холопов забирает — пахать скоро. Надоть проследить. Я к Плаве пойду со скотиной помочь. Нелюшка, да что с тобой? Не захворала? Щеки-то горят.
— Иди, иди Новица. Я уж сама тут, — с лавки встала, и застыла.
И так все утро — то идет, то стоит. Будто одной ногой в яви, а второй в мыслях. Богша и тот приметил странное, но смолчал, не стал докучать Нельге.
Солнце перевалило за полдень, накрыло тягучим зноем Лугань, заставило людей и скотину всякую прятаться, тени искать. Новица, утомившись, прилегла под навесом на лавку, уснула сладко. Плава на крылечке сидела, прислонясь головой к столбушку, напевала тихо песню. Пёс Знатко уполз в тень под приступки и прикрыл большой лапой нос.
Нельга пошла в дальний угол подворья, уселась на лавку под деревом, шнурок легкой рубахи распустила, ждала ветерка малого, чтобы остудил мало-мальски. Глаза прикрыла, замечталась, а потом подкинулась — ведь ни разу и не вспомнила о Тише…Тишеньке…
— Лучше бы спала, медовая. Красивая ты, когда улыбаешься тихо, покойно, — голос бедовый, глубокий.
— Некрас! Ты чего тут? — схватилась за шнурок, рубаху стягивать.
— Чего я тут? Сама не понимаешь? Видеть тебя хотел. С утра под забором топтался, ждал, когда одна останешься… — Некрас шагнул ближе, устроился рядом с Нельгой. — Медовая, пожалела бы, дала бы воды. Думал, сварюсь заживо.
Врал, улыбался, смотрелся бодро, а жалости просил. Нельга и обрадовалась, и смутилась.
— Посиди, я мигом, — подскочила с лавки, и метнулась к домку.
Там зачерпнула ковшиком воды прохладной, и понесла парню. Он навстречу поднялся, протянул руку, принял ковшик. Пока пил, жёг темным волнительным взглядом Нельгу, потом утер губы ладонью.
— От тебя все сладко, медовая. Что вода, что поцелуй.
Нельгу снова окатило волнением, непривычным и приятным. Она ковшик-то взяла и сама приникла к воде, а все для того, чтобы не показать пригожему Квиту, как ярко полыхнули румянцем гладкие щечки. Руки-то дрогнули, потекла вода прозрачная по подбородку, по шее, скатилась за ворот рубахи, промочила тонкую ткань.
Некрас в лице переменился, руку протянул, коснулся румяных губ пальцами, стер нежно капли, двинулся по подбородку, по шее и остановился только у ворота. А она, будто зачарованная, с места не двигалась, руки его не отталкивала.
— Нельга, ведь знаешь, зачем пришел. А коли не знаешь, так догадываешься, — голос его, хоть и тихий, оглушил Нельгу нежностью, и обжег огнем.
Она и знать не знала, что такое может быть — ведь голос, не руки, не губы…
— Не ведаю, Некрас. Вчера разочлись, так что ж еще тебе? — в глаза ему смотреть не решилась, опасалась не его, а себя.
— Нельга, люба ты мне. Так люба, что в глазах темно. Моей стань. Сей миг вено за тебя дам и заберу к себе в Решетово, — голос Квита звучал тихо, но слова, что молвил, поблазнились Нельге громом небесным. — Знаю, что не любишь меня, но верь мне, все сделаю, чтобы только меня видела. Все отдам тебе, слышишь ли? Все под ноги кину, только рядом будь. Ты полюбишь меня, в то верю и крепко. Знаю, что моя ты, медовая, и ничья больше.
Взглядом опалил так, что Нельга едва не вспыхнула, ковшик к груди прижала, отступила на шаг, вымолвить ничего не смогла. А Некрас догнал, ковш вырвал из рук, и закинул подальше.
— Не молчи, не молчи ты! Ответь! — сам пылал и ее сжигал! — Ведь откликнулась ты мне, целовала вчера. Не противен, а стало быть, полюбишь!
Нельга в глаза ему глянула и пропала совсем… Омуты — темные, жаркие и желанные! Сей миг и ворохнулось сердечко, подалось на слова горячие, откликнулось, и забилось борзо. Поняла Нельга, разумела, что с ним могла бы забыть обо всем: о Тише, о горе своем. Стань она женой Квита, может и счастливой была. Но огонечек маленький, где-то на дне думок не дал. Напомнил о Тихомире, об отце, о матушке, о Военеге-псе. Согласится быть женой, так и погубит Некраса и весь род изведет!
Не смогла… Все смотрела на пригожего парня, все думала и поняла — не сумеет она лишить его яви, забрать с собой в навь сердце его горячее, любовь его ярую. Он жизнь любит, и жизнь его привечает, балует. Так что ж? Отнять? Не посмела.
— Не могу, Некрас, — слезы на глаза навернулись. — Не проси, и слов таких не говори мне больше. Уезжай, богами заклинаю! И не возвращайся никогда. Забудь меня, словно никогда и не было. Слышишь? Верь мне, верь! На беду встретились! Не люблю и не полюблю никогда. Постылый, противный.
— Вон как?! Врать удумала? Мне приснилось вчера? В роще-то меня миловала, не иного кого. Нельга, тьму раз повтори, что противен тебе, не поверю!
Схватил девушку, прижал к забору, зашептал жарко в румяные губы.
— Упрямая, гордая… — прислонился лбом к ее лбу. — Скажи, все из-за него? Из-за Тишки-дурня?
— Нет, нет… — шептала, слезы сдерживала. — Не потому я… Некрас, верь мне, не к добру все это.
— Плевал я на все. К добру, не к добру. Одно знаю — без тебя не хочу жить. Не стану землю топтать, если ты рядом не пойдешь. Уперлась? Ладно, того ждал. Две седмицы тебе даю, а потом везу в Лугань мать с отцом, на тебя смотреть. Отлуп дашь, я тем же днем тебя в телегу и на дальнюю заимку! К лавке привяжу и любить буду так, что сама за меня запросишься! Поняла?!
Ругался Некрас, ярился, грозился, а Нельга — вот чудеса — заулыбалась!
— Нельга, изгаляешься? Играешь со мной? — брови супил, а обнимал нежно. — Ладно, припомню тебе. За все отлюбишь, и не абы как, а крепко и горячо.
Потом вздохнул тяжело, посмотрел в глаза Нельге и вымолвил:
— Ехать мне надо, медовая. Люди ждут, пахота на носу. А как оставить тебя? Присушила ведь… Дождешься?
— Некрас, ты слышал ли, что я говорила?
— А ты меня слушала? Жди, Нельга. Вскорости снова приеду и уж не один. Пора мне, медовая. Насадские с утра ждут, а я тут под забором твоим пасусь, как теля неумный. Тьфу! Все позабыл! А все глаза твои окаянные!
Отступил от девушки, отпустил из крепких рук и снова заговорил:
— После пахоты в Лугани стык будет. Военег Рудный и князь Ладимир притекут, уговариваться станут. Так ты медовухи больше готовь, на торг неси. Народу немало набежит, — кивнул, помолчал и продолжил. — Пора мне, Нельга. Слово-то прощальное кинь, подари взглядом.
А Нельга уже и не слушала. В голове билось: «Военег едет!». Вмиг потухла радость, сник огонь волнительный. Поняла девушка — конец всему. И так горько стало, так страшно! Посмотрела на пригожего парня, уразумела — может встреча-то последняя…
— Некрас! — кинулась к нему. — Поцелуй! Поцелуй меня крепко, чтобы помнила!
Он будто ждал, обхватил руками, приник жадными губами к ее, таким же жадным.
Сколь времени прошло, Нельга и не разумела. Солнце палило с неба, внутри огонь бушевал! И как тут не растечься молодым сладким медком? Эх, погибель девичья тот медовый поцелуй….
Глава 22
Почитай целую седмицу сидела Цветава в богатых хоромах. Отец не велел без нужды на улицу выходить, берёг дочь от пересудов и расспросов. Поползли шепотки по Лугани-то, загудели завистницы — почему танка не вела Рознеговна, с чего молодой Квит не зашел на подворье Новиков, невесту подарками не одарил.
Тоска докучливая одолевала, скукой маяла. Зло смотрела красавица на сундук свой с приданым, сердилась, что некому показать богатых нарядов, не перед кем ходить гордо, хвастаться новыми очельями, бусами и расшитыми запонами. До того разъярила себя, до того растравила, что говорить-то по человечески перестала: все криком, все грозно да громко.
Холопки пугались, завидев молодую хозяйку, но доля рабская такова — служить и хозяев не хаять. А тут еще большуха Снежана добавила, озлилась за дочку-то, гнев свой унимала тем, что работой чернавок заваливала, за косы таскала. Одна радость в дому — опросталась от бремени меньшуха Беляна, мальчиком явь одарила. Да такой хорошенький получился, справненький! Вот девки сенные и бегали понянькаться с младенчиком, да и поболтать по добру с младшей женой Рознега, почитай единственной бабой в дому, от которой можно было услыхать ласковое слово.
В гриднице Беляны светло, отрадно. Девки агукаются, младенчик гулит, открывает рот беззубый, глазенками на мир смотрит, радуется. Беляна на лавке сидит, держится за круглый еще живот, опричь девки веселые. И каждая норовит хозяйке угодить, и не просто так, а от сердца. Рады, что меньшухе не придется теперь обиды глотать, в себе горе таить. Ведь не абы кого родила, а сына! Наследника! Теперь уж никто не сможет обидеть мать, что принесла в явь еще одного Новика.
С того большуха Снежана еще более лютовала, Цветава сильнее сердилась, а в самом дому сделалось плохо. И то верно, ведь каковы хозяйки, таков и дом.
Была средь сенных девок одна — Зойка. Почитай три зимы, как купил ее Рознег на местном торгу у залётного купца. Девка здоровая, откуль родом — неведомо. Работала справно, молчала больше, а дружбы ни с кем не свела — нос воротила. А вот с Цветавой уживалась…
— Зойка! Где шляешься, коза драная?! — Цветава сидела на лавке у раскрытого окошка. — Квасу подай и поскорее.
Дождалась, пока Зойка метнется, приняла ковш из рук холопки. Пила долго, в окно глядела. На улице благодать! Вечер теплый, солнце ласковое. Парни и девчатки после трудов дневных по улицам пошли, песен запели. Рубахи на всех белые, нарядные. Навеси звонкие, подпояски цветные. Цветава и не снесла! Вслух высказала то, о чем до сего мига токмо думала:
— Тварь пришлая, разлучница бледная! Чтоб тебе, Нельга, пусто было в яви и нави! — злые слезы брызнули из синих глаз, рот скривился, брови соболиные изогнулись.
Зойка голову набок склонила, разглядывала молодую хозяйку, а глаза-то блестели странно и опасно. Вздохнула девка раз, другой и решилась слово молвить:
— Вона как… Стало быть, жениха у тебя увели? А мы и знать не знали. Думали, что Новики вено вертают.
— Не твое дело, холопка! Язык-то прикуси! — Цветава злилась на дурь свою, что заставила проговориться.
— Знамо дело — смолчу. Токмо что ж рыдать-то? Сидя на лавке горю не поможешь, — насмелилась, подошла ближе. — Хозяюшка, ты только согласись, а я ужо расстараюсь для тебя.
Цветава слезами захлебнулась, уставилась на девку, словно чудо узрела.
— Ты чего говоришь-то, не разумею я.
— Так то и говорю, Цветава Рознеговна, что могу горю твоему помочь. Токмо и ты мне уж помоги, не оставь заботой.
Цветава, даром что рыдала, но почуяла, что дело верное. С того кивнула Зойке, мол, дверь притвори и говори тише. А Зойка уразумела — дверь прихлопнула, снова села рядом с хозяйкой и зашептала на ушко.
— Уговор, хозяйка, что б про то, о чем порешим, знали токмо я и ты и никто боле. Инако все дело псу под хвост.
— Поняла, не дура же! — осердилась Цветава. — Ты дело, дело-то говори.
— А просто все. Заманить девку на Дурную тропу и припугнуть, — очами раскосыми сверкнула.
— И как припугнуть? Нельга не из пугливых. Нос дерёт высоко, ходит гордо, — Цветава слезы утёрла, смотрела на холопку с надеждой.
— Так повисит головой вниз над обрывом, спугается. Ай, не так, хозяюшка? — и говорила-то складно Зойка, заманивала. — Вдвоем-то мы ее скрутим, заставим зарок дать, что к жениху твоему ни в жизнь не подойдет. А еще лучше, пущай едет из Лугани. Чего ей тут? Ни родни, ни корней. Никто об том не прознает, и ты чистая будешь. Нет разлучницы — нет печали. А ежели не послухает, упираться станет, так наврём, что братьев твоих на нее натравим. Поваляют ее гуртом на сене, и кому она после того нужна будет? Чай Квит не дурень, брать девку порченую. Токмо делать надо быстро, пока Некрас не появился. Инако у него защиты станет искать разлучница-то.
Цветава отвечать не торопилась. Все думала, морщила лоб гладкий. Оглядела гридницу свою девичью, наново в окно посмотрела. А там как раз толпа шла, впереди всех красавица Радмила: навеси серебряные, рубаха расшитая. Смеется, зубами белыми похваляется.
Цветава и не снесла.
— Как заманить-то, Зойка? Я кликну, она и не пойдет. Давеча приходила на рождение сына Белянина, так не ела, не пила. Сторожится, змея.
— А ты подумай, хозяюшка, — промолвила Зойка. — К чему у ней думки повернуты? К кому?
Цветава задумалась глубоко, с лавки соскочила, пометалась малое время по гриднице.
— Вот что, Зойка, скажем ей, будто Тишка Голода на Дурной тропе оскользнулся. Старая-то любовь скоро не забывается. Побежит, куда денется. Нельга явится, так мы ее и…
— Я, хозяюшка. Я сделаю. А ты ей все выскажи, злобу-то сорви.
— Что хочешь в расчет?
— Так деньгу, Рознеговна. Выкуплюсь и уйду с Лугани куда глаза глядят. Коли свезет, то и домой попаду. Там тепло, море соленое. Чай не тутошняя слякоть.
Цветава оглядела иноземку, кивнула, да и пропала в мыслях. Складно выходит… Нельга пропадет, так Некрас заскучает, запечалится, а тут она, Цветава, подползет ласковой кошечкой: приголубит, утешит, а может и дитя зачнет. Вено-то еще не вертали.
Глава 23
Некрас метался по дому, злился, а почему не разумел. Будто нашептывало что-то, наговаривало: «Беда!». День прошел, второй к концу близился, а тревога не проходила. Не стерпел и пошел к отцу.
— Бать, я в Лугань, — брови насупил, кулаки сжал, собрался ругаться с отцом.
— Что так? Хотели третьим днем ехать. Мать коробок еще не собрала, — Деян внимательно посмотрел на сына. — Ты чего, Некраска? Весть получил али так, по дурости?
— Что хочешь думай, отец, но тревожно мне. До того тоскливо, аж выть готов.
Деян глянул в окно на подворье, обсмотрел холопов, что возвращались с дальних пашен и репищ*. Почесал задумчиво макушку, и рукой махнул.
— Собираемся. Утресь отваливаем. Отпахались, так ничего и не держит. А ежели что, так брат приглядит за хозяйством. Все верно, сын, себя надоть слухать. Сколь раз со мной такое было и ведь все угадывал. Беги нето, ватажников своих сбирай.
— Бать…да я… — поклонился и бегом по Решетову!
Ввечеру вернулся, прошел по двору, и хотел уж было в дом ступить, но остановил его Радим — новый закуп, которого привез Некрас из Нового Града.
— Слыхал, что отваливаете завтра.
— А твоя какая печаль, Радим?
— Такая, хозяин! Возьми с собой. Сруб я те новый возведу, токмо мне на торг надоть. Хучь Луганский, хучь иной какой. Кузня в Решетове маловата и кривовата. Прикупить бы кой-чего. Я могу и тебе обсказать, чего надобно, токмо лучше самому приглядеть. Ты сруб-то, чай, справный хочешь, — закуп брови насупил и, по всему было видно, что уступать не собирался.
— Тьфу! Вот не до тебя сей миг, — Некрас, как и отец, почесал макушку. — Семейство устроил?
— Устроил. Спаси тя, Квит. Жёнка довольна, уж дюже домок просторный. Да и харч сытный, — вспомнил о чем-то, и поклонился.
— Ладноть, одним больше, одним меньше. Собирайся и утресь к реке приходи.
Мужик кивнул и ушел, словно растворился в вечерних сумерках. Некрас даже головой тряхнул, не поблазнилось ли?
Вечерять Некрас отказался, завалился на лавку, но глаз не сомкнул до самого рассвета, а там уж завертелось, захлопоталось, и забегалось.
Насада шла ходко: вода тихая, небо синее. Плыви, да плыви, любуйся на красоту речную. Но беда-то и в отраде подстеречь может. Через Журки, после порогов, наткнулись на насаду ушкуйную!
— Деянушка, что ж будет? — Видана прижалась к мужу.
— Не боись, Видка. Отмахаемся. Глянь, на веслах у них через одного сидят, стало быть, пощипали их ужо, — Деян жену успокаивал, но сам себе не верил.
Ушкуйные — лютые. Людей там случайных нет, и не было никогда. Мужики все сплошь ярые, воины опытные. Тревожился поживший купец, смотрел на Некраса, а тот уж и меч вытянул.
— Деян, — шептала Видана мужу. — Вот не к добру все это. Говорила я. Все из-за Нельги … Чего сорвались так рано? Куда? Посекут, Деян.
— Видка, чего мелешь? При чем тут Нельга-то? — Деян смотрел на уйшкуйную насаду. — Не посекут, чай, грабить идут, не убивать.
— А кто при чем? Она! Ить когда к Цветаве ездили, не было такого-то. Проклята эта Сокур, вот попомни слова мои! Некрасушка, кровиночка моя! Изведёт она его, как пить дать, изведет! — Видана взвыла, прижалась к мужу.
А тут и ушкуйники подали знак — означили себя громким посвистом. На нос насады вышел мужик — мечный, лучный — и громко прокричал:
— Купчины, насада-то не тяжела? Вы токмо слово молвите, вмиг ослабоним, — за его спиной послышался глумливый гогот.
— Своя ноша не тянет! — прокричал Некрас. — Перетопчемся как-нибудь. Плывите себе по-здорову.
— Это кто там такой умный? Указывать вздумал, купчина? Хотим плывем, хотим балакаем, — озлился ушкуйник. — Не отдадите добро? Так сами возьмем, мы не дюже гордые.
— Чего ж орать-то? — Некрас прищурился. — Сколь тебе надо, лихой? Ты обскажи, может, сойдемся в цене?
Ушкуйник выслушал, повернулся к своим, и что-то сказал. Малое время лихие вели разговор промеж себя, а потом уж и ответили:
— Ты ж Квит? Стало быть, богатый. Одной насадой больше, одной меньше. Еще наживешь. Стыкнемся, товар заберем, а ты радуйся, что жив остался. И без дури давай!
Некрас брови свел, оглядел своих людей. Местька сразу понял, что дело худо и вытянул тихонько меч. Деян подталкивал Видану к борту насады, указывал, где схорониться. Радим — закуп из новых — подошел к Некрасу:
— Меч дай, хозяин. Чего лупишься? Я у князя Мезамира в дружине ходил не один год. Сам видишь, не отлезут.
Некрас кивнул Местяте, тот метнулся и достал из-под тюков меч — не хороший, не плохой. Радим взял его, в руке крутанул.
— Сойдет, — кивнул и вытянул из сапога длинный нож. — Местька, спиной ко мне и в оба глаза. Хозяин, ты бы вперед не лез. Бери ватажников и по бортам. Да пусть присядут пониже. Видал? Лучные у них. Сейчас завертится.
Некрас пошел меж своих, шепнул, чтобы рты-то не разевали, а уже потом и ответствовал ушкуйнику:
— Твое последнее слово? Не сговоримся, стало быть?
— Ты глухой, купец?! Сказано — весь товар. Иного ответа не будет, — и подал знак своим.
Вмиг тати* вскинули луки, выпустили стрелы. Особо не целились, пугали только.
— Берегись! — Некрас махну рукой своим. — Местька, батьку видь! Поглядывай!
Пока от стрел уворачивались, ушкуйные стыкнулись с насадой, кинули мостки и полезли — нахрапистые, борзые! Некрас подлетел к одному, ноги подсек, метнулся ко второму, а тот умелый, бывалый! Испугом не возьмешь, мечом не тыкнешь абы как. Ушкуйник теснил Некраса к борту, наседал. Квит только успевал, что меч подставлять, да радоваться тому, что не сленился в свое время и выучился бою.
Вокруг крики, ругань! Ватажные от испуга принялись сечь сильно, ушкуйники и прогнулись. Не ждали от купцов такой-то прыти и умения! А вот Некрасу не свезло — мечник ему попался сильный. Прижал к борту, меч занес и уж совсем готов был жизни лишить. А тут Радим подскочил, пнул в плечо ушкуйного, тот к нему и развернулся, оставил Квита в яви.
Радим коротко, без замаха ткнул рукоятью меча в зубы ворогу, тот назад качнулся, а закуп и не растерялся вовсе — длинным ножом проткнул шею ушкуйника, пустил кровь густо.
— Живой, хозяин? — Радим не стал смотреть, как заваливается на спину и обдает кровищей насаду уж бездыханное тело лиходея.
— Жив, Радимка. Спаси тя! — Некрас подхватился и бросился на подмогу своим.
И вовремя успел! На отца наступал подраненный ушкуйный, кровью залился, ноги еле волок, а мечом махал справно. Некрас увидел, как батька прикрыл собой мать, выставил перед собой руку, защищаясь.
— Стой!! — летел Квит, что птица!
Успел, махнул мечом и снес голову ворогу. Тот рухнул, а вслед за ним осел Деян — руку располосовало.
— Бать! — Некрас упал рядом с отцом на коленки.
— Не ори, дурень. Вскользь прошло. Кость целая. Иди нето, надоть навалиться и досечь псов!
Некрас подскочил и бежать, а позади послышался голос матери — ругала Видана насаду, поход заполошный, что случился раньше времени, и Нельгу Сокур, девку проклятую!
Одолели, но с трудом. Купеческих-то посекло маленько — Осьма и Вторак окровянились, а Замяте ухо снесли вчистую. Но все живы остались, на том и порадовались, поминая кто кого: Сварога, Перуна, Велеса и Макошь светлую.
Пока раны стягивали, пока ушкуйников мертвых по воде пускали, пока на чужой насаде шуровали, уж и свечерело.
— Бать, рука-то как? — умытый уставший Некрас тяжко опустился на лавку рядом с отцом.
— Как, как… Каком кверху! Выживу нето, но дюже жжётся, — Деян морщился. — Видка, чем перетягивала-то?
— Чем было, тем и стянула. Сиди уж, вояка, — Видана вилась возле мужа, устраивала болезного удобнее. — Вернемся, а? Ить не задался путь. Знак это, знак от богов светлых. Вертаться надоть. Кто она такая, Сокур-то? Безродная! Притекла в Лугань, а откуль? Кто ее знает, кто матерь ее видел? Проклятая она, проклятая! Через нее угодим в беду.
— Мать! — Некрас подскочил.
— Видана! Прекрати сей миг! Вижу, спугалась ты, но живы все. Вот тебе знак, а не твои бабьи мыслишки, — Деян брови насупил.
— Не соберись мы в Лугань, того бы и не случилось, — упрямилась женщина. — Вспомните еще слова мои, да поздно будет.
Некрас и слушать не стал, отошел подальше, оперся на борт и в воду глядел. Даже после стычки с ушкуйными, тревога не оставляла, травила сердце и мысли скверной своей, пугала. Насилу дождался, пока ватажники на весла сядут, тронутся по Мологу.
— Хозяин, а ведь свезло нам. Не инако ворожат светлые боги, — Радим подошел тихо, неслышно. — Я одного выспросил, пока не издох, так он и сказал — пощипали их. Уполовинили шайку. Говорит, что Военег Рудный. Они прибились к бережку ночевать, а в леске уж отряд стоит. Дня два-три и придут дружинные Военега в Лугань. Там навроде стык будет. Ладимир едет на встречу. Если бы не так, не сдюжили мы супротив.
— Радим, ныне жив токмо из-за тебя. Где ты так навострился? — Некрас хлопнул по плечу мужика.
— Где, где… в конячей узде. Мезамирка дружину сам водил, сам пестовал. Мы по весям шарились, не без разбоя. Влетишь в селение, а там домки и люди в них спрятамшись, так вот в каждый идешь и сторожишься, а ну как топором прилетит? А мечом-то как махать в тесных сенях, а? Изворачивались. Сунешь в зубы, а потом по горлу чиркаешь. Супротив селян можно, а встанет напротив тебя воин ученый, так к себе на длину меча и не подпустит. Токмо ежели дурак, али пьяный.
— И что, неотрадно было люд простой сечь? С того и утёк ты? — Некрас понял сразу, а спросил больше для того, чтобы Радимке дать выговориться.
— С того. Вишь как боги-то наказали за зло? Теперь закуп я, Некрас, — мужик вздохнул тяжко.
— Не закуп. Вольный. Долг прощаю. Иди, куда хошь. А не хошь, оставайся в Решетове. Подмогну с домом и землей не обижу. На насаде моей ходи, рад буду такому-то воину.
— Нет. Крови не хочу более. А твоих обучу. Ты ведь добром мне откликнулся, а я что ж? И дом поставлю, как уговорено, — Радим кивнул, будто придал словам своим тяжести. — Пойду на весла. Ты торопишься, вижу?
— Верно. Быстрее бы, Радим, — и снова пропал Некрас в тяжких думках и тревогах.
От автора:
Репище — огород.
Тати — тать — разойник, грабитель.
Глава 24
— Нельга, отступись! — Богша уже который день донимал девушку. — Ведь убьют тебя. Непростой мужик, родовитый. В силу вошел. Рудные не пощадят!
Нельга металась по гриднице, злилась и печалилась. Почитай две седмицы миновало с того дня, как молодой Квит сказал ей о Военеге…и целовал, с собой звал. Злилась девушка на Богшу и слова его, а печалилась с того, что никогда более не увидит Некраса. И не люб, а думается о нем, и не дорог, а вспоминается каждую минутку. И там беда, и тут напасть.
Временами хотела Нельга пойти к Всеведе, просить мудрого совета, но знала наверняка, что даст себя отговорить от задуманного. Жить хотела Нельга, любить и чтобы любили. Вон как Квит любит. Да пусть врёт, пусть ходок, а все одно — отрадно.
— Богша, уезжай. Бери деньгу, добро все забирай и ступай, куда глаза смотрят! Тебе-то зачем лишать себя яви? Ты дядька мне единственный, хучь и не кровный, так разве могу я тебя под ножи подвести?
— Дура, — в сердцах молвил Богша. — Не о себе пекусь, о тебе, мстявая.
Новица по обыкновению молчала и слушала. Вроде и тут она, а вроде и нет. Сидела на лавке, уронив руки на колени ладонями вверх, и смотрела в окно бездумно, словно любовалась солнцем закатным.
— Знаю, дядька… Не могу, никак не могу. Пойми ты, не простят мне родные мои. Не смогут в нави упокоиться, пока топчет землю обидчик. Сколь дён во сне вижу их. Матушку бледную, отца битого. Больно им, слышишь? Больно и тяжко! — голос ее взвился, прижал правдой так, что дышать стало трудно.
Богша уселся на лавку, провел ладонью широкой по лицу, но тревоги тем не смахнул. Видно было, что от правдивых слов последней из Лутаков сделалось ему еще горше.
— Уезжай, Богша. Мы с Нельгой уж сами, — Новица говорила тихо, но внятно. — Я уже который день в дому у Новиков подвизалась. То в девичьей поверчусь, то у печи потопчусь. Привыкли. Как притекут Военег с дружинниками, так мы с Нельгой и пойдем помочь по-родственному. А там уж травку подсыплем. Хучь в бражку, хучь в квас. Сдохнут, все сдохнут! Кровавым потом изойдут и в корчах в навь отправятся! За все помстим!
Закричала вдовица безумная, забилась. Нельга сей миг подсела к ней, обняла, утешила. А сама на Богшу глядела, мол, пойми — ей плохо, так и мне не лучше.
— Будя. Спать давайте. Утресь все инако видится, — Богша снова тяжко вздохнул. — Ежели упертые такие, то и пёс с вами. Да и со мной. Более о том говорить не стану, и ответ все трое держать будем. Не кину, не оставлю. Делайте, как знаете, а я как сам разумею. Травы подсыпьте, и тикайте. С холопами тем днем разочтусь и отпущу с подворья. А мы побежим. Выйдет, не выйдет — то светлые боги решат.
С теми словами встал и пошел к себе в малую гридницу, в которой спал в те дни, когда приезжал с заимки.
Нельга еще малое время посидела, обняв Новицу, а уж потом и спать ее уложила: укрыла шкурой, косы подобрала, поцеловала страдалицу в лоб. Сама же спать не легла, не могла себя унять. Походила по гриднице, да и вышла во двор.
Долго смотрела с крылечка на темнеющее небо, на звезды, что усыпали его щедро, да слезы лила: по себе, неудачливой, по яви, по Тише и по Некрасу…
Стоило подумать о купце молодом, так соль-то на щеках сама собой высохла, не иначе румянец спалил без остатка. Сей миг захотелось кинуть все и бежать далеко-далеко! По темному лугу, к Старовешенскому ключу, а там за дальние реки, высокие берега. Подальше от Военега, от помщения и близкой смерти. Сдержала себя, скрепила. Вернулась в домок, выпила свежей водицы из кадки и улеглась на лавку. Уснуть скоро и не чаяла, а уснулось и во сне привиделось.
Шла Нельга по узкой тропе, любовалась на синее небушко, на траву зеленую и высокую. Ноги несли легко и вольно. С одной стороны Свирка блестела — светлая, тихая. С другой Молог — темный и грозный. Нес он воды свои мутные быстро, будто спешил куда-то. Нельга и засмотрелась. Вода в реке черной сделалась, забурлила, забилась о высокие берега, подточила землю, смыла тропку. Нельга и крикнуть не успела, как полетела в Молог, упала на самое дно.
А там муторно, скверно! Трава речная руки-ноги оплела, к солнцу, к яви не пускала. Ни вздохнуть, ни на помощь позвать.
От страха Нельга забилась, руками в воде замолотила и крикнула то, что на ум вскочило:
— Некрас!
И явился! Взял за руку холодными пальцами и вмиг обратился в змея — большого, гладкого. Оплёл Нельгу крепко, как та трава, не пускал от себя, обвивался, сжимал туго.
— Нелюшка, проснись. Ты чего пужаешь-то? — Новица стояла возле лавки: косы темные, рубаха белая.
— Макошь пресветлая… — Нельга вздохнула, смахнула со лба пот. — Сон дурной, Веечка. Дурной. К смерти близкой. Ты не боишься ли, ответь мне? Помоги!
Новица обняла девушку, к себе прижала:
— Убить не боюсь, Медвяна. Боюсь остаться в яви и разуметь, что псы эти землю сапожищами топчут. Над людьми измываются. Не одна я под толпой мужиков-то повалялась. Свезло, что ты рядом была, ослабонила. Ведь издохла бы, как собака болезная на полу в бабкиной избёнке.
Завыли обе: одна по жизни слёзы лила, другая от жизни рыдала.
— Будя… Все уж решили. Ты, Медвянушка, вставай. Утричай и сиди себе спокойнёхонько. Сил надобно набраться. Можа еще и свезет? Сбежишь раньше, чем поймут кто извёл пса-то Рудного? — Новица утерла слезы рукавом бабьей рубахи и пошла к столу.
Нельга встала тяжко, через силу взялсь умыться, а вслед за тем и косу плести. Метала косищу долгонько, словно тяжкую работу делала.
Ложкой возила по миске с кашей, к хлебу утреннему и не притронулась. Не заметила, как Новица ушла из дома. Так бы и сидела в мути и раздумьях, если бы не топот на крыльце, не громкий голос девичий:
— Нельга! Нельга, ты тут ли? — в гридницу влетела холопка Новиков.
— Что ты, Зоя? Случилось чего? У Рознега беда в дому?
— Нет. Тихо все, — Зояйка отдышалась, прислонилась к стене. — Бают, что Тихомирка Голода на Дурной тропе оступился. Супротив Зуевского бора. Ох, упрела бежамши. Нельга, ты ежели чего, беги опричь улиц. Всяко быстрее.
Нельга уже и не слушала, подхватилась и вон из дома! Неслась, как дурная. Все враз позабыла — обиду на парня, слова его, и то, что сильничать хотел. Ведь Тиша упал!
Ноги быстрые донесли легко до Друной-то тропы. Берег крутой, дорожка узкая, кривая — того и гляди вниз полетишь. Остановилась только тогда, когда поняла — пусто на тропе-то, нет никого. Сосны высокие верхушками небо скребут, запах дурманный, смолистый, шёпоток глубоких вод Молога и тишина звенящая.
— Быстро ты, — голос Цветавы. — Все еще Тишку любишь? Вона как. Одного привечаешь, а с другим милуешься?
Нельга огляделась и наткнулась на злой взгляд красивых синих глаз Рознеговны.
— Цветава, ты как тут? Что стряслось-то?
— Дура. Что стряслось, спрашиваешь? А то! Обманула я тебя, змея. Сей миг за все мне ответишь. За то, что жениха увела, за жадность свою к чужому-то злату. Тварь пришлая! — Цветава наступала, сверкала очами, сжимала кулаки.
— Опомнись. Никого я не уводила, — Нельга двинулась от дурной девки, но далече не ушла, поняла, что за спиной стоит кто-то.
Обернулась и увидела Зойку. Та дышала тяжко, видно бежала следом, да Нельга в испуге своем не приметила.
— Куда собралась? — холопка растянула губы в улыбке опасной. — Слыхала, что хозяйка моя говорит? За все ответишь.
Шагнула к Нельге и крепко за косу прихватила. Цветава тоже на месте не стояла, подлетела и вцепилась в руки — не оторвешь. Нельга и озлилась. Отпихнула красавицу, дернулась от Зойки, да та сильная, не вырваться.
— Пусти! Пусти, кому сказала! — и ногой ее по ноге.
Та взвыла, руки-то разжала, а Нельге того и надобно. Отскочила на шаг, а там уж Цветава. Так и ее Нельга не постеснялась толкнуть. Вот и пыхтели три девки на узкой тропе, царапались и ругались.
— Держи ее, Рознеговна! За руки-то хватай! — Зойка вцепилась в подол Нельгиной запоны, дернула на себя.
Нельга и запрокинулась на спину. Цветава сверху упала, собой прижала к земле.
— Попалась, тварь! Зарок давай! Клянись перед светлыми богами, что от Некраса отступишься! — Цветава кричала, надсаживала горло отчаянно.
— Отпусти, змея! На что мне жених твой?! — Нельга трепыхалась, отпихивала дурную девку.
Да куда там?! Зойка ноги прижала, уселась сверху.
— Клянись, кому сказано?! Погань безродная!
И поклялась бы Нельга, ведь невелико дело, а обидой сердце занялось. Она безродная? Лутак?! Взъярилась, собрала силы последние и так толкнула Цветаву, что ту снесло прямо на тропу в пыль придорожную. Вслед за ней отпихнула Зойку, но та оказалась не промах. Подскочила и боднула Нельгу головой в живот…
Ничего не успела Нельга: ни слова последнего молвить, ни крикнуть, ни проститься с явью. Оступилась на кривой тропке. Земля твердая из-под ног ушла, словно стряхнула с себя неудачливую, отдала Мологу сильному.
Взмахнула Нельга руками, будто птица крылами, и полетела навстречу глубоким водам и верной погибели.
— Тихомир! Тишка, чтоб тебя! Не угонюсь ведь никак, — Беляна, меньшуха Новиковская, бежала по улице, придерживая живот.
— Чего? — парень обернулся, посмотрел удивленно.
— Того! Беги на Дурную тропу! Не медли! — Беляна охнула, прижалась спиной к забору. — Цветава дурное задумала, Нельгу заманила. Я услыхала токмо, что зла ей желает. С холопкой уговаривалась тайком. Я и подхватилась! Что стоишь, телишься? Беги, говорю! И молчком, Тиша, молчком! Узнают люди, так не отмоемся. Деньгой поклонюсь тебе, токмо смолчи! Новикам дурная слава-то ни к чему! И Нельгу сбереги, ведь хорошая девка, дорога мне!
Тихомир постоял, поморгал, а потом уж очнулся и двинулся. А Беляна сползла вниз по заборцу, едва в пыль дорожную не уселась, до того испугалась. Упасть не дала рука крепкая.
— Беляна, что ты сказала-то? Никак про Нельгу? — Некрас Квит подхватил женщину, на ноги поставил. — Не молчи! Что с ней?! Говори!
— Ох! — Беляна растерялась: говорить, нет ли?
— Беляна, сей миг отвечай!! — Некрас глазами высверкивал, брови супил, кричал так, что женщина и не вынесла.
— На Дурной тропе… — выдохнула будто.
Квит бросился так, словно жизнь свою догонял! Долго смотрела меньшуха Новиковская на высокого парня, на спину крепкую и разумела кой-чего. Видно не просто так взялась Рознеговна козни-то строить Нельге. Не иначе мужика не поделили девки. Вот чего копошатся, чего дурят? Одна печаль с того и беды.
Некрас нагнал Тихомира у самой тропы. Тот забирался по крутому берегу: не скоро, не тихо, серединка наполовинку.
Квит за ним! Оттолкнул Голоду, сунулся вперед, и увидел страшное. Цветава вскочила на ноги, охнула громко и руки ко рту прижала, крик спрятала. Девка-холопка, застыла на тропе, руки развела в стороны, потерялась совсем. Но не на них смотрел Некрас, не их видел.
Как во сне глядел на тонкую девичью руку, что прощальным приветом мелькнула над крутым берегом, поманила белизной, да и скрылась с глаз.
— Нельга!! — крик сорвался страшный, зазвенел в тишине и отраде соснового бора, пошел гулять меж ровных смолянистых стволов.
Без раздумий, без опасений всяких и мыслей, разбежался Некрас и рухнул вслед за Нельгой, полетел птицей в омут.
Цветава выла тихонько, Зойка хмурилась да на хозяйку глядела. А Тихомир стоял смирно, но по всему было видно — прикидывал что-то, думку думал.
— Цветава, разочтись со мной. Свое дело я сделала, — Зойка говорила тихо, но уверенно. — Не дашь деньгу и берёсту, молчать не стану. А так уйду, только меня и видели!
Цветаву словно подкинуло: выть перестала, кулаки сжала.
— Ты спихнула! Ты! И что теперь? А?!
— Тихо. Расквохтались, куры, — Тихомир подал голос. — Разочтись. А ты, холопка, уходи из Лугани. Уходи и не вертайся.
Цветава хоть и тряслась от страха, а все же отдала девке наглой обещанное. Достала из-за пазухи золото и отступную. Зойка цапнула из рук Рознеговны добро свое и побежала проворно.
Тихомир посмотрел вслед убегающей девке, а потом и к Цветаве обернулся.
— А теперь со мной разочтись, — шагнул ближе. — Два золотых и молчать буду. Сам с Лугани утеку подалее. Не выплывут обое, останутся в Мологе, никто об них не прознает. А где там их вынесет, к берегу прибьет, то не наша с тобой печаль.
Цветава задумалась, а миг спустя кивнула.
— По темени приходи к подворью. За воротами стой, сам не суйся. Вынесу тебе. А коли уговора не сдержишь, так я на тебя все спихну! Понял?
— А на кой мне болтать? Деньга мне нужна, не слава дурная. Обманешь, так расскажу, что тут сотворилось.
Еще малое время пожгли друг друга взглядами и разошлись в разные стороны.
Глава 25
Упал Некрас камнем в Молог, да свезло — вошел словно ложка в мягкую кашу! Сомкнулись воды над головой, потянули течением, закрутили парня, что листок осенний не ветру. Не оглядеться, не вынырнуть. Сапоги отяжелели, на дно тянули, но сдюжил, справился. Руками замолотил и выскочил на воздух.
Несло по воде быстро, метало страшенно. Некрас не увидел Нельги, и от отчаяния закричал громко, что есть сил:
— Нельга!! Нельга, отзовись!!
Ответа не дождался, только шум мощных волн вокруг, да грохот. Еще малое время воевал с водой, упрямился Некрас, нырял и выскакивал, а девушки и не нашел. В ужасе холодном взмолился светлым богам, чтобы знак подали, не оставили в беде медовую. О себе и не мыслил сей миг, только о ней.
— Велес могучий, ты ж любил меня всегда, помогал, так и ее не оставь в беде, — захлебывался, бормотал, нырял.
Помянул Сварога грозного, а уж после Ладу Праматерь. И отозвалась! Не оставила заботой своей теплой. Блеснуло что-то впереди Некраса, мелькнуло лучиком малым. А вслед за этим увидел он руку белую над водой — показалась на миг и пропала в потоке бурном.
Силы собрал, руками по воде забил и поплыл. Поднырнул поглубже, и там уж увидел тонкую девичью фигурку — руки раскинуты, коса травой речной пластается, полощется. Ринулся за ней и ухватил за руку, потянул к солнышку.
Вытащил, прихватил крепенько и отпускать не собирался. Вокруг вода, берег далеко, дно глубоко. Понял Некрас, что пропадут, не выплывут. И подивился тому, что не пугается. С Нельгой в руках готов был и в навь ступить без опаски. Но натура-то живая, ярая. Думки и завились, закрутились. Жить-то всем охота…
Встряхнул Нельгу, понять — не захлебнулась ли? Она закашлялась, забилась в крепких руках, вцепилась, что есть сил и едва обоих на дно не отправила.
— Тихо ты! Отпусти, медовая! Инако потонем! — ругался, но держал крепко. — Выплывем, заобнимай хоть до смерти, а теперь греби. Греби из последних сил!
— Некрас… Ты как…Что… — водой давилась, себя не помнила, но слова его услыхала, перестала цеплять за шею и рукой по воде забила бездумно.
Метало их долго. Только начнут к берегу грести, как течение подхватывает и волочет за собой. Силы уходили скоро, а ни спасения, ни бережка, ни отмели. Вот уж стали под воду уходить часто, да Некрас жилы рвал, выталкивал Нельгу наверх, она слабой рукой за собой его тянуть пыталась. Так и неслись по Мологу, так и упирались.
Через малое время понял Квит, что конец близок. Взъярился, и тут же отчаялся. Снова взывал к богам, безмолвно, яростно. А те молчали, будто отвернулись. В последней надежде нащупал на подпояске Знич, что Радим отдал, вцепился в него, и глаза прикрыл — силы кончились.
Знич в ладонь впился больно, едва не до крови, но дело свое сделал! Вдалеке увидал Некрас сосну поваленную, она ветки свои пушистые в воде мочила, словно девка руку мыла. В том узрел купец спасение и закричал Нельге:
— Медовая, смотри. Туда глянь! Силы собери, все их отдай, но греби. Я с тобой, поняла ли? Выплывем, спасемся, но токмо ты постарайся, медовая.
Она в руке его трепыхнулась, огляделась, едва не уйдя под воду, и увидела сосну-то. Вмиг ожила, рукой свободной принялась воду отгребать, ногами плескать. Некрас и сам взбодрился, будто силы изыскал укрытые.
И ведь сдюжили, догребли. Некрас уперся, Нельгу прихватил крепко, и поймал рукой ветку. Едва не сломался, но подпихнул девушку к сосне, а та взялась одной рукой за сук, а второй крепко ухватила парня за ворот рубахи. Повисли, как два яблочка, дух перевели. Все не могли поверить, что не швыряет их более по водам, не мечет страшно и бездумно.
Передохнули и потихоньку, помаленьку стали двигаться к берегу, что манил светлым песком, высокими соснами и зеленой травой, обещая жизнь. Вскорости уж коснулись дна ногами, вышли на твердь — тяжко, трудно — и упали в мягкую траву.
Долго лежали, надышаться не могли. Некрас ткнулся лицом в траву, руки раскинул, будто землю обнять хотел. Нельга рядом дышала тяжко, глаза зажмурила от солнца, что сияло ярко. Обоих накрыло тишиной, шорохом легкого ветерка и скрипом сосновых стволов, что тянули к небу свои ветви-пальцы.
— Медовая, вот ответь, почто мне такое наказание? Сбежать от меня хотела? В нави укрыться? — Некрас повернул голову и смотрел на Нельгу.
Очелье она оставила Мологу, косу, что разметало водой, распластала по траве. Сама бледная, дрожащая…любимая.
Поднялась, присела — вода по лицу, рубаха к телу прилипла — брови изогнула и заплакала. Да так горько, что Некрас сам чуть было слезу не отпустил. Подлез ближе, сел рядом, а она кинулась ему на грудь и заскулила:
— Некр-а-а-а-с… — вцепилась в рубаху, сжала так, что ворот едва не треснул.
Обнял, к себе прижал, и сей миг самого затрясло — шутка ли, едва в навь обое не попали.
— Медовая, любая… Ну что ты? — целовал волосы промокшие. — Всё уж, всё. Чего рыдать-то? Ай, воды мало?
— Да как же ты…Откуда… — бормотала сквозь слезы. — Ведь едва не потоп. Как же…
Некрас и ополоумел маленько. Ведь не о себе она, о нем сейчас слезы лила. Может, полюбила? Может, разумела, что дорог он ей?
— Глупая … — взял в ладони большие личико ее заплаканное, поцеловал щеки мокрые, губы румяные. — Я за тобой хоть в Молог, хоть в навь. Ужель не поняла еще?
— Как узнал-то? Как явился? Ведь сулился через две семдицы… — задыхалась, но от губ его не уворачивалась.
— Никак ждала? — рука его сама собой скользнула на ее шею, и поползла ласковой змейкой по плечу, по спине.
— Во сне видала… — вздыхала, прижималась крепко. — Как ты из Молога меня тянешь… Некрас, Некрас…Как же ты?
— Знал, что беда с тобой, — руками ее оплёл, прилип, что смола. — Веришь, ни спать, ни есть не мог. Вот и отвалили из Решетова раньше. Если б Беляну не встретил, так и …
— Беляну? — Нельга всхлипнула на его груди, слезы уняла и лицо подняла. — Не пойму я.
— Подслушала она, что Цветава дурное замыслила, притекла Тишку твоего звать на подмогу. Он побежал и я за ним.
— Тихомир там был? Видел?
Он не ответил. Чуял, что не время сейчас говорить о любви Нельгиной. Озлился, ревниво заглянул в зеленые очи, блестящие от слез.
И она промолчала, глаза опустила, уперлась ладошкой в грудь парня и отодвинулась. Тишина повисла, но недолгая.
— Медовая, ты бы хоть косу отжала. Вода по сию пору бежит. Гляди, не захлебнись опять, — скрепил себя и потянул с ноги сапог, отяжелевший после реки.
Вылил воду, да много, словно из кадки. Второй тоже стянул и выплеснул, а уж потом глянул на Нельгу. Она сидела тихонько, глаз не поднимала: то ли думала, то ли вспоминала что-то.
— Прилипла? Давай помогу, — цапнул девушку за ногу и сапожок потянул, воду вытряхнул и за другой принялся.
Поставил обувку сушить, а сам взялся на белые ножки — маленькие, замерзшие — отогрел руками горячими.
— Сама я, что ты… — смутилась, но не приметил Некрас на лице ее брезгливости или иного дурного и неприятного.
— Ты уж сделала сама. Теперь сиди и радуйся! — не хотел ругать, не желал пугать и кричать, но само собой выскочило, а все потому, что испугался за нее. — Тебя зачем на тропу-то понесло?! Чай не на привязи туда тянули?! Чего смотришь?! Отвечай нето!
Она глаза распахнула, брови взметнула высоко, трепыхнулась испуганно, да и ответила:
— Так холопка сказала, что Тиша упал в Молог.
Некрас и вызверился: засопел, брови сдвинул, и будто шире стал, больше.
— Тиша? Гляньте на нее. А хоть бы и упал, там ему и место! Я бы еще и подпихнул! — кровь в голову стукнула, заставила слова страшные кинуть. — Отвечай, ему обещалась? В дом звал? С того ты мне тогда отлуп кинула?
И дышать перестал, горло сжало. Солнце померкло, и сосны казались чудищами, и Молог злым, и трава жесткой.
А она молчала, только грудь под рубахой девичьей дрожала, вздымалась тревожно.
— Говори, — прошипел, надвинулся, навис над Нельгой.
Она головой помотала и ответила тихо-тихо:
— Звал. Просил его стать, — помедлила малый миг, что Некрасу почудился годом. — Отказалась я. И тебе отказ дам, Некрас. Не его я, не твоя. Ничья.
А Квит взял да улыбнулся. Уши-то дурные влюбленные, слышат только то, что хотят. Он и разумел — отказала Тишке, а что там дальше шептала, то уже и не в счёт.
— Вот и молодец, вот и разумница, — снова явь ожила для парня, окатила отрадой. — На что он тебе? Уж тьму раз говорил, я лучше.
Бровями поиграл потешно, а Нельга и хмыкнула смешливо. Сидели друг напротив друга и смеялись, будто и не было Молога бурливого, воды опасной и того страха, что натерпелись обое малое время назад. И то верно. Юность-то свое взяла, по доброте смахнула дурное, подарила хорошее, не стала маять долгой печалью.
— Некрас, скажи, ты хучь когда печалишься подолгу? Ты чуть не утоп ныне, а сидишь и лясы точишь. Дурной, как есть дурной, — улыбалась Нельга. — Ты зачем прыгнул? Ведь со смертью играл…
— А чего печалиться, медовая? Вот она ты, вот я. Солнце, сосны, небо синее. Отрада кругом, — головой тряхнул, обдал брызгами. — А прыгал за тобой. Сказал уж, везде достану. Моя ты.
Она уж рот открыла перечить, а он не дал, сунулся к ней и одарил быстрым поцелуем, сбил с мыслей.
— Ох, и хитрый, — ворчала, а румянилась, и то не укрылось от парня. — Спаси тя, Некрасушка. Если бы не ты, лежать мне на дне Молога.
— Во как. Некрасушка, говоришь? Ну, добро, — подскочил, на ноги встал. — Нельга, а ежели еще раз сигану в Молог пойдешь за меня?
И пошел уж к воде, дурной!
— Некрас, ты ума лишился? — и она подскочила, кинулась за ним. — Сей миг вернись!
— Вернусь, коли моей назовешься, — и улыбался, счастливился, как паренёк-подлеток.
— А и сигай! — руки на груди сложила, отвернулась. — Заполошный. Опять донимать принялся. Сказала — не пойду.
— Нельга, отчего? — голосом переменился, понежнел. — Люблю я тебя. И ты меня. Что? Думала не пойму? Не ты в руках моих таяла? Целовала так, что искры летели.
Она промолчала, голову опустила. Некрас и сам затих. Было с чего… Рубаха-то на ней мокрая, облепила, обвилась вокруг упругого тела. Не скрывала ничего, а будоражила кровь тем, что под ней. А тут еще тишина отрадная, нет никого, только река, сосны и она, медовая и сладкая.
Не будь она Нельгой, и медлить не стал бы. Напел бы в уши слов ласковых, заласкал поцелуями горячими и своей сделал сей миг. Но помнил Некрас о дурости своей, что створил в срубе, когда пытался силой взять. Нутром чуял — пока сама не подойдет, он сдохнет от хотелки, но не сунется.
Постоял, помаялся, да и решил, хитрый, подманить. Не знал как, а потому и ринулся ощупкой, вслепую. Понадеялся на случай.
— Нельга, ты мокрая. Солнце палит, то верно, но вода-то стылая в Мологе. Иди вон, за травой-то схоронись и скинь сырое. Просохнет нето. Да и сама отогреешься. Не ровен час огневица настигнет.
Нельга посмотрела на Некраса с опаской, прищурилась. А он, будто и не видел, отвернулся и принялся высвистывать. То ли соловьем, то ли жабой — сам не разумел. Да и какое там разумение? Девка рядом и не абы какая, а любимая. Тут не только свистеть начнешь, вьюнком завьешься, козлом заскачешь.
Она потопталась малое время, да и пошла. Схоронилась за высокой травой, зашуршала. Некрас по бережку побродил, побродил. Рубаху с себя скинул, отжал крепенько. Вернулся и уселся опричь того места, где Нельга сушилась. Видел, что запону на траву накинула, рубаху стянула, уселась и косу начала разметывать. Пропускала сквозь пальцы светлые пряди, словно гребнем чесала. Сидела-то близко, только руку протяни…
Вздохнул Некрас тяжко, головой помотал. Стянул порты и кинул на траву опричь себя, рядом устроил рубаху. Сидел тихо, смотрел на реку, жмурился на солнце. Себя уговаривал, но не уговорил, сунулся к Нельге с разговорами. И то верно! Не сидеть же сиднем!
— Нельга, а далеко нас унесло. Побултыхались бы еще хоть сколько-нибудь, так и до Нового Града доплыли. Я бы тебя на торг сводил. Там людно, шумно, — замолк, ответа ждал.
Повернулся и наткнулся на взгляд яркий. Сквозь стебли травяные смотрела на него медовая, глазами блестела.
— Я бы побывала, Некрас. По сей день помню, как ты мне про домины-то рассказывал, — волосы с лица откинула.
И наново Квит завздыхал. Видел плечо белое, волосы, что золотым светлым медком укрывали девушку, блестели на солнце ничуть не хуже кудели золотой.
— А я по сей день помню, как увидал тебя впервой. Весна ранняя, капель, девки все зубы скалят, а ты идешь, словно во сне. Тогда еще понял, что непростая ты, особая. И глаза твои…окаянные.
— Простая, Некрас. Ничего во мне такого и нет… — голос ее тихо звучал, но все одно, отрадно. — Ищут нас, поди. Найдут ли? Как разумеешь?
— Пока Тишка твой отелится, пока сообразит, что и как, темень падет, — Некрас и имя-то Голоды не говорил, а будто сплёвывал. — Если додумается. А то и вовсе уснёт по дороге. Не бойся, медовая, отец насаду отправит. Или по суху кого пустит. Искать по берегу станут. Можем сами в Лугань двинуться, токмо придем к ночи. Сиди уж, когда еще доведется вот так-то. Глянь, красота вокруг.
— Красота? Некрас, чай все всполошились. Думают, нас в живых уж нет. А ты — красота.
— Вот найдут и обрадуются, — ухмыльнулся. — Чего зря метаться? Что? Что смотришь, взглядом жжешь? Ну, хошь, обсохнем и двинемся? Дойдем до Лугани, а там я тебя к отцу с матерью сведу.
Нельга всполошилась, выпрямилась, не иначе позабыла, что без рубахи. Плечи белые, грудь едва прикрыта волосами. Некрас зажмурился и отвернулся, опасаясь себя самого.
— Чего?!
— Того! Нельга, ты как дитя. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Упреждал же, что поведу в дом. Мать привез, отца с места стронул. На тебя смотреть.
— Вот ты… Я ж тебе отлуп дала, какие еще смотрины? Ты чего удумал? — брови высоко возвела, удивлялась. — Ты взаправду, Некрас? В дом меня хочешь брать?
— Я тебе о том уже тьму раз сказал. Что опять-то? Орать тебе в самое ухо? — засмеялся. — Ты мне не веришь? С чего? Я не врал тебе никогда.
Она и замолкла, сидела удивленная, напоминала Некрасу девчонку сопливую, что увидала диковинку небывалую. А потом глазами понежнела, потеплела.
— Не врал. Никогда. И не прикидывался ни разу. Пугал, подкупал и все сразу говорил, думок своих не таил. Некрас, ты ж меня не знаешь совсем. Вот так прямо и возьмешь в дом? Я безродная, небогатая…
А он помолчал, улыбнулся и заговорил:
— В золоте ли счастье, медовая? А то, что род свой утратила, так не беда. В мой придешь, сыновей мне родишь. Токмо уговор, пусть зеленоглазые будут. А что не знаю о тебе, так ошиблась ты. Все, что надобно ведаю. А чего не ведаю, так чую. Гордая, разумная, горячая. Красивая, аж дух захватывает. И живешь по сердцу, не по чужому велению. Не купить тебя, не сломать. Целуешь сладко… — ожег девушку взглядом, заставил румянцем залиться. — Живем однова, Нельга. Я в яви хочу всего самого лучшего. И за тебя похлещусь, поторгуюсь с судьбой-то.
Она молчала долго, Некрас уж дергаться стал. Ужель отворотится? Не поверит? От сердца говорил-то, чистую правду.
— Купец ты. Торгуешься, покупаешь, лучшего ищешь. А о любви мне поешь. Товар я для тебя, а, Некрас? Заело, что отказала тебе? — вроде с ним говорила, а вроде и сама с собой.
— Товар, говоришь? А хучь и так, медовая. Ведь товар он разный бывает. Я тебе расскажу то, об чем никому не говорил. Вот чую, что токмо ты и разумеешь… — вздохнул глубоко и начал. — Я насаду от отца взял, дурень дурнем был. Наука купеческая непростая, я и упирался. Там сторгуюсь, тут деньгу сшибу. Бился за каждую чешуйку, кошель набивал. Злой был до золота, а все, чтоб отцу показать, что не пустобрёх я, а самый что ни на есть купчина. В самый торг пошли мы тихой водой до Нового Града. По пути в Бобры притекли, тюки стали волдохать. Пока копошились, к насаде бабка подошла. Крепкая еще, но уж подалась, сгибаться начала, седая вся и глаза такие, словно в навь смотрит ужо. И ко мне идет, так, мол, и так, помоги, не оставь. Внучка у меня единственная, болезная. Перхает* и днем и ночью, того и гляди оставит явь. Мучается сильно. Все твердит о шёлке, будто снится ей плат белый, такой, как княгиня носит вокруг шеи. Хучь разок потрогать… — пока говорил, издергался весь, словно по живому себя резал, но вздохнул и продолжил. — Смотрит на меня, в глазах мутных слезы закипают, а сама лезет за пазуху и достает тряпицу. А в узелке две серебрушки. Видать все, что есть. Протянула, и стоит. Рука-то работой расплющена, аж черная, но не тряская. Не инако знает, чего творит. Ты, просит, купи в Новом Граде хучь малый отрез, девку порадовать перед смертью. Отказать не смог, но и знал, на те ее деньги такой плат токмо поглядеть можно. Пришли в Новый Град, я и взял отрез малый. Золотым поклонился. Вернулся в Бобры, а бабка у берега пасется, ждет. Денег с нее взять рука не поднялась. Сунул ей плат и утёк поскорее. Ажник с насады слыхал, как рыдает старуха, богов просит за меня! Товар, говоришь?! Есть такой товар, что за него все отдать не жалко! Разумеешь ли?! Ты вот для меня такой товар, Нельга. Опомнись, моей стань. Все отдам! Что ж ты жилы мне рвешь?! Не видишь, не могу без тебя?! Всю жизнь ждать буду, к тому готов, токмо одна она. Время-то не поворотишь. Сейчас надо любить, сейчас желать, а не тогда, когда одной ногой в нави!
Вскочил, метнулся к воде, да встал как вкопанный. Позабыл, что без одежек, до того ли сейчас? Через малое время, понял — за спиной Нельга. Прижалась, руками обвила, волосами шелковыми коснулась, словно приласкала. Некрас и дернулся, повернулся к ней, ухватил крепко за плечи. А она глаза закрыла, дрожала, словно заяц.
— На меня смотри, не прячь глаз, медовая. Разумеешь ли? Я перед тобой, не иной кто. Сама пришла, стало быть, знала к кому идешь. Я не он, — голос дрогнул, взгляд потемнел.
Нельга глаза и распахнула, а в них свет и морок, чудо чудесное и бездна глубокая.
— Не он, — провела ласковыми ладонями по груди крепкой, потянулась целовать.
Некрас пропал совсем, ослеп и оглох. Чуял только, как сердце бухает — его и ее.
От автора:
Перхает — перхать — кашлять.
Глава 26
Нельга слушала горячие речи парня. Чуяла, разумела, что слова идут от сердца, льются только для нее одной. Смотрела на Некраса, на глаза его яркие, на волосы темные и видела, как тревожится, волнуется пригожий парень.
— Опомнись, моей стань! Все отдам! Что ж ты жилы мне рвешь?! Не видишь, не могу без тебя?! Всю жизнь ждать буду, к тому готов, токмо одна она. Время-то не поворотишь. Сейчас надо любить, сейчас желать, а не тогда, когда одной ногой в нави!
Вскочил, бросился к Мологу и встал. Спина сильная, крепкая, плечи широкие, кожа гладкая… Слова-то его опалили сильно, жаром прошлись по Нельге. Прав, прав он тьму раз! Ведь сама о том думала, сама те же слова кричала светлым богам в миг, когда тоска скручивала туго.
Смотрела на Некраса и понимала — любит он. Верила ему, и радовалась, счастливилась, сияла. Мысль пролетела быстрая и горячая — любить хочу. Сколь дней-то осталось землю топтать? Пусть недолгое время, пусть самое малое, счастливой побыть, понежиться в руках его крепких, послушать речи горячие, любовные.
Встала с травы, вздохнула, скинула с себя испуг и робость, да и двинулась к нему. Об одежках, что разбросала и не думала. Знала, зачем шла…
Приблизилась тихо, прижалась к крепкой спине, обняла руками и задрожала: теплый Некрас, гладкий. Заволновалась Нельга, задышала быстро-быстро, зажмурилась, а он возьми да повернись. Руками в плечи вцепился, и голосом совсем заворожил:
— На меня смотри, не прячь глаз, медовая. Разумеешь ли? Я перед тобой, не иной кто. Сама пришла, стало быть, знала к кому идешь. Я не он.
Она смолчала, а в голове всё мысль билась: «Не он, не Тихомир. Лучше во тьму раз!». Глаза открыла, посмотрела в очи темные, яркие и выдохнула будто:
— Не он, — руки сами собой легли на грудь крепкую, приласкали.
Хотела уж сказать, что к нему шла, да не смогла. Сердце застучало борзо, громко.
Некрас потянулся к ее волосам, взял в горсть и за спину перекинул, открыл глазам кожу белую, шею стройную, грудь высокую. Ей бы оробеть, загореться румянцем стыдливым, а не вышло. Будто укутал ее Некрас в одежки небывалые, чудесные. Прикрыл нежностью своей и любовью, согрел взглядом горячим.
— Один раз спрошу, медовая, потом уж пощады не жди, — прошептал жарко, касаясь губами ее губ. — Сама того хочешь?
— Хочу, Некрас. Люби.
Он не медлил. Обнял сильно, руками оплёл, заневолил. Поцелуями покрыл личико нежное, губы румяные. Голова-то девичья кругом пошла: думки развеялись, коленки подогнулись. По спине холодок прогулялся, в груди пожар разгорелся.
Некрас понял все без единого слова, взметнул на руки легкую девушку, прижал и понес в тень, уложил на мягкую траву и собой прикрыл. Целовал жадно, пылал и Нельгу сжигал.
Хотела она запомнить всё, спрятать глубоко в себе, но как? Разум обронила! Руки его скользили по белому нагому телу, ласкали смело, губы творили нелепие сладкое, сбивали с дыхания. Будто знал Некрас, куда целовать и как, словно угадывал все мысли ее потаенные и тем заставлял Нельгу дрожать, как в огневице.
Пытка сладкая, неволя отрадная. Увязла Нельга в ласках его, как в меду: не вырваться, не убежать. Да и как бежать от счастья такого? Зачем?
— Медовая…любая… — шептал жарко, ласкал горячо.
Она руки взметнула, обняла его за шею, притянула ближе. Поняла — дрожит парень, волнуется. Руки-то крепкие, а все одно тряские. С того еще больше в голове ее помутилось, до того, что стон легкий вырвался и прошелестел над мягкой травой.
Некрас ладонью широкой провел от ее груди до живота, и не остановился, коснулся сокровенного, приласкал нежные складки.
— Ждёшь меня, желаешь, Нельга, — будто выдохнул. — Впустишь ли?
Голос его дрогнул, и ворохнул сердечко девичье, словно пробудил. Ничего не ответила, не смогла… Только подалась к нему, раскрылась, позвала к себе. Показала, что ждёт и просит не медлить ни единого мига.
Не подвел ее Некрас. Подхватил бёдра упругие, ринулся навстречу, вошёл единым разом — глубоко, мягко. Нельгу болью ожгло, скрутило. Вмиг нежность ушла, отрада слетела.
— Тихо, тихо, любая, — утешал, целовал гладкие щеки, румяные губы. — Знал бы иной путь, больно не сделал. Верь мне, медовая.
Нельга глаза прикрыла, старалась слезы спрятать, а Некрас приметил.
— Смотри на меня, не отводи глаз. Я скорее себя загрызу, но тебе больно не сделаю, — ладонью ласковой провел по щеке, смотреть на него заставил. — Отдай себя, и не думай ни о чем. Я возьму, и беречь буду всю жизнь. Слышишь ли меня?
Нельга заглянула в глаза темные и увидела… Пламя любовное, нежность отрадную и страх его. Боялся, что оттолкнет, но ждал ведь, ее жалел, о себе не помнил и не думал. Затеплилось в ней что-то, а что и не разуметь. Одно поняла Нельга — не хочет, чтобы отпускал. Боль-то отступила, унялась, а счастье осталось. Оно плескалось в глазах его темных и блестких, обдавало огнем трепетным, тем и в самой Нельге отдавалось радостью. Разумела — вот они едины сей миг, сплетены в одно целое, и как же не поверить, как не потянуться навстречу.
Руку протянула несмело, обняла Некраса за шею и поцеловала в губы. Поцелуй-то легкий, а Некраса словно опалило. Очами высверкнул так, что Нельга с дыхания сбилась и молвила тихо:
— Слышу, Некрас… Не отпускай, — и слова-то простые сказала, а словно жизнь ему подарила.
Поцелуями осыпал, заласкал, да так горячо, что Нельга стонать принялась, сдержать себя не сумела. Шевельнулась под ним, дернулась, он и понял все. Двинулся навстречу — мягко и осторожно, ни на миг не прекратил ласк смелых, она и ответила…
Сплелись тела, спутались и не разорвешь. Только шепот тихий, стоны сладкие, поцелуи горячие. Времени-то не разумели, не считали. Какой счет, когда пламенем окатывает, негой кроет.
Нельге все чудилось, что сияет она, но не вся, а малой искоркой внутри. Искра та ширилась, росла и в единый миг сделалась больше, чем все иное. Обняла разом всю ее, распустилась цветком небывалым и ослепила совсем. От радости той, Нельга вскрикнула, запела пташкой весенней. Некрас песню ее с губ сорвал губами, заглушил поцелуем глубоким и себя отпустил. Рванулся — мощно, сильно — сжал ее крепко, а через малое время прошептал имя ее, вздохнул, словно заново на свет родился и уронил голову на ее плечо.
Сколь лежали так — неведомо. И сколь еще бы пролежали — непонятно. Ведь хорошо же, отрадно. Нельга положила ладошки на спину Некраса и вот чудо — приласкала его, а приятно себе сделала. Не успела подивиться такому-то, как Некрас голову поднял, посмотрел прямо в ее глаза:
— Медовая, по сей день не разумел, как это от любви-то издохнуть. Вот теперь и понял, — глаза блестят, голос тряский. — Одно знаю, если уж и уходить в навь, то токмо вот так.
Заплакала Нельга, ведь сказал то, о чем и думать не хотелось — о нави! Обхватила лицо его ладонями, покрыла поцелуями нежными, все шептала невпопад:
— Живым будь, Некрас… Всегда называй меня медовой, инако не говори… Спаси тя за все… — целовала, слезы лила.
Уж потом сквозь мутную пелену посмотрела на парня и вздрогнула. Глаз таких у него никогда еще не видела! И тоска там, и радость, и боль, и любовь яростная.
— Вот ты какая… Мягкая, нежная, как шёлк. Медовая, любая, откуда? Ведь иное о тебе думал… — голову склонил, одарил поцелуем. — Я никому тебя не отдам. Ни Мологу, ни богам, ни людям. Гнать будешь, за тобой пойду, потащусь псом бездомным. Ругать станешь, почту за ласку. Скажешь дурень? А и правой будешь! Сам о себе так мыслю. Токмо поделать ничего не могу…да и не хочу.
Обнял крепко, руками сдавил так, что Нельга едва не задохнулась, но не дернулась, слова ему не сказала. Лежала под ним и радость свою нянькала. Такую большую, что всю явь можно было в ней утопить.
— Медовая, ведь раздавлю тебя. Чего ж молчишь, слова не скажешь? — отпустил ее, на локтях приподнялся. — Чую, больно тебе.
Отодвинулся, а Нельга сморщилась, дернулась. Боль ткнулась несильная, но противная. И опять Некрас приметил! Встал на ноги и ее за собой потянул. Обнял и повел к реке, зашел по пояс теплую воду, принялся обмывать. Руки нежные, заботливые скользили легко, сторожко, словно опасались задеть больное. Нельга к Некрасу прижалась, голову на грудь ему уронила и стояла, словно в забытьи. Принимала заботу его, едва не скулила от нежности.
— Так-то лучше. Медовая, боль утихнет. Смоет ее вода, далеко унесет. За Новый Град, к горам высоким, — провел руками по гладкой ее спине вверх, зарылся в волосы густые, долгие. — Обряд справим, я тебя на насаду с собой возьму. Все покажу, что сам видел. Городища, домины, реки рассветные, луга закатные. Людей разных.
Век бы стояла и слушала его, но разум-то иное баял: не будет обряда, не увидит она ни домин, ни городищ. Не будет стоять вот так на насаде опричь Некраса, не полюбуется на реки и луга.
— Некрас, хороший мой, не могу я… — прошептала тихо. — Не будет обряда… Не пойду я с тобой на насаде.
— Чего? — он и не уразумел, уставился удивленно. — Как не будет? Медовая, ежели разум обронила от любви моей, так и скажи. Я обожду, пока он заново в головушку твою не влезет. Ты мне слов таких не говори, и сама такого не думай, поняла ли? А если зачали мы? Тогда как?
Положил руку теплую на ее живот, погладил нежно и осторожно. Вздохнул, словно к чуду притронулся.
— Сына Званом назовем. Слышишь? Пусть бегает, нас радует. А я счастлив стану… Дитя от тебя — дар великий.
Она и не стерпела. Сколь нежности в нем, любви. И как не видела, как не примечала? Некрас — дар богов, не иной кто-то! А как разумела эдакое, так и поняла — не сможет она подвести его под мечи Рудных, сама издохнет, а его убережет!
— Некрас, родимый, услышь ты меня! Не могу я твоей стать. Верь мне, верь! То к беде! — затрепыхалась, затряслась.
— Упёртая! И слушать не стану! Доберемся до Лугани, так сразу мать с отцом к тебе поведу. Сбежать удумаешь, везде сыщу! — ругался, сердился, брови гнул отчаянно. — Идем нето! Стоишь тут нагая, заманиваешь меня дурного! А ежели насада придет, тогда как? Пусть все на тебя любуются?
За руку ухватил, потащил за собой на бережок. Там обтер насухо рубахой своей, метнулся за ее одежками.
— Просохли уж. Смирно стой, руки вытяни, — указывал, голосом давил, а глаза-то нежные, как у щеня малого.
Одел ее, сам порты натянул, рубаху накинул. Усадил Нельгу на теплую траву, рядом устроился и обнял крепко, прилип не оторвать.
— Долго ищут нас, медовая. Чудно как-то… Вот точно говорю, заснул Голода по дороге-то. Цветава… — и замолк на полуслове.
— Некрас, не вини ее, — Нельга голову положила ему на грудь, погладила по щеке. — Пугать хотела, не жизни лишать. Само вышло. Слышишь ли? Ее глазами смотреть, так виноватая я, дальше некуда.
— Знаю. Через меня ты в Молог-то попала. Лучше бы меня спихнула… — вздохнул, но не замолчал. — Почему за меня идти отказываешься? Медовая, я сейчас дурак дураком, себя не помню, но вижу — грустишь ты, печалишься. С чего? Ай, жалеешь, что любила меня?
И что ответить? Как обсказать беду свою? Вот то-то же… Только сидеть, обнимать его, единственного, и с явью прощаться до времени.
Глава 27
Солнце давно уж за полдень перевалило, заклонилось к Мологу сердитому, а Некрас все лежал, в небо глядел, то улыбался, то брови супил. Нельга спала покойно на его груди, дышала тихо, щекотала его шею мягкими душистыми волосами. И такой красивой была, что Некрас забыл обо всем: об отказе ее, о насаде, что ждал весь день, а она не шла.
— Ничего, медовая, все равно переупрямлю, — шептал тихонько, опасаясь разбудить счастье свое. — По весне ты на меня с ножом кидалась, а сейчас что? Любишь жарко, целуешь нежно… Согласишься, куда ты денешься от меня.
Говорил сам с собой, чуял, что дурит, а остановиться не мог. И то верно. От счастья-то любовного ополоумел. Поцеловал Нельгу в макушку, вдохнул запах ее медовый да и задумался. Нет насады, а стало быть, никто не ищет. С чего? А просто все — никто и не знает, что ныне и он, и она могли в Мологе утонуть.
— Голода, рыбина снулая, дай срок. Вернусь, так за все мне расчет дашь, — злился, но и понимал, что идти надо.
До Лугани и не сказать, чтоб совсем далече, но выдвигаться надо сей миг, чтобы успеть до темени, не заплутать дорогой, не сбиться с пути и не угодить наново в дурное-то.
Не хотел Нельгу тревожить, а пришлось.
— Медовая, проснись… — целовал губы румяные, звал и ждал, что глаза свои окаянные откроет, приласкает нежным взглядом.
Она шевельнулась, глазищи распахнула и посмотрела, будто видела все мысли его, читала потаенное. Прошла ладонью ласковой по груди крепкой и улыбнулась ясно.
Некрас едва сдержался, хотел кинуться с поцелуями, утолить любовь жадную, но себя пересилил. Больно ей станет, неприятно, а того допустить не мог никак. Девичья любовь дело непростое — в охотку. А для того надобно, что б всякий раз ей отрадно было, а не постыло, не противно, не брезгливо.
Но малую радость позволил себе. Откинул косу пушистую и прижался жадными губами к белой шее. Спустил рубаху с плеч и прошелся поцелуями короткими по груди высокой. Нельга ожила, затрепыхалась в его руках, но Некрас опомнился, одежки ее запахнул и промолвил со вздохом:
— Идти надо, любая. Не видать насады. Чай мечутся по Лугани, нас кличут, — не стал пугать и печалить Нельгу тем, о чем думал. — Ежели сейчас двинемся, так к ночи и дойдём до городища. Посветлу с пути не собьемся.
— Не хочу… — в рубаху его вцепилась. — Останемся, Некрас! Давай здесь будем, а?
— Я бы и сам не двинулся, токмо без хлеба мы тут с тобой долго не протянем. Голодная? Медовая, идти надо, — заглянул в глаза зеленые, приметил в них тоску и испуг. — Что ты? Боишься? Кого, Нельга?
— Никого… Идем, коли надо, — соврала, а Некрас и приметил.
— Что скрываешь, молчунья? Все равно ведь дознаюсь, лучше сама обскажи! — навис грозно, брови свел к переносью, пугал медовую.
Она только улыбку кинула слабую, обняла теплой рукой его шею и поцеловала крепко и сладко. Некрас дух перевел, усмехнулся.
— Ну, коли так, тогда молчи. Мне же лучше. За каждое слово не сказанное целовать станешь? Так согласный я, чего уж.
Встал, потянул за собой девушку. Огляделся, прихватил ее сапоги и подал обуваться. Сам свои натянул, да и притопнул лихо.
— Нельга, вот завидую я тебе. Такого жениха заполучила, а печалишься. Ты токмо глянь, собою пригож, крепок, ростом высок. Чего же глаза-то у тебя слезливые?
Она осмотрела его с головы до ног, брови возвела высоко:
— Пригож? Тебе кто сказал-то, а? Не верь, Некрас, обманули тебя, запутали, — ухмыльнулась и пошла себе к соснам, сквозь которые виднелась вдалеке прореха, а стало быть, дорога рядом.
— Чего-о-о-о? Стой, стой окаянная! — побежал за ней, догнал, рядом пошел. — Ай, не разглядела? Так сей миг покажу наново!
Давай с себя рубаху тянуть, мол, вот я, гляди-любуйся. Она не снесла его дурачества и засмеялась весело, а Некрасу того и надобно. Печаль-то ушла, слетела с нее.
— Болтун, ой, болтун, — выговаривала, а голос нежностью сочился. — Оденься, Некрас, ведь смотреть смешно.
— Да ну-у-у? Давеча не сильно ты и смеялась, медовая. Ласкала-то горячо. Скажешь, не нравлюсь? — бровями поиграл потешно, сунулся целовать.
Она снова смеялась, а он целовал, и разумел — сей день запомнит на всю свою жизнь. И смех ее колокольцевый, и поцелуй смешливый, и радость эту дурную, пьяную, любовную.
Выбрались на дорогу скоренько и пошли себе. Некрас вьюнком вился вокруг Нельги: смешил, дурил, безобразничал. Рад был, как подлеток тому, что смеется она, счастливится. И знал наверняка, понимает она все, инако не стала бы смотреть так горячо, не подходила бы сама так часто, не целовала бы его.
А вокруг отрадно. Солнце нежным стало, нежгилвым. Луга окрасило цветом мягким, предвечерним. Сколь глазу видно — небо синее, облака легкие и травы с цветами. Справа Молог бежит привольно, прячет за высокими ровными соснами мощь свою бешенную. Слева вдалеке лес виднеется — темный, зеленый, густой. Дорога-то ровная, ноги-то молодые, проворные — иди, да радуйся. Они и радовались, счастье ухватили и разумели его сей миг. Такое редко бывает, когда все одно к одному сходится и понимается.
Некрас все выспрашивал у Нельги об отце, матери, а та отмалчивалась. Но пару слов, все одно, обронила. Поведала, какой мать была ласковой, а отец сильным и мудрым. Как учила матушка травы разбирать-разуметь, а батюшка на торг с собой брал, дарил бусиками девичьими, да пряниками инбирными. Вспомнила дом свой — светлый, просторный — начала уж было о бортях, но запнулась и умолкла надолго.
Некрас с расспросами не кинулся, понял — не ко времени. А вот сам болтал — не остановить. Все обсказал: о детстве своем, о Решетове, о том, как двух старших братьев забрали к себе светлые боги до времени. А пока говорил, понял, что Нельге врать не может, чует она, не откликается на дурость всякую и блажь, которая иным девкам слаще мёда. С того полюбил еще больше, а все потому, что настоящим был с ней: не обманывал и не прикидывался иным кем-то.
Шли долго, ходко, а меж тем сумерки пали.
— Медовая, места-то узнаешь? — остановился, и Нельгу придержал на руку.
— Ключ? Старовешенский?! Некрасушка, дошли никак? — на шею бросилась.
Он подхватил, обнял, прошелся ладонями теплыми по упругому телу, себя распалил, да и Нельга качнулась к нему, трепыхнулась податливо. Некрас сдержался, стерпел, улыбнулся только тому, что медовая вздохнула обиженно, когда он руки свои убрал.
— Пить хочется, сил нет… — огляделась. — Идем к ключу, а? Вода сладкая.
— Идем нето, медовая, — за руку взял, потянул за собой.
Ключ прозрачный бил из-под земли, поблескивал в сумерках и прохладой манил. Пили долго, плескались потешно, а потом Нельга и сказала то, о чем сам Некрас думал:
— Вот таким тебя и запомню. Веселый, пригожий, ласковый. Некрас, родимый, спаси тя… За любовь твою, за радость. Пусть боги светлые хранят тебя, нежат. А я помнить буду этот день до самой нави.
Напугала его крепенько: глаза зеленые тоской подёрнулись, губы румяные не улыбались. И ведь говорила так, словно прощалась!
— Во как! Медовая, я тебе за всю-то жизнь еще и надоесть успею. С чего речи такие? — сунулся к ней, цапнул за подбородок, лицо ее к своему поднял. — Утресь жди. Все придем на подворье твое. Мать с отцом и я. А уж после стыка, как князь с Рудными утекут, так и в Решетово подадимся. Насаду мою поглядишь. Нельга, очнись. Да что с тобой?
— Поцелуй меня…Крепко, — и к себе потянула.
Целовал, голубил, а на сердце печаль упала.
До Лугани дошли ночью глубокой. Тишина над городищем, покой, только псы брешут, да ярятся на редких ходоков.
— Нельга, так утром жди. Слышишь? — обнял, к забору прижал и улыбнулся, блеснул белыми зубами в темноте. — Вот на этом самом месте ты меня впервой и приласкала, медовая. По сей день помню, как укусила. Злая ты, а все равно люблю.
— Не пойду я за тебя, сказала уже. Некрас, миленький, поверь ты мне и уезжай. Забудь обо всем, — говорила страшное, а целовала жарко.
— От тебя уедешь, как же… Жди, сказал! И всё на том! А ежели еще раз такое скажешь, и целовать вот так станешь, то вовсе не отпущу. Всю ночь стеречь стану и не абы как, а на лавке, медовая. Не вырвешься, верь мне.
Смех ее в темноте прошелестел отрадно, взвил в Некрасе разное: любовное, плотское, нежное. Но отпустил девушку, хоть и с трудом. Смотрел, как пошла она к домку, как дверь отворила и скрылась за ней, будто спряталась от него.
Потоптался, повздыхал, да и зашагал к дому, где родичи ночевали. Не иначе тревожились, что сын долго не возвращается. Дорогой думал к Тишке заглянуть, в морду сунуть, но рассудил, что тот от него никуда не денется и успеет еще получить по зубам крепенько. А уж когда — поутру или вечерней порой — то неважно вовсе. Чай кулаки-то у Некраса за ночь не скукожатся!
Глава 28
Радомил поглядывал на брата весь тот день, что шли верхами до Лугани. Лютый он, борзый, заматеревший. И то верно. Крови немало пролил Военег Рудный. Посёк людей тьму, и еще собирался. Ехал на коне своем гордо, смотрелся ни много, ни мало князем. Башка гладко оскоблена, с макушки длинная коса свисает*. Шрам поперек щеки и брови кустятся, как у отца.
— Что лупишься? — Военег сердился, не любил, когда разглядывали. — Не нравлюсь? Чего молчишь, умник?
— Того, брат. Уймись. С Ладимиром уговаривайся. Ты ведь не дурень, разуметь должон — посекут нас. Род изведут вчистую. Боятся нас, сам не видишь? Нахапал ты много, то правда, а удержать, сберечь сможешь? Вот то-то же! Осядь, укрепи городище свое. Дружины набери в два раза супротив прежнего. Можа и не полезет ратиться Ладимирка.
— Что, забоялся? Ты ведь чистенький у нас, кровушки-то не любишь, — хохотнул зло Военег. — Порты просуши, и сиди в сторонке. Я тебя обороню, коли что. Дурного ты корня, Радомилка, хучь и Рудный. Всё кубышку свою голубишь, а меч тебе руки тянет. Ты кто такой-то, что б мне указывать? Поди отсель и не докучай! Гнилушка!
Не дружили братья, с трудом терпели друг друга, но и не ратились между собой. Понимали — род должен быть един! Плевать, что матери у них разные, отец-то тот же, а он и есть корень всему.
Радомил отъехал подалее — брата гневить, что с огнем играть — и задумался крепенько. Не сладятся Военег с Ладимиром — конец всему. Думка дурная в голове сверкнула: «Хучь с коня бы упал брат, сломал хребет, беду от семьи отвел».
Уж давненько к Радомилу приходили родные, просили-молили взять на себя род, не оставить заботой. Военега все боялись — не родич он, а пёс дурной. Кусает всех без разбору, по одной лишь дурной хотелке. И как под таким жить?
Поздней ночью добрались до Лугани. На подворье Новиков их уж и ждали: суетились холопы, топтались бабы. Вышел сам Рознег, приветил, как умел и в дом позвал.
За большим столом тесно: хозяин, супротив него Военег, а потом мужи дружинные матёрые и сам Радомил. Пока словами приветными кидались, пока обговаривали, как Ладимир притёк вечером и поселился в дому волхвы, пока пива лили по чашкам, Радомил по сторонам смотрел.
Приметил бабёнку одну — двукосая, взгляд странный, дурной. Руки крепкие, сама пригожая, но словно с червоточинкой. Будто в себя ушла, схоронилась там. Уж потом увидел, как глаза ее злобой сверкают, как выгибаются гневно красивые брови, как кривится рот в усмешке опасной.
Не понял Радомил, какого корня баба: не хлопка, а стало быть, сродница-нахлебница? Любопытничал, примечал за ней. Смотрел, смотрел и досмотрелся…
Она из рукава достала что-то, отошла в уголок и принялась пива лить в малый горшок из большого, а потом потрясла над ним мешочком холстинковым, будто подсыпала чего. Подхватила посудину и понесла к Военегу, налила полную чашу.
Радомил и понял — вот оно, то самое! С чего взял, что отрава в мешочке была — не понял, но осознал, что знак подали боги светлые. Не жить Военегу! И смолчал, не шумнул братцу, не упредил. Смотрел, как жадно пьет Военег пива прохладного, как утирает грубой ладонью губы и улыбается довольно.
Баба пошла пивом обносить и других, но лила не всем, а с разбором. Радомил снова смолчал.
Посидел за столом еще малое время, послушал спесивые речи братца, да и вышел во двор. Ночной воздух — прохладный, душистый — освежил, взбодрил, а вместе с тем и накатило разумение: брат брата убил. Не сам, не своими руками, без задумки, но смолчал, а стало быть, в навь отправил. И совесть не ворохнулась, сердце не забилось быстрее против обычного.
Не был младший Рудный ни злым, ни жадным, но за род свой стоял горой. Знал и видел путь семьи, далеко смотрел и знал — против Ладимира не сдюжат в рати. Военег с князем уговориться не сможет — спесив и горд, а Радомил сможет и сделает. В дружине его уважают, а значит лягут под него, никуда не денутся.
Потоптался, огляделся и шумнул тихо:
— Сиян, тут ты?
Из темноты вышел мужик — неприметный, в летах — встал возле Радомила молча.
— Бабёнка тут одна вертится. Глаз с нее не спускай. Вдовица, собой пригожа, а глаза шальные. Понева яркая, а на запястье малый серебряный обруч, оберег на груди — кругляш деревянный в жестяной оплетке. Узнай кто такова, чья. С подворья не выпускай, ежели за ворота сунется, силком тащи и схорони хучь в овине. Только молчком, Сиян. Разумел ли? — посмотрел на ближника сурово.
Мужик кивнул, да и пошел себе, а Радомил облокотился на столбушок, и задумался о том, как станет говорить с князем вместо брата, о чем торговаться. Вроде мысли плавные, покойные, а внутри загорелось! Неужто станет главой Рудным? Все задумки свои исполнит, род возвеличит?
Заволновался, кулаки сжал. Пока метался мыслями, услыхал, как ворота скрипнули, а вслед за тем на подворье проскользнула девка-холопка. Даже в темноте разглядел Радомил, что красоты редкой. Сама ладная, глаза огромные, коса в кулак. Рубаха простая, небеленого льна и очелья нет на лбу гладком.
Прошла опричь воинов, что дозором стояли, а потом увидела Радомила, застыла, а через миг метнулась за край хоромины, но младший Рудный догнал в два шага, ухватил за руку и к себе повернул лицом. Подивился, что глаза синие, словно небо летом.
— Здрава будь, красавица. Не спится?
— Как уснуть, коли в дому народу много? Воины славные, бывалые, — девка тряслась от страха, но стояла смирно, не шумела.
— А ты не бойся воинов, ты красоты своей бойся, — потянулся, ухватил тонкий стан и потянул холопку пригожую к малой подклети.
Втолкнул в дверь, прижал девку к стене и руку на рот накинул, чтобы не вопила, не кричала. Она забилась в крепких руках, укусить попыталась, но где ей справиться с Радомилом? Крепок, силен, да и воин обученный.
— Тихо, тихо, пригожая, — рукой крепко ухватил за грудь полную, сжал. — Серебрушку дам. Хошь, две? Ты молчи токмо, не трепыхайся. Больно не сделаю.
Она забилась пуще прежнего, из глаз синих слезы брызнули. А Радомил распалился, заполыхал мужицким, знал уж, что не выпустит девку, возьмет прямо тут, в подклети, и никто не помеха. Да и кто вступится-то? Холопка же, не вольная какая. Другим разом может и пожалел бы, отпустил пригожую, но не сей миг. Знал, что брат почти мертвяк, чуял близкую власть свою, а с того гуляла кровь по жилам, бурлила, ждала выхода тревога огневая.
— Тихо, тихо, красавица, — руку сунул промеж теплых ног, приласкал. — Одарю щедро…
Она принялась царапать, билась, так, словно за жизнь хлесталась. А Радомил еще больше загорелся, развернул девку спиной к себе, прижал в стене щелистой, навалился. Одной рукой рот зажимал, второй подол-то задирал повыше. Огладил бедра тугие, ухмыльнулся, раздвинул ноги и вошел одним махом. Тогда только и понял — девка, не баба. Но себя не остановил. Брал сильно, не особо заботясь о ней — нужды такой не было. Слышал, как тихо скулила красавица, давилась слезами. Через малое время Радомил выдохнул счастливо, и отпустил девку. Она сползла по стенке и уселась на пол, слезы лила, выла тихонько.
— Ублажила, удоволила. Ты уж прости, что девства лишил. На тебе четыре серебрушки. Уйми себя подарочком каким нето, — натянул порты, порылся в подсумке и кинул ей на коленки денги.
Вышел из клетушки, вздохнул и порадовался, что мысли уж не мечутся, не хороводятся. Думки ясные, будто утро весеннее. Пошел по двору тихо, слышал, как рыдала холопка, оставшись одна. Да не печалился особо — отплатил же, так чего ж еще?
Тихомир шел по улице, улыбался. Сжимал в кулаке два золотых, что Цветава дала. Такие деньжищи редко когда увидать можно, а уж в руках подержать, пощупать и вовсе не каждый может.
Все головой тряс, поверить не мог счастью своему, вспоминал слова Цветавины, что говорила ему, когда расчет давала. Ругалась, винила Тишкину жадность. А сама-то, дура, холопкой обрядилась. Все сторожилась, не приметил бы кто, как она ночью из дома выскочила. Эх, надо было еще стрясти, хоть серебрушку, пугануть девку славой дурной. Ну, да и того хватит.
Нёс в кулаке сей миг Тихомир мечту свою давнюю. Дом малый в тихом месте и то, что никогда более не придется ему под отцом ходить, спину гнуть и рыбу тянуть, жилы рвать тяжкой работой.
Ступил на подворье тихо, словно вором крался. Решил не ждать утра, а собрать пожитки какие ни есть и уйти. Оглядел домки приземистые, послушал брёх старого пса и шмыгнул в свою клеть. Зашебуршался, коробок достал малый и начал кидать в него портки, да рубахи. Совсем уж было изготовился, а тут батькин голос:
— Вона как… Куда собрался, Тишка? Никак утечь решил? — отец стоял в дверях, руки тяжеленные враспор поставил. — Чего ты прячешь-то? Разжился? Сюда дай.
Тишка отступил на шаг, головой мотнул, мол, ничего.
— Что башкой трясешь? Чай не пёс шелудивый, — отец вошел в клеть и двинулся к сыну. — Давай. Кому сказал?!
— Ничего не прячу! Отстань, докука! — решил Голода за счастье свое постоять, побороться.
— Ты на кого лаешься?! — отец вызверился. — Дятка! Дятка, подь сюда!
Отец голос повысил, кричал братку своего, Твердяту — мужика силы недюжинной, а ума невеликого. Тот притопал, поморгал и дотумкал — Тишку надо прижать. Ступил в клетушку, попёр быком на парня, пнул к стене и навалился. Пока Тихомир отбрыкивался и сопел натужно, отец обшарил его подпояску, выудил два золотых. Посмотрел на них, помолчал, а потом поднял руку да и со всего маха ударил кулаком по лицу сына.
— Тварь снулая! Забогател, а роду ни полушки?! Я тебя кормил, поил, а ты что ж? Перетопчешься! Все в семью пойдет! — развернулся и ушел, унёс Тишкино счастье в горсти.
Твердята постоял, голову почесал и добавил парню: сунул в ухо несильно, но Голоде и того хватило. Завалился набок, и притих.
Очнулся через малое время, посидел, пощупал лицо, ухо и завыл тихонько. Качался из стороны в сторону, ругал про себя светлых богов. Все удивлялся, вопрошал — отчего невезуч, почему не любят его великие, да грозные вершители. Помаялся, а уж потом и озлился, бухнул кулаком по деревянному полу, подскочил и вылетел, шальной, с подворья. Побежал искать утешенья у Суропиных. А где ж еще ночной порой можно найти бражки за малую деньгу?
Приняли его охотно, напоили и сами напились. Да быстро, проворно! Всех и сморило уж через час. Тихомир поглядел на товарищей пьяных и поплелся на улицу. Шел и петлял зайцем. Ноги сами несли туда, куда глаза и не смотрели вовсе. Через два поворота уткнулся носом в глухой забор, почуял — муторно, нутро воюет. Покачался, да и изверг все, что выпил. Угваздался, замарался, но улыбнулся пьяно и упал в лопухи-то, что росли густо в глухом месте. Так и проспал до утра в вонючей луже, себя не помня и не разумея ничего.
От автора:
Башка гладко оскоблена, с макушки длинная коса свисает — воспоминание византийского писателя Льва Диaкoнa, который в X веке описывал внешность новгородского князя Святослава, сына князя Игоря и княгини Ольги: «Голова у него была выбрита, но с одной стороны свисал клок волос — признак знатного рода».
Глава 29
Нельга открыла глаза, потянулась сонно, улыбнулась бездумно и отрадно. Солнышко — утреннее, мягкое — заглядывало в распахнутые ставенки, подмигивало весело, манило вскочить с лавки, да и запрыгать щенём игреливым, обрадоваться бытию. Но Нельга не встала, осталась лежать, потягиваться и нежиться.
Счастливилась. Всё день вчерашний вспоминала: Молог бурный, берег солнечный, сосны и Некраса. Любовь его сладкую, медовую и себя рядом с ним. Румянилась, но без стыда, а от одной только неги и радости телесной.
Сколь пролежала неведомо, но в голову мысль вскочила: «А ну как не врёт Некрас и приведет мать с отцом-то?!». Тут же и подкинулась. Заметалась, простоволосая, по гриднице забегала!
— Что ж делать-то? Куда? — подскочила к окошку, глянула — нет никого. — Плава!!!
Холопка пришла быстро, стояла в дверях, ресницами хлопала белесыми, дивилась. И то верно! Нельга-то никогда раньше не кричала так заполошно.
— Плава, где Новица? Ночевать не пришла. Ты чего молчишь-то?
— Так ить… того. Вечор утекла к Новикам и досель не верталась. Богша вот токмо и пошел смотреть чего она там сидит, — Плава руками взмахнула, будто показала, как Новица ушла и куда.
— Ладно, пусть так… — Нельга задумалась, но быстро в себя пришла. — Мети гридницу, вели двор прибрать. На стол мечи самого лучшего. Медка молодого налей. И поворачивайся, Плавушка, проворь!
Девку и унесло. Видела, что хозяйка не шутит.
А Нельга снова принялась по гриднице бегать: все думала, мучила себя. А как иначе? Знала, что не пойдет за Некраса, но приветить гостей надо по уряду. Если уж давать отлуп, так по-человечески. С тех раздумий горько стало, больно, да так, что Нельга враз и потухла, как та радость, что жила в ней вот только миг назад.
Не хотелось в навь, хотелось остаться в яви. Мечталось взойти на насаду Некрасову, плыть с ним в Новый Град. Думалось о ночах жарких, о ласке сладкой и о сыне — Зване — которого нет еще. И пусть даже врёт Некрас о любви своей, пусть дурит, но верить хотелось и любить. Знала, что ходок он, разумела, что отворотиться может, вон как от Цветавы, а все равно билось девичье, живое. Мелькнуло в головушке и вовсе дурное — не мстить. Остаться в Лугани и жить, просто жить… Даже без Некраса. Обманет и ладно. Если зачала дитя, так сама на ноги поставит, сама любить будет и беречь, смотреть и радоваться продолжению своему, веточке новой в роду Лутаков.
Вздыхала, маялась девушка, а время-то шло. Пришлось пошевеливаться: дела сами собой не переделаются, коса не заплетется, рубаха на тело не вскочит. Даже если и не придёт никто, не явится смотреть невесту, все одно — солнце высоко, а боги светлые не любят, не жалуют бездельников.
Умылась хорошенько, расчесалась, косу сметала крепко. Взялась за кольцо серебряное, чтоб в волосы вдеть, но себя же и остановила. Захотелось нарядной быть и не только для гостей, что могли прийти, но и для заполошного. Некрасу хотела нравиться, да так, чтобы глаза его полыхали жарко, как вчерашним днем. Чтобы огнем обдавали и нежили обещанием любви горячей.
Плава прибралась, взялась скоблить и без того чистый стол, а Нельга пошла в уголок да и села перед большим сундуком. На дне его отыскала наряд, купленный еще прошлым годом. Вспомнила, как ругал ее Богша за деньжищи огромные, что потратила на тонкую рубаху и вышитую запону. Наряд-то впору княжёнке какой, а тут у простой вольной. Улыбнулась, но одежки достала и положила на лавку. Вслед за этим вытащила мешочек с золотыми навесями и богатым очельем. Полюбовалась на богатство неуместное, но решила, что наденет. И пусть кто хочет ругается, а простой она не встанет перед Квитами. Пусть увидят, что пришли не к сиротке какой завалящей, а к родовитой. С того и наряжалась долго, да навеси вплетала ладно. Запону оправила, сапожки новые вздела на ноги и встала посреди гридницы, выпрямилась.
— Батюшки…это как так? — Плава вошла, принесла миску с молодым светлым медком и застыла на пороге. — Хозяйка, тебя и не узнать… Княжна, да непростая! Откуль такое?
— Не болтай, Плавушка. Мёд-то ставь, глянь на пол капает, — ворчала, но радовалась, что смотрится родовитой.
Плава на стол наметала: медка, хлебца, маслица свежего. Поставила миски нарядные, принесла ягод, блинов горяченьких. А гостей-то и не было…
Нельга уж понимать начала — обманул Некрас. Только дивилась тому, что прыгал в грозный Молог, тянул ее, глупую, вытаскивал.
Выглянула в окно и увидела Богшу. Тот бежал, будто земля под ним горела! Влетел в дом и закричал:
— Быстрее! Медвяна, уходить надоть!! Вею споймали в дому у Новиков! Слышь?! — отдышался. — Они ночью притекли за Ладимиром! Потравила она их! Военег мертвый лежит! А с ним и пяток дружинных его! Что стоишь?! Идут за тобой!
Плава охнула и на лавку осела. Медвяна застыла и разумела — вот и пришел конец всему. Видно на роду было начертано помстить, к тому и вели боги светлые.
— Нет, Богша. Поздно уж бежать, — услыхала, как громко стукнули ворота, а вслед за тем раздался грохот сапог в сенях. — Плаве деньгу дай. Пусть идет со двора домой. Холопов отпусти и сам утекай. Спаси тя за все, дядька мой родной.
Обняла Кривого накоротко, а потом руки разжала и встала. Смотрела ровно, спокойно. Спину прямила, головы не клонила. Радовалась, что себя может нести гордо, как Лутак. И не притворяться более, не жить чужой жизнью, не прикрываться ворованной берёстой.
В гридницу вошли борзо пяток ратных, обступили со всех сторон. Один дружинный — седоватый, матёрый — молвил, глядя на Медвяну:
— Безродная Новица твоя холопка?
— Моя, — Медвяна и не подумала головы опустить, смотрела прямо в глаза воину и не боялась.
— Она травила Военега Рудного. Князь Ладимир зовет. Идем, девка, — и потянулся рукой к ней за рубаху хватать, тянуть из дому.
Медвяна бровь изогнула, метнула взгляд суровый, ратник и застыл. Видать, не ждал от простой вольной смелости такой дурной.
— Не тронь. Сама пойду и ответ князю дам.
Седой подумал миг, кивнул своим, они и потянулись на двор. Сам матёрый остался, ждал, когда пойдет за ним гордая.
Медвяна оглядела гридницу светлую, лавку, на которой спала так долго и сладко, стол с богатым угощением, за которым никто и сидеть-то более не будет. Увидала, как на нарядной миске, у самого краешка наливается и блестит прозрачная капля молодого медка. Набирает тяжесть, полнится и кап… Вот так и жизнь ее, налилась, сверкнула на солнышке и упала, кончилась.
На улицу ступила смело, оглядела подворье свое Луганское, и вот странно, заметила, что солнце нынче нежгливое, зноя нет, а одна лишь прохлада. Небо синее-синее, ни облачка, и листва зеленая-зеленая кружевная.
Повернулась к матёрому, сказала тихо и важно:
— Веди.
Ратник осмотрел Медвяну внимательно, словно расценил, уразумел — непростого корня. Вышел вперед и потопал большими сапожищами по дороге. Оборачиваться не стал, видно понял — эта пойдет, не обманет. Родовитые слово свое чтут. Чай не простые вольные, не холопы.
Медвяна шла с прямой спиной, голову несла гордо. За ней шагали воины, а позади них трусил Богша, брови супил, кулаки сжимал.
По улицам народ собирался, шушукался, пальцами указывал. Старухи ойкали, парни хмурились, а девки не стеснялись языками молоть и голоса притом не утишали:
— Глянь, это Нельга что ль? Откуль одежки такие? Зимка, навеси-то золотые! Аж огнем горят! Никак к Ладимиру ведут?
— Радка, видала запону? А сапожки? Я такие токмо на торгу щупала! За них горсть серебрушек просили. Идем нето, послухаем, что у них?
К дому волхвы за Медвяной пришла целая толпа. Гомонили, конечно, но негромко. Боялись слова княжьего не услыхать, глядели во все глаза, чуя, что творится непростое, особое.
Медвяна огляделась, приметила у ворот дома Всеведу, а опричь нее двоих, по всему видно, родовитых. Один со скобленой головой и длиной косицей, в богатых одежках, при золотых обручах на обеих руках. Второй проще, но во тьму раз богаче, чем Луганские. Кругом стояли дружинные и вольные из городища. Вот в тот пустой круг и пустили Медвяну. Она встала прямо, голову подняла выше, едва носом в небо не упёрлась, а вот внутри дрожало все, скукоживалось. Сей миг поняла — шутки-то кончились. Вот он, мостик в навь темную! Порядят, поговорят и отсекут головушку. Виду-то не подавала, что боится, а родовитые приметили, глядели внимательно, словно насквозь прожигали.
— Ты чья? — подал голос тот, что с косицей, и поняла Медвяна, что князь слово уронил.
Вздохнула глубоко, посмотрела прямо в серые глаза Ладимира и громко молвила:
— Медвяна Лутак.
Шепотки поползли по толпе, и все громче и громче. Вот уж кто-то не сдержался и шумнул, что врет девка и знают ее, как Нельгу Сокур.
— Слыхала? Люди говорят, что врешь. И кому? Мне? Князю Новоградскому? — Ладимир голосом надавил, брови свел к переносью.
— Слыхала, княже, — голову еле склонила, мол, знаю кто ты. — В Лугань пришла, как Нельга. Обманула Рознега Новика, люд честной, и в том винюсь.
Повернулась, нашла в толпе бледного Новика и поклонилась.
— Лутак, говоришь? — князь задумался, но ненадолго. — Медовуху делаешь?
— Делаю, княже.
Тот обернулся к Всеведе и второму родовитому:
— Узнал я вечор руку Лутаковскую. Подивился, что в Лугани сыскался умелец мёды делать. Еще отец мой привечал его стоялые, — а уж потом и Медвяне. — Кем тебе Любим Лутак приходится?
— Отцом, княже. Токмо нет его в живых. Убил его Военег Рудный, — взвился голос Медвянин, полетел над толпой. — И весь род мой посёк. Никого не оставил, кроме меня! Где холопка моя? Отдай. Я за нее ответ держать стану.
Гул пошел едва ли не громче грохота Молога! Среди прочих особо слышен был голос Рознега, что выкрикивал: «Говорил я, вины на мне нет! Кто ж знал, что змею в дому пригрел?! Ить берёсту показала, всё честь по чести!»
— Вон как. Указывать мне вздумала? Отдам, коли захочу. Я звал Рудных в Лугань, и мне теперь ответ держать перед братом его, Радомилом, — князь обернулся к дружинному ближнику. — Веди холопку. Говорить будет.
Через малое время, притащили Вею… Медвяна дрогнула, кулачки сжала. Вдовицу не узнать: битая, растрепанная, в волосах прядь седая. Сердечко забилось жалостливо, подсказало слова:
— Отпусти ее, княже. Я велела травить Военега.
Крики, гвалт и возгласы ратников! Двинулся к Медвяне тот, кого князь указал братом Рудного. Подошел, навис страшно:
— Ты как посмела руку поднять на воина? На главу рода?! Отвечай! — качнулся опасно, руку положил на рукоять меча.
— Голос умерь, Радомил. Не с рабой говоришь! Вольная я! Как посмела, спрашиваешь? А как Военег посмел род мой извести?! Рассказать тебе, что сотворил?! Али сам догадаешься? — Медвяна говорила громко, скрывала тряский голос, крепилась. — Деток малых от матерей отнимали и душили голыми руками! В сугробы кидали! Старикам головы сносили! Баб да молодух сильничали скопом и оставляли подыхать, что собак! Еще рассказать?! Отца моего и матушку прибили колами к воротам! Я помстила, я! И еще бы так сделала! Жаль, не смогла сама придушить пса кровавого своими руками!
Народ притих, слушая страшное. Поверили сразу, знали многие не понаслышке, каким был Военег. Помолчали, а потом уж одна баба в толпе охнула, за ней вторая заскулила тихонько.
— Девка, ты кто такая есть супротив Рудных?! — озлился воин.
— Кто я? Последняя из Лутаков, глава рода! Ты взглядом-то меня не жги, не боюсь. Мне терять нечего! Одна я! Да, помстила! Теперь вся родня моя легко вздохнет в нави! И будет кому Военега-то встретить, все дела его припомнить! Что смотришь? Виры ждешь? Так вот тебе за братца твоего, — тряской рукой достала из-за пояса мелкую деньгу и кинула под ноги Рудному. — За него и чешуйки много!
Так и стояли в кругу, взглядами упирались, бодались. Медвяна, даром что напугана была, но приметила в темных глазах Радомила изумление, да и отсвет какой-то чудной. Будто любовался он…
— А ну тихо все! — прикрикнул князь на толпу, что снова принялась гомонить. — Холопку отпустить, за нее хозяйка слово кинула. А ты, Медвяна, ответ сама будешь держать перед родом Рудных. Мстить решилась, так и отпор сама дашь. Пусть решает Радомил, что просить за смерть брата! То по совести! Сам смотреть стану, чтоб все исполнили честь по чести.
Медвяна краем глаза заметила шевеление в толпе, услыхала ругань непонятную и снова все смолкло. А потом увидела, как дружинные, что держали Вейку, отпустили ее и она осела грязным кулем в пыль. К ней подбежал Богша, поднял и уволок подальше.
Радомил помолчал еще малое время, а потом и ответил:
— Виры мало, Медвяна. Ты брата отняла у меня, а род главы лишила, — оглядел девушку с головы до пят. — В дом ко мне пойдешь меньшухой. Сына родишь, а потом иди на все четыре стороны. Сочтешься с Рудными за жизнь загубленую, дитя в роду оставишь. За дружинных, что извела — виру. Семьям жить надо. Слыхал я, что Лутаки богаты были, так кубышку отдашь. Или бейся со мной до крови, пока один другого жизни не лишит. Что смотришь? Ты главой рода назвалась, так держи ответ.
Стоял, ухмылялся, будто знал, что согласится, убоится жизни себя лишить сей день. Медвяна открыла рот отвечать, но снова в толпе зашевелились, загомонили, но и умолкли скоро. Она и молвила:
— Я? В дом к Рудным? Скорее небо на землю падёт, — смотрела прямо, ухмылялась так же, как и Радомил. — Лучше кровью залиться, чем так. Меч давай, смелый, биться с тобой стану!
Озлилась так, что едва искры из глаз зеленых не летели! Головой тряхнула, сверкнули богатые золотые навеси на солнце летнем, ослепили Радомила: сморгнул, зажмурился.
— Ты биться? Со мной? — выпрямился и замер, изогнув брови удивленно.
И ведь было с чего! Ведь девка молодая, а не испугалась, не склонила головы, приняла бой. Не ожидал, видно, Радомил такой гордости дурной, да и задумался крепенько.
Медвяна поняла — сам не рад, что слово такое кинул, думал, что прогнется под него, побоится смерти. С того взглядом и одарила таким, что Радомил вспыхнул.
— Так по правде-то и инако можно, — Всеведа, молчавшая до сей поры, сказала тихо, но, вот чудеса, все услышали. — Если мстила чужой рукой, так и за себя может ставить воина. Да и Радомил, коли пожелает, волен ратника своего дать.
Радомил вздохнул, словно гору с плеч скинул, а Медвяна и не шелохнулась. Знала, что встать за нее некому, да и пожалела, что не смогла Радомилу Рудному насолить напоследок.
— Мудра, Всеведа. Спаси тя, — Ладимир кивнул волхве. — На этом самом месте и разочтетесь. Кровь за кровь прольете и мести конец. Пусть боги решат, чья тут правда! Медвяна, есть кому за тебя встать?
— Нет, княже. Одна я. Сама за род отвечу, — сказала и начала прощаться с явью.
Припомнила все хорошее, будто жизнь наново прожила, начала Морене требу класть, на смерть легкую и быструю, но не успела, услыхала голос знакомый: глубокий, певучий.
— Я встану за Лутак!
Медвяна дышать забыла. Ей и оборачиваться не было нужды, чтобы разуметь — Некрас за спиной!
Глава 30
— Говорила, говорила я, что проклята девка, — шептала Видана, мужа плечом подпирала, — Деянушка, родненький, уйдем. Некраса сберечь надо. И ты вон едва на ногах держишься.
— Видка, помолчи, — кривился Квит-старший, нянькал руку порезанную. — Не о том сей миг. Некрас полыхнёт, не стерпит. Его держи, не меня.
— И так уж Местька с Радимом на нем повисли. Не пускают, — Видана заплакала тихонько. — На беду, ох на беду встретилась ему змея эта.
Всхлипнула тоскливо, осмотрелась и увидела взгляд сына — темный, яростный. Рвался из рук дружьих, но те держали крепенько. Радимка и вовсе за шею ухватил, шептал что-то на ухо.
Деян трепыхнулся, вывернулся из-под руки жены и к сыну ближе встал, а тот…
Некрас ярился и изумлялся одним разом! Она ли это? Его медовая? Стоит в кругу пустом супротив родовитых и смотрит смело, держится гордо. Медвяна Лутак… Вмиг вспомнил берег Молога, поцелуи ее нежные и слова трепетливые: «Говори мне — медовая. Инако не называй». Не хотела, чтобы кликал ее чужим-то именем.
Сердился парень, что не сказала о себе, смолчала, но и разумел — вот какой беды ждала его любая, вот от чего берегла.
— Пусти, Радим. Пусти, сказал! — Некрас рвался из рук бывшего своего закупа, хотел встать с Медвяной рядом, обнять и оборонить ото всех.
— Дурень! Жди молчком! А ну как сладят? Куда ты, голова твоя бедовая?! — Радим не пускал.
Местька прилип смолой, повис на руке, держал крепко. Да и отец подполз, одной рукой другую держал, кривился, а глазами суровел.
— Стой, сын. Пропадете обое, коли сей миг попрёшь. Выжди, — брови сдвинул Деян, встал опричь Некраса, стеречь принялся.
А Некрас уже и не слышал, прикипел взглядом к Медвяне. Дивился ее стати — прямой, горделивой — любовался и тревожился о ней. Любовь взвилась, опалила, да так сильно, что разум едва не обронил. А тут еще и Радомил слова страшные кинул:
— Виры мало, Медвяна. Ты брата отняла у меня, а род главы лишила. В дом ко мне пойдешь меньшухой. Сына родишь, а потом иди на все четыре стороны. Сочтешься с Рудными за жизнь загубленную, дитя в роду оставишь. За дружинных, что извела — виру. Семьям жить надо. Слыхал я, что Лутаки богаты были, так кубышку отдашь. Или бейся со мной до крови, пока один другого жизни не лишит. Что смотришь? Ты главой рода назвалась, так держи ответ.
Некрас и забился, едва руки Радиму не вывернул, но удержали ближники, уговорили. А уж потом услыхал и ответ медовой:
— Я? В дом к Рудным? Скорее небо на землю падёт. Лучше кровью залиться, чем так. Меч давай, смелый, биться с тобой стану!
Некрас-то и обрадовался как дурачина — научилась медовая отлуп давать нелюбым. Вот молодец! А потом и понял, сам за нее встанет, руками и зубами будет рвать ворогов, и пусть сдохнет, захлебнется кровушкой, а любую свою сбережет!
И ведь вышло ровно по мыслям — как уговорились воинов выставлять, так и…
— Некрас, — Деян смотрел прямо, тревожился. — Сам решай. Не советчик я тебе сей час. Одно скажу — не встанешь за ней, всю жизнь локти кусать будешь. Сын…Сынок…
Радим пытался слово вставить, мол, я пойду, тебе не сладить с ратным, а Некрас уж и не слушал. Стряхнул с себя кудрявого Местьку и двинулся в круг:
— Я встану за Лутак!
Она повернулась на голос его и таким взглядом одарила, что у Некраса будто крылья за спиной вымахали. Ног под собой не чуял, словно летел над землей! Горы готов был сносить, реки вспять поворачивать, лишь бы так и смотрела. Всегда.
— Некрас… — выдохнула Медвяна, двинулась к парню, брови изогнула печально.
Он не дал себе слабины, и ее упредил взглядом, мол, не лезь, теперь я за тебя ответчик. Она и застыла, а миг спустя покорно голову опустила и отошла. Видел Некрас, как губы задрожали румяные, как на ресницах слезы повисли. Да не время сейчас утешать, иное надобно.
Некрас повернулся к князю, выпрямился, и руки на пояс положил. Стоял, смотрел едва ли не нагло, и ждал слов родовитого.
— Сыскался, стало быть, смельчак. Чьих ты? — Ладимир ухмылку прятал. — Гляжу — бойкий. Постой, вроде видал я тебя на вече. Из купцов?
— Так, княже. Некрас я, Деяна Квита сын. Сам купец вольный, с грамотой, — голову-то склонил на миг, чай не с простым говорил.
— Чего ж сунулся? Мечом махать, не деньгу считать, — любопытничал князь, аж ближе подался.
Да и толпа притихла, ни охал никто, ни ахал. Слова ловили, будто деньгу мелкую на обряде, пропустить боялись.
— Чего сунулся, про то токмо я знаю. Так тебе скажу — ежели девки станут мечами махать, то парням одно останется — со стыда сгореть, — кинул взгляд глумливый на Радомила, хотел укусить больнее, злился от одной только мысли — Медвяна-меньшуха чужая.
— Вона как, — Ладимир все ж улыбнулся. — Ну, попытай счастья. Выйдешь живым, так я тебе меч отжалю. Люблю дурных и смелых.
— Спаси тя, княже, — поклонился шутейно. — Ты меч-то вели нести.
В толпе прыснул кто-то смешком, князь хмыкнул в голос, а Радомил насупился, но сдержал себя, чести родовой не уронил.
— Ну что ж ты, Рудный? Кого супротив купца-то выставишь? — князь бровь выгнул, мол, давай, решай.
Ничего не ответил Радомил, выхватил взглядом из дружинных своих ратника и кивнул ему. Оказался дюжий мужик: роста высокого, оплечья крутого, чуть в летах, но не старый еще.
Некрас оглядел его, расценил, да и понял — тяжко будет. По всему видно, не одна сеча у мужика за плечами, да и не две. Однако не согнулся, не попятился. Припомнил Перуна, требу кинул безмолвную и огляделся.
Увидал мать с отцом — встревоженных, будто вмиг постаревших. Радима и Местьку, что стояли в толпе, сжимали кулаки злобно. А потом посмотрел на медовую…
Глаза зеленые светят ярко, слезы блестят в них. Коса медком молодым на солнышке отсвечивает. Красивая — глаз слепит. Любая — накрепко, навечно. Смотрел, любовался и об одном молил сейчас богов светлых — пусть бы зачала она, пусть бы сыном одарила. Не будет его, Некраса, в яви и ладно. Станет приходить дух его к костру поминальному, прислоняться теплым и мягким перышком к Медвяне, к сыну Звану. Будет смотреть, как растёт и крепнет семечко его, и в нем жить продолжит.
Мыслями окреп, кулаки сжал и уготовился в схватке страшной, а там кто знает, может и последней.
— Меч-то есть у тебя, балагур? Или супротивника своего защекочешь до смерти? — куснул словцом Радомил.
— Не твоя печаль, Рудный. Ты уж стой, да издали любуйся, коли самому тяжко стыкнуться, — ответил Некрас и двинулся к Радиму: тот уж меч вытягивал.
Местька сразу к Некрасу бросился, залопотал, затрепыхался, все жалел, что сам не вышел.
— Тихо ты, докука, — Радим остановил кудрявого. — Некрас, свезло тебе. Глянь, мужик-то дюжий, а шея и морда красные. Пил вечор, не инако. Он тебя на клинок-то не подпустит, не жди даже. Ты скачи вокруг него козлом, он и упыхается. А там уж… Приглядывай, как с дыхалки собьется, так и коли. Куда попадешь, все на пользу. Уразумел ли?
Некрас только головой мотнул, принял меч и нож из рук Радима, услыхал, как мать завыла тихонько.
— Сыночек мой, кровиночка моя…Куда ж ты? — плакала, жалела.
Деян зубы сжал и промолчал, только кивнул сыну, мол, делай, что должен, и будь что будет.
В круг Некрас вошел уж серьезным, суровым. Кинул взгляд на Медвяну: та ладонями личико светлое закрыла и заплакала. К ней Званка подскочила, подружайка, обняла за плечи и по голове гладила.
— Меч с ножом? Твой сказ, Квит? — Ладимир молвил строго, нешутейно. — Добро. У Рудного меч токмо? И то добро. Стыкуйтесь. Кровь рассудит, кто правый, а кто нет.
Все смолкло для Некраса, не стало ни солнца, ни неба синего. Людей не видел, забыл обо всем, кроме медовой. То и придало сил, окрылило наново. Совсем уж было повернулся к ратному, меч взял на изготовку, да зацепился взглядом за волхву Всеведу. Поблазнилось, что глаза ее рысьи блеснули рыжим золотом — чудным, странным. Долго-то смотреть не стал, сей миг забота иная. И не какая-то там, а блескучая, железная: меч у ратного длинный и рука твердая.
Дружинный ударил первым! Взвизгнул меч, полыхнул холодным блеском на солнце ярком, и ударился о другой, такой же. Сдюжил Некрас удар первый, опасный. И запела сталь, и танец начался древний, ратный. Не на жизнь, а насмерть. Кружили, звенели мечами, полыхали силой…
Сильный ратник, матёрый и умелый, то Некрас понял. Но и иное разумел — не ждал воин умудренный, что простой купчина махаться умеет хоть сколько-нибудь. Хотел нахрапом взять, испугом подкосить, да не вышло. Засторожился воин и пошел хитрым кругом опричь Некраса, все мечом достать хотел и достал! Рукав рубахи красным стал, кровь потекла не шибко, но силы-то забирала с собой, уносила в навь первый привет, мол, жди, скоро гость к тебе.
Понял парень сей миг, что живым остатся сможет не иначе как по большому везению. Подобрался и ответил!
В голове билось — сына бы, только бы сына дали боги: зеленоглазого, крепкого. Чтобы жила медовая, радовалась яви солнечной, счастливилась. Чтобы жизнь ее долгой была, беззаботной. А он уж подождет любую свою, попечалится век, а потом обнимет и никуда не отпустит. В яви не сложилось, так в нави вместе будут.
Искры сыпали мечи, пели песню свою горькую. Толпа стонала, охала, ждала конца кровавого. А Некрас молил богов, молил…
Останься, любая, живи
Из-за меня не лей ты слёз
К себе ночами не зови
Меч ворога меня унес
За яви грань, и в пустоту
Где нет тебя, лишь только пыль
Я стану ждать свою мечту
Всё в нави превратится в быль
Мы вместе будем по лугам
Бродить вдвоем рука в руке
Не здесь, не здесь, а только там
Мы снова встретимся в реке
В реке Времен, себя яви
Я буду ждать на берегу
Лишь сына Званом назови
Я буду знать, и ждать смогу
Меня ты помни, не грусти
Не омрачай печалью глаз
Пришел конец тому Пути
Что боги дарят только раз…*
Очнулся от боли, что ожгла сильно плечо — подрезал ратный, не сжалился, но и уставать начал! Прав был Радим, ох как прав! Некрас будто воздуха глотнул наново, глаза раскрыл и пошел на воина.
Махал так, что жилы пели! Но не остановился, не сплоховал! И дождался своего мига заветного…
Ратный сбился с дыхания, голову назад отклонил, меч отвел дальше нужного, а Некрас тут, как тут. Припомнил стык с ушкуйными на насаде, да и треснул что есть мочи рукоятью меча по зубам, а уж потом, когда ратный запрокинулся, воткнул нож в горло…
Гвалт такой поднялся, что впору уши затыкать, Некрас и дернул головой, отвел глаза от воина. Тот не захотел в одиночку в навь уходить, взмахнул мечом и проткнул Некраса. Сам упал, меч на себя потянул. И потекла кровь алая, согрела бок, ногу, да в сапог закапала…
А Квиту не до того вовсе! Вышел правым, на ногах стоять остался! Будет жить медовая, и не бесчестной сиротой, а гордой Лутак. Кровью смыл с нее все беды: и былые, и грядущие.
От автора: Стихи мои. Прошу не судить строго:) Я не поэт, увы:)
Глава 31
Горит лучинка, потрескивает, освещает малую гридницу, стол небольшой, лавки и женщину: печальную, заплаканную. Сидит Видана рядом с сыном, что уж второй день глаз не открывает, не ест, не кличет мать ласково. В беспамятстве слова роняет и все о ней, о Медвянке Лутак. Бормочет, зовет гадину. Все берег Молога поминает, твердит о дне счастливом.
Ночь темная, ветреная. Псы и те примолкли, утра ждали. И Видана ждала… Богов просила, за сына единственного, за мужа любимого. Вспоминала женщина день дурной, страшный. Как упал Некрасушка на землю, кровью залился, как бросилась к нему девка проклятая: рыдала громко, марала наряд бесценный. Видана не снесла, лютой псицей налетела, оттащила от сына, кричала и ругалась, гнала непутёвую.
Деян, постарев вмиг, к сыну кинулся, тянул с земли, а у самого рана-то отворилась, кровью пошла. Подскочили ближники подняли на руки в дом снесли. Следом бежала проклятая Лутак — коса распутана, запона в крови — плакала, скулила, что собака болезная. Все норовила в дом пойти, Некраса увидеть. И тогда не пустила Видана! Толкнула с крыльца, и дверь захлопнула, углядела только, как упала Лутак в пыль, обронила с гладкого лба очелье богатое да и замолкла.
И ведь не отступилась, змея упрямая! Бродила опричь двора, в ворота заглядывала, слушала молча, как Видана гнала и ругалась. А потом Всеведу привела. Волхва кровь Некрасу затворила, травками рану обложила, наговор прочла и вздохнул Некрас легко, хоть и не в себе был. Уходя молвила мудрая:
— Любят сына твоего боги светлые, привечают. Выживет, на ноги встанет. Не скули, не опасайся, — и пошла со двора, да проклятую с собой прихватила.
А потом металась Видана меж двух лавок: на одной сын, на другой муж. Рыдать не рыдала — недосуг. То одному питья травяного, то другому отвара волховского. А вот ночью села и мысли муторные одолели.
Двоих сыновей схоронила, двоих кровиночек утратила. Жданушка — глазки темные, волосики кудрявые — огневицей ушел. Забрали боги к себе, когда три зимы стукнуло. Слезами умылись, но сдюжили с Деяном, пережили, а там опять беда бедовская. Второй сыночек — Смеян-пятилеток — сбежал к батьке на насаду тишком, любопытничал, по коробам да тюкам лазил, а потом перевалился через борт, и упал в реку. Далёко унесло тельце-то, прибило к бережку почитай через две седмицы. В доме горе и поселилось: скверно, муторно и безотрадно. Так бы и шло, если б не Некрас…
Явился на свет проворно, не пожелал долго-то мать мучить. Заорал сразу, да громко, протяжно, будто запел, известил явь — вот он я, самый лучший. И радость вернулась! Видана стерегла его, берегла, как зеницу ока. Днем и ночью у люльки сидела, никого не допускала. Все ловила маленькие крепенькие ножки руками, целовала розовые пяточки, слезами светлыми исходила, любовью сочилась.
Все вспомнила женщина, сидя у лавки, все будто наново пережила и решилась… Знала, что недоброе замыслила, но сына берегла, о нем одном тревожилась. И кто, как не мать беду-то отгонит?
Собралась тихонько, холопке наказала следить за болезными. Вышла в темень ветреную, согнулась, и двинулась к домку Лутак. Давно уж вызнала, где живет девка, и чем.
Стукнула в дверь тихохонько, та и открылась мигом. На пороге она: бледная, заплаканная, почерневшая.
— К тебе я, Медвяна… — в глаза смотрела прямо и головы не клонила. — Говорить с тобой не хочу, но так уж вышло, что надобно. Не стану виниться, что ругалась и гнала тебя. Не по нраву ты мне, того не таю, притворяться не буду. Мать я, сына берегу. Один он у меня, единственный. А от тебя токмо беды одни.
Та затряслась, задергалась.
— Тётка Видана, жив он?! — за руку взяла, в дом потянула.
— Жив. Не трепыхайся, — сказала, а потом ждала долгонько, пока девка слезами умывалась счастливыми.
После уж, в гриднице на лавке начала Видана вранье свое. Да не простое, а искусное, изворотливое.
— Ты послушай меня, а там уж сама решишь, как быть… — себя пересилила, положила руку на плечо гадюкино. — Очнулся он, сел на лавке и думал, думал. Я-то подскочила, спрашивать давай, а он…
— Что, Видана, что?!
— Медвяна, сын у меня непутёвый. Был таким, таким и останется вовек. Не сыскалось еще девушки, чтобы привабить его, возле себя удержать. Цветаву оставил, к тебе метнулся, а теперь вон… Не ты первая, не ты последняя.
— Не пойму, о чем ты? — Медвяна глаза распахнула, подалась ближе. — Говори, говори!
— Просил к тебе идти, велел передать, что счастлив был с тобой у Молога, а теперь просит, чтобы не донимала ты его. Опосля сечи перевернулось всё в нем. Видеть тебя не хочет более. Просил зла не держать, а если обиду затаишь, то сказать, что за все с тобой счёлся, от смерти избавил. Вот так-то, — и смотреть стала на девку строго.
— Не верю… Не верю! Не мог он… Нет… — глаза зеленые слезами набрякли, брови изогнулись. — Про Молог говорил?
— Обсказал, — Видана брови изогнула, соврала мол, знаю всё. — Не веришь, так идем нето, сам тебе в лицо слова-то кинет. Токмо просил не ходить. И еще упредить тебя, чтобы уезжала скорее. Радомил хучь и обещался перед богами кровь не лить, забыть о мести Лутакам, но кто ж его знает? Так идем к Некрасу?
Потом смотрела на девку, как та думала, в лице менялась, металась мыслишками.
— Тётка Видана, не мог он так сказать. Не мог! Любит он меня, о том знаю! — взглядом так ожгла, едва не спалила.
— Любит. И тебя, и других тоже, — Видана ухмыльнулась и снова врать принялась. — Весь в отца. Я с Деяном-то жила несладко. Ить у него как? В каждой веси по невесте. Токмо с сединой и унялся малость. А Некрас… Вот не хочу сына хаять, а тебя надо бы жизни-то поучить. Нас к тебе вёз, а в Журках с насады сошёл и ночь не пойми где вошкался. Сама поймешь, куда ходил, или обсказать тебе? Так-то оно так, ты ему всяко дороже иных была, токмо прошло, охолонуло. Не ругай его, дурным словом не поминай. Не плохой он, а вот такой… Ходок. Да и заполошный. Один день так мыслит, и любит, а на второй все инако.
Замолкла Видана, голову опустила, вроде как опечалилась, а сама за девкой наблюдала. Та помаялась, с лавки вскочила, метнулась к окну, головой к стене прислонилась, и стояла долгонько, а уж потом сказала:
— Поняла я все, тётка Видана. Если ехать велел, так уеду. Поклон от меня передай, скажи, что богов молить за него стану. Век доброты его не забуду, — обернулась, змея, выпрямилась гордо. — Спаси тя, Видана, за разговор. Береги сына.
И стояла так гордо, словно княжна, с того Видана еще больше невзлюбила ее: чуяла корень непростой, род крепкий. Но лицо сдержала, злости своей не показала.
— Ну, как знаешь. Здрава будь, Медвяна, — Видана поднялась с лавки и двинулась к двери. — Деньга-то есть на дорогу?
— Спаси тя, тётка Видана. Найду, — девушка поклонилась.
— Тогда добрый путь тебе.
Больше Видана не сказала ни слова. Добралась до домка, увидела, что сын и муж спят покойно, и тихо наказала холопке идти и смотреть за Лутаками, а потом и обсказать все.
Девка метнулась, а ужо утром и дала ответ хозяйке, мол, уехали по рассветной мгле. Поклажи взяли немного, ворота затворили и утекли. На возке приметила холопка саму Медвяну, мужика ее ближнего и ополоумевшую вдовицу с седой прядью в волосах. Еще обсказала, что остановились у двора одного, там Медвяна с молодухой какой-то прощалась, что-то в руки совала и плакала. Потом обнялись крепенько и уехали с концами.
Видана улыбнулась, к светлым богам обратилась мыслями приятными. И то верно. Дело-то сделано, да без лишнего шума. Сама подумала, что не будь Медвянка гордячкой, не смогла бы так легко уговорить девку. Порадовалась хитрости своей, да и разумела, что в кои-то веки Некраскина дурная слава на пользу пошла.
Некрас очнулся утром второго дня, и сразу о Медвяне спросил, а как узнал от матери, что уехала, да слова прощальные оставила, так и потемнел, потух. Ни слова не сказал, отвернулся лицом к стенке и лежал. Деян оздоровел, садился к нему на лавку говорить, а тот не слушал.
Только через две седмицы поняла Видана, что сотворила! Вот уж вставать Некрас начал, по гриднице бродить, на двор выходить: крепчал, а сам собой и не был. Смотрела мать на сына, разумела — будто подменили. Улыбки белозубой нет, глаза муторные и явь ему не в радость.
Деян начал говорить о Решетове, мол, пора и домой — все оздоровели, на ногах стоят, чай доберутся, а Некрас только головой мотнул:
— Бать, уезжайте. Я тут останусь… Может, вернется…
Могла бы Видана, так и сама вернула змеищу с косищей, но та уж далече. За две седмицы можно утечь едва не к булгарам!
Вот так и маялась день, другой. В дому-то муторно, не усидишь. С того Видана и пошла по улицам к торгу: смеха людского услышать, слов простых. У своих-то не допросишься! Шла неторопко, по сторонам глядела. У дома волхвы увидала Цветаву, уже шагнула навстречу приветить девушку, а та и не заметила: в глазах слёзки, сама тревожная. Прошла мимо Виданы и в дом премудрой направилась.
— Выпей, Цветава и рыдать перестань. Уймись, послушай меня, — Всеведа подсела к девушке, что уж битый час заливалась слезами в ее дому, и протянула отвару испить. — Не печалиться ты должна, а радость свою бабскую нянькать. Дитя тебе боги светлые послали! Чудо ведь. Ладе требы клади, Макоши пресветлой и Роду. Не пустоцвет ты, а здоровая, живая. С того и жизнь даешь. От пустого что ж родится-то? Ничего. Одна токмо пустота.
— Всеведа, дай травки какой ни есть, дитя скинуть. Ведь запозорят люди. Отец из дома погонит, — утирала рукавом рубахи слезы. — И как сказать, что не блудлива я? Как? Ведь ссильничал…
Всеведа обняла девушку, по спине погладила и заговорила:
— Цветавушка, так боги-то светлые просто так никому зла не делают, напрасно бед не насылают. То наука тебе. А ежели учить они принялись, так, стало быть, не пропащая ты, голубка. И видят они будущность твою, ведают, что будет из тебя толк. Дитя травить хочешь? Зря. Вижу я толику малую, вперед умею заглядывать, и так скажу — дитя это спасение твое и радость. А что до позора, так я помогу. Ты только реши, чего надобно тебе, девонька.
— Надобно? Не хочу я дитя от насильника! Хочу, чтобы плохо Радомилу было, вот так, как мне сейчас! — вскрикнула гневно и снова зарыдала.
— Вон как… Ну, что ж, понять-то понимаю, как баба бабу, но ошибаешься ты. Дитя всегда твоим будет, разумеешь? Деньгу можно отнять, девство тоже, а вот любовь к чаду — никогда. И ты его любить станешь, и дитёнок твой тебя полюбит. И ни за что, а токмо лишь потому, что мамка ты его. Поняла ли?
— Всеведа, миленькая, как жить-то с позором? — глазищи распахнула, на волхву уставилась, а та и поняла — проняло девку.
Хотела бы дитя травить, так бы и просила травок, а она позора опасается, а не дитяти.
— Сама я тебе жениха найду, Цветавушка. Есть у меня купец знакомый: в летах, не беден, одинок. Не дали ему боги ребятёночка, не подарили отрады на старости лет. Он тебя возьмет и чадо твое своим признает. Верь мне. Но и ты разуметь должна — хочешь жить хорошо, так сама давай людям хорошее. Брать все время никак не можно. Поняла ли? — поцеловала страдалицу в макушку, волосы теплые пригладила. — Норов свой спрячь, найди себе дело по душе, и станет явь твоя радостнее. Ведь помню, какие ты очелья вышивала подлеткой. Так чего ж забросила?
Цветава шмыгнула носом раз, другой, да и кивнула головой, согласилась.
Еще малое время поговорили промеж себя, а потом Цветава домой засобиралась. Волхва вышла проводить, посмотреть вослед девушке печальной, да и встала в воротах. День-то уж очень хороший: ясный, нежаркий. Солнце к Мологу заклонилось, окрасило Луганске улицы светом нежным, но и радостным. Народ почуял, уразумел отраду и высыпал на улицы. Сновали бабки, переругивались меж собой, бегали детки малые, молодежь с шутками и прибаутками сбивалась в ватаги, смехом заливистым звенела.
За толпой веселой волхва приметила Званку — молодуху вдовую — та стояла у заборца, брови супила, вроде раздумывала о чем-то. А потом головой тряхнула, словно мысли дурные отогнала, да и пошла по улице.
Приметила Всеведа на опояске вдовьей оберег-Огневицу, да всё ту же самую, с которой Медвяна ходила, а потом и Некрас.
— Непростая Огневица-то, непростая. В огонь бы ее, с глаз долой… — прошептала мудрая, сама с собой поговорила.
— Пусти. Пусти, сказала, — Званка отпихивала от себя Местяту, что загородил ей путь в домок. — Говорю, по делу я, не от пустой дурости. Уйди ты, докука!
— Чего лаешься? Званка, а Званка, может того…а? Прогуляемся ночью-то? — подмигнул кудрявый.
— С тобой гулять, птиц пугать. Опять орать зачнешь, а им каково слушать? Ты, Соловушка, сторожись, береги богатство-то парнячье. Мало ли, где на доску-то не струганную упадешь, — хохотнула вдовица, отпихнула Местяту и пошла в сени.
Огляделась, заприметила дверь, туда и сунулась. Некрас на лавке сидел, выстругивал ножом: то ли чудище какое, то ли девку-лешачку. Сам бледный, муторный, но она долго-то смотреть не стала, а сразу ругаться принялась:
— Гляньте, расселся. Прямо княжич. Сидит, зад на лавке греет, дурью мается, — руки в бока уперла, выпрямилась. — Чего лупишься, а? Запутался в бабьих подолах, так я тебя живо распутаю, кобелина черноглазая!
— Во как… — Некрас брови высоко возвел, дивился на крикунью. — Ты чего, Звана? Грибов несвежих пожевала? Или иного чего в рот налила? С чего речи такие?
— Он еще спрашивает! Ходок облезлый! — с теми словами вытащила из-за подпояски Огневицу, что оставила ей Медвяна, когда прощалась и кинула на стол. — Я б к тебе по своей хотелке ни в жизнь не подошла бы, а вот Медвянку пожалела. Обещалась ей к тебе пойти и слова передать. И так уж тянула сколь могла.
И замолкла… Некрас в лице переменился, кинул на пол ножик и чурку деревянную, вскочил и бросился к Званке.
— Что?! Что передать велела?! Говори, проклятая! Не тяни! — обхватил руками за плечи, будто сломать хотел.
— Дурной! Больно же! — Званка дернулась, Некрас хватку-то и ослабил, но вдовицу не отпустил, в глаза заглядывал, тревожился.
— Говори, Звана… — выдохнул. — Где она, знаешь?
— Чего-о-о-о? Где она? Знать не знаю, а и знала бы, все одно, не сказала!
— Звана! — навис, очами так сверкнул, что Званка испугалась, но в себя пришла сей миг.
— Ты не пугай, пуганая уже! Девка слезами умылась, по тебе лила! А ты, змей, отворотился от нее! Погнал! На другую позарился! Богов моли за то, что Медвянка дюже гордая! Как по мне, так я бы тебе всю харю раскровянила, бесстыжий!
— Уймись! — крикнул, встряхнул Званку. — Толком обскажи, кто погнал? Куда?!
— Люди добрые, гляньте! — разорялась вдовица. — Стыда в тебе нет!
— Звана!!
— Звана, Звана… Тьму лет уж Звана! — продышалась и сказала. — Не знаю, что там промеж вас, но слово ее прощальное тебе говорю. Велела передать, что твоя взяла. Наказ исполнила, полюбила тебя. Неволить не станет, насильно мила не будет. Просила Огневицу тебе отдать. И все на том. А теперь сиди тут один, как сыч, локти кусай, что такую девку-то упустил, кобелина неумытая.
А потом уставилась на парня, едва рот не открыла от изумления. Он очами высверкнул, улыбнулся широко, да так обрадовался, что Званке почудилось — плясать станет.
— Звана, радость ты моя! — обнимать принялся, а с того вдовица совсем рассеялась.
— Дурной, вот дурной! Отпусти!
— Ты скажи мне, откуль у нее мысли-то такие? Что сказала? — Некрас голосом понежнел.
— Откуль, откуль… Из нее слова не вытянешь. Всегда молчунья была. Тишком, да тайком. Нельгой ведь прикидывалась… Некрас, чтой-то не разумею я, чего там промеж вас? Вот знала бы, что она с тобой снюхается, костьми бы легла, а ее к тебе не подпустила. Охальник!
— Говори слово в слово, что она тебе рассказала, — Некрас улыбку притушил, допытывался.
— Что, что… Сказала, что другая у тебя есть в Журках. Вот что.
— Да кто ей в ухи-то такого напихал?!
— А мне почем знать? Сам в бабье своем копошись, у них выпытывай! — ярилась Званка, за подругу стояла. — Пусти, заполошный. Слово я сдержала, все передала, что она наказывала. Видеть тебя не могу! Тьфу!
— Звана, куда она уехала?! — Некрас ухватил за рукав, к себе лицом развернул.
— Не сказала, — вздохнула вдовая. — Скучать о ней стану. Такая подрунька была золотая…
Оттолкнула Некраса и пошла во двор. Под руку попался Местька, что сунулся было к ней с нежностями, так ему и досталась затрещина: звонкая, увесистая.
Глава 32
— Беги, ищи ветра в поле. Своего-то разума нету, а чужим не разживешься, — Видана утирала слезы. — Сыночек, домой-то когда? Родненький мой…
— Домой? Кто ж знает? — Некрас топтался на берегу, смотрел на насаду свою. — Хочу, чтобы знала ты, мать, без Медвяны не вернусь. Ты ее отправила далече, так я за ней.
— Откуль знала, что ты увяз в гадю … — запнулась, но продолжила, — в ней… Некрас, богами заклинаю светлыми, оставь, откажись. Кровиночка моя!
Потянулась обнять сына: не отшатнулся, но и обнимал так, словно привечал тётку чужую. С того Видана наново зашлась слезами, и унялась уж тогда, когда насада отвалила от Луганского бережка. Все пропустила, все проворонила: и как Деян прощался с сыном, и как Местька кричал насадским, чтобы передали отцу-матери привет сыновий, и как Радим просил жене кланяться.
Уселась на скамью под бортом и пригорюнилась. Через малое время муж подошел, сел рядом и разговор завел. Да непростой:
— Помню, Видка, как увидал тебя впервой. Ох, и девка! Огонь! За словом-то в рукав не лезла, всем доставалось. Ить всю правду в глаза кидала, без разбора. Помнишь ли, любая? — слова говорил нежные, а смотрел строго.
— Ты чегой-то, Деян? — шмыгнула носом, на мужа смотрела, и ждала страшного.
— Тогой-то. Я тогда с одним худым мешком притёк в весь вашу, свистульки продавал за чешуйку. Ни кола, ни двора не имел. А запала ты мне в сердце, разумом помутился, так полюбил. Вспомни, Видана, как отец твой гнал меня со двора, и как ты котомку собрала и за мной ушла. Помнишь ли, любая?
— Деянушка…
— Деянушка?! За всю жизню пальцем тебя не тронул. Любил, нежил, жилы рвал, чтоб токмо тебе жилось привольно. А вот пришел день сей и разумел я — поколочу. Верь мне, Видана, так бы и сделал, коли не любил бы тебя! Ты ни единого раза меня не подвела, всегда опорой мне стояла. Так с чего ты врать-то принялась, подличать? Где ж Виданушка моя? Куда делась девка-то огневая и правдивая?
— Деян, так не для себя! Ведь изведет она его! Изведет!! — слезы хлынули по щекам.
— Вона как! Ладноть, поучу тебя. Некрас ее выбрал, а наша с тобой доля — принять. Видала, какой он стал? Вольный, сильный, за себя постоял, за нее. Правду чует и за любую хлещется. Глаза разуй, Видка. Мужиком он стал. В том и отрада его. А Медвянка хороша! Ить не убоялась, за род горой встала, за матерь с отцом помстила. Ты уж опосля поймешь, что такую девку в дом взять — счастье. Сбережет очаг, насмерть стоять будет за нас, за Квитов. А ты вот сиди одна, как сычиха болотная. Не пустит она тебя к себе в домину-то, не даст внуков понянькать.
— Это как это?! Я бабка им буду! Ты чего городишь, лешак старый?! — подхватилась Видана, на лавке завертелась. — Некрас мой сын!
— Во, заверещала. Сама же его от себя и отвадила. И его и Медвянку. Был бы я ею, я б не пустил на порог, — хмыкнул Деян, брови насупил шутейно.
— Ты чего, старый, потешаешься? Тебя что ль пустят?!
— А то! Сяду, внуков на коленки посажу и стану им потешки кричать. Баснь расскажу, свистулек к празднику принесу. И смотреть буду, как род мой растет и крепнет. Ить девка-то сама крепка. Такого норова, какого и мы с тобой. Да и Некрас той же повадки. Ужель не почуяла? Наша она, огневая.
— А я-то как же? — Видана уж и разумела, о чем ей муж-то говорит, испугалась, искала защиты.
— А ты сиди дома, враки выдумывай. Вот то пострашнее будет, чем мужнин кулак.
— Деян…Деянка… — завыла тихонько, уткнулась головой в плечо мужа.
— Вот те и Деянка, — погладил по голове жену непутёвую. — Так и быть, буду тебе про них обсказывать.
С тех его слов Видана и вовсе разревелась, а Деян улыбку прятал в усах и стращал, стращал. Уж потом обнял крепенько, и выслушал, как винится жена. Все думал, что наказала сама себя похлеще, чем боги светлые.
— Местька, Радимка… Спаси вас… — Некрас запнулся, все слов не мог найти. — Не оставили.
— Некраска, да ты что?! Да мы…да я… — Местька подкинулся, заметался по гриднице. — Ты ж друг мне, самый пресамый!
— И то верно, друг, — Радим козлом скакать не стал, а принялся о главном говорить. — Ты вот что, Квит, обскажи, где искать-то думаешь?
Некрас поднялся с лавки, побродил туда-сюда, да и молвил:
— К веси своей подалась, не инако. А вот где она, весь Лутаковская, а?
— А рядом с Сокуровской. Знала она их, а то как же притворялась бы? И берёсты были от них. Где их городище-то? — Радим говорил мудрое, верное.
— Новик знает. Родня ведь, хучь и дальняя. Токмо городища того нет уже. Перемерли все, — Некрас волосы пятерней взлохматил, задумался крепенько и порешил:
— Вы к Новикам ступайте, промеж них потолкитесь, поспрошайте. А я к Всеведе. Провидит она, так можа и для меня расстарается, а? — Некрас цапнул с лавки подпояску, шапку и выскочил вон, не дождавшись, пока друзья верные хоть слово кинут.
Бежал скоренько, благо бок маять перестал. Через малое время уж топтался на пороге Всеведы, да не просто так, а с подарком: простеньким, но сердечным.
— Ох, ты ж! Никак сам Квит ко мне? Ну, иди, чего встал-то? — Всеведа вышла навстречу, улыбнулась тепло. — Чего мнешься, а? По делу, не инако. Нет бы просто в гости зайти, проведать волхву старую.
— Здрава будь, мудрая, — поклонился чуть не в пояс. — Если б не ты, не топтать мне землю. Спаси тя. Так я и по делу, и по сердцу притёк. Не веришь?
— Нет, не верю. Глаза-то шальные, заполошные. Никак Медвянку потерял? Что, упустил девку? Вона как, — засмеялась, заискрилась волхва. — Чай просто так не сбегают от таких-то.
— Каких таких, Всеведа? — Некрас бровь изогнул, выпрямился горделиво и потешно. — Скажешь, плох я?
— Не скажу, Некраска. Ой, не скажу, — смеялась все то время, пока вела парня в гридницу, за стол сажала.
— Всеведа, просить тебя хочу… — Некрас положил руки на стол, сжал кулаки. — Медвяна пропала, а где искать и знать не знаю. Ты не скажешь, так я всю землю обойду, в каждый уголок загляну, токмо не ведаю, хватит ли на то всей жизни моей.
— С чего пропала-то, а, Некрас? Сама сбежала или надоумил кто? — прищурила глаза рысьи, голову склонила к плечу.
— Надоумил. Да не об том речь! Поможешь али как?
— Ты погоди орать. Если спрашиваю, стало быть, надо. Что лупишься? Никак повернулась к тебе дурным боком слава твоя ходоковская? — ухмыльнулась, но не зло, а с разумением.
— Все-то ты знаешь, — озлился Некрас, брови насупил.
— Говорила я, отольются тебе девичьи слезы. Ну, да ладно, помогу, — Всеведа осерьёзнела, руку протянула. — Дай Огневицу, Некрас.
Парень задумался, но все же, полез за пояс, достал кругляш серебряный и вложил в ладонь волхвы. А уж потом и понял — снова свет померк, как впервой, когда был у Всеведы. По хребту мурашки пошли, да знобко стало в теплой и светлой гриднице.
Всеведа глаза прикрыла, сжала оберег крепенько, посидела малое время, а потом…
— Сколько ж боли… Смерть вижу, пожар, кровь. Дурная Огневица, много зла в ней, бед, — Всеведа глаза открыла, ладонь разжала и уронила кругляш на стол. — Некрас, место не укажу верное, но видела горушку горбатенькую и низенькую. А еще девушку кудрявую. Приметишь, не упускай. Она к Медвяне выведет.
Выдохнула, словно тяжкую ношу с плеч скинула. И снова чудо! В гриднице светло и тихо, как и было допрежде.
— А гора-то? Гора где? — Некрас подался к волхве, едва на стол не улегся.
— Там, где Огневица злой стала. Рядом с весью невесты твоей. Вот и все. Ищи, пригожий, ищи. Боги светлые не оставят тебя. А оберег мне отдай. Верь, всем с того легче станет. Он свое взял, напился боли, так нечего ему больше в яви делать. Пусть упокоит всех и сам пылью станет. Разумел?
Глазами высверкнула, но Некраса не напугала, а развеселила.
— Во как. Все из-за кругляша бабьего? Да ну-у-у-у! — улыбался широко, весело.
— Вот те и ну! — Всеведа даром, что волховала миг назад, в ответ разулыбалась. — Чегой-то у тебя за пазухой топорщится, а? Чего в дом-то ко мне приволок, заполошный?
— То подарочек тебе, мудрая, — полез и вытянул носочки-копытца вязанные, что на торгу нашел. — Знаю, зябнешь ты, Всеведа. Так вот прими, не побрезгуй даром малым. Наденешь зимой на ножки и сиди, радуйся.
— Ах ты, змей. Извернулся и нашел подарок по душе. Некраска, будь мне годков поменьше, так не Медвянку бы ты искал, а сидел возле меня, — смеялась, помолодевшая вмиг женщина. — И как ты понимаешь о бабах, а? Откуль дар-то такой?
— Сама же сказала, что любят меня боги светлые, — подмигнул и добавил. — И бабы тоже.
Посмеялись, полюбовались друг другом, а потом уж и простились. На пороге Некрас обнял волхву и поспешил к домку, где ждали друзья верные.
Всеведа вслед ему смотрела, улыбалась, а уж потом увидела толпу праздную, обрядовую: нарядные гости, веселые парни и двечатки. Невеста идёт, сияет, а жених-то под ноги снуло смотрит. Бредет себе, как скотина подневольная.
Всеведа головой только покачала. Малое время назад любовалась волхва на Тихомира и Медвяну: везде вместе, рука об руку. А тут уж и она не с ним, и Тихомир с другой. Подивилась промыслу богов, что людей сталкивают и разводят в разные стороны. Порадовалась о Медвяне и погрустила о Тише: знала волхва, что отец ему девку сам нашел и заставил в жены взять. Одного не понимала женщина мудрая, как же парень-то смирился? Как жить думает? Это ж каким надо быть, чтобы дать себя, как тварь бессловесную пхнуть в ярмо такое безрадостное? Чай не люба ему, незнакома совсем, не своим разумением выбрана. Пустой и подневольный Голода. Ведь не холоп, а живет, как раб. Плывет, словно рыба мертвая по течению. Ни ворохнется, поперёк не сделает. Вон ведь как бывает.
— Местька, а Местька, чего затих? Уснул? — Радим в седле сидел справно, спину прямил.
— Отлезь, — кудрявый сплюнул зло. — Уж какую седмицу по весям рыскаем, и везде одно — нету никакой Медвяны. Этот еще, заполошный, все гонит кудай-то. Как хошь, а я ныне в дому ночевать хочу! Щей горячих хлебать из горшка, а не хлебом пузо набивать. В баню хочу, да бабу пощупать!
— Распищался, цыплак. Бабу тебе? Не любят они плакс, знай о том, — Радим достал из-за пазухи сухарик. — На, погрызи. Может, полегчает.
— Сам грызи! — озлился Местька. — Ить как носится-то, а? Неужто так горит?
Смотрел в спину Некраса, что ехал на кауром чуть впереди, дивился упрямству дружка своего. Второй месяц кругами ходили опричь веси Лутаков: сыскали ее уж давненько. А вот Медвяны как не было, так и нет.
— Горит, а как инако? Видал, какой он? Аж ликом счернел. Боится, что не сыщет. Из Лугани-то выезжали, так счастливился, а теперь? Ты вот что, кудряш, примолкни. Чай не до твоих хотелок теперича.
И прав был Радим. По началу-то радовались — нашли весь Лутаков, а вот опосля… Что ни день, то пустота. И ведь явь хороша: ни дождей, ни хмари слякотной, одна лишь отрада солнечная. А все одно — муторно. Но крепились, хоть и чуяли — льют из пустого в порожнее, понапрасну коней мают и себя мучают.
День прошел, как все прежние: в седле и без толку. В сумерках дотащились до веси малой и попросились на постой в домок один. Пустили их за деньгу, обещали баню, да еды печной, горяченькой.
Местька ожил, парился, дружек водой поливал, шутил, да болтал. Радим-то ухмылялся, а Некрасу все не в радость.
Ночевать устроились в малой гриднице. Некрас на лавку упал, отворотился к стене и глаза прикрыл. Радим с Местятой переглянулись и не стали тревожить. Кудрявый утёк на гулянки: местные песнь завели. А Радим потолокся у домка, приметил вдовицу пригожую и проводил ее до сенника. Домой-то явился к полуночи, улегся тихо и прикрылся шкурой. Едва не подскочил на лавке, когда голос Некраса услыхал:
— Радим, ты ж вроде при жене. Нелюба она тебе? Или опостылеть успела? Что ж по бабам пошел? — спросил просто, без злости, но и без большого любопытства.
— Так ждала она меня долго. Я ж в дружину утёк — молодой совсем был. А она подлетка еще. Меня помнила, богов молила. Можа через нее я и живой остался. Не люба, а верность ее я знаю.
— А любая твоя где? — Некрас на лавке сел, ноги свесил.
Радим замолк, а Некрас не торопил, ответа дожидался. Потом уж услыхал страшное:
— Убил я ее, Некраска. Не сам, но через меня смерть приняла, — голос-то дрогнул, взвился. — Не пытай про то, слышь? Одно скажу — своей держись. Надо будет, я с тобой до седых волос по свету бродить стану, но помогу сыскать. Так вот и сниму с себя злое-то. Навроде как долг отдам. Спи, друже, спи. Сил набирайся.
Некрас помаялся, не стерпел и вышел во двор. Ночи-то звездные, огней по небу тьма. Будто боги гороха своего рассыпали, и собрать сленились. Голову запрокинул, смотрел ввысь небесную и звал медовую. Просил знак подать, или откликнуться, явиться перед ним. Ветерок ночной качнул деревце молодое, стройное, листья на нем затрепетали, зашептали что-то. Некрасу и почудилось — медовая заговорила, кинула слово в ответ на призыв его горячий. Совсем было уверился, кинулся, а тут Местька:
— Некрас, ты куда?
Тот и опамятовел, по лицу провел ладонью широкой и в дом пошел. Местята топал следом, бубнил под нос себе радостно.
— Ох, и баба попалась! Квит, а Квит, ить как сладко, а? — завалился на лавку в сапожищах, руки под голову завел и хмыкал, счастливился.
— Спи уж, любилка, — Некрас к стене отвернулся, слушал вздохи дружьи, и сам тревожился. Вспомнил Молог бурный, Медвяну сладкую, и так заскучал, что слов нет.
— Ладно, сыщу, так за все отлюбишь, медовая. За все расчет дашь. Сбежала она, ишь. Поверила навету. А мне-то? Мне поверить? Найду, из-под земли вытащу, косищу на кулак намотаю и так водить за собой стану, — прошептал в стенку и уснул.
Утро занялось радостно: cолнце выскочило, облачка развеялись, ветерок свежий гулял, бодрил, но не морозил. Зелень тяжелая, засветилась наново. Осень-то уж рядом топталась, во всем проглядывала: на листьях ободки темные появились, ночи длиннее стали, прохладнее. Вода в реках посерела, но все еще дышала теплом.
Неркас проснулся позднехонько, умылся из кадки, встряхнулся, и собрался уж в домок утричать, да огляделся. Вечор в сумерках и не приметил вдалеке горушку низенькую, будто горбатую. Вспомнил Всеведу и встрепенулся. А тут еще Местята добавил отрады: стоял у заборца и с девкой какой-то лясы точил.
— И откуль имя-то такое, а, красавица? Иринка… Надо же. — А в ответ ему девчачий голосок.
— Так батя у меня из пришлых. Литвин. А мамка отседова, местная.
— Стало быть, ты Иринка, Литвинова дочка?
— Стало быть так, кудрявый. А ты чьих? Не видала тебя. Пришлый?
Некрас подошел ближе, поглядел на девушку, да и обмер — кудрявая, как сам Местька. Подскочил и бросился к ней. Ухватил за плечи и держал крепко.
— Иринка! Скажи, ты не знаешь Медвяну? Красивая, волосы, что медок молодой? Видала? Ты размысли, не торопись! — и глазами высверкивал, надеждой дышал.
— Матушки! Вот ухватил! Отпусти, дурной! — девка трепыхалась. — Ну, знаю, и чего? Она тама вон, за речкой живет. Далече. Ежели верхами, так к темени поспеешь. Эй! Куда ты?
Некрас кинулся в дом, ухватил охабень свой, подпояску, цапнул кус хлеба и на двор! Радим уж коней выводил, в путь собирался.
— Ты чего?! — бывший закуп только руками развел, когда Некрас голубем взлетел в седло и вымахнул за ворота, словно гнал его ветер дурной, сильный. Пыль взвил дорожную и скрылся за поворотом.
— Эва как… Нашлась нето? — Радим на Местьку уставился.
— Свезло, ой, свезло! — кудрявый к Иринке сунулся, обнял. — Красавица, голубка! Хошь на руках до дома дотащу, а? Ты не смотри, что худой, я знаешь какой сильный?!
— Дурные все! Тьфу! — девушка косой мотнула, перехватила удобнее туесок, что в руке несла и пошла себе по дороге.
За ней Местята увязался, болтал, шутейничал и добился улыбки светлой, белозубой.
Некрас едва коня не загнал. Летел пока сумерки не пали, и токмо тогда образумился. Пожалел скотину, спешился и дал роздых: себе и ему. Конь падет, так он медовую еще дольше не увидит!
Шел неторопко по берегу речки малой, коня выхаживал, а уж потом и напоил бедолагу, да и сам искупался. Смахнул воду с волос, оделся и хотел уж в седло прыгать, к медовой лететь, но запнулся, остановился. Поблазнилось, что плачет кто-то и горестно, жалко, будто хоронит кого.
Взял под уздцы коня, повел по берегу и …
Медвяна под деревом сидела, руками лицо закрывала и рыдала так, что Некрас едва не полыхнул! Обидел кто?!
— Матушка Лада, за что ж ты меня? Любовью-то подарила, да и отняла.
Некраса и затрясло: и злился, и радовался, и любил до одури. Наверно с того и сказал дурное:
— Ревешь? Ну, реви, реви. Мало тебе, беглая! — накинул повод на сук и двинулся к медовой, а та голос услыхала, подскочила да и уставилась на Некраса, будто чудо узрела!
— Некрас! — застыла, словно не знала к нему бежать или от него.
— Вон как. Имя-то мое не забыла. Ну что ж, и на том спаси тя. Что встала, а? Боишься? Вот и бойся! Токмо подойди, попробуй! Своими руками придушу, разумела?!
Глава 33
Не полюбился Медвяне дом новый: темный, стылый, безрадостный. Сосен нет, река опричь веси мелкая и мутная, берега пологие травой поросли.
Богша радовался: луга широкие, разнотравье. Борти ставить — самое место! Веечка все молчала, все печалилась, тихо слёзы лила: день и ночь. А Медвяна смотрела на нее, да разумела — сама бы рыдала, убивалась вот так же, как и вдовица несчастная. Богше-то что? Утёк поутру в лесок, поохотился, побродил по ветерку свежему и рад, а двум печальным бабам в дому сидеть.
Медвяна места себе не находила, тревожилась за Некраса. Оставила одного: раненого да на лавке. Пусть ходок, пусть другая сыскалась, а все ж люб ей, дорог!
Металась и сама не разумела что с ней. И огневицы-то нет, а всю трясет. Маята, муть и мысли о нем, о Некрасе. Ложилась на лавку, подтягивала колени к животу и лежала: скукоженная, жалкая. Тосковала о парне, жалела себя, но и ругала. Все думала, что наказали ее светлые боги, глаз лишили, сердце затворили и не дали разуметь, что любый ее все время рядом был. А она и не замечала. Смотрела на иных, только не на него. Вот и досмотрелась.
Ждала Медвяна срока положенного, чаяла дитя зачать, а не случилось. Кровь уронила и навовсе сама не своя стала. Одним днем вскочила поутру вся в слезах после сна сладкого, не снесла тоски и пошла в лес. Бродила-то долгонько. Ягод каких ни есть собрала в туес, грибов первых. Так до вечера и прометалась меж светлых березок. Легче стало, продышалась. Поблазнилось, что сможет пересилить тоску свою, ан нет.
Ночи донимали снами, утра слезами, а вечерами тоска накатывала. Мысли-то разные в голову лезли: забыть гордость свою девичью, не думать о разлучнице, а лететь к Некрасу птицей радостной. Хоть один миг побыть рядом с ним, положить голову на широкую грудь, почуять на себе руки нежные и сильные.
Время шло, лето красное перевалило далеко за середину. Обвыклись скитальцы на новом-то месте. Медвяна так и ходила в лес по грибы, по ягоды, да и Вею с собой брать стала. Та послушно бродила за девушкой, носила в руке вялой пустой туесок. Ходили-то далече, но особо не сторожились: места глухие, безлюдные. Но и там, в лесной глуши нашли домок малый опричь старого капища.
Волхв-одиночка вышел на крыльцо и смотрел долго на двух пришлых. Медвяну оглядел, кивнул, да и обратился вострым взглядом к Вее. Брови возвел высоко, изумился, и заговорил:
— Давно такая? — голос-то приятный, ласковый.
— Давно, мудрый, — Медвяна голову склонила, приветила волхва.
Тот двинулся навстречу, встал рядом с Вейкой и улыбнулся.
— Давно уж ждал тебя. Где ж бродила? В дом зайди, и на лавку сядь, — погладил страдалицу по головке опущенной, а потом уж Медвяне высказал. — Не бойся, красавица, зла не сделаю. Вторую годину я тут обретаюсь. Берегу для Морены угодья ее. Подруга твоя одной ногой в нави, а другой в яви. Тут ей самое и место. Промеж людей жить не сможет, а здесь ей привольно станет. Верь мне, медовая.
Медвяна вздрогнула, услыхав прозвание свое сладкое.
— Как же я ее оставлю? Вместе мы! Что ты? — пошла за Веей, что уж в дому скрылась.
Ступила на порог чистой избы, подивилась уютному укладу: травы пучками, куколки соломенные по лавкам. А Вея меж тем, на сундуке устроилась, взяла в руки куколку, прижала к себе и запела: чисто, звонко. Медвяна ее тянуть, уговаривать, а та уперлась, в слезы ударилась и домой идти отказалась.
Пришлось брести одной, а там уж и Богше жалиться. Вторым днем вместе пошли и увидели чудное, но и отрадное. Вея опричь домка волхва лесного ходила. Улыбалась, счастливилась. Узнала своих-то, подалась навстречу:
— Медвянушка, — обняла, прижалась. — Хорошо-то как…. Богша, что смурной такой? Никак обидел кто?
Пока Медвяна с Веей говорила о простом и разном, Кривой с волхвом толковал: кивал, брови супил. А уж потом и обсказал Медвяне, что стоит Вейку отвести подалее от капища, она наново дурной делается. Волхв Добродей оставить ее хочет: нужна она ему, а он ей.
Поуговаривали малое время вдовицу, услыхали в голосе ее правду и простились. Другим днем Богша снес пожитки Вейкины в лесной дом, да и оставил несчастную там, где ей хорошо было.
Вдвоем остались. Жизнь вели тихую, простую, словно отдыхали от трудов тяжких. Вейку часто проведывали, с волхвом болтали.
На исходе месяца, Богша высказал Медвяне:
— Тут оставаться надобно. Привольно! Луга широкие, травные, леса светлые. Давай новый сруб ставить, Медвянка! — радовался, нашел себе место, решил осесть, а девушка в тоску ударилась.
Вея пристроилась, притулилась к волхву. Богша отрадой дышит. А она? Где ее-то место? В веси сожжённой Лутаковской? В Лугани погибельной? Мысль-то росла в ней, вихрилась, не отпускала: не любит ее явь, места не дает для жизни, выпихивает из себя, словно рухлядь ветхую и ненужную.
Днями слушала, как стучат топоры, как бревна нового сруба громыхают, складываются в домину. Чуяла, что как только ступит одной ногой в те хоромины, так и останется там навечно. Тоской изойдет, слезами растечется, осядет тоскливой птичкой, что заперли в клетке, и крылья подрезали до горки.
Некрас стал чаще во снах являться, все руки к ней протягивал, обнять хотел. Медвяна кидалась к нему, а он все дальше, дальше… Поди, ухвати муть сонную, поймай счастье зыбкое, удержи в руках любовь.
Вот и еще один день настал: безотрадный и тревожный. Медвяна по дневному свету ушла в лес, проведала Вею, поговорила с ней ласково. Выпила настоя травяного, что поднес в чашке деревянной Добродей. Посидела малое время и домой отправилась. Шла неторопко, но не плутала — ноги несли сами. К дому притекла уж ввечеру, сходила в баньку теплую, а вот потом чудное случилось…
Вышла в ночь воздуха глотнуть, да и услыхала голос Некраса! Звал, молил откликнуться! Она вскинулась, метнулась к забору, руки протянула … А куда, кому? И сама не поняла. Заплакала, и прислонилась к столбушку у ворот. Стояла долго, несчастье свое кляла, невезучесть и дурость поминала лихим словом. До того себя довела, что решилась просить Богшу найти мужика какого, чтобы добрёл до Решетова и вызнал, оздоровел ли Некрас, как Квиты живут, чем счастливы. И нет ли в дому уж новой невесты?
Утром-то помялась и подсела к Богше на лавку.
— Дядька, просить хотела… — и запнулась.
— Знаю я хотелки твои, Медвянка, — Богша лоб наморщил, глянул сурово. — О Некрасе плачешь? Думала, не понимает Кривой, ничего опричь себя не видит? Ты ж собакой выла, когда порезали его, так чего ж утекла с Лугани? Я слова тогда поперек не молвил, ты ж Лутак, сама разуметь должна. А таперича себя казню. Ты рода крепкого, то верно, а вот девичьим умишком не разжилась! Говорила ты Званке, что он другую себе нашел? Кто напел-то тебе, дурища?! Я не родовитый, но мужик же. Какой ни есть. И вот, что тебе скажу, курёха сопливая, ни один парень не станет брюхом на меч кидаться заради постылой девки. Разумела?
— Богша! Не знаешь ты ничего! — вскинулась Медвяна, подскочила с лавки и забегала по гриднице.
— Знаю поболе твоего, дурка! Ты посиди, покумекай, можа в голову пустую и влетит ума малёхо, — хлопнул ладонью по коленке, встал и вышел на двор.
Медвяна и заметалась наново. Пошла в лес, да не бродилось, ушла к реке, да не плавалось. Так и маялась до сумерек. Думала, измышляла и подалась на Богшины слова, приняла. Уселась под деревом, зарыдала, лицо закрыла руками. Причитала, с богами препиралась:
— Матушка Лада, за что ж ты меня? Любовью-то подарила, да и отняла, — доплакать не успела, голос услыхала и ушам не поверила!
— Ревешь? Ну, реви, реви. Мало тебе, беглая!
Обернулась и подскочила! Некрас! Брови сведены грозно, кулаки сжаты, глаза искры мечут. Медвяна дышать забыла, глядела на него, пыталась унять сердце, что рвалось птицей из груди, трепыхалось, словно выскочить хотело.
— Некрас!
— Вон как. Имя-то мое не забыла. Ну что ж, и на том спаси тя. Что встала, а? Боишься? Вот и бойся! Токмо подойди, попробуй! Своими руками придушу, разумела?!
Разумела… Да не то, что пугал, что грозился, а иное. Пусть удушит, пусть поколотит, только бы смотрел вот так! Ярко, огненно, но и нежно. Увидела Медвяна на дне черных отчаянных глаз любовь глубокую, сильную, такую же мощную, как волны Молога.
Бросилась к парню, обвила руками, прижалась головой к груди широкой и в тот же миг поняла — вот оно, ее место, ее явь и счастье. Пускай не будет домины большой и богатой, пускай не останется хлеба, только бы он был.
Некрас застыл под ее руками. Чуяла Медвяна, как плечи напряглись, как хрустнули пальцы, что сжались в кулаки еще сильнее. Знала — злится, но под щекой ее отчаянно, громко и безудержно бухало его сердце.
— Некрас, любый мой. Что ж долго так шел за мной? — прошептала негромко, а он услыхал, руки вскинул, обнял крепко, едва не задушил.
— Медовая, летел. Токмо ты ко мне и шагу не сделала… — поцеловал тихо в макушку, понежил теплым объятием, а уж потом и ругаться начал. — Тебя куда унесло-то, неразумная?! Куда?! На лбу тебе выжгу — никогда ты от меня не сбежишь! И не пробуй даже! Ты чего удумала?! Медвяна, вот сей миг перед светлыми богами зарок дам — привяжу к себе опояской, так и будешь возле меня, пока не врастешь накрепко!
— Некрас, так я же… — пропищала, а он и договорить не дал.
— Ты же! Винись! Сей миг винись! Клянись, что со мной будешь!
— Буду, — сказала и поняла — зарока не нарушит.
— Громче давай! Чтобы вся округа слышала! И про любого снова обскажи… — голос дрогнул, прошелся горячей волной по обоим. — Медовая, сына-то подаришь?
А она снова в слезы.
— Не-е-е-т, — и уткнулась носом в шею теплую, запищала, заскулила, что щеня.
Некрас помолчал малое время, вздохнул и улыбнулся.
— Нашла об чем плакать. Сына не подаришь, жадная, так я тебе двух подарю. И дочь до горки, — поднял заплаканное личико к себе, в глаза ее окунулся, что в воды светлые. — Люблю я тебя. Сам дивлюсь тому, как сильно. И хочу, чтобы ты любила так же.
— Я еще сильнее… — руки белые легли на широкие плечи, губы румяные потянулись целовать.
Некрас не снес ласки ее простой, слов ее горячих и правдивых. Обхватил, прижал к дереву спиной и поцелуем обжег: крепким, жадным, любовным.
Глава 34
— Я еще сильнее… — голос ее тихий и сладкий подстегнул не хуже плети.
Сказала, призналась, что люб ей! Ужель боги услыхали? Ужель ответили ему даром редким? Сам себя допытывал и сам же себе ответ давал: одарили, любит, моя. Одно-то дело от подруги ее услыхать, и совсем иное — от нее самой. Вмиг разум помутился: огнем обдало — не остудишь. Руки жадными стали, губы горячими, а поцелуи крепкими: не нежили, а кусали. Знал Некрас, что не стерпит, не удержит себя, ласковым не сможет быть нынче:
— Медовая, прости…Скучал за тобой… — ответа-то не дождался, схватился за подол запоны девичьей, вверх потянул, а там уж и прошелся ладонью по гладкому телу в жаркой ласке.
Медвяна сникла в его руках, уронила голову на Некрасову грудь, вздохнула счастливо, да задрожала нетерпеливо. Он же, почуяв податливость ее, медлить не стал: взметнул на себя легкую девушку, дернул ворот рубахи, открыл взору белую налитую грудь и приник к ней губами, словно путник к воде в день жаркий. Подалась Медвяна, выгнулась навстречу, застонала глухо, тем и выбила последний разум из бедовой головушки. Запона треснула под крепкой рукой, располовинилась, да и соскользнула с белого тела. Упало в траву очелье девичье, а вслед за ним и подпояска Некрасова.
Почуял, как ноги ее сомкнулись на его спине, и едва не зарычал от нетерпения. Прижал Медвяну к стволу, запечатал рот поцелуем горячим, а уж миг спустя понял — ждет она, примет радостно, себя отдаст! Не промедлил, любовь подстегнула. Взял свое: сильно, жарко, глубоко. Себя потерял, слышал только протяжный крик медовой своей, что билась в сладкой муке, отвечала на любовь его огневую едва ли не сильнее, чем сам он любил ее сей миг.
Унесло, закружило, словно в омут попали обое. Не было больше вечера тихого опричь реки, а был огонь, пламя яркое. Не сгоришь в таком, а будто заново родишься. И не один, а с нею, с той, которая собою дарила, сжигала любовью, но и делала сильнее богов: древних, светлых, могущественных.
В самый последний миг Некрас услыхал сладкий, долгий стон медовой, и отпустил себя, а куда неведомо. Взмыл в небеса, заплутал меж звезд ярких, вдохнул все сразу: явь, навь и правь*. А потом и рухнул вниз.
Медвяну-то обнимал крепко, но на ногах не устоял, так и упал на спину, а ее не отпустил. Приняла их трава высокая мягко, радостно. И так же смех прозвучал Медвянин, будто птичка прощебетала веселая.
Отдышались, образумились, но друг друга крепко держали, все боялись отпустить. И как иначе? А вдруг все сон или волшба ведовская?
— Медовая, вот попомни, еще раз так полюбишь, я издохну, — Некрас обхватил Медвяну, подмял под себя и навис, сиял глазами. — По сию пору не пойму, где я и кто таков. Винись, приворот на меня делала? Инако не разумею, откуда все это?
Сунулся целовать, а она смеялась, отворачивалась, упиралась теплой ладошкой в его грудь.
— Некрас, болтун ты… — поцелуй все ж приняла, да и ответила сладко. — Не было приворота, поблазнилось тебе. Сам знаешь, в твою сторону и смотреть-то не хотела. Прости, любый, что не сразу признала тебя. Правду говорят — когда боги наказать хотят, так слепыми делают.
— Вот! А я что говорил? Ведь как просил: полюби, полюби. А ты, упрямая, нос воротила! — сердился потешно, сыпал поцелуями без разбору: в нос, в губы и щеки.
— Не верила, не верила тебе… — сама принялась целовать. — А когда упал ты…
Замолкла на полуслове, потянула с него рубаху, откинула в сторонку и ладошку положила на рубец страшный. Взглянула в глаза Некрасу, а тот замер, дышать перестал.
— Думала, что нет тебя больше, ушел ты, покинул меня. И явь померкла. Веришь ли? Будто меня меч достал, не тебя. Взвыть захотелось, и лечь с тобой рядом прямо там, на земле сырой. Некрас, ты люби меня, сколь сил хватит! — слезы брызнули из зеленых глаз: горькие да частые. — Знаю, вот такой ты… Пусть в Журках будет у тебя другая, токмо и меня люби…
Некрасу слова ее больно аукнулись, резанули как тот меч. Затревожился, задышал часто, обнял лицо мокрое ладонями, на себя смотреть заставил.
— Медвяна, глупая, ты что говоришь-то? Одна ты у меня! Слушай, да послушай ты! — и уговаривал и целовал, да все бес толку. — Мать оговорила. Меня берегла. Медовая, любая, ведь как услыхал, что ушла ты с Лугани, так и пожалел, что не издох. Нет никого, ты только! Да что мне сделать-то, чтобы поверила?!
Обнял крепко, по спине гладил, по волосам светлым. Медвяна унялась, прижалась к теплому Некрасу, сопела щекотливо, дышала в шею.
— От меня берегла? — тихо спросила. — Любый, может и надо было матушку послушать? Ведь права она. Уж сколь раз из-за меня ты…
— И что? Медовая, у каждого свое счастье. У меня вот такое заполошное. Но мое, разумеешь? Вздумай ты на голове стоять или с зайцем в прятки играть, так я все приму. Что?! Гляньте, миг назад слезы лила, а теперь зубы скалит.
— А как это с зайцем в прятки? — слезы еще не высохли, а улыбка уже блеснула, сделала светлое личико во сто крат милее.
— А так это… — Некрас собрался уж обсказать все в подробностях, но запнулся и подивился дурости своей.
Лежит в обнимку с любой в траве высокой, прижимает к себе тело нагое и гладкое, а про зайцев думает. Впору испугаться, что утратил пыл парнячий, да перекинулся наново в подлетка сопливого.
Замолк, призадумался, а тело-то не подвело, откликнулось за медовую. Взглядом полыхнул, окатил Медвяну огнем, она и поняла все. Подалась навстречу, за шею ухватила и к себе потянула.
— Медовая, потом про зайцев-то…
Солнце лучом последним подмигнуло, позолотило тела сплетенные, словно благодать подарило, признало единство и любовь приветило.
Много время спустя, когда уж темным темно стало, да звезды на небо выскочили, Некрас вынырнул из омута сладкого и вновь принялся торговаться:
— А ведь должна ты мне, медовая, много. За всю жизнь не разочтешься.
Медвяна прыснула смешком коротким, поцеловала плечо крепкое.
— Что ж ты хочешь? — а голос веселый, счастливый.
— Все хочу. Перво-наперво сыщем капище, какое ни есть, и волхва. Пусть обряд справит. Отсюда уедешь только женой, инако я не согласен. Сбежишь куда, или еще напасть прилетит… Не! Женой стань, а уж там я за тебя в ответе буду и перед людьми, и перед богами. Потом посажу тебя на коня и увезу к себе. В Решетове дом новый ставят для нас. Знаешь какой? Ты такого и не видала! А пока ставят, я тебя с собой на насаду возьму и покажу Новый Град. Ты за мной ходить будешь, как привязанная. Хучь смолой обмажься, но прилипни, и от меня ни на шаг! Разумела? Потом сына, потом… — не договорил, все слова растерял, когда услышал смех Медвяны. — Чую, не согласна ты. Опять препираться станешь? Медовая, неужто не поняла еще, что я всегда правый выхожу?
— Некраска… — отсмеялась, продышалась. — Хвастун ты, болтун и балагур! Не я тебе, а ты мне должен. Как жить-то с таким, а?
— Вот не о том ты мыслишь. Ты разумей не как со мной жить, а как без меня, — в глаза заглянул зеленые, и понял: не хочет без него.
Задумался и еще одно уяснил: она-то без него не хочет, а он без нее не может. Вздохнул тяжко, да и принял долю свою — одну любить всю жизнь, одной радоваться и токмо одну ее и видеть. Вон они, боги-то, как рассудили, как наказали сладко ходока Квита.
Умолкли оба, словно главное разумели, важное. Обнялись крепко, согрелись теплом, и наново счастье-то поймали. И как не поймать? Вон ведь все им дышит: и речка тихая, и звезды яркие, да и вся явь.
Через малое время Медвяна задышала ровно, уснула на его плече. Пришлось выпутываться из волос ее длинных и идти за охабенем: хороша любовь, да горяча, токмо ночи уж прохладные. Укутал медовую, оплел руками, взял в полон нежный. Уж на самой кромке сна и яви, понял — впервой за долгое время вот так спокоен, рад и верит в день грядущий.
Пламя в очаге высоко взвилось, выхватило из мрака гридницу богатую волховскую. Тонкая рука Всеведы потянулась к огню, да и скинула в пламя ярое Огневицу злую. Вспыхнуло, засияло и пошло всё вокруг языками рыжими! Танец грозный, огневой начался, взьярился, и искрами явь заполонил. Некрас стоял средь того гудящего огня, но не боялся, знал, что к добру.
Так и вышло!
Пламя схлынуло, сошло: дыма, золы не осталось. Одна лишь поляна солнечная, отрадная: цветы повсюду, деревья высоченные, небо синее. Огляделся Некрас, и увидел медовую свою, что шла к нему, улыбкой сияла и взглядом нежила. Приблизилась, руки раскинула, мол, вот она я, сама пришла, люблю и твоей буду.
Обнял ее крепко, обрадовался и проснулся.
Солнце на небо вылезло, окрасило золотом реку, блеснуло на воде, едва не ослепило. Но не на то смотрел Некрас, не тем любовался и счастлив был. Медвяну увидел: спала на его руке медовая, улыбалась во сне и шептала:
— Некрас…
Будил-то сладко, да долго. А как иначе? Скучал вдали от нее…
К полудню-то все ж опомнились, да засобирались. Тут уж Некрас дал себе волю: засмешил медовую до слез. Все рассказывал, как она в весь без рубахи пойдет и как в располовиненой запоне людям на глаза покажется. Потом унялся, накинул на девушку охабень свой, посадил на коня и повез. Въехали на подворье и на Богшу наткнулись: стоял на крыльце, пыльцы на опояску засунул, смотрел внимательно.
— Богша, здрав будь… — прошептала медовая, румянцем полыхнула.
А Кривой ухмыльнулся в густые усы, и ответил важно:
— И тебе не хворать, Медвяна Любимовна. Вижу, не одна ты. Гостя-то в дом веди, на лавку сажай. Не инако оголодал за ночь у реки, — хмыкнул в голос. — Ты, Медвяна, как вздумаешь по ночной поре со двора утечь, так обсказывай прежде — куда и с кем. А то броди за тобой, мечись по подлеску.
— Богша, ты видел никак? — совсем раскраснелась, а Некрас сам улыбнулся широко, да и ответил мужику.
— Ты, мил человек, не мечись боле. Есть кому приглядеть за Медвяной Любимовной, — с коня сошел, потянул за собой девушку. — Ты чего там про угощение-то говорил, а?
Взглядами пободались, поупирались да и засмеялись обое, сладились. Пока Медвяна металась по гриднице своей, шуршала одежками, Некрас и Богша уговаривались.
— Вено-то тебе несть за Любимовну? Ты скажи сколь, я разочтусь и ныне сведу со двора. Токмо волхва бы сыскать. Нет ли кого на примете?
— Как не быть, — Кривой приосанился, почуял себя батькой названым. — Добродей. И при капище. Прям ныне и сведешь невесту со двора? Экий ты скорый. А ежели не уговоримся о вено?
— Экий ты дурной. Нашел с кем торговаться. Богша, ты знаешь с кем говоришь-то, а? Квит я, купец, чай не собакин хвост!
— Так и я не свинячья нога! — Богша подался к Некрасу, подмигнул. — Невеста уж больно хороша. Умница, красавица, нравом покойна, не брехлива да не сварлива. За такую золотом надоть, не инако.
— На что тебе золотишко-то, Богша? Ходишь — бирюк бирюком! Ни тебе… — договорить не успел, на Медвяну засмотрелся, что показалась на пороге.
— Вон как. За меня вено пожалел? Жадный ты, Квит, несговорчивый. Вот и не знаю теперь, идти за тебя, нет ли, — смехом давилась, и хороша была так, что Некрас едва не сорвался с лавки — целовать.
— Погоди, медовая. Я уж почти сторговался. И ведь какой торговец-то страшный попался, токмо глянь. Бородища ковшом, брови кустами. Я ажник испугался.
— Тебя испугаешь, как же. Вон глазюки горят, едва искры не сыпят. Кто тут страшный-то? Кто?!
И так препирались до тех пор, пока смехом не зашлись. И до того весело было, до того хорошо, хоть в пляс пускайся! Так и поутричали: с шутками, с улыбками. Долго ждали пока девка-холопка охала, металась по домку, готовила наспех невесту к обряду. А уж потом и отправились дорогой лесной к волхву. Поезд свадебный* маловат, да не по уряду, то правда, но кто ж о том пёкся? Да и зачем?
От автора:
Правь — это место обиталища светлых богов.
Свадебный поезд — слово «свадьба» состоит из трех частей: «сва» — небо, «д» — деяние на земле и «ба» — благословленное Богами. Получается, что исторически слово «свадьба» расшифровывается как «земное деяние, благословленное Богами». Поезд — повозки, в которых сам жених и его дружина отправлялись за невестой с дарами ее подругам и родителям. Чем богаче семья жениха, тем длиннее должен быть поезд.
Глава 35
— Хозяюшка, плат-то, плат накинь*! — холопка вьюнком вилась вокруг Медвяны. — И молчи*, молчи во славу Рода!
Медвяна и молчала. Принимала покорно заботу, ждала пока девка проворная расправит длинные рукава калинки*, одернет подол красный*.
Слышала Медвяна, как Богша выговаривал Некрасу, ругался на бестолковый обряд, сетовал громко, что родни жениховой нет, а тот молчал, не отвечал отцу названному, а потом и вовсе ушел во двор. А как иначе? Невесту-то вывести должны, передать с рук на руки.
Плат на голову лег, укрыл невесту, будто в навь увёл. Медвяна руку протянула, почуяла, как холопка взяла ее за рукав и повела — незрячую, безмолвную — за собой во двор. А там Богша принял, подхватил и на коня посадил. Под покровом-то не видно ничего, а Медвяне хотелось на Некраса глядеть, улыбаться, радоваться свадьбе простой, едва ли не нищей.
Тронулись кони, пошли ходко по дороге, а потом и по лесной тропе. Солнце нежгливое, ветерок легкий и дух лесной дурманный: травами налитыми пахло, землицей солнцем согретой да мёдом.
Кривой о всю дорогу прибаутками сыпал, жениха подначивал, смеялся тому, что Некрас ответить не может. Холопка тихонько выла*, хороня девку.
Медвяна улыбалась под платом своим; вот тебе и Лутак, богатая да родовитая. Поезд-то куцый: Богша и девка безродная. Да не печалилась, а счастливилась девушка. Все сон поминала, что пришел к ней ночью, когда спала на Некрасовом плече.
Матушка вышла на крыльцо дома родного, улыбнулась светло, за ней отец встал, приветил, кивнул ласково. Медвяна слезу обронила, да бросилась обнять, но замерла. Огонь вспыхнул под ногами, блеснула в нем Огневица, что сняла она с матушки в день страшный, да и рассыпалась пеплом!
Медвяна руки протянула к родным, а те головами покачали, мол, стой, не ходи, рано еще к нам-то. Смотрели и радовались дочке, а потом вздохнули оба легко, да рассеялись светом теплым, отрадным.
Рука горячая легла на плечо Медвяны, удержала. Обернулась она, Некраса увидела. Стоял, улыбался, светился любовью.
— Некрас… — молвила радостно и проснулась.
Конь шел ровно, с мыслей не сбивал, Медвянка думала, да и разумела: родные упокоились, приняла их навь, отпустила обида. С того и девушка вздохнула вольно, легко. Слезы сами по себе потекли по щекам белым, закапали на рубаху обрядовую. И в том сама Медвяна узрела добрый знак: приняли боги требы кровавые, простили помстившую и счастьем подарили.
— Добро вам, люди, — голос Добродея услыхала, и подивилась тому, как скоро добрались до лесного капища. — С полудня жду, а вы не торопитесь.
— Здрав будь, волхв, — Богшин голос удивленный. — Откуль знал-то? И сами не ведали, что к тебе пожалуем.
— А вот потому я волхв, а ты, мил человек, Богша Кривой. Ну, что ж встали? Для обряда самое время*.
Медвяну потянули с коня, схватили за рукав долгий и повели. Шла без опаски, знала — Некрас рядом. Едва сдержала себя, чтобы не взять его за руку.
Плат сдернула холопка, и Медвяна едва не ослепла. Сморгнула, а потом на Некраса взглянула, а он уж ждал, сверкнул очами в ответ, словно опалил.
Добродей встал напротив и принялся творить зачин:
— По доброй ли воле берешь за себя княгиню светлую Медвяну?
— По доброй, — Некрас молвил тихо, но так грозно, что Медвянка едва смех сдержала.
— По доброй ли воле идешь за князем светлым Некрасом?
— По доброй, — прошептала счастливо.
— Любите ли? Станете ли беречь один другого?
— Любим, — ладно проговорили оба. — Сбережем.
Огонь обрядовый уж горел вовсю, волхв улыбнулся в бороду и принял из рук Богши петуха на требу*. Чиркнул ножом, пролил кровь со славу Рода, а костер-то и принял! Пламя весело взметнулось, подмигнуло и опало. Ветерок зашуршал, пошел гулять по листве кружевной.
Связал Добродей свадебным рушником руки молодых, да повел трижды вокруг огня. Испрашивал у светлых богов благословения на союз. А уж потом и жениха с невестой благом подарил: осыпал щедро хмелем, зерном и мелкой деньгой, что подал Богша. Вейка показалась: несла в руках братину малую с питным медом. Отдала волхву, а он уж и потчевал. Некрас с Медвяной взялись свободными руками за чашу, принесли первую требу свою родным богам, да и испили священного напитка во славу Роду, земле родной и предкам своим.
— Отныне князь Некрас с княгиней Медвяной есть муж и жена честные! — громко крикнул волхв, будто посылал правду свою богам.
А уж вслед за тем и крики раздались: радостные, веселые, счастливые!
— Сва*! Сва! Сва! — ладным троеголосием от Богши, Веи и холопки. — Слава! Слава! Гой!
Некрас себя не сдержал, обнял свободной рукой Медвянку, прижал к себе и поцеловал жарко румяные губы. Прошептал тихо:
— А и попалась ты, медовая, — улыбку подарил белозубую. — Всю жизнь опричь меня будешь. Рада ли? Ответь.
— Ты счастливой меня сделал, Некрас. Зачем спрашиваешь? Знаешь ведь, люблю.
Жених уж наново сунулся целовать, а гости зашутковали, закричали, кинули зерном, а вслед за тем и хмелем душистым. Добродей засмеялся, махнул рукой и позвал всех к столу свадебному:
— Вея с самого утра копошилась. Металась по бабьему куту, пекла, да мочила, — пошел вперед, за собой молодых повел. — Не было еще в дому моем свадебного-то пира. Отрадно сие, любо.
Домок светлый — окна нараспашку — встретил духом травяным и столом нарядным: и курник* там, и ягодки моченые, и иного в достатке. Волхв снял рушник обрядовый, свернул осторожно, да на стол приладил.
Медвяна бросилась Вею обнимать, а вдовица засчастливилась, поцеловала в лоб, и потянула девушку в гридницу — косу разметать, да переплести наново, уже в две другие, бабьи.
— Веечка, родненькая, а как же ты про свадьбу-то знала? Откуль? — Медвяна на лавке сидела смирно, принимала заботу от вдовицы счастливой и ласковой.
— А сон видела, Медвянушка. Сгорела Огневица-то, отпустила тебя к Некрасу. И петух крылами махал, а то к свадьбе, — косы плела ровно, туго да красиво. — К лицу тебе бабий уклад. Медвянушка, ты снимай калинку-то, я тебе поневу вышила. Глянь, как красиво!
Сунулась в коробок, вытянула бабью одежку, а следом и рубаху белую. Обрядила жену новоявленную, пригладила складки, покрыла голову платом нарядным.
— Счастлива будь, а я о тебе радоваться стану, Медвяна. Спаси тя… За заботу долгую, за дом и хлеб, — обняла девушку, а потом в руку сунула обереги-колечки. — Ты в косы-то вплети, и не вынимай часто. Деток сбережешь, не отдашь нави раньше времени. Добродей отжалил. Ты послушайся, родимая, он мудрый, видит многое.
— Спаси тя… — наново закапали слезы светлые.
К столу пришли умытые и радостные, а там уж снова Богша с Некрасом препирались.
— Вот какой из тебя купец, а? Ить про приданое не выспросил, не счёл деньги невестиной, — Богша хлебнул медку, раскраснелся. — Зря я тебе Медвяну Любимовну отдал, ой зря. С таким раззявой пропадет она.
— Богша, чегой-то не видал я в твоем дому жён. Дай-ка угадаю! Пока ты приданое считал, девок парни лихие увозили. Да? И кто тут раззява, а? Кто?! — Некрас брови супил шутейно, прятал улыбку. — Дожил до седых волос, а не разумел, что род крепок не токмо деньгой. А Медвяна Любимовна всем меня одарит, чем надобно. Верной будет, детей даст. Понял ли, косматый? Золото, какое ни есть у нее, оставь. Чай не безрукий я, не безголовый. Стяжаю сам.
Богша глянул на Медвяну, брови возвел, мол, неужто не обсказала про кубышку богатую. А та только плечами пожала в ответ. И когда ж было говорить про такое? То ласки жаркие, то свадьба…
Пир-то удался, даром, что гостей мало. Да ведь разве в том счастье, что гостей полон дом? Пусть невелик поезд свадебный, но дорог, сердцу мил.
Спустя малое время, Некрас поднялся из-за стола, поклонился хозяевам и Богше, взял жену за руку и потянул за собой. В лесу сумеречно, месяц яркий на небо взобрался, рожки востренькие выставил, звездам подмигивал.
— Медвяна, а ведь я не без подарка к тебе, — полез за подпояску, вынул кругляш блесткий. — Огневица тебе новая. Ту забрала Всеведа Луганская. Да и права была. Все беды через нее случились, но и встретились мы по ее велению. Сгорела злая в очаге волховском. А эта вот — мой тебе приворот. Носи и помни, одна ты для меня. И люби меня крепко.
— Куда ж крепче? Себя не помню, все мысли о тебе, — подалась к нему, приняла подарок. — Спаси тя, Некрасушка.
— Все-то у нас не по уряду. То моя вина. Прости, не серчай. Домой вернемся, так там пир славный устроим. Ведь Квит ты теперь, а род наш большой, небедный, — обнял, уткнулся в шею. — Теперь знаю, чем ты меня приворожила. Косой своей медовой. А теперь две их… Что ж делать-то? Совсем разум обронить?
— Оброни, Некрас. И про зайцев обскажи. Сулился вечор, — руки вскинула любого обнять. — Страсть, как послушать хочу.
— Медовая, давай потом про зайцев-то… — поцеловал жарко. — И когда ж на лавку попадем? Видно так начертано нам, по лесам, да по бережкам любиться.
— Ох, и везучий ты, сын, — Деян смотрел на сундук, полный золотой и серебряной деньги, ерошил волосы в изумлении — Это ж как теперь, а? Велес могучий, да с таким добром во зло можно угодить! Некрас, чего молчишь-то?!
— Бать, сам, когда увидал, меленько умом не тронулся. Вот оно золото Лутаков. Все через него. Пропади оно! Тьфу!
— Ну, ты поговори еще, щеня сопливый! Пропади, пропади! Найдем нето, куда упрятать. Ты вот что, сын, раздумай, можа еще насаду взять? Иль две? — Деян лоб наморщил, а потом и засмеялся. — А то и весь пяток, чего уж!
— Эва как. А пуп-то не развяжется? Ты за одной уследи! Пяток ему, — Некрас почесал макушку. — Идем нето. Пир-то ждет. Да и мамка с Медвяной рядом. Как бы чего не вышло.
— Трпу! А ну стой! Запомни, обсосок, в бабьи склоки не лезь, себе дороже. Потом ты дурнем-то и останешься. Медвянка твоя девка разумная. Видана тоже не безумица. Разочтутся поди. А можа и нет… Вот то хорошо, что домки у нас разные. Это нам с тобой, сын, свезло, — Деян прошелся по гриднице, и остановился у бочки со стоялым медом. — Некраска, такие токмо князья пьют. Давай что ль испробуем, а? Чего лупишься? Неси чашку-то. Боги пресветлые, и как ты с таким-то добром через веси ехал? Ить лихих вокруг полным полно.
— А так и ехал. Взяли коней и повезли. Надоть было дружину за собой волочить? Бать, чашку-то держи.
Медвяна — разодетая, нарядная, увешанная золотом — стояла за спиной Виданы, слушала, как языкастые жёны Квитов сыпали словами ехидными, бабьими.
— И чего ж так-то? Ить обряда не видали. Виданка, как ты проворонила? — громкая тётка Некраса расселась на лавке, донимала.
— Тебе бы, Листвяна, токмо глаза пучить. Обряд справили по чести, на капище старом. Ты ешь, да пей, пируй на здоровье. — Видана говорила тихо, уверенно.
— Во как! А ты, молодуха, как умудрилась свадьбу-то такую принять? Чай не за голозадого шла, за Квита, — тётка не унималась.
— Матушка Видана так повелела, — молвила тихо, покорно. — Родня моя недалече там. Всех порезали давно. Вот и решила она дань отдать, что б все честь по чести.
Видана стояла прямо, молчала, вроде так и надо. А тётка примолкла на малое время, а потом уж и высказала:
— А ничего девка, справная. Тебя слухает, вперед не лезет. Ну, раз так Виданка повелела, то чего уж. Бабы, что стоите-то? Меду лейте! А то мужики все выхлебают, нам токмо понюхать и оставят.
Загомонили, но уж без ярого любопытства, скорей с радости, что все ладно и по велению старших исполнено. Вот одного не приметили, как схлестнулись два взгляда — Виданин и Медвянин — недобрые, обиженные.
Упираться упирались, но и разумели — в роду надо держаться вместе. А уж что там промеж собой, то людям знать не надобно.
От автора:
Плат накинь, молчи — свадебный обряд — это уход из жизни девушки и рождение женщины. Потому накидывали на голову невесты непрозрачный платок, и заставляли молчать: все это символизировало смерть. Таким образом девушку прятали от жизни. Молчание предписывалось и жениху. За него обычно говорил его дружка.
— калинкой называли свадебный наряд невесты (одно из названий). Наряд был белый или красный — это цвета траура у славян. Снова символ ухода из жизни девушки и ее возрождение в ипостаси женщины.
Калинка, красный подол
Выла — плакала. На свадьбах слезы были хорошим, добрым знаком. Плакали, провожая девичество. Если невеста в день свадьбы плакала от души, то это сулило радость в дальнейшей супружеской жизни.
Время для обряда — после полудня. В идеале свадьбы играли осенью или зимой.
Петуха на требу — обрядовая жертва. На свадьбах всегда петух.
Сва! — слава Сварогу. Гости славили бога на свадьбе. А потом кричали славу молодым.
Курник — куриный суп. Одно из главных блюд на свадьбах.
Вариантов обряда множество. Автор выбрал один из них.
Глава 36
Десять лет спустя
— Некрас, когда другим-то кругом идти? Мены ждут в Бобрах и в Лугани, — Радим оправил богатую подпояску, подернул на плече суму переметную. — Айда вместе. Всяко проще.
— Погоди ты. Токмо вернулись, — Некрас глядел на хоромы свои, рвался домой, да прилип бывший закуп. — Дай хучь жену обнять, детям гостинцев сунуть.
— Во, во! — Местька утер потный лоб. — Тебя дома что ль не ждут?
Радим не ответил, посмотрел на небо летнее предзакатное, и вздохнул тяжко. День-то выдался не из простых: жара, ни облачка. По богатому Решетову и малого ветерка не гуляло. Все зноем будто придавило, накрыло и удушило.
— Кудряш, а ты чего топчешься? — Некрас дернул нетерпеливо плечом, на котором короб висел. — Иди нето, инако дочки заскулят. Вон, глянь, не твоя?
— Где? — Местька оглянулся, увидел девчушку — кудряшки шапкой. — Моя! Эй! Тьфу…И не разберешь какая. Лада! Ладунька! Мужики, бывайте. Завтрева свидимся.
И побежал, заполошный, догонять дочку свою.
— Во свезло, — потешался Радим. — Пять девок в дому и все на одно лицо.
Посмеялись, а потом уж по плечам стукнулись и пошли каждый в свою сторону. Квит хоть и спешил к семье, но на друга все ж оглянулся; идет прямо, а будто понурившись. Разумел Некрас: вот так-то и бывает, когда домой-то не тянет, нет там сердца, одна лишь лавка, на которой спишь и стол, за которым ешь. Радим со временем унялся, характер ретивой смирил. Но и все на том. Видно боги так решили: одарили покоем. Счастья-то не стяжал, не выстрадал.
Вздохнул, но и улыбнулся светло. Домой! Медвянка ждет, сыновья отца не видели почитай три седмицы. Бросился к богатым хоромам, а навстречу ворота отворились, из них выскочил вихрастый черноглазый мальчонка. Вслед летел голос Медвяны: звонкий, чистый:
— А ну стой! Стой, Зван, кому сказала?! Ах, ты, щеня! — Некрас видел жену, что с крыльца грозилась. — Вот я тебя!
Званко не оборачивался. Летел по тропке, только вихры по ветру. Некрас взял, да поймал сына за ухо.
— Стой, шельма! Куда от мамки тикать вздумал, а?! — ругался для порядку, не по злобе. — Что учудил, обсосок?
— Ай, батька, больно! Пусти! — рвался мальчишка. — Ничего не чудил!
— Врешь ведь. А чего тогда мамка кричит, а? — ухо отпустил. — Говори уж, жалься.
Зван потер ухо, уставился на отца, и улыбнулся: белозубо, озорно.
— Да Миланку Кудимову…эта…пощупал.
Некрас схоронил улыбку в бороде темной, брови насупил грозно.
— Не рано тебе, щеня, девок-то щупать?
— Бать, так эта…она ж вся такая, — руки расставил, мол, во какая.
— А она чего? — Некрас присел рядом с сыном, в глаза смотрел внимательно.
— Чего, чего… Влупила мне затрещину, а потом мамке пожалилась, — шмыгнул носом-то, но слезы не пустил, только брови свел так же, как и отец.
— Стало быть, не по нраву ты ей, сын. Ну, ты сопли-то не пузырь, меня слухай, — Некрас порылся в коробе, достал пряник большой. — На-ка, держи. Гостинец Милане не давай, а при ней одари другую девку. И ходи вокруг нее, будто нет Миланки. Разумел, паскудник?
Званко взял подарок, смотрел на него долгонько, а уж потом и спросил:
— Чегой-то я чужой девке пряник свой отжалю?
— А тут, сынок, сам решай, чего тебе более надобно. Миланка али пряник, — Некрас не выдержал и хмыкнул.
Востроглазый Зван углядел батькино веселье, сам прыснул, да и обнял отца за шею.
— Бать, спаси тя. Мы насаду ныне и не ждали. Токмо завтрева, — руки маленькие, но цепкие. — Ты эта…от мамки оборони. Видал я, как она за хворостину взялась.
Такому не откажешь, Некрас и пробовать не стал. Взял мальца подмышку и понес на подворье. Ступил в ворота, парня на землю поставил, и подтолкнул в спину, мол, тикай, пока мамка не углядела. Зван и пошустрил прочь, вихры в разные стороны.
Медвяна показалась на крыльце, шаг сделала по приступке широкой, да и увидала мужа…
Сколь раз возвращался Некрас с насадой, сколь раз встречала его медовая, а все будто впервой. Дышать забывал, когда вот так-то она смотрела. Глаза зеленые и яркие, теплом привечают, светят, едва не слепят. И улыбка на лице: нежная, сладкая. Чуял Квит — ждала его, скучала, и не абы как, а сильно. Вон уж стан тонкий распрямила, голову подняла, показала шею белую. Косу с плеча перекинула за спину, изогнулась. Сама будто негой налилась…
— Некрас, ты ли? — засияла. — Завтра ждали! А ты под вечер и молчком.
Некрас шаг к ней, а она к нему: и не видно, не слышно, что вокруг-то деется. Все будто сквозь мглу туманную. Вон бабка Видана вошла на подворье, несла на руках меньшого сына — Любимку — оправляла крепкой еще рукой рубашонку на трехлетке.
— Сыночек, радость-то какая. Хорошо ль дошли?
Из-за угла богатейших хором Деян показался, опричь него внук вился — Желан — дергал деда за порты, просил обсказать про насады, злился, что не пускают с батькой по большой воде до Нового града. Деян отругивался, мол, тебе токмо семь зим стукнуло, расти пока, сил набирайся. Будут тебе и насады, и торг Новоградский.
Увидали Некраса, подошли ручкаться. Видана Любимку поднесла: мальчонка улыбался, к отцу руки тянул.
Некрас сыновей обнял, мать с отцом приветил. Но чуял — медовая с него глаз не спускает, ждет, когда к ней подойдет.
— Деян, кликай Званко и к нам вечерять пойдем, — Видана мужу подмигнула, мол, соображай старый хрыч быстрее.
— И то верно, Видка, — Квит-старший подхватил Желана, за собой потянул. — Званко! Вылазь, леший косматый. Куды сбёг?!
Краем глаза приметил Некрас, как кивнула Видана невестке, та в ответ; вроде уговорились о чем-то. А уж потом повернулся к медовой.
Любовался, инако не скажешь. Бабой стала, то правда, но расцвела с летами. Кожа гладкая светлая: ни пятнышка, ни засеченки. Косы — долгие и густые — на солнце закатном блестят переливчато. Налитой груди тесно в бабьей рубахе. Стан тонкий, прямой. Понева ладно сидит, туго оборачивается вокруг стройного тела.
Она и не двинулась навстречу, повернулась спиной к нему, и пошла: плавно, неспешно. Некрас бросил свой короб в руки подлетевшему холопу и за ней; манила, тянула к себе так, что словами не передать.
— Медовая, слово-то кинь, приветь мужа. Чай не чужак какой в дом явился, — шли неспешно, опричь хором, просторных и богатых, по чистому двору, под уклон да к самой речке.
— Здрав будь, — по голосу понял, что улыбается.
— И все? Куда ведешь-то? — смотрел на поневу вышитую, что натягивалась на теле.
Остановилась у бани новой — по весне ставили — обернулась.
— Так про зайцев слушать, любый. Куда ж еще? — голосом заворожила, глазами высверкнула.
Некрас только головой тряхнул, будто смахивал с себя волшбу чудную. Да все бес толку! Глядел, как медовая медленно на крылечко ступает, не сдержался, подскочил к ней и внес в предбанник душистый. Дверь прихлопнул накрепко.
— Играть вздумала? Берегись, медовая! — прижал жену к стенке, прошелся по телу налитому широкими ладонями. — Скучала?
— Скучала, скучала, Некрас… — с дыхания сбилась, потянулась и поцеловала: жадно, да наскоро.
На поцелуй ответил горячо. Взялся за ворот рубахи, спустил одежку, освободил из плена тугого грудь — белую, влажную от зноя летнего — прошелся поцелуями жаркими. Медвяна схватилась за подпояску его: дышала часто, ждала.
Вот такой он любил ее более всего: нетерпеливой, смелой и нестыдливой. Подхватил жену, опрокинул на лавку и не стал томить любую: взял сей миг, глубоко, да сладко. Сам пропал и ее за собой утянул….
Через малое время она вздрогнула, застонала. Откинулась на лавке, изогнулась кошкой, и уронила голову на струганую доску. Только звякнули кольца в косах, что не снимала ни единого дня с самой свадьбы на лесном-то капище.
Некрас и себя отпустил, уткнулся носом в шею жены, вздохнул протяжно и счастливо. А потом уж и засмеялись обое. А чего ж не порадоваться? Вон ведь как любится-то, ласкается.
— Некраска, а ведь знала я, что нынче объявишься. Сон видала, — гладила по волосам, нежила.
— Иной раз думаю, уж не волхва ли ты? Сны-то вещие видишь и все правдой получается, — потянулся снять с жены поневу, рубаху скинуть.
Оглядел нагое тело, прошелся поцелуями по животу гладкому, положил на него ладонь.
— Медовая, должок с тебя. Ты мне дочь о прошлом годе сулила. Где? Чего смеешься? Дочь, спрашиваю где? — брови насупил, но не стерпел, и засмеялся вместе с женой.
— А то сам не знаешь где? — обняла лицо его ладошками теплыми, поцеловала нежно. — Все подарю, Некрас. Ты токмо люби жарче.
Кивнул, послал ей взгляд теплый, получил ответ безмолвный, и улыбнулся тому, что разумеет его Медвяна без всяких слов.
Прижал к себе жену, голову ей на грудь опустил, да и замер в тишине счастливой. Слушал, как бьётся ровно под его щекой сердце медовой. И видел, как блёстко подмигивает Огневица, которой одарил Медвяну в день свадьбы.
Вот он дар богов — лучится любовью, радостью исходит, делает явь отрадной. Припомнил другой оберег, тот, что оставил волхве Луганской, да и разумел — руна та же, кругляш такой же, а сколь непохожие, сколь разные планиды их и деяния. Должно не всякий оберег бережёт, не каждая женщина единственной становится, и не всякая любовь — твоя.
Эпилог
Осень-то выдалась отрадная, теплая. Лугань будто укуталась в позолоту листвяную, в синь небесную и нежилась в тишине и безветрии. По вечерней поре народ выбирался с подворий своих, гомонил на все лады: кто шутковал, кто переругивался. Но все без злобы, словно уняла тихая осень печали, обиды, зависть и иные заботы и тревоги людские.
Всеведа стояла у ворот дома своего богатого, глядела на городищенских: кому-то радовалась, о ком-то печалилась. А как иначе? Почитай про всех ведала мудрая волхва; на ее глазах рождались, росли, взрослели. Многих и за грань проводила… Жизнь такая, и изменить ее не под силу человеку. А уж если хорошенько задуматься, то и богам не совладать с извечным порядком яви.
Сама волхва постарела, подалась, но все еще прямила спину, смотрела зорко, сверкала рыжими глазами. От ее взора ничего и не укрывалось: мудра, востра умом и приметлива.
Заметила Всеведа жену Тишки Голоды. Шла баба по улице, тянула за собой двух сыновей: мал и поменьше. Не улыбалась и по сторонам не глядела — недосуг. У Голодавых бездельем не маялись, глава рода смотрел за тем строго. Так откуль радости взяться? От работы хребет трещал, руки плющились, да седина ранняя в волосах серебрилась. А этой-то свезло еще меньше, чем иным.
Знала Всеведа тайное о ней, да и как не знать, если сама тому зачинщицей стала. Помогла советом бабе несчастной, а теперь вот любовалась на дело рук своих.
Зим восемь тому притекла к ней жена Тихомира, в ноги бросилась, плакалась, что дитя зачать не может: пустая, да негодная. Всеведа и пожалела. Оглядела бабу и поняла — такой рожать, да рожать. И беда-то не в ней, а в муже снулом. Растолковала все женщине, а та разумела, но зарыдала еще горше. Всеведа долгонько гладила ее по спине, утешала, да и мыслишкой с ней поделилась.
Баба охнула, принялась отнекиваться, но спустя малое время, уразумела — права волхва. А в положенный срок разрешилась мальчишкой крикливым и здоровеньким. Принесла его к Всеведе, да поклонилась волхве мудрой: за науку благодарила, за тайну.
Всеведа и молчала… Да и кому какое дело, чей ребятенок? Тихомиров или братца его старшего? Род-то один, кровь та самая. На подворье Голодавых детишек не счесть, так средь них и затесались парнишки: светловолосые, голубоглазые. Пойди, разбери — папкин али дядькин?
С того дня сама волхва для себя и вывела — от пустоты ничего не родится. Жил и живет Тихомир словно листок на ветру качается: куда подует, туда и поворачивается. Внутри пусто, в голове гулко. Вроде есть человек, а вроде и нет его.
Проводила взглядом бабу несчастную, а там уж и за других уцепилась. Цветаву приметила. Приехала с мужем к родне своей: проведать, дочкой-красавицей похвалиться, подарками богатыми одарить.
Всеведа улыбки не сдержала. Ить какая баба-то стала! Спокойнёхонькая, счастливенькая. Не идет — плывет. Красой своей по сию пору затмевает девок, что помоложе, да поигреливее. С мужем — купцом богатейшим, пожилым — слюбилась. Прилепилась к нему, как березка тоненькая к старому дубу, обвилась вокруг, и в том опору сыскала и счастье бабье. Вон как бывает-то: говорят, что при хорошей жене любой мужик — сокол. А тут иное — при справном муже жена цветет, сияет, да и ума набирается.
Цветавин муж вел за руку дочку Велену — годков десяти — обсказывал ей про Лугань. Та слушала без улыбки, но по всему было видно — запоминает, разумеет, и не таращит попусту глаз, все впрок принимает. Девочка-то непростая, то волхва сразу углядела.
Сей миг и опалило видением: встал перед глазами княжий терем, богатая гридница, а посреди нее Велена, да не соплюшка, а девица. Красивая — дух захватывает! Глаза синие, коса темная, стать особая: издалече видно род древний, крепкий. Супротив нее княжич…
Всеведа только головой помотала: пришло и ушло. Вот она доля-то волховская.
Цветава издали приметила волхву, да поклонилась поясно. За все благодарила мудрую: за тайну, за мужа любого, да за совет, что сберёг дочку-кровиночку.
Всеведа ее приветила, улыбнулась тепло. А уж потом и углядела толпу шумную: валил народ от Молога. Волхва и поняла — насады купеческие пришли. Быть торгу!
Среди иных увидала Некраса Квита, вновь подивилась особой его пригожести, яркому взгляду. Ить не парень уже, мужик семейный, а все улыбается, зубами белыми похваляется. А меж тем глядит приметливо, раздумно. Всеведа улыбнулась еще шире — уж дюже хорош Некраска! Эх, была бы моложе…
Позади Квита Медвяна шла: богатые одежки, плат золотом увешан, косы молодым медком отливают. Похорошела баба! Любовью настоящей светится, а такое не скроешь, уж очень редкий дар боги отжалили.
Квиты шли прямиком к волховскому дому, о том Всеведа догадалась, да и обрадовалась. Помнят ее, хоть и редким случаем, а навещают.
Некрас по улице вышагивал прямо: кафтан богатый, нарядный, подпояска золотом горит. Голову высоко держал, смотрел гордо. А меж тем все обернуться норовил, глянуть на Медвяну, которая, как и положено справной жене, шла позади мужа своего. Все тревожился: не пропала ли, не развеялась ли туманом, не поблазнилась ли она ему.
Тут уж Всеведа и навовсе рассмеялась. Вот ведь, заполошный! Родовитый, богатый, обрядом окручен почитай десять годков тому, а все боится потерять, упустить любую свою. Дурной, как есть дурной.
— Здрава будь, премудрая, — Некрас улыбнулся тепло, поклонился низко. — Гостей принимай. Иль не ко времени мы?
— Всегда ко времени, Квит, — волхва рукой махнула, мол, заходите в дом.
Некрас и пошел, а Медвяна задержалась, обняла Всеведу. И та ответила тепло, приголубила женщину. Рукой-то провела по спине, и поняла — непраздная, дитя ждет. Обрадовалась, но смолчала. Не инако Медвянка и сама знает, чай не впервой такое-то чудо.
В гриднице расселись урядно, помолчали, а уж потом Некрас в суму свою полез.
— Всеведа, прими подарок-то, не откажись, — с теми словами достал сапожки на меху, рукавицы и шапку теплую, богато расшитую. — Знаю, мерзнешь ты по зиме.
— И все-то ты помнишь, охальник, — волхва приняла дар, обняла Квита, тот ответил, а потом в глаза заглянул, теплом окатил.
— Все помню, мудрая. И за все спаси тя, — бровь приподнял, мол, знаешь, о чем я.
— Не на чем, Некраска, — подарок приняла, рукавички вздела и улыбнулась. — Теплые. Уважил, охальник. Надену по зиме-то и тебя вспомню.
— А вот и от меня, Всеведа. Прими, — Медвяна протянула коробок малый.
Всеведа приняла не без любопытства. Заглянула, а там мешочки с травами сушеными. Редкие, про то поняла сразу.
— Ох ты… Вот подарок, так подарок! Медвянушка, спаси тя, — поднялась обнять молодуху, коснулась ее плеча и снова провидела: случай редкий, вторым-то разом за день.
Все словно туманом подернулось, а потом поляна показалась лесная. Деревья тесно стояли, сплетали ветви, цеплялись друг за друга. Чаща. Среди стволов показалась девушка — глаза зеленые, волосы светлые — в руках туес с ягодой, на груди оберег и вышивка по запоне волховская. Уставилась на Всеведу, будто знала — здесь она. Улыбнулась озорно, да и поклонилась. А улыбка-то Некрасова…
Очнулась мудрая, стряхнула туман ведовской, а в ушах тихом шепотом вилось: «Есения».
Воле богов противиться — себя не щадить, а потому и сказала Всеведа:
— Дочку Есенией назовите. Инако не можно.
Тишина повисла, в очаге пламя взметнулось и опало.
— Мудрая, дочку? — Некрас привстал, подался к волхве.
— Дочку, заполошный, дочку.
Тут и заговорили оба разом, все выпытывали: как, да что, да откуль?
Ничего не ответила, только улыбнулась, а про себя и раздумала: волхва будет. Еще одна ведунья, еще одна жизнь тяжкая, но оттого и интересная!
Потом уж поила отваром гостей, потчевала снетками разными. Разговорились, да занимательно, и опомнились уж за полночь. Квиты и засобирались.
Провожала Квитов сама. У ворот они простились тепло, да и пошли по улице темной. Всеведа долгонько еще вслед им смотрела, все радовалась их счастью. А уж потом и припомнила — на Есении-то оберег материн! Огневица на ней, да та самая, что у Медвяны под рубахой.
Оберег крепкий, сильный, слов нет, но таким-то его не боги сделали, а сам Некрас: любовь свою в нее влил, нежность. А Медвяна приняла и сберегла дар щедрый.
Но и еще одно поняла мудрая Всеведа — забери она сей миг Огневицу у Медвяны, так любовь-то никуда и не денется, останется с ней. А стало быть, самый лучший оберег не кругляш серебряный, а то, что его сильным делает. А это люди, помыслы их и деяния.
Вздохнула старая волхва, на небо глянула, а там звезд не счесть. Горят себе, да горят. Не ведают ни горя, ни счастья. Не инако завидуют жизни людской, что радует и печалит, одаривает и отнимает. Где ж им, холодным, понять, почуять всю отраду бытия? И на что тогда вечность, ежели не жить, а токмо подглядывать?
Конец
