Багдадский вор, или Фэнтези по мотивам «Сказок 1000 и одной ночи» бесплатное чтение
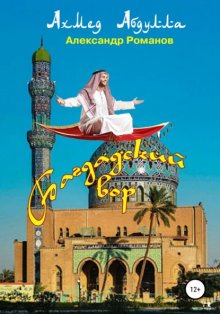
ГЛАВА I
В пестрых, запутанных анналах Востока рассказ о поисках счастья Ахмедом эль-Багдади – «Багдадским вором», как его называют в древних записях, – которые в то же время являются рассказом о его приключениях, подвигах и любви, приобрел в ходе времён символ чего-то Гомеровского, чего-то эпического и сказочного, чего-то тесно связанного с золотым ткацким станком пустыни как по рисунку, так и по романтическому замаху.
Об этом с гордостью упоминает его собственное племя, Бенни-Хуссейни, хриплые на язык, выносливые наездники из народа бедуинов, лишённых чести и жадных до наживы, в среде которых – благодаря отцу, уставшему от бесплодных аравийских песков и жаждущему удовольствий базаров и рыночных площадей – он был воспитан. Почтенная гильдия багдадских воров, в члены которой он когда-то был вовлечён и стал очень уважаемым её деятелем, говорит об этом со смесью благоговения и зависти. Эти рассказы разносятся по чёрным войлочным шатрам кочевников от Мекки до Джидды и дальше; смуглые, сморщенные, как высушенные ягоды, старухи кудахчут, сплетничая о нём, пока варят кофе для утреннего завтрака или покачивают на коленях вздутые молочные бурдюки, пока масло не станет желтым и пенящимся; и на потрескавшихся от солнца губах погонщиков верблюдов, на медовых, лживых губах базарных торговцев и лавочников эти сказки переместились на юг, до самой Сахары, и на север, к стенам серой каменистой Бухары, и на юго-восток, и на северо-восток, к резным драконьим воротам Пекина, к равнинам орхидей и охры, к горам Индостана и на Запад, в приятные, благоухающие сады Марокко, где болтливые белоусые сидельцы комментируют их, перемежая отважные подвиги прошлого клубами голубого дыма своих кальянов.
«Ва хьят Улла – да будет жив Бог!» – так начинается их рассказ. – «Этот Ахмед эль-Багдади – какой он смышленый был парень! Олень в беге! Кошка в стенолазании! Извивающаяся змея в ползании! Ястреб в прыжке! Собака в обонянии! Проворный, как заяц! Скрытный, как лиса! Цепкий, как волк! Храбрый, как лев! Силен, как слон во время спаривания!»
Или, взяв травинку между большим и указательным пальцами, другой древний рассказчик воскликнет:
«Ва хьят хатха эль-авд ва эр-руб эль-мабуд – Клянусь жизнью этого стебля и благословенного Господа Бога! Никогда, во всем исламе, не жил на Востоке никто, кто мог бы сравниться с Ахмедом Вором по качеству и гордости, размаху и изысканному очарованию его воровства!»
Или, возможно, так:
«Ва хьят дукни – клянусь честью этих моих усов! Однажды, о истинно верующие, это случилось в Золотом Багдаде! Да – пусть я буду есть грязь – пусть я не буду отцом своим сыновьям, если я лгу! Но однажды это, действительно, и впрямь случилось в Багдаде, том самом, Золотом!»
А затем следует полная, насыщенная динамикой и красотой история. И… – чудесный финал!
Тем не менее, первоначальная причина этой, как и любой другой истории была достаточно проста: похищение туго набитого кошелька, голодный желудок, жаждущий еды, и рывок и натягивание волшебной веревки, сплетённой из волос багроволицей ведьмы из секты левшей; в то время как местом действия была Площадь Одноглазого еврея – так её прозвали по причинам, теряющимся в тумане древности, – в самом сердце Багдада.
Поперек южного конца площади возвышалась Мечеть Семи Мечей, возвышавшаяся на пролёте широких мраморных ступеней, как на цоколе, поднимая вершину своих широких подковообразных ворот на пятьдесят футов в воздух, ее стены переплетались извилистыми арабесками из жёлтого и эльфийски-зеленого фаянса под голубовато-голубым сиянием небес, а выше возносился одинокий минарет, прекрасный, остроконечный и белоснежный. На востоке решётчатый базар торговцев Красного моря отражал солнечные лучи на коврах и шелках, на медных сосудах, украшениях и флаконах тонких духов, инкрустированных золотом, в постоянно меняющейся сарабанде теней, розовых и пурпурных, сапфировых и чистейших изумрудных. На север тянулась широкая, обсаженная деревьями аллея, ведущая к дворцу Халифа Правоверных, который высился на горизонте измученной заброшенностью шпилей, башенок и бартизанов. Запад представлял собой густую пустыню узких мощёных улочек; лабиринт арабских домов с плоскими крышами, с мертвенно-белыми стенами, выходящими на улицу, но цветущими во внутренних двориках пальмами, оливами и розовыми кустами. Здесь тоже был тусклый, извилистый Базар Гончаров, нубийцев сливового цвета, привезенных в качестве рабов из Африки, а дальше – кладбище, усеянное берберийским инжиром, и крошечными каменными чашечками, наполненными зерном и водой для перелётных птиц, в соответствии с благословенной мусульманской традицией.
В самом центре Площади Одноглазого еврея большой фонтан играл сонными, посеребренными ритмами. И здесь, на каменной плите чуть в стороне от фонтана, лежал на животе Ахмед Вор, подперев подбородок руками; солнечные лучи согревали его обнажённую бронзовую спину, его чёрные глаза сновали во все стороны, как стрекозы, предупреждая богатых и неосторожных граждан, которые могли бы пройти в пределах досягаемости его проворных рук и кошельки коих можно было бы слегка подкрутить и подтянуть.
Площадь, улицы и базары кишели людьми, не говоря уже о человеческих жёнах, детях, тёщах и приезжих деревенских кузенах. Ибо сегодня был праздник: за день до Лелет эль-Кадр, «Ночи Чести», годовщины события, когда Коран был ниспослан пророку Мухаммеду в 609 году.
Так что люди толпились и двигались повсюду: представители половины самых разных рас Востока, арабы, сельджуки и османы, татары и сирийцы, туркмены и узбеки, бухарцы, мавры и египтяне, тут и там люди с Дальнего Востока, китайцы, индусы и малайцы, странствующие торговцы, приезжающие в Багдад, чтобы обменять продукты своих родных земель на то, что могли предложить арабские рынки. Все они веселились в соответствии с извечной манерой Востока, великолепно, экстравагантно и шумно: мужчины расхаживали с важным видом, теребя свои украшенные драгоценными камнями кинжалы и заламывая свои огромные тюрбаны под лихим, небрежным углом; женщины поправляли свои вуали с тонкой сеткой на лицах, которые не нужно было поправлять вообще; маленькие мальчики, проверяющие, смогут ли они выкрикивать оскорбления более громкие, чем другие маленькие мальчики; и маленькие девочки, соперничающие друг с другом веселым цветом анютиных глазок своих платьиц и потреблением жирных и сладких конфет.
Там были круглосуточные кофейни, заполненные мужчинами и женщинами в ярких шёлковых праздничных костюмах, которые слушали певцов и профессиональных рассказчиков, курили и болтали, смотрели на жонглёров, вертящих ножами, шпагоглотателей и танцующих мальчиков. Там были кулинарные лавки и подносы с лимонадом, киоски с игрушками и карусели. Там были вожаки медведей, дрессировщики обезьян, факиры, гадалки, шуты и актёры шоу Панча и Джуди. Там были странствующие проповедники-дервиши, воспевавшие славу Аллаха Единого, Пророка Мухаммеда и Сорока Семи Истинных Святых. Там были шатры в форме колокола, где златокожие бедуинские девушки с синими татуировками напевали свои песни пустыни под аккомпанемент тамбуринов и пронзительных скрипучих дудок. Там было всё, ради чего стоит жить, в том числе много занятий любовью – любовью Востока, которая откровенна, непосредственна и немного неделикатна для западных ушей и предрассудков.
И конечно, наружи, на улице было слышно много криков.
«Сладкая вода! Выпей и порадуй свою душу! Лимонад! Сладкий щербет здесь!» – голосили продавцы этой роскоши, звеня своими медными чашками.
«Ох, нут горошек! Ой, зёрнышки!» – кричали продавцы сушёных зёрен. «Полезно для печени – для желудка! Хорошо, чтобы подточить зубы!»
«Даруй мне защиту, о моя Голова, о мои Глаза!» – стонал крестьянин, пьяный от гашиша, которого полицейский в тюрбане, изо всех сил размахивая кнутом из шкуры носорога, гнал к зданию участка, а жена крестьянина следовала за ним с громкими жалобами: «Ях Гарати-ях Дахвати! Ох ты, моё бедствие, ох ты, мой позор!»
«Благослови Пророка и дай дорогу нашему Великому паше!» – воскликнул запыхавшийся чернокожий раб, бежавший рядом с повозкой вельможи, пересекавшей Площадь.
«О дочь дьявола! О Товар, на котором теряются деньги! О, ты особенно нежеланный!» – взвизгнула какая-то женщина, вытаскивая свою крошечную девочку с дерзкими глазами из-под малиновой бумажной перегородки киоска с сахарными конфетами. В следующее мгновение она ласкала и целовала ее. «О мир моей Души!» – ворковала она. – «О Главная гордость Дома твоего Отца, хотя ты всего лишь девочка!»
«Могила – это тьма! Добрые дела – это светильники!» – причитала слепая нищенка, потрясая медной чашкой, звенящей мелочью.
Друзья встречались с друзьями и приветствовали друг друга со всей экстравагантностью Востока, бросаясь друг другу на грудь, кладя правую руку на левое плечо, сжимая друг друга, как борцы, с периодическими объятиями и ласками, затем нежно прижимаясь щекой к щеке и плоской ладонью к ладони, в то же время издавая громкий, чмокающий звук множества поцелуев.
Кроткие, с сонными глазами и обходительные, они в следующий момент могли разразиться потоками ярости из-за какого-нибудь воображаемого оскорбления. Их ноздри тогда трепетали, и они приходили в ярость, как бенгальские тигры. Затем последовали бы потоки непристойной брани, тщательно подобранные фразы той плутовской брани, в которой Восток преуспевает.
– Сова! Осел! Христианин! Еврей! Прокаженный! Свинья, лишенная благодарности, понимания и элементарной порядочности! – Эти вопли исходили от пожилого араба, длинная белая борода которого придавала ему вид патриархального достоинства, нелепо контрастируя с грязными ругательствами, которые он использовал. – Нечистый и свинячий чужеземец! Пусть твое лицо будет холодным! Пусть собаки осквернят могилу твоей матери!
И на эту тираду немедленно следовал вежливый ответ:
– Подлейшая из незаконнорожденных гиен! Отец семнадцати собак! Банный слуга! Продавец свинячьих потрохов!
И затем последняя реплика, протяжная, медлительная, но ощетинившаяся всем восточным ядом:
– Хо! У твоей тётки по материнской линии не было носа, о ты, развратный брат блудливой сестры!
Затем следовало физическое нападение, обмен ударами, кулаки работали, как цепы, пока ухмыляющийся, плюющийся полицейский в малиновом тюрбане не разнимал дерущихся и не надевал на них обоих наручники с веселой, демократической беспристрастностью.
– Хай! Хай! Хай! – засмеялись зрители.
– Хай! Хай! Хайах! Хай! – засмеялся Багдадский Вор; и в следующий момент, когда пузатый седобородый ростовщик остановился у фонтана и, сложив ладони чашечкой, наклонился, чтобы глотнуть воды, проворные пальцы Ахмеда опустились, повернулись, незаметно дёрнули и вытащили туго набитый кошелек.
Ещё один незаметный рывок этих проворных смуглых пальцев; и, пока его тело лежало ровно и неподвижно, а глаза были невинны, как у ребёнка, кошелёк шлёпнулся в его мешковатые штаны из пурпурного шёлка с серебряной нитью, которые плотно облегали лодыжки и которые только накануне вечером он приобрёл – ни гроша не заплатив за них – на Базаре персидских ткачей.
Минуту за минутой он лежал там, смеясь, наблюдая, обмениваясь шутками с людьми, сновавшими тут и там в толпе; и многие из тех, кто останавливался у фонтана, чтобы попить или посплетничать, помогали пополнять добычей просторные штаны Ахмеда.
Среди этой добычи, если описать лишь несколько предметов, был завязанный узлом носовой платок, звенящий чеканным серебром и украденный из шерстяных складок неуклюжего, грозного татарского бурнуса хозяина верблюдов с выпуклыми бровями; позвякивающий драгоценный камень с рубином и лунным камнем с поясной шали одного из халифов; любимые черкесские рабыни, которого степенно двигались через площадь и мимо фонтана в сопровождении дюжины вооруженных евнухов; кольцо из мягкого кованого золота с огромным звёздчатым сапфиром с выкрашенного хной большого пальца заезжего стамбульского денди, которому Ахмед, чтобы незнакомец не запятнал его парчовое одеяние, помог напиться воды, и был вознагражден вежливым: «Пусть Пророк Мухаммед воздаст тебе за твою доброту!» – тоже вознаграждённый, и гораздо более существенно, вышеупомянутым кольцом.
Ахмед уже собирался покончить с утренним сбором, когда с Базара Торговцев Красного моря вышел богатый купец, некий Таги-хан, хорошо известный всему Багдаду своим богатством и расточительностью – расточительностью, добавим к этому, которую он сосредоточил на собственной персоне и удовольствиях, получаемых от своих пяти чувств, и которые он компенсировал крайней нищетой, когда дело касалось бедных и нуждающихся. Он ссужал беднякам деньги по непомерным ставкам, беря в залог корову и ещё нерождённого телёнка.
Он шёл семенящей походкой, его злое, сморщенное старческое лицо нелепо венчал кокетливый тюрбан бледно-вишнёвого цвета, его жидкая бородка была выкрашена в синий цвет индиго, заострённые ногти на пальцах были щегольски позолочены, его худощавое тело было облачено в зелёный шёлк, а в костлявой правой руке он держал большой букет лилий.
Всё это Ахмед увидел, и картина эта ему это не понравилась. Увидел он, кроме того, немного выступающую из-под поясной шали Таги-хана обвисшую пухлость вышитого кошелька. Толстый кошелёк! Богатый, раздутый, препухлый кошелёк! Кошелёк, способный вызвать негодование как праведных, так и неправедных!
«Он будет мой, клянусь красной свиной щетиной!» – подумал Ахмед, когда ростовщик проходил мимо фонтана. «Мой – или пусть я никогда больше не буду смеяться!»
Его правая рука уже опустилась. Его проворные пальцы уже изгибались, как вопросительные знаки. Кошелек уже мягко соскользнул с поясной шали Таги-хана, когда… – давайте вспомним, что Ахмед лежал на животе, его голая спина была согрета солнцем… – когда любопытный комар сел ему на плечо и пребольно ужалил.
Он пошевелился, изогнулся.
Его тонкие пальцы соскользнули и дёрнулись.
И Таги-хан, почувствовав толчок, поднял глаза и увидел свой кошелёк в руке Ахмеда.
– Вор! Вор! Вор! – закричал он, протягивая руку, хватаясь за кошелек и дёрнув за другой его конец. – Отдай мне его обратно!
– Нет! Нет! – запротестовал Ахмед, вытаскивая кошелёк и быстро перекладывая его в левую руку. – Это мой кошелёк! Я не вор! Я – честный человек! Это ты, ты сам и есть первый вор!
И, обращаясь к людям, которые толпились вокруг, он продолжал горячо, с выражением оскорбленной невинности на лице:
– Узрите этого презренного Таги-хана! Этот угнетатель вдов и сирот! Этот поклоняющийся нечистым богам сложных процентов! Он обвиняет меня – меня! – в том, что я будто бы вор!
– Ты и есть вор! – проревел ростовщик. – Ты украл мой кошелёк!
– Кошелёк принадлежит мне!
– Нет, он мой! О, отец дурного запаха!
– Козёл! – последовал ответ Ахмеда. – Козёл с самым козлиным запахом! Клянусь солью! – И он спрыгнул с уступа и столкнулся лицом к лицу с другим мужчиной.
Стоя там, в ярком солнечном свете, балансируя на носках босых ног, готовый либо к бегству, либо к бою, смотря по обстоятельствам, Ахмед представлял собой прекрасную фигуру мужчины в самом расцвете молодости: скорее невысокий, чем рослый, но при этом идеально сложенный от узких ступней до кудрявой головы, с великолепной грудью и плечами и длинными мышцами, похожими на бегущую воду. Здесь не было неуклюжей, дряблой, перекормленной нордической плоти, похожей на жирный розово-белый пудинг с салом, а был гладкий безволосый торс, с хрустящей силой мужчины и грацией женщины. Лицо его было чисто выбрито, за исключением наглых маленьких усиков, которые тряслись от хорошо наигранного гнева, когда он осыпал оскорблениями заикающегося, разъярённого Таги-хана.
Толпа смеялась и аплодировала – у Таги-хана было не так уж много друзей в Багдаде, – пока, наконец, сквозь толпу не протиснулся огромный чернобородый капитан стражи.
– Замолчите оба, петухи вы бойцовые! – прогремел он угрожающе. – Это Багдад, город халифа, где людей в цепях вешают на Львиных воротах за то, что слишком громко кричали на рыночной площади. А теперь – потише, потише – в чем тут вас дело? О чём спор?
– Он забрал мой кошелек, о защитник праведных! – причитал Таги-хан.
– Кошелек никогда не принадлежал ему, – заявил Ахмед, смело демонстрируя спорный предмет и высоко держа его над головой. – Это самая древняя семейная реликвия, завещанная мне моим покойным отцом – да пребудет его душа в Раю!
– Ложь! – воскликнул ростовщик.
– Правда! – настаивал Ахмед.
– Ложь! Ложь! Ложь! – голос ростовщика поднялся на целую октаву.
– Тише, тише! – послышалось предупреждение капитана, и он продолжил: – Есть только один способ решить этот вопрос. Тот, кто владеет этим кошельком, знает и про его содержимое.
– Мудрый человек! – прокомментировала толпа.
– Мудрый, как Соломон, царь иудейский!
Не краснея, Капитан Стражи принял лесть. Он выставил вперед свою большую бороду, как таран; и поднял волосатые руки с высокими венами.
– Воистину, я мудр! – спокойно признал он. – Пусть тот, чей это кошелек, скажет, что в нём. А теперь, мой почтенный Таги-хан, поскольку ты претендуешь на этот кошелек, может быть, ты скажешь мне, что в нем лежит?..
– С радостью! С готовностью! Запросто! – последовал торжествующий ответ торговца. – В моем кошельке три золотых тумана из Персии, один с отколотым краем; яркая резная серебряная меджидие из Стамбула; восемнадцать различных золотых монет из Бухары, Хивы и Самарканда; кандарин в форме башмака из далекого Пекина; и горсть мелких монет из проклятой земли франков будь они все неверующими! Отдай мне кошелек! Это моё добро!
– Одну минуту, – сказал Капитан. Он повернулся к Ахмеду. – И что, по вашему утверждению, находится в кошельке?
– Как же, – засмеялся Багдадский Вор, – а ничего. Он пуст. В нём вообще ничего нет, о Великий Господь! И, я открываю его, и выворачиваю его наизнанку, и… вот вам доказательство! – Но свою правую ногу он держал очень тихо, чтобы украденные деньги, которые он засунул в свои мешковатые штаны, не звякнули об остальную добычу и тем самым не выдали его.
Затем из толпы раздался смех. Буйный, преувеличенный, восточный смех фальцетом – вскоре увенчанный словами Капитана:
– Ты сказал правду, молодой человек!
Он бесстыдно и нагло подмигнул Ахмеду. За год или два до этого капитан занял некоторую сумму денег у Таги-хана и с той поры первого числа каждого месяца выплачивал высокие проценты и значительные взносы, не уменьшая при этом, благодаря чудесным расчетам ростовщика, основную сумму.
Затем капитан стражи обратился к торговцу с сокрушительными, холодными словами:
– Подумай, бедняга, что Пророк Мухаммед – да благословит его аллах и приветствует! – рекомендовал честность как лучшую и самую достойную добродетель! Нет—нет… – поскольку Таги-хан был готов разразиться потоком горьких протестов, – учтите, кроме того, что язык – худший враг шеи!
С этой загадочной угрозой он с важным видом удалился, воинственно стукнув кончиком сабли по каменной мостовой, в то время как Багдадский Вор оскорбительно показал нос разъяренному торговцу и повернул на запад через площадь, к Базару Гончаров.
Ахмед в это утро был вполне доволен собой, солнцем и миром в целом. Деньги у него были! Деньги, которые с радостью были бы приняты его приятелем, стариком Валиуллой, который первым посвятил его в Почётную гильдию Багдадских воров и научил всем хитростям и принципам их древней профессии.
Сегодня Ахмед был еще большим вором, чем его бывший учитель. Но он всё ещё почитал другого члена гильдии, некоего Хасана эль-Торка, прозванного Птицей Зла из-за его тощей шеи, когтистых рук, носа, похожего на клюв попугая и фиолетово-чёрных глаз-бусин; и делился с ним всем.
Да. Хассан эль-Торк был бы рад этим деньгам – да и любой другой богатой добыче.
Но время близилось к полудню, а Ахмед ещё не прервал свой пост. Его желудок забурлил и заурчал, протестующе, вызывающе. Должен ли он тратить свои деньги на еду? Нет! Нет, если только он не был абсолютно к этому вынужден!
«Я буду следовать своему носу! – сказал он себе. – Да! Пора следовать за своим умным носом, лучшего друга, чем он, у меня в мире нет, если не считать моих рук. Веди себя, о нос! – он рассмеялся. – Нюхай! Запах! След! Покажи мне дорогу! И я, твой хозяин, буду благодарен тебе и вознагражу тебя ароматом любой богатой пищи, которая сможет пощекотать мое нёбо и раздуть мой сморщенный живот!»
Итак, нос принюхался и указал дорогу; и Ахмед последовал за ним, через площадь Одноглазого еврея, через тесную пустыню маленьких арабских домиков, которые жались друг к другу, как играющие дети, с проблеском неба над верхушками крыш, открывающими едва ли три метра ширины, перекрытия которых время от времени сходятся, и выпуклые, фантастические балконы, казалось, переплетаются, как такелаж парусного судна в малайской гавани; пока, наконец, в том месте, где переулки расширялись и переходили в другую площадь, ноздри не затрепетали, а нос не расширился, заставляя владельца носа остановиться и встать неподвижно, как пойнтер на охоте.
Откуда-то доносился восхитительный, соблазнительный аромат: рис, приготовленный с медом, бутонами роз и зелеными фисташками и утопленный в щедром потоке топлёного масла; мясные шарики, приправленные шафраном и маком; баклажаны, искусно фаршированные изюмом и секретными приправами с острова Семи Пурпурных журавлей.
Ахмед посмотрел в ту сторону, откуда доносился запах.
И там, на перилах балкона, похожего на птичье гнездо, высоко на стене гордого дворца паши, он увидел три большие фарфоровые миски, наполненные дымящейся едой, которую толстый повар-нубиец поставил туда, чтобы она немного остыла.
Ахмед посмотрел на стену. Она была крутой, высокой, прямолинейной и возносилась вверх без какой бы то ни было опоры для ног. Ахмед, как бы помните, был самым настоящим котом по части скало- и стенолазанья. Но чтобы добраться до этого балкона, ему нужны были крылья, и он засмеялся: "Я не птица, и пусть Аллах даст мне еще много лет, прежде чем я стану ангелом!»
А потом, пробираясь через пустынную площадь, он услышал два звука, слившихся в симфонию: отрывистый храп мужчины и меланхоличный, пессимистичный рёв осла. Он огляделся и немного левее увидел огромного татарского разносчика – должно быть, он весил больше трехсот фунтов – который спал на солнышке, сидя, скрестив ноги, на огромных собственных лапах, его непомерно большой живот покоился на крепких коленях, а огромная голова в тюрбане подпрыгивала, громко храпя полуоткрытыми губами, в то время как в нескольких футах от него крошечный белый ослик с пустыми корзинами для фруктов, если не считать трех испорченных дынь, привязанный веревкой к деревянному вьючному седлу, орал в небо, несомненно, жалуясь на скуку.
«Блок» – подумал Ахмед. – Он послан Самим Аллахом, чтобы помочь мне подняться на этот балкон!»
Несколько мгновений спустя он размотал тюрбан, обвязанный вокруг головы татарина, утяжелил его дыней, перекинул один конец через перила балкона и, когда тюрбан вернулся к нему в руки, ловко подсунул его под колени спящего человека, а затем привязал к седлу осла.
– Вставай, маленький ослик! – тихо позвал он. – Вставай, маленький брат, и возвращайся в свою конюшню – к сочной, зеленой пище! Вперёд и вверх!
И осел, ничего не возразив, бодро зашагал своей дорогой; татарин в тюрбане, натянутом на колени, проснулся, увидел, что осел убегает, и заковылял за ним с громкими криками: «Эй, там! Подожди минутку! Стоять, длинноухая скотина!» И вот, цепляясь за ткань тюрбана, как за веревку, неторопливо шагая на осле, а переваливающийся разносчик служил ему шкивом, Ахмед с триумфом и комфортом поднялся на балкон и, не теряя времени, принялся за еду, набивая рот большими, жадными, хорошо сдобренными специями пригоршнями.
…
Он пробыл там совсем недолго, когда какое-то волнение в толпе заставило его посмотреть вниз. За углом он увидел индийского колдуна, окружённого толпой мужчин, женщин и детей, бредущего раскачивающейся величественной походкой. Мужчина этот был очень высоким, измождённым, бородатым и обнаженным, если не считать алой набедренной повязки. Рядом с ним спотыкаясь брёл маленький мальчик, а за тем следовали двое слуг, один из которых нёс сплетённую из травы корзину и связку мечей, другой – свернутую в кольцо веревку.
Оказавшись прямо под балконом, индус остановился и обратился к толпе.
– Мусульмане, – сказал он, – позвольте мне представиться. Я, – объявил он без малейшей застенчивости, – Свами Викрамавата, йог, величайший чудотворец Индостана! В Семи Известных Мирах нет никого, кто приблизился бы ко мне в мастерстве белой или чёрной магии! Я – безбрежное море самых превосходных качеств! Я – так меня уверяли правдивые и бескорыстные люди в Китае, Татарии и землях монголов с собачьими мордами – драгоценный камень из чистого золота, горсть измельчённых в порошок рубинов, изысканное тонизирующее средство для человеческого мозга, отец и мать скрытой мудрости! – Он сделал знак своим слугам, которые положили корзину, мечи и веревку на землю, и продолжил: – Если вам нравится мое колдовство, не задерживайте щедрость своих рук! Ибо я – всего лишь бедный и скромный человек, у которого семь жен и семь раз по семнадцать детей, и все они требуют еды! – Так завершил он свою речь словами, находящимися в явном и бесстыдном противоречии с его предыдущим заявлением.
Затем факир наклонился и открыл свою корзинку.
– Хо! – крикнул он маленькому мальчику, который тут же прыгнул в корзину, где свернулся калачиком, как котенок. Индус закрыл её, поднял мечи и со всей силы вонзил их в каждую часть корзины, в то время как толпа смотрела, совершенно очарованная.
Наверху, стоя на балконе, Ахмед тоже наблюдал. Он был доволен собой и миром в целом больше, чем когда-либо. Да, ведь у него были деньги, несколько дорогих драгоценностей, изобилие еды – здесь он угощался еще одной щедрой порцией, – а теперь ещё и шоу: и всё бесплатно, всё можно попросить и взять!
«Хай! – сказал он себе, сидя на перилах балкона и с наслаждением жуя. – Жизнь прекрасна, а тот, кто работает и стремится к большему – дурак!»
ГЛАВА II
Между тем оставшийся на Площади индус продолжал свое колдовство. Он положил на землю сухое семечко манго, чтобы весь мир мог его увидеть. Трижды он провел по нему рукой, бормоча таинственные индейские слова:
…
«Бхут, прет, писах, дана,
Чи мантар, саб никал джана,
Грива, грива, Шивка хана…»
…
И семя манго лопнуло – затем оно выросло – и вдруг взмыло в воздух – в цвету – в плоде. Он снова взмахнул рукой и – вот! – манго исчезло.
Факир попросил мальчика подойти. Он прошептал тайное слово, и внезапно в его правой руке сверкнул сверкающий хайберский меч. Он занёс его высоко над головой. Он ударил им изо всех сил. И голова мальчика покатилась по земле; брызнула кровь; в то время как зрители были в ужасе, втягивая воздух, как маленькие шепелявые младенцы в темноте. Затем он снова взмахнул рукой, и вот уже мальчик снова на ногах, его голова на шее, где ей и полагалось быть, с улыбкой на губах.
Так трюк следовал за трюком, в то время как толпа аплодировала, вскрикивала, содрогалась, смеялась, болтала и удивлялась, пока, наконец, индус не объявил о величайшем из всех своих трюков – трюке с волшебной веревкой.
– Это верёвка, – объяснил он, разматывая ее и со свистом рассекая воздух с резким шумом, – сплетенная из волос пурпурнолицей ведьмы из секты левшей! Никогда во всем мире не было такой веревки! Смотрите, о правоверные!
Свист! – он подбросил верёвку в воздух, прямо вверх, и она осталась стоять там, без опоры, прямая, гибкая, как тонкое дерево, ее верхний конец был параллелен перилам балкона и прямо перед глазами Ахмеда, который с трудом сдерживал зуд в ладонях. "Зачем фокуснику, – подумал он, – обладать этой волшебной веревкой?!" Какую она могла бы оказать помощь Багдадскому Вору!
Индус хлопнул в ладоши.
«Хая! Хо! Джао!» – закричал он; и внезапно мальчик исчез, растворился в никуда, в то время как зрители разинули рты.
«Хая! Хо! Джао!» – повторил колдун; и дрожащий крик благоговейного изумления вырвался из толпы, когда они увидели там, высоко на веревке, появившегося из ниоткуда, в котором он исчез, мальчика, цепляющегося за него, как обезьяна. В следующее мгновение он соскользнул вниз и обошел аудиторию, прося бакшиш, который был щедро предоставлен; и даже Ахмед был готов подчиниться импульсу и уже полез в свои мешковатые штаны за монетой, когда хриплый, гортанный крик ярости заставил его быстро обернуться. Там, похожая на тучную богиню гнева сливового цвета, стояла нубийская кухарка, пришедшая из недр дворца. Она увидела миски с едой; увидела, что нечестивые руки играли с их содержимым; увидела алчно жующего Ахмеда; и, сложив два и два, пошла на него, размахивая своим тяжелым железным ковшом для перемешивания риса, как боевым топором сарацинов.
Ахмед обдумал и действовал в одну и ту же долю секунды. Он оттолкнулся от перил балкона, прыгнул прямо на волшебную веревку, ухватился за нее, и вот он уже болтается в воздухе, повариха выкрикивала ему проклятия сверху, индус вторил им снизу. И будь то упоминание – в пользу Ахмеда или к его стыду, как вам больше нравится, – но он ответил на оба, беспристрастно, оскорбительно, с энтузиазмом, оскорблением на оскорбление и проклятием на проклятие.
– Вернись сюда, о, Сын безносой матери, и заплати за то, что ты украл! – кричала повариха.
– Спускайся сюда немедленно, о Верблюжье отродье, и будь жестоко избит! – требовал колдун.
– Я не сделаю ни того, ни другого! – засмеялся Багдадский Вор. – Здесь, наверху, мне просторно, приятно и очень эксклюзивно! Вот я здесь, и здесь же я и останусь!
Но он этого не сделал. Ибо в конце концов факир потерял терпение. Он сотворил ещё один магический пасс, прошептал еще одно секретное слово, и… веревка поддалась, изогнулась, дернулась из стороны в сторону, обмякла, упала наземь, и Ахмед растянулся на земле. Почти сразу же он снова был на ногах, его проворные пальцы вцепились в веревку. Но рука индуса была столь же быстрой, как и у Ахмеда, и так они стояли, дергая за веревку, а толпа смотрела и смеялась, как вдруг издалека, там, где возвышалась мечеть, её минарет из розового камня был наполовину покрыт блестящей фаянсовой плиткой тёмно-зелёного павлиньего цвета, донесся голос муэдзина, повторяющего призыв к полуденной молитве, тем самым утихомиривая извечную рыночную суматоху:
«Эс салят ва эс-салам алейк, ях аувел халк Иллах ва хатимат рассул Иллах – мир Тебе и слава, о первенец созданий Божьих и печать апостолов Божьих! Привет вам, преданные! Привет вам, спасающиеся! Молитва лучше, чем сон! Молитва лучше, чем еда! Благослови вас Бог и Пророк! Придите, все вы, верующие! Приходите на молитву! Приходите на молитву! Приходите на молитву!»
«Ва хатимат рассул Иллах…» – пробормотала толпа, поворачиваясь в сторону Мекки.
Люди пали ниц, касаясь земли ладонями и лбами. Индус присоединился к ним, горячо распевая молитвы. Ахмед сделал то же самое, хотя и не так рьяно. Действительно, в то время как механически, автоматически, он поклонился на Восток, и пока его губы произносили слова молитвы, его блуждающие, беззаконные глаза заметили волшебную веревку между ним и индусом. Последний, занятый своими молитвами, не обращал на это никакого внимания. Мгновение спустя, воспользовавшись своим шансом, Ахмед подобрал верёвку и быстро зашагал прочь, перешагивая через согнутые спины молящихся. Он бежал со всех ног через заросли маленьких арабских домиков. Он увеличил скорость, когда вскоре после этого услышал вдалеке крик погони за человеком, когда индус, оторвавшись от своих молитв, заметил, что его драгоценная веревка украдена.
«Вор! Вор! Лови вора!» – крик поднялся, раздулся, пронзил тишину площади, распространился.
Вор бежал так быстро, как только мог. Но преследователи неуклонно настигали его, и он почувствовал страх. Только за день до этого он наблюдал, как одного его незадачливого коллегу по профессии публично жестоко избивали хлыстами из шкуры носорога, которые разорвали спину пройдохи в багровые клочья. Ахмед содрогнулся при этом воспоминании. Он бежал до тех пор, пока его легкие не стали на грани разрыва, а колени готовы были подогнуться под ним.
Он уже завернул за угол улицы Мясников, когда показались его преследователи. Они увидели его.
– Вор! Вор!.. – крики взмывали в небо и отдавались эхом, резкие, мрачные, зловещие, замораживающие мозг в костях.
Куда он мог обратиться? Где ему спрятаться самому? И тогда он вдруг увидел прямо перед собой огромное высокое здание; и увидел над собой, на высоте десяти метров, открытое окно, похожее на молчаливое приглашение. Как достичь вожделенного подоконника? Безнадежно! Но в следующее мгновение он вспомнил о своей волшебной веревке. Он произнес тайное слово. И веревка размоталась, просвистела, встала прямо, как копье в покое, и он поднялся по ней, перебирая руками.
Он добрался до окна, забрался внутрь и потянул за собой веревку. В доме никого не было. Он промчался по пустым комнатам и коридорам; вышел на крышу и пересёк её; перепрыгнул на вторую крышу – пересёк и ее; третью; четвертую; пока, наконец, проскользнув через люк, он не оказался – впервые за свое неосвященное существование – в Мечети Аллаха, на потолочных стропилах.
Внутри, под ним, высокий мулла с добрыми глазами и в зеленом тюрбане обращался к небольшой группе правоверных.
– Во всем есть молитва к Аллаху, – говорил он, – в жужжании насекомых, аромате цветов, мычании скота, вздохах ветерка. Но никакая молитва не сравнится с молитвой честного, отважного человека за его труды. Такая молитва означает счастье. Счастье нужно заслужить. Честный, смелый, бесстрашный труд – величайшее счастье на земле!
Чувство, противоположное жизненной философии Ахмеда, переполнило его при этих словах.
– Ты лжешь, о наставник правоверных! – крикнул он со стропил, соскользнул вниз и посмотрел на муллу дерзким взглядом и высокомерными жестами.
Среди прихожан раздалось протестующие выкрики и сердитое рычание, похожее на рык диких зверей. Кулаки были подняты, чтобы разбить этот богохульный рот. Но мулла спокойно поднял руки. Он улыбнулся Ахмеду, как мог бы улыбнуться лепечущему ребенку.
– Вы – э—э… совершенно уверены в своих словах, друг мой? – спросил он с мягкой иронией. – Вы, наверное, знаете, что лучшая молитва – большее счастье, чем честный, мужественный труд?
– Я знаю! – ответил Ахмед. На мгновение он почувствовал себя неловко под пристальным взглядом собеседника. Тень тревожного предчувствия закралась в его душу. Что-то, похожее на благоговейный трепет, на страх коснулось его позвоночника холодными, как глина, руками, и он устыдился этого чувства страха; заговорил более высокомерно и громко, чтобы скрыть этот страх от самого себя: – У меня иное вероисповедание! Что я захочу, то я и беру! Моя награда здесь, на земле! Рай – это мечта глупца, а Аллах – не что иное, как миф!..
Тут уж разгневанные верующие гурьбой устремились к нему. И снова мулла удержал их жестом своих худых рук. Он окликнул Ахмеда, который уже собирался было покинуть мечеть.
– Я буду здесь, мой младший брат, – сказал он, – и буду ждать тебя – на случай, если тебе понадобится моя помощь – помощь моей веры в Аллаха и Пророка!
– По-твоему я… нуждаюсь в тебе? – передразнил его Ахмед. – Никогда, о священнейший мулла! Хайах! Может ли лягушка простудиться?
И, звонко рассмеявшись, он вышел из мечети.
Десять минут спустя он добрался до жилища, которое делил с Хасаном эль-Торком по прозвищу Птица Зла, своим приятелем и партнером. Это было неприметное, уютное, тайное маленькое жилище на дне заброшенного колодца, и там он разложил свою добычу перед восхищёнными глазами своего друга и напарника.
– Воспрянь духом, Птица Зла! Я принес домой самое настоящее сокровище. Это волшебная веревка. С её помощью я смогу взбираться на самые высокие стены.
– Я так люблю тебя, мой маленький масляный шарик, моя маленькая веточка душистого сассафраса! – пробормотал Птица Зла, лаская Ахмеда по щеке своими старческими руками, похожими на птичьи когти. – Никогда еще мир не знал такого ловкого вора, как ты! Ты сможешь украсть еду у человека изо рта, и его желудок ничего не узнает! Золото, драгоценности, кошельки… – он поиграл добычей. – и эта волшебная веревка! Ведь в будущем для нас не будет ни слишком высокой стены, ни слишком крутой крыши, ни … – он запнулся, прервал себя, поскольку заброшенный колодец находился всего в двух шагах от внешних ворот Багдада.
Громкий голос приказал надзирателю открыть его:
– Откройте настежь ворота Багдада! Мы – носильщики, приносящие драгоценные вещи для украшения дворца! Ибо завтра придут женихи, чтобы посвататься к нашей принцессе Зобейде – дочери великого халифа!
Халифом в те дни был Ширзад Кемаль-уд-Доула, двенадцатый и величайший из славной династии Газневидов. Господином он был от Багдада до Стамбула и от Мекки до Иерусалима. Его гордость была безмерна, и, помимо арабского титула халифа, он гордился такими великолепными турецкими титулами, как: Имам-уль-ислам – Первосвященник всех мусульман; Алем Пенах – Убежище мира; Хункиар – Убийца людей; Али-Осман Падишахи – Король потомков Османа; Шахин Шахи Алем – Царь Владык Вселенной; Худавендигар – Привязанный к Богу; Шахин Шахи Мовазем ве-Хиллула – Верховный Царь Царей и тень Бога на Земле.
Принцесса Зобейда была его дочерью, его единственным ребенком и наследницей его великого королевства.
Что же касается красоты, очарования и непревзойденного колдовства Зобейды, то сквозь серые, качающиеся столетия до нас дошла целая дюжина сообщений на эту тему. Чтобы поверить им всем, нужно было бы прийти к выводу, что по сравнению с ней Елена Троянская, ради лица которой были спущены на воду тысячи греческих кораблей, была всего лишь гадким утенком. Поэтому мы выбираем, с полным обдумыванием, самый простой и наименее витиеватый из современных ей рассказов, содержащихся в письме некоего Абу-ль Хамеда эль-Андалуси, арабского поэта, который, посещая по своим причинам молодую рабыню-черкешенку в гареме халифа, случайно раздвинул парчовый занавес, отделявший комнату рабыни от покоев принцессы, заглянул внутрь и увидел там принцессу. Он описал свои впечатления в письме брату-поэту в Дамаск; и написал он буквально следующее:
«Её лицо столь же чудесно, как луна на четырнадцатый день; её чёрные локоны – вьющиеся кобры; её талия – талия львицы; её глаза – фиалки, залитые росой; её рот подобен алой ране от меча; ее кожа подобна сладко пахнущему цветку чампака; её узкие ступни – это лилии-близнецы»…
Далее в письме с легким восточным преувеличением говорится, что Зобейда была Светом очей писателя, Душой его Души, Дыханием его ноздрей и – чему нет более пылкого восхваления на арабском языке – Кровью его Печени; в нём упоминаются такие довольно личные подробности, что черкесская рабыня, когда она увидела желание, вспыхнувшее в глазах поэта, хотела выцарапать их на месте; и снова поэт опускается на землю, говоря:
«Никогда во всех семи мирах творения Аллаха не жила женщина, которая была бы достойна коснуться тени ног Зобейды. Брат мой! – как одеяние она бело-золотая; как время года – весна; как цветок – персидский жасмин; по разговору – соловей; как духи – мускус, смешанный с амброй и сандалом; как существо – воплощённая любовь».
Итак, письмо, сегодня пожелтевшее, хрупкое и жалкое от старости, занимает несколько страниц. Поэтому неудивительно, что слава Зобейды распространилась по всему Востоку, как порох под искрой, и что нашлось много претендентов на ее маленькую, хорошенькую ручку – не говоря уже о великом королевстве, которое она должна была унаследовать после смерти своего отца, – и, главным образом, о трёх самых могущественных монархах Азии, прибывших в страну ради сватовства к прекрасной Зобейде.
Первым из них был Чам Шенг, принц монголов, король Хошо, губернатор Вах-Ху и священного острова Вак, хан Золотой Орды, хан Серебряной Орды, который прослеживал свое происхождение по прямой линии до Чингиз-хана, великого завоевателя из Центрально-Азиатской равнины, и который подмял под свою твердую пяту весь Север и Восток, от озера Байкал до Пекина, от замёрзших арктических тундр до влажного, малярийного тепла рисовых полей Тонкина.
Вторым был Халаф Мазур Насир-уд-дин Надир-хан Кули-хан Дурани, принц и король Персии, шах-ин-шах Хорасана и Азербайджана, хан кызылбашей и Внешних татар, вождь мусульман-шиитов, Вечно Победоносный Лев Аллаха, Завоеватель России и Германии, а также до самого Одера, Воин за веру ислама, Превосходящий всех казаков и потомок пророка Мухаммеда.
Третьим был Бхартари-хари Виджрамукут, принц Индостана и Юга от Гималаев до мыса Коморин, потомок Ганеши, слоноголового Бога Мудрости, со стороны отца и со стороны матери – немного скромнее – потомок незаконного союза между Пламенем и Луной.
Все трое должны были прибыть в Багдад завтра; поэтому рабы, слуги, мажордомы и евнухи халифского дворца суетились, суетились, кричали, метались, потели, ругались и взывали к Аллаху в лихорадке приготовлений к приезду знатных гостей; и в Багдаде стоял громкий шум у внешних ворот города:
– Открывай! Открой нам, о Страж Стен! Мы – носильщики, доставившие редкие блюда и еще более редкие вина для завтрашнего пиршества!
Ахмед услышал шум и повернулся к Птице Зла.
– Иди-ка сюда, о древний и вонючий попугай моего сердца! – сказал он, взбираясь по веревочной лестнице, которая вела к устью заброшенного колодца.
– Куда едем?
– Во дворец!
– Во дворец?
– Да, – ответил Багдадский Вор. – Давно и сильно желал я увидеть его – изнутри. Держу пари, там есть добыча, достойная моих ловких пальцев и хитрого ума.
– Несомненно! Но они тебя не впустят!»
– Они могут!
– Каким образом?
– У меня есть идея, Птица Зла! – И когда тот начал спрашивать и спорить с ним, отрезал: – У меня сейчас нет времени объяснять. Пошли. И не забудь свой чёрный плащ из верблюжьей шерсти.
– Сегодня не холодно.
– Я знаю. Но нам понадобится плащ.
– Зачем?
– Подожди и сам всё увидишь, о сын нетерпеливого отца.
Они выскочили из колодца, побежали по улице и сразу же за углом догнали замыкающую процессию носильщиков, которая двигалась по широкой, обсаженной деревьями аллее к дворцу халифа. Их были сотни и сотни. Большинство из них были гигантскими, сливового цвета, кудрявыми, татуированными рабами из Центральной Африки, и они шагали неутомимой поступью, покачивая бедрами и вытягивая свои длинные туловища, балансируя узлами, тюками, корзинами и кувшинами на своих крепких задах, с арабскими надсмотрщиками, бегущими сбоку процессии и погоняющими отстающих плетками из сыромятной кожи с узлами. В конце аллеи, окруженный огромным садом, утопающим в цветах, замыкал панораму грандиозный дворец, словно огромная печать из мрамора и гранита. Поднимаясь высоко ровными ярусами, изгибаясь внутрь, как залив тьмы, запруженный каменным изгибом зубчатых, похожих на крылья гигантского орла стен, устремляясь на Север и Юг двумя гранитными башнями кубической формы, увенчанными лесом башенок, шпилей и куполов, он спускался за горизонт смелой лавиной квадратной, фантастически раскрашенной каменной кладки. Внешние ворота были перекрыты – довольно прозрачной, но прочной, почти неразрывной сеткой из плотно сплетённых железных и серебряных цепей, которые с грохотом опустились в свои пазы, когда капитан стражей ворот увидел приближающихся носильщиков и сделал знак своим вооруженным помощникам в тюрбанах.
Носильщики входили поодиночке, по двое и по трое. Последним был высокий негр, который нес глиняный кувшин, наполненный золотистым, пахнущим цветами вином Шираза. Но – подождите! – тут появился ещё один носильщик. Он был не негр, а гибкий молодой араб, голый по пояс, ноги прикрыты шелковыми мешковатыми бриджами, а на голове он нёс приземистый сверток, скрытый чёрным плащом из верблюжьей шерсти.
Как только мужчина собрался переступить порог, узкие глаза капитана превратились в щелочки. Он быстро подал знак своим помощникам, которые подняли дверь на цепочке.
– Впустите меня! – потребовал молодой носильщик. – Немедленно впусти!
– Нет, нет! – засмеялся рыжебородый пузатый капитан. – Нет, нет, моя умная базарная гончая!
«Впусти меня!» – повторил другой. «Впусти меня, о огромная гора свиного мяса. Я привезу сто килограммов Драгоценного бухарского винограда для завтрашнего пира!»
Капитан снова рассмеялся.
– Душа моей души, – насмешливо заяви он, – этот твой виноград – ну очень любопытный виноград! Узрите! Его глазки двигаются – как будто они живые! Хайах! Хайя! – поднимая копье и протыкая связку, которая вслед за этим извивалась, пищала, громко визжала —виноградные гроздья с человеческим голосом! Действительно, драгоценный виноград! Самый чудесный и уникальный виноград, созданный Аллахом!
– Тьфу! – Багдадский Вор с отвращением сплюнул. Он уронил сверток, который, когда плащ из верблюжьей шерсти упал, обнажил Птицу Зла, энергично потирающего свои бедра в том месте, где они ударились о тротуар, и громко вопящего.
– Мой дорогой, – беззлобно продолжал капитан, – дворец халифа – не самое подходящее место для грабителей.
– Как ты смеешь…
– Я вижу это в твоих глазах, – прервал его другой. – Это веселые глаза – да! Приятные глаза – да, да! Но не честные глаза! И поэтому, – последовало загадочное предупреждение, – будь любезен подумать о судьбе осла!
– Какого осла, о негодяй с толстым брюхом?
– Осла, который путешествовал за границу в поисках рогов – и потерял свои уши! Берегись, мой друг! Весь день за этим местом наблюдают солдаты халифа. И всю ночь – смотри! – он указал сквозь железную сетку двери. – Ты видишь эти ловушки, эти углубления, гроты и клетки? В них обитают стражи ночи: полосатые тигры-людоеды из Бенгалии, нубийские львы с черной гривой и длиннорукие гориллы с собачьими зубами из дальних лесов! Берегись, моя умная базарная гончая!
– Это была твоя вина, Птица Зла! – Когда капитан ушел, Ахмед повернулся к своему другу. – Почему ты пошевелился, как только я переступил порог?
– Я ничего не мог с собой поделать! Меня укусила блоха!
– А теперь мул лягнёт тебя! – Ахмед поднял правую ногу.
Птица-Зла быстро отпрянула в сторону.
– Подожди! Подожди! – взмолился он. – Подожди до вечера! Тогда мы полезем на стены!
– Невозможно, дуралей! Они слишком крутые!
– Ты забыл о волшебной веревке!
– Правильно – клянусь ногтями ног Пророка! Сегодня вечером с помощью волшебной веревки.
И вот, когда наступила ночь, сомкнувшаяся над головой, как непрозрачный купол из темно-зеленого нефрита, инкрустированный мерцающей сетью звезд, когда она опустилась на спящий Багдад глухой, закупоривающей пеленой тишины, Ахмед и Птица Зла спокойно продолжили свой путь. Волшебная веревка была намотана на левую руку вора. Они добрались до дворца. Он вонзался в тёмный шатёр небес фантастическими пурпурными очертаниями, пронизанными тут и там, где рабы все еще выполняли какую-то позднюю работу, сверкающими карандашами света. Они остановились в тени внешней стены, которая на высоте полусотни метров была увенчана искусной балюстрадой из резного, филигранного розового мрамора. Они подождали, прислушивались, затаив дыхание. Они могли слышать, как капитан ночного дозора совершает обход, когда ночь достигла полуночи, равномерный топот обутых в сапоги ног дозорных, слабый треск стали, свист изогнутых сабель, скребущих по каменным плитам. Звуки стихли вдали. Послышались и другие звуки – голоса диких зверей, охранявших дворец, рыскавших и крадущихся по саду: вибрирующее рычание львов, начинающееся глубоким басом и заканчивающееся пронзительным, режущим дискантом; злобное шипение и фырчание, как у огромных кошек, огромных рыжих бенгальских тигров; чириканье и свист – нелепый контраст с их размерами – длинноруких горилл.
Ахмед размотал веревку.
– Звери и ятаганы охраняют Дворец. Ты сможешь это сделать? – прошептал Птица-Зла.
– Запросто.
– Но… львы и тигры?..
– За внешней стеной – я заметил это сегодня днем – на расстоянии нескольких футов находится вторая стена, широкий выступ с дверью. Оказавшись на вершине внешней стены, я могу перепрыгнуть на выступ и одурачить этих диких питомцев. Затем – через дверь, а в остальном я буду полагаться на свой нюх, свои пальцы и свою удачу.
– Да защитит тебя Единый Аллах! – благочестиво пробормотал Птица Зла.
– Аллах? Ба! – усмехнулся Багдадский Вор. – Лишь моя собственная сила и ум защитят меня! Подожди здесь, о древний козел моей души. В течение часа я вернусь с королевским выкупом, спрятанным в этих шальварах.
Он подбросил веревку в воздух и произнёс тайное слово. Веревка повиновалась. Она стояла прямо, как струна или спущенный сверху канат. Минуту спустя, перебирая руками, Ахмед оказался на вершине внешней стены. Он посмотрел вниз, в плоские изумрудно-зеленые глаза тигра, который притаился внизу, размахивая хвостом из стороны в сторону и, несомненно, думая, что это поздний ужин, уготованный ему самой Судьбой. Затем, измерив глазами расстояние до уступа, Ахмед одурачил и тигра, и Судьбу, перепрыгнув через него – аккуратно, гибко и безопасно. Он открыл дверь, ведущую на карниз, и оказался в пустом зале. Так, тихо, осторожно, на босых, бесшумных ногах, он шёл по комнатам, залам и покоям. Все они были пусты и безжизненны. В некоторых покоях под потолками грубыми, контрастными цветами горели лампы, другие едва отсвечивали тусклыми, мрачными бликами, сливавшимися друг с другом. Он шёл всё дальше по коридорам, поддерживаемым колоннами, капители которых были выполнены в форме подвесных лотосов или увенчивались фантастическими фгурами, вырезанными в виде всадников или воинов верхом на слонах.
Наконец он вошёл в большую продолговатую комнату. Здесь не было никакой мебели, кроме высокой курильницы для благовоний на витой золотой подставке, испускающей спирали ароматного, переливчатого дыма, нескольких больших, окованных железом сундуков и шкатулок, и обилия шелковых подушек, на которых лежали три огромных дворцовых евнуха, одетых в желтую ткань, и храпевших достаточно громко, чтобы разбудить мертвеца.
По зуду собственных ладоней, а также по виду сундуков и шкатулок Багдадский Вор понял, что попал в сокровищницу халифа. И пока трое евнухов продолжали спать сном праведников и грешных, он подкрался к одному из сундуков; обнаружил, что он заперт; более того, обнаружил, что ключ от него был так плотно прикреплен к одной из поясных шалей евнуха, что его невозможно было снять затем, мягко, медленно, дюйм за дюймом, он передвигал сундук по полу до тех пор, пока, не разбудив спящего, сумел вставить ключ в замок.
Он повернул его. Замок открылся. Вор поднял крышку, посмотрел и подавил крик радостного возбуждения. Ибо там, в сверкающей куче, были собраны драгоценные камни со всех уголков Азии: яшма из Пенджаба, рубины из Бирмы, бирюза из Тибета, звёздчатые сапфиры и александриты с Цейлона, безупречные изумруды из Афганистана, пурпурные аметисты из Татарии, белый хрусталь из Малва, оникс из Персии, зеленый нефрит и белый нефрит из Амоя и Туркестана, гранаты из Бунделькханда, красные кораллы с Сокотры, жемчуг из Рамешварама, лазурит из Джафры, желтые бриллианты из Пунаха, розовые бриллианты из Хайдарабада, фиолетовые бриллианты из Кафиристана, черный агат с огненными прожилками из Динбулпора.
«Если бы только мои штаны были достаточно велики, чтобы вместить их всех! – подумал Багдадский Вор. – Что же мне взять в первую очередь?»
И только он решил начать с великолепной нитки равномерно подобранного черного жемчуга, он уже держал ее в руке, как вдруг сел и прислушался. Ибо не очень далеко он услышал жалобные, минорные ритмы однострунной монгольской лютни; и высокий, мягкий голос, напевающий монгольскую песню:
…
«В пагоде изысканной чистоты
я каждый день слышу звон-звон
драгоценных камней нефритового пояса
моей потерянной любви.
Глядя из резного широкого окна
пагоды изысканной чистоты,
я вижу, как незапятнанные воды моего горя
Текут мрачными волнами.
…
Я вижу рассеянное облако
моей монгольской родины
Над шпилем пагоды изысканной чистоты
И диких гусей Татарии,
летящих над речными дюнами …»
…
ГЛАВА III
«И диких гусей Татарии, летящих надо мной,
И речные дюны…»
…
… голос дрожал, лёгкий, как пух чертополоха.
Это был женский голос, принадлежавший девушке по имени Лесной-Ручеёк. Семь лет назад она была захвачена в плен в битве, когда халиф Багдада отправился на Восток, чтобы сразиться с растущей угрозой хана Средней Орды. Дочь монгольского принца, девушка по имени Лесной-Ручеёк никогда не забывала степей и покрытых снегом гор своей далёкой страны; и с тлеющей, неугасимой страстью не переставала ненавидеть эту страну ислама. Она была прикреплена к личной службе принцессы Зобейды, и в ее обязанности входило каждую ночь играть и петь ей, пока ее госпожа не засыпала.
И сегодня вечером её голос продолжал дрожать:
…
«В пагоде исключительной чистоты,
Мои мысли блуждают—
Выйди ко мне через
Врата Драгоценностей…»
…
Она оборвала свою песню на высокой ноте, звук струны задрожал в воздухе. Она посмотрела на принцессу, лежавшую на кушетке с балдахином; повернулась к Земзем, другой рабыне, арабке, всецело преданной своей госпоже; приложила палец к её губам.
«Принцесса Небеснорожденная спит», – прошептала она, и двое рабов тихо вышли из комнаты; звуки лютни и слова песни становились всё тише и тише:
…
«Смотрящий из резного широкого окна
В пагоде изысканной чистоты,
Напрасно я ищу очертания
Дома из Белого Нефрита…»
…
Дрожащие ритмы стихли, и Ахмед поднялся, держа в руке нитку жемчуга.
«Очаровательно!» – подумал он, потому что у него был прекрасный музыкальный вкус. – «Давайте посмотрим, достаточно ли я, Багдадский Вор, вор, чтобы украдкой взглянуть на певицу!»
Он вышел из зала. Он взбежал на один лестничный пролет, обойдя стороной огромного стражника-нубийца, который сидел на корточках на одной из ступенек и крепко спал, скрестив обезьяноподобные руки на рукояти двуручного меча; он шёл на звуки музыки, пока не достиг другой лестницы, которая вела вниз, в продолговатую комнату, в крутом изгибе блестящего мрамора с оливковыми прожилками; и, перегнувшись через балюстраду, увидел там, сокрытую тонким шелком балдахина, дремлющую Зобейду.
Случилось ли это из-за его непостоянства? Или то был Случай, ниспосланный Судьбой?
Древние арабские летописи, которые донесли до нас рассказ о Багдадском воре, умалчивают об этом. Но они говорят нам, что в тот же самый момент, Ахмед сразу, немедленно и полностью забыл про певицу, в поисках которой он покинул сокровищницу, и видел только спящую принцессу; и мог думать только о ней. Это маленькое личико, похожее на цветок, лежащее там, внизу, на шелковой подушке, притягивало его, как магнит. Он перепрыгнул через балюстраду; мягко, со шлепком, как большой кот, приземлился на ноги; подошел к кушетке; посмотрел на Зобейду; прислушался к ее тихому дыханию; и испытал новое ощущение, странное ощущение, ощущение, которое было сладким, но смешанным с великой тоской, и в то же время жёлчно-горьким с сильной болью, дергающей за струны его сердца.
«Любовь с первого взгляда», – лаконично называют это древние записи.
Но что бы это ни было, любовь ли с первого взгляда или любовь со второго… – а он действительно посмотрел во второй раз, смотрел долго, смотрел пылко, не мог отвести глаз, – для него это было так, как если бы они внезапно остались одни; она и он, одни во дворце, одни в Багдаде, одинокие во всём подлунном мире. Балдахин, возвышавшийся над кушеткой, казалось, был до краев наполнен какой-то всепоглощающей красотой диких и простых вещей, таких как красота звезд, ветра и цветов, и ещё чем-то, чего всю его жизнь подсознательно требовало его сердце, жаждало, казалось, напрасно, по сравнению с чем его вчерашняя жизнь была всего лишь тусклым, жалким, бесполезным сном.
Едва сознавая, что делает и зачем, он присел на корточки рядом с диваном. Едва сознавая, что он делает и почему, небрежно уронив ожерелье, ради которого он подвергся стольким опасностям, он поднял одну из крошечных вышитых туфелек принцессы. И прижал её к губам.
В следующее мгновение Зобейда слегка пошевелилась во сне. Одна узкая белая рука соскользнула с края дивана.
Багдадский Вор улыбнулся. Повинуясь безумному, непреодолимому порыву, он склонился над маленькой ручкой.
Он поцеловал её. Поцеловал так нежно. Но недостаточно мягко. Ибо принцесса пробудилась. Она испуганно вскрикнула. Она села, отбросив в сторону шёлковое мягкое покрывало. Ахмед быстро спрыгнул на землю; и ему повезло, что покрывало упало на него, окутав его своими тяжелыми складками, полностью скрыв его от взгляда принцессы, а также от взгляда рабынь, которые прибежали на крик своей госпожи, и евнухов, и слуг. Ворвавшийся нубийский стражник с изогнутой саблей, зажатой в мускулистом кулаке, искал негодяя.
Они осмотрели всю комнату, ничего не найдя, в то время как Ахмед скорчился под одеялом, неподвижно втягивая воздух.
«Небеснорожденной что-то, должно быть, приснилось», – сказала монгольская рабыня принцессе, которая настаивала на том, что кто-то коснулся её руки, и в конце концов убедила её снова закрыть глаза. Но главный евнух прошептал нубийцу, что грабитель действительно, должно быть, проник во дворец, так как один из сундуков с сокровищами был открыт; и поэтому три евнуха, нубиец и арабская рабыня отправились тщательно обыскивать другие комнаты в этой части гарема, в то время как Лесной-Ручеёк осталась позади, снова напевая свою жалобную монгольскую песню:
…
«В пагоде изысканной чистоты
Мое Сердце вздыхает —
Вздыхает по тебе яркой луной.
Надо мной татарские степи…»
…
Пока, постепенно, Зобейда снова не заснула.
Лесной-Ручеёк наклонилась, чтобы поднять покрывало. Затем, внезапно, она застыла в испуганной неподвижности, проглотив крик, который сорвался было с её губ, когда смуглый кулак, вооруженный кинжалом, вынырнул из складок шелка, и низкий голос прошептал предупреждение:
– Молчи, сестрёнка! Повернись спиной! Осторожно, осторожно сделай это! – Когда кинжал уколол ее кожу, она повиновалась, повернувшись на пятках и отвернувшись лицом в другую сторону. – А теперь – иди медленно! К вон той двери! Не поворачивайся и не смотри! Осторожно! Очень осторожно! Этот нож так и жаждет молодой крови!
Она была беспомощна. Подгоняемая колющим, щекочущим кинжалом, она прошла перед Ахмедом к узкой двери, расположенной в дальней стене. С помощью небольшой подушечки, подобранной по дороге, он прислонил рукоять кинжала к дверному косяку и быстро убрал руку, так что острие оружия все еще оставалось слегка прижатым к обнаженной гладкой коже девушки-рабыни. Она не знала об этой уловке и оставалась застывшей и неподвижной, в то время как он тихо повернулся, чтобы убежать. Но прежде чем выйти из комнаты, он решился еще раз взглянуть на спящую принцессу. И поспешил обратно к дивану. Он уставился на мирно спящую Зобейду. Он снова почувствовал, как любовь пронеслась через его душу, как с могучим жужжанием крыльев; и он наклонился… Как вдруг – «Хай!» – приглушенный крик предупредил его, заставил встать, заставил повернуться.
– Хай! Хай! – Снова крик. Ибо рабыня обнаружил трюк с приставленным кинжалом. Она звала на помощь. Из соседней комнаты уже доносились торопливые шаги, громкие голоса.
Багдадский Вор рассмеялся. Он поднял маленькую туфельку Зобейды. И, оставив позади волшебную веревку и жемчужное ожерелье, подбежал к окну, выпрыгнул в него и приземлился на дереве недалеко от садовой стены. Дерево изогнулось под его весом и, используя его как катапульту, он перемахнул через стену и спрыгнул на землю на улице снаружи, недалеко от того места, где его ждал Птица Зла.
– Ах! – взволнованно воскликнул тот. – Какую добычу ты принес? Жемчуг? Бриллианты? Кроваво-красные рубины?
– Нет, – ответил Багдадский Вор. – Я нашел сокровище гораздо большее! Дороже всех драгоценностей на свете!
– Сокровище – где оно? Покажи его мне!
– Я не могу!
– Почему бы и нет? Где оно находится?
– Оно здесь! – ответил Багдадский Вор, высоко держа маленькую туфельку. – И здесь! – продолжил он, дотрагиваясь до своего лба. – И ещё здесь! – закончил он, положив руку на сердце.
И, отказавшись говорить больше, Ахмед ушел в фантастическую пурпурную ночь, в то время как Птица Зла следовал за ним, озадаченный, нахмуренный, размышляющий, в попытках разгадать загадку слов своего друга.
– И это здесь?.. – эхом повторил он. – А здесь что? А здесь – это как? Но… где… где… как… клянусь Вельзевулом, Отцом Лжи и Блох…
Они добрались до заброшенного колодца.
– Где – как? Скажи мне – где оно?
Ахмед не ответил. Он лежал на своей кушетке, не в силах уснуть, уставившись в пустоту, молчаливый, задумчивый, угрюмый.
Мелодия восточной ночи умирает на рассвете. И на следующее утро, молчаливый, задумчивый, угрюмый, он лежал на выступе возле фонтана на Площади Одноглазого еврея, едва замечая праздничные толпы, заполонившие улицы Золотого Багдада, чтобы приветствовать трех великих принцев, которые пришли сегодня в качестве женихов, просить руки принцессы Зобейды.
Там же, видя, как его друг грезит наяву, невзирая на добычу, которая могла бы достаться ему в этот многолюдный день благодаря ловкости его проворных пальцев, внезапно ответ пришел и к Птице Зла.
– Так ты говоришь, это здесь – и здесь – и здесь?! – Он засмеялся и взглянул на Ахмеда. – Скажи мне – ты влюблен?
– Я? Да! – признался Ахмед. – Безнадёжно!
– Безнадежно?..
– Да!
– Почему? Кто она такая? Неужели Айша, дочь богатого седельщика? Или Фатима, первенец сирийского ювелира? Или она похожа на…? Вау! – прервал себя Птица Зла. – Просто назови мне её имя. Я сам выступлю твоим сватом. Я хорошо разбираюсь в таких вещах. Хорошо? Так кто она такая?
– Это Зобейда, дочь халифа! О, Аллах… – Ахмед вздохнул. – Она недостижима – как воздушные цветы!
– Она – редкая драгоценность, всеми любимая птичка. Нечто недоступное тебе, принц Воров. И все же в мире нет ничего недостижимого, – сказал его друг, который нежно любил молодого человека, глубоко в своем старом истерзанном сердце. – Ты не можешь поймать небесный ветер голыми руками! Не в силах поймать луны, отражённой в воде!.. Хотя… почему бы и нет? Она ведь принцесса, не так ли? Что же из этого? Давным-давно из дворца под самым носом у ее отца, великого халифа Гаруна аль-Рашида, украли принцессу.
– Как это было сделано? – потребовал Ахмед.
– Воры пробрались во Дворец, с помощью тонкого египетского снадобья усыпили ее и унесли. Съешь лекарство. Выпей его. Или просто понюхай. Это усыпит тебя – сделает беспомощным. Я достану тебе такое лекарство. Сегодня. Немедленно. А потом мы войдем во дворец…
– Войти во дворец? Как? – спросил Багдадский Вор.
– А-а-а!.. – засмеялся Птица-Зла. – Почему любовь делает свои жертвы такими беспомощными, такими глупыми, просто неимоверно глупыми! – Он замолчал, когда издалека донеслись громкие голоса и стук серебряных барабанов и быкообразный рев длинноствольных труб. – Послушай барабаны, – продолжал он. – Глашатаи объявляют о прибытии княжеских женихов к городским воротам. Сегодня день рождения нашей принцессы, и царственные женихи съезжаются со всего Востока, чтобы добиться ее руки. Собирайся! У нас слишком мало времени, чтобы попусту терять его. – Он взял Ахмеда за руку и побежал с ним через площадь. – Я пойду и раздобуду тебе лекарство. А ты тем временем сходи на базар персидских шелкоткачей и посмотри, не менее ли твои руки мечтательны и бесполезны, чем твоя голова. На базарах сонных торговцев твои ловкие пальцы могут достать нам королевские одежды. Ибо нам нужны будут весьма дорогие одежды. Расшитые плащи! Расшитые золотом государственные тапочки! Великолепные одеяния с тюрбанами! Несколько красивых украшений! Какое-нибудь прекрасное оружие! И – пока я не забыл – загляни также в караван-сарай татарских торговцев! Достань нам лошадь – и осла…»
– Зачем… зачем? – требовательно спросил Ахмед.
– Чтобы достичь невозможного! Воздушные цветы, веревки из черепаховой шерсти, кошачьи рога и – рука принцессы Зобейды! Скорее, скорее! И встретимся через час у Львиных ворот!
И они убежали , а в это время – бац! бух! Бан-ннг! – гремели далекие барабаны, пока принцы Азии проезжали по многолюдным улицам Багдада, а Зобейда наблюдала за происходящим из своего зашторенного окна.
Рано утром, когда Лесной-Ручеёк выскользнула из квартиры, преследуя собственные коварные и весьма скользкие цели, Зобейда позвала Земзем, свою верную арабскую рабыню.
– Земзем! – сказала принцесса. – Я так боюсь будущего. О, Аллах! Аллах! Что ждет меня в будущем?
– Спроси бедуинскую гадалку Террию, – предложила Земзем. – Она прочтет рассказ о твоей судьбе в зыбучих песках.
Они послали за Террией, которая вскоре явилась и, присев на корточки на балконе Принцессы, насыпала горсть мекканского песка на фарфоровый поднос и – к этому времени Лесной-Ручеёк вернулась со своего таинственного поручения – и напряжённо за ним наблюдала – всматривалась в него, дула на него, пока медленно, постепенно золотистые песчинки не сформировали туманные очертания розы.
– О, рождённая небесами! – сказала гадалка. – Признаки твоего счастья совершенно очевидны. Вот что это значит: ты непременно выйдешь замуж за того, кто из твоих женихов первым прикоснется к розовому дереву в твоем саду – огромному малиновому розовому дереву, растущему прямо под твоим окном, – за того, кому Аллах Всемогущий предназначил стать твоим мужем!
И теперь, когда ворота открылись, чтобы впустить трех принцев, глаза Зобейды с тревогой посмотрели на розовое дерево – розовое дерево, которое предсказало её Судьбу – розовое дерево под ее окном, которое росло прямо у тропинки, по которой должны были пройти ее поклонники по пути от внешних ворот к широкому крыльцу центральных дверей самого дворца.
Раздался громкий шум, гвалт и трубный рёв, когда огромный белый слон неторопливо прошел через ворота, неся на спине сидящего, скрестив ноги, высокого мужчину, одетого в великолепный костюм из серебряной ткани, руки которого обвивали браслеты, украшенные драгоценными камнями, мерцающие ожерелья из жемчуга и лунных камней. Он был перепоясан блестящей шалью и держал поперек колен обнаженный прямой шестифутовый клинок. Перед слоном и за ним ехали верховые слуги, все великолепно одетые, с волосами синего цвета с оттенками индиго и с бородами, выкрашенными в красный цвет хной и завитыми и разделенными по обе стороны коричневых щек так, что они торчали, как бараньи рога.
Вестник халифа повернулся к багдадским сановникам, офицерам и муллам в зелёных тюрбанах, вождям племен и министрам, богатым, пузатым торговцам, которые толпились в саду.
– Принц всех Индий! – объявил он чистым, звенящим голосом, размахивая своим служебным посохом с бриллиантовым наконечником. – Правитель Юга! Потомок многих богов Индостана! Преследователь своих Врагов! Двоюродный брат Вишну, Шивы и Брамы! Он, чей дворец сияет алым блеском ста тысяч рубинов!
– Ах, – прошептала Земзем на ухо Зобейде, – он богат, могуществен и славен!
– В самом деле? – Зобейда взглянула сквозь шифоновую ширму, затягивавшую окно. Она вгляделась в лицо принца и состроила легкую гримаску. – Нет, нет! – продолжала она. – Если я и полюблю кого, то вовсе не за рубины! Он сердито смотрит. Он кажется надменным – и холодным – и суровым – и неприступным! – Она подняла сцепленные руки. – «О Аллах!» – горячо взмолилась она. «Аллах, сделай так, чтобы он не прикасался к розовому дереву!»
И Аллах внял ее молитве. Потому что внезапно слон вильнул и свернул в сторону. Зобейда счастливо рассмеялась; затем посмотрела в сторону ворот, где герольд объявил о прибытии принца Персии, окруженного костлявыми, закованными в сталь выносливыми всадниками, в то время как сам он роскошно возлежал на шелковых носилках, перекинутых между двумя косматыми бактрийскими дромадерами, время от времени окуная пухлую, украшенную кольцами руку в украшенную драгоценными камнями шкатулку и щедро угощался розовыми и розово-красными конфетами.
«Он не прикасался к розовому дереву», – вздохнула принцесса с облегчением.
– Халаф Мансур Насир-уд-дин Надир Хан Кули Хан Дурани, принц и король Персии. Принц Персии, отцы и деды которого сражались при Фейджу пятьсот лет назад, – провозгласил глашатай, – шах-ин-шах Хорасана и Азербайджана, хан кызылбашей и…
– О, Земзем! Посмотри-ка на него! – воскликнула Зобейда, в то время как глашатай продолжил перечисление множества грандиозных титулов. – Разве он не выглядит точь-в-точь, как свинья, – со своими толстыми розовыми щеками, своим толстым розовым носом-пуговкой, своим коротким круглым телом? А его маленькие усики! Разве это не похоже на завивающийся хвост свиньи?..
Нелестное описание… – но это была чистая правда. Ибо, какими бы жёсткими завоевателями ни были его предки, этот персидский принц забыл их доблесть в застольных удовольствиях, он был доблестен сталью только там, где дело касалось разделки сочных бараньих окороков, а не рубки вражеских голов; и древние арабские хроники сообщают, что потребовалось три сильных служителя, чтобы взгромоздить его на паланкин и семь ярдов ткани, чтобы соорудить шаль для его огромного живота.
«Его ежевечерний ужин, – говорится в древней хронике, – состоял из гуся, фаршированного уткой, утки, фаршированной курицей, курицы с перепелом, перепела с голубем, голубя с жаворонком и жаворонка с устрицей. У него была жажда, достойная тех шотландских варваров, о которых наши странствующие торговцы рассказывают фантастические истории. Стороннему наблюдателю он показался бы огромным воздушным шаром, наполненным семьюдесятью на семьдесят фунтов жира и трясущейся плоти…»
Заявление, с которым Зобейда охотно бы согласилась.
– Воздушный шарик! – воскликнула она. – Но почему он такой толстый и жирный, будто питается одним салом? О Аллах, сделай так, чтобы эта гора жира не коснулась моего розового дерева!
Но эта опасность ей практически не угрожала. Ибо, даже если бы он захотел этого, даже если бы он знал пророчество гадалки, его огромная масса не позволила бы ему наклониться с носилок и дотянуться до пахучего, цветущему красными цветками дереву.
