Женский Клуб бесплатное чтение
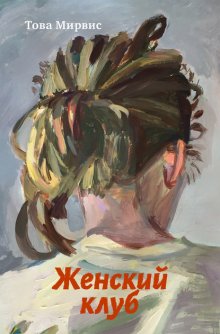
Tova Mirvis / The Ladies Auxiliary
Copyright © 1999 by Tova Mirvis
© ИД «Книжники», 2020
© М. Глезерова, перевод, 2020
© Н. Зурабова, обложка 2020
© Е. Кравцова, оформление, 2020
Пока в Мемфис не приехала Бат-Шева, наша община была самым надежным местом на земле – маленькая, дружная, сплоченная, как любовно вывязанный свитер. Мало что менялось в этом городе, где мы жили с рождения и, как и наши родители и их родители до нас, не представляли жизни где-либо еще.
Мы знали город, как свои лица, могли нарисовать каждый поворот, каждую кочку на дороге так же точно, как линию собственного подбородка. Мемфис построен на высоком крутом берегу, что нависает над рекой Миссисипи, укрывая нас от торнадо, каждый год перед самой весной проносящихся по всему Арканзасу. Когда гудят тревожные сирены, завывает ветер и дождь барабанит по нашим прочным крышам, нам куда спокойнее здесь, наверху, на нашей ниспосланной Богом земле. Когда все проходит, когда небеса вновь сияют привычной безмятежной лазурью и деревья уже не раскачиваются и не гнутся во все стороны, мы открываем двери и в очередной раз видим, что беда обошла нас стороной.
Мемфис распростерся вглубь от Миссисипи, чьи темные воды несутся к куда более населенным и живым местам. Лишь недавно вдоль берега выросли высокие офисные здания, роскошные отели, многоуровневые парковки; и сонные улочки, когда-то пестревшие разномастными магазинами, обшарпанными клубами и ломбардами, стали напоминать любой другой город. Мемфис преобразился: машины всё больше разгонялись, люди шли всё быстрее, им уже было недосуг заскочить на минутку в гости или хоть издали помахать рукой. И все же город как будто не дозрел до сооружений из стекла и металла, восьмиполосных хайвеев и нового стадиона. Он походит на ребенка, слишком рано нацепившего взрослую одежду, которая чересчур велика и не очень нова.
От реки город тянется на восток, север и юг. Мы не единственные жители восточного Мемфиса – нас совсем мало среди многочисленных неевреев, – и все же мы подобны городу внутри города, со всех сторон окруженному крепостными стенами, которые обозначали границы – если не на наших участках, то в наших умах. Единственное, чему удалось просочиться сквозь них, так это южному привкусу, что создало новое необычное сочетание. После стольких лет здесь кто возьмется точно определить, что изначально наше, а что – от них?
Поскольку никому не известно, отчего ортодоксальные евреи осели в Мемфисе, когда все остальные перебирались в Нью-Йорк или Чикаго, кажется, будто община просто упала с небес, как манна. Говорят, что первые евреи приехали, потому что у кого-то здесь имелся родственник (может, уличный торговец галантерейным товаром, может, торговец тканями), но, хотя многие пытались, ни одной семье не удалось застолбить за собой этого родственника. Однажды прибыв сюда, наши семьи остались здесь навсегда, распространяясь и размножаясь, пуская новые корни в почву и осваивая ее. Сменилось несколько поколений, и границы между семьями поистерлись, превратив нас в единое целое; в Мемфисе Леви становятся Фридманами, те становятся Шейнбергами, а потом снова Леви.
Даже мысли не допускалось, что кто-то отсюда уедет. Не за тем мы выстроили этот город, чтобы наши история и традиция закончились вместе с нами. Уехать на пару лет – еще можно понять. Но дети всегда возвращались, двигая нашу общину и историю всё дальше вперед. Мы считали себя Южным Иерусалимом, а свои семьи – звеном в череде еврейских мемфийцев, которая простирается в бесконечное будущее, во все пределы, как Господь на Небесах.
То, что все вышло иначе, застигло нас врасплох. Может, мы замечали грозные знамения, может, видели темнеющие небеса и чуяли стук дождя. Но даже если так, мы словно снизу вверх глядели на серо-зеленые воды Миссиссипи. Уже потом только и думали: мы что-то сделали не так? Или чего-то не сделали? Или это изначально наша вина? Эти вопросы мы задаем себе сегодня. Но тогда мы видели лишь, что теряем наших детей. И что еще нам оставалось делать?
1
Бат-Шева появилась в нашей жизни пятничным вечером, когда мы готовились к шабату. Так приезжать не подобало. Не то чтобы это не дозволялось религией, но все же мы бы так не поступили. Пятницы отводились на подготовку к шабату, и в день приезда Бат-Шевы мы забирали детей из детсада, жарили курицу, стирали – список горящих дел только рос по мере приближения темноты. Даже летом, когда шабат начинался ближе к восьми, времени вечно не хватало. Каждую неделю, когда последние проблески солнца таяли за деревьями, мы оглядывали наши отдраенные дочиста дома, вдыхали ароматы приготовленной еды и, словно чуду, дивились, что вот опять мы справились вовремя.
Мы уже знали, что приезжает кто-то новенький, что Либманы, как и надеялись, наконец-то сдали свой дом какой-то милой еврейской семье. Их-то мы и ждали со дня на день – мужа, жену, ребятишек. И гадали: захочет ли жена присоединиться к Женскому союзу, к Женской группе помощи, к Комитету благотворительных завтраков? С кем по очереди они станут подвозить детей в школу? Был конец июня, и распорядок на следующий учебный год уже утвердили.
Когда Бат-Шева катила по улице в пыльной белой машине, нагруженной чемоданами, с опущенными стеклами, из-за которых неслась громкая музыка с неведомой радиостанции, нам и в голову не пришло, что это и есть наши новые соседи. Мы решили, что женщина ошиблась поворотом и теперь объезжает наш квартал в поисках нужного. На своих улицах мы привыкли видеть микроавтобусы или минивэны, способные вместить многочисленных детей, сумки продуктов, горы вещей из химчистки.
Но она притормозила у дома Либманов и высунулась из окна сверить адрес. Автомобиль въехал на дорожку и, жалобно взвизгнув, остановился. Она посигналила, словно ожидая, что кто-то выбежит ее встречать. Но никто не появился, и мы, укрывшись за шторами, наблюдали за тем, как она вылезла из машины, подняла над головой руки и потянулась всем своим стройным телом. Обернулась и пристально оглядела улицу, скользя глазами от дома к дому, неспешно, по глоточку вбирая нас, словно горячий чай.
Кто знает, что она увидела, впервые осмотревшись вокруг. Мы жили здесь так давно, что свежий взгляд давался с трудом. Синагога со школой стоят в центре нашего квартала, и дома, отдавая дань самому важному, почтительно выстраиваются кругом. Наши петляющие улочки тихи и покойны. Ветви кизила, белые магнолии и крепкие дубы зеленым куполом нависают над дорогами, выписывая в небе полог из листьев. Дома, по большей части одноэтажные, с покатой крышей, большие и вальяжные, стоят поодаль друг от друга. Газоны ухожены, кусты подстрижены, и яркие цветы обрамляют мощеные дорожки, ведущие к дверям.
Мы сразу поняли, что Бат-Шева не из наших. Особенно выделялись ее белокурые волосы. Длинные, распущенные, до самого пояса. Яркие зеленые глаза, лицо блестит от пота. Черты лица правильные и аккуратные, скулы четко прорисованы, бледная кожа гладко натянута. Но губы полные, с изгибом кверху, точно у лука. Одежда тоже привлекла наше внимание. Она одевалась не как мы. Свободные юбки и глухие вырезы скрывали наши формы, превращая их в мешковатое нечто. Ее белая блузка с коротким рукавом слишком облегала грудь. Легкая ткань лиловой юбки с бахромой на подоле развевалась при ходьбе, почти открывая ноги. У нее был серебряный браслет на щиколотке, с блестящими голубыми бусинами, и кожаные сандалии с плетеными ремешками.
Она обошла машину, открыла дверцу, и оттуда вылезла босая девочка в желтом сарафане. Лицо Аялы было перепачкано шоколадом, и руки казались липкими. Что-то в этом лице заставило нас всмотреться попристальнее: сначала нам померещился кто-то взрослый, хотя наши глаза несомненно говорили, что перед нами ребенок не старше пяти. Волосы у нее были светлее, чем у Бат-Шевы, и косыми прядями падали на лицо, доходя до подбородка. В ее глазах было что-то нездешнее, мнилось, будто за ними никого нет. А кожа такая бледная, что почти просвечивали голубые прожилки.
Аяла села на лужайке, трава на которой стала бурой и жесткой из-за засушливого лета. Собрала нарциссы, буйно разросшиеся за последние месяцы, надергала травинок и ногтем разреза́ла стебли в ожидании матери. Наши дети так никогда себя не вели: стоило нам замешкаться хоть на пять минут, принимались тянуть за юбки и хныкать. Но Аяла никуда не спешила. Она отлично сидела там сама по себе.
Бат-Шева стала разбирать вещи. Поверх машины был натянут зеленый брезент, который прикрывал груду разнообразных предметов, так ненадежно примотанных к багажнику, что непонятно, как они не вывалились где-то по дороге. Она пыталась размотать брезент – мы бы оставили эту работу мужьям. То и дело качала головой и выдавала резкое словцо. Наконец справилась с веревками и спустила ящики из-под молока, хозяйственные сумки и чемоданы на подъездную дорожку. Мелькнули торчащие из сумки кисти, перемотанные красной лентой. На дне ящика мы заметили тюбики с краской разных цветов и размеров. Не упустили и хозяйственную сумку, битком набитую книгами, и приоткрытую коробку цветных свечей.
Бат-Шева достала из сумочки ключ и отперла входную дверь. Дом полностью освободили несколько месяцев назад, когда Джозефа Либмана перевели в головной офис компьютерной компании в Атланте. В день их отъезда все местные пришли попрощаться с Джозефом, Эсти и их двумя детьми. Нам было очень жаль расставаться – Джозеф родился здесь, в том же самом Баптистском госпитале, что и многие из нас, и никогда отсюда не уезжал. Эсти была членом Исполнительного совета Женской группы помощи, вице-президентом по художественному оформлению, очень жаль было терять такого неутомимого труженика.
Зайдя внутрь, Бат-Шева сунулась за угол и мельком обозрела гостиную. Та стояла пустая, но раньше, обставленная Либманами, это была одна из самых красивых комнат в городе: обитые жаккардом кушетки с парными креслами, дубовый буфет и два персидских ковра. Остальной дом был так же роскошно убран, ни вещицы не на своем месте; мы недоумевали, как Эсти это удавалось, при двух-то детях. Даже толком не осмотревшись, Бат-Шева вышла на улицу и принялась заносить вещи внутрь, складируя их в холле в огромную кучу, которая грозила развалиться с каждым новым заходом.
Закончив, она подошла к дочке и обняла ее. Потом взяла за руку, и они двинулись по дорожке. Аяла обернулась и с тоской посмотрела на трех детей Рены Рейнхард, бегавших под оросителем на дальней лужайке, и на щенка Цукерманов, мчавшегося по улице. Дойдя до двери, Бат-Шева подняла Аялу поцеловать мезузу, которую Либманы оставили на входе. Может, они забыли про нее, а может, решили, что следующие жильцы тоже будут евреями. Бат-Шева и Аяла оглянулись напоследок, а потом зашли внутрь и закрыли за собой дверь.
В часы между приездом Бат-Шевы и началом шабата телефоны трещали без умолку. Арлина Зальцман считала, что эта женщина ей как будто знакома: где она могла ее видеть? Браха Рейнхард, младшая дочь Рены, заявила (как выяснилось, наврав, – через неделю она призналась, что все выдумала), что ехала мимо на велосипеде, и Бат-Шева окликнула ее по имени; но, когда Браха обернулась, той и след простыл. А миссис Ирвинг Леви, раздувшись от любопытства, сказала, что подумывает перейти улицу, постучаться Бат-Шеве в дверь и выяснить, кто она, собственно, такая.
– Так я и поступлю, – решилась миссис Леви, когда справиться с любопытством уже не было мочи. Она взбила свои каштановые волосы (крашеные, но кто бы осмелился произнести такое вслух?), оправила и так безупречное платье и положила в корзину всякой субботней снеди – халу, жареную курицу, парочку кугелей[1] и тарелку своих знаменитых кукурузных оладий.
Миссис Леви почитала своей обязанностью быть нашими глазами и ушами, поставщиком всех новостей. На этот раз дело было не из трудных – на счастье, жила она прямо через дорогу от Бат-Шевы. Она перешла улицу и постучала в дверь, но никто не ответил. Миссис Леви терялась в догадках, куда же запропастилась Бат-Шева, и, уж конечно, трудно было представить, что она могла выйти из дома незамеченной. Может, затаилась внутри? Может, чего-то боится? Миссис Леви была решительно настроена выяснить, что происходит, и постучала снова, на этот раз громче.
Так и не получив ответа, миссис Леви вздохнула. «Вот оно, значит, как? Хочешь сделать другому что-то хорошее, и вот что выходит», – сказала она про себя. Преисполнившись разочарования, как водится у тех, кто, не щадя себя, творит добро, миссис Леви примостила корзину у двери и уже было двинулась по дорожке, как вдруг что-то послышалось.
– Погодите минутку, – кричала Бат-Шева. – Я сейчас!
Она открыла дверь, закутанная в белый шелковый халат. Увидев широко улыбающуюся миссис Леви, она как будто занервничала, не зная, как понимать этот визит.
– А, здравствуйте вам, – произнесла миссис Леви. – Я уж было решила, вы куда-то убежали. Но вы ведь только приехали, так что я не представляла, куда ж вам идти. В общем, я видела, как вы заезжали, и подумала: времени на готовку у этой женщины точно не будет, раз вы едва успели сюда до шабата. Так что решила принести вам немного еды.
Бат-Шева вышла на крыльцо, нисколько не заботясь о том, что она в халате и любой прохожий может ее увидеть. Она улыбнулась миссис Леви и, представившись, пожала ей руку, как принято у мужчин на деловой встрече; у нас такое уж точно было не заведено.
– Как это мило с вашей стороны! Вы даже не знаете, как меня зовут, и принесли столько угощений! – воскликнула Бат-Шева.
Миссис Леви скромно улыбнулась, принимая комплимент. Это таки было мило с ее стороны, но не зря же она считала себя приветственной делегацией в одном лице. И, раз уж она тут, надо бы задать пару вопросов; к чему оставлять доброе дело без награды?
– Скажите мне, Бат-Шева – так ведь вас зовут? – что привело вас в Мемфис? Не каждый день к нам приезжают новые люди.
– Мне всегда хотелось стать частью маленькой дружной общины, – ответила Бат-Шева. – Я столько прекрасного слышала об этом месте и подумала, что нам тут будет хорошо. А теперь вижу, что не ошиблась.
– Не ошиблись, – подтвердила миссис Леви. – Мы, скажем прямо, гордимся нашим старым добрым южным гостеприимством. Но вы же не просто так выбрали именно Мемфис? Вы, наверное, кого-то отсюда знали?
– Да, знала одного, кто здесь жил, – только и бросила Бат-Шева, оставив миссис Леви гадать, кого же она имела в виду. Она мысленно пробежалась по списку всех, кто когда-либо живал в Мемфисе. Но ее размышления были прерваны Бат-Шевой, которая, сунувшись за дверь, окликнула дочь.
– Аяла, иди-ка сюда, посмотри, что у нас есть на шабат, – позвала она.
Аяла прибежала в одних трусах, и Бат-Шева рассмеялась.
– Я собиралась искупать ее, когда услышала ваш стук, – пояснила она.
Миссис Леви не нашла в этом ничего смешного. К обнаженному телу, пусть даже и у ребенка, следует относиться серьезно. Аяла исподтишка смущенно поглядывала на гостью, но не произнесла ни слова, и миссис Леви преисполнилась сочувствия к малышке. Ее собственные дети и внуки по неведомым причинам жили не в городе, и было так отрадно видеть ребенка, который нуждается в любви и заботе.
– Эта милая дама принесла нам целую корзину с едой. Смотри, сколько всего вкусного у нас есть на шабат! – сказала Бат-Шева.
Аяла заглянула в корзину. Она ничего не говорила, но пришла в такое возбуждение при виде еды, что миссис Леви засомневалась, получает ли она столь необходимое детям домашнее питание. С этим еще надо будет разобраться, но сейчас ее главная цель – узнать как можно больше о самой Бат-Шеве.
– Так вы говорили… – продолжила миссис Леви, надеясь вернуть Бат-Шеву к разговору о том, кого же она знала из Мемфиса.
– Разве я что-то говорила? А я и не помню, – засмеялась Бат-Шева. – Наверное, это жара так действует. Здесь адская парилка.
Эта Бат-Шева, бесспорно, загадочная особа, заключила миссис Леви, не говоря уже о вольностях в речи, особенно в присутствии ребенка. Одному Богу известно, как она выражалась без свидетелей. Но правильнее всего было позволить разговору течь свободно и непринужденно, и рано или поздно миссис Леви откопает недостающие части пазла.
– Летом всегда так, жуткая жара. Каждый день я думаю: сегодня самый жаркий день за всю историю, но просыпаюсь наутро, а за окном еще жарче, – поведала миссис Леви.
– Что же это я держу вас тут на пороге и даже не пригласила в дом. Зайдемте, я приготовлю что-нибудь выпить, – предложила Бат-Шева.
– Все в порядке, не нужно. Похоже, вы заняты по горло, да и дома сейчас наверняка кавардак. – Как ни хотелось миссис Леви побольше вызнать об этой женщине, но близилось время шабата. – Меньше всего вам сейчас нужны гости.
– Вы уверены? Так мило было с вашей стороны зайти. Это меньшее, чем я могу вас отблагодарить.
– В другой раз. Мне еще нужно кое-что приготовить, да и у вас, конечно, не со всеми делами покончено.
Они распрощались, и миссис Леви поспешила домой. Времени до захода солнца оставалось как раз на один-два звонка.
– Мы проговорили всего несколько минут, поэтому пока рано что-либо утверждать, – отчитывалась миссис Леви своей ближайшей подруге и конфидентке Хелен Шайовиц. – Но с ней как будто что-то не так. Пока не поняла до конца, что именно, но точно тебе говорю: что-то с ней не так.
– Вот как, – заметила Хелен. Узнавать обо всех новостях первой было одним из преимуществ дружбы с миссис Леви. Ее умение разведывать все, что происходит в Мемфисе, всегда поражало. Многолетний опыт научил Хелен безоговорочно доверять ее мнению.
– Перво-наперво, она вышла на крыльцо в халате. И чуть ли не на дорожку в нем выскочила. Ее как будто и не волнует, что люди увидят. Я пыталась выспросить, кто она да откуда, но она отвечала уклончиво – очень, очень уклончиво. Совсем даже не удивлюсь, если она сбежала от каких-то неприятностей. – И миссис Леви тут же припомнила парочку скандальных историй, которые начались ровно так же. – Ну и еще большой вопрос, почему Аяла выглядела так, словно сто лет не видала домашней еды. Бедная детка бегала полуголая, как будто живет в дикой природе.
– Все это неудивительно, – согласилась Хелен; она взяла за правило поддакивать всему, что говорила миссис Леви, даже если и не была до конца согласна. Но в данном случае, надо признать, заключения миссис Леви были в самую точку. – Не похожа она на приличную мать.
– Нет, определенно не похожа. У таких дамочек вечно нет времени на собственных детей. – Миссис Леви уже была готова порассказать о разных способах, которыми эти современные мамаши калечат своих деток, но тут как раз на плите закипел куриный бульон. Надо было бежать; времени оставалось только на последнее соображение.
– Попомни мои слова, Хелен. Это из тех историй, за которыми глаз да глаз.
Новость о визите миссис Леви разлетелась по всем соседям. Хелен Шайовиц позвонила Ципоре Ньюбергер, которая позвонила Бекки Фельдман, которая позвонила разом Арлине Зальцман и Рене Рейнхард, каждая из них позвонила Леанне Цукерман, и Наоми Айзенберг, и Джослин Шанцер. И хотя мы носились как угорелые, стараясь успеть допылесосить и домыть посуду, все уже были в курсе того, что разузнала о Бат-Шеве миссис Леви. Наши дома соединялись телефонным кабелем, протянутым через дворы, с упрятанным под землю коммутатором, на котором лихорадочно горели все лампочки.
На закате мы зажгли субботние свечи в серебряных подсвечниках – по одной свече на каждого члена семьи, – и покой снизошел на наш квартал. Машины были припаркованы, телевизоры выключены, телефоны перестали звонить. Дети вернулись домой, мужчины оделись и отправились в синагогу. Мы надели струящиеся юбки, шелковые блузки и накрасились. Наши недели были подготовкой к пятнице. Нам заповедали отделять шабат от прочих дней и освящать его. У нас есть одежда, которую мы носим только на шабат, фарфор, серебряные приборы и хрустальные бокалы, предназначенные только для шабата. Мы не включаем и не выключаем свет, не слушаем музыку, не ходим на работу, не готовим на плите, не говорим по телефону, не заводим машину. Мы посвящаем этот день Богу и семье, проводя двадцать пять часов между заходом солнца в пятницу и первой субботней звездой в молитвах, за трапезами, отдыхая от работы. Внешний мир исчезает для нас, пусть и на один только день.
Мы в одиночестве ждем дома, когда из синагоги вернутся мужья и дети. Мы бы и сами могли пойти, если бы захотели; несколько жен всегда сидят в отделении для женщин. Но трех часов в синагоге субботним утром вполне достаточно. И мы не обязаны ходить. Это положено только мужчинам; мы же можем выполнять наши религиозные обязанности дома. Мы предпочитали покой наших домов. Это были единственные часы, когда нас не дергали, не было неотложных встреч, важных звонков. После всей свистопляски, наполнявшей каждую пятницу, хорошо усесться поудобнее, задрать ноги и выдохнуть.
Мы доставали сидуры[2], чтобы прочитать субботние молитвы. В другие дни было трудно выкроить время для утренних молитв, а уж о дневных и вечерних и говорить нечего. Мы бы и хотели, и даже сидуры открывали, но непременно что-нибудь да отвлекало. То телефон позвонит, то ребенок заплачет, и уже в голове маячит, что нужно забрать вещи из химчистки и не забыть купить зубную пасту. Если и удавалось сказать молитвы, мы пробегали их скороговоркой, вкладывая в слова не больше смысла, чем в чтение телефонной книги.
Но в шабат все было легче. Мы чувствовали, будто стоим перед Богом, и благодарили Его за то, что даровал нам день отдыха, и славили красоту творения Его. Но больше всего мы молились о наших семьях. Из квадратных черных букв на нас смотрели лица любимых детей, мужей и родителей. Мы закрывали глаза, и процветание всего мира было подвластно нам.
Хотя мы молились в одиночестве, Леха доди всегда пели вслух: «Выйди, друг мой, навстречу невесте; мы встретим Субботу». Мы приглашали невесту Субботу в наши дома и представляли, как она впархивает через окно, облаченная в платье из белой органзы, и отблески субботних свечей пляшут на нем. На голове ее венок из свежих роз, и волосы сияют на свету. Слова слетали с наших губ, и уносились прочь из домов, и сливались в молитвенный хор, взмывающий к небесам.
Когда мужья с детьми возвращались из синагоги, мы переходили в столовую и приступали к субботней трапезе. Собравшись за столами, мы пели Шалом алейхем, приветствуя Господа с ангелами в наших домах. Песня напоминала нам об истории, которую нам рассказывали в детстве. Каждый вечер пятницы два ангела, добра и зла, идут вслед за человеком из синагоги. И когда человек заходит в дом, ангелы тихонько подглядывают – если стол накрыт для шабата, постелена белая скатерть и вся семья улыбается, добрый ангел радуется и благословляет их: «Да будет каждый шабат в вашем доме таким же». И тогда злому ангелу ничего не остается, как произнести: «Амен». Но если не горят субботние свечи, если, как в обычные дни, включен телевизор и звонит телефон, злой ангел улыбается и говорит, что каждый их шабат должен быть таким же. И тогда добрый ангел опускает голову, и, сдерживая слезы, произносит: «Амен». Закрывая глаза, мы видели двух ангелов, которые заглядывают в наши окна, и добрый ангел даровал нам свое благословение.
Затем мы пели Эшет хаиль: «Кто найдет доблестную жену? Цена ее выше жемчуга. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не знает недостатка ни в чем». Вглядываясь в благодарные лица наших мужей, мы как никогда чувствовали, что нас ценят. Мы были совсем не прочь выполнять работу по дому, но немного признательности не помешает. Затем мужья клали руки на головы детей и благословляли их: «Да сделает тебя Всевышний подобным Эфраиму и Менаше, подобной Саре, Ревекке, Рахили и Лие, да благословит Он тебя и охранит». Они произносили кидуш над полными бокалами красного вина, восхваляя Бога, сотворившего мир за шесть дней и покоившегося в день седьмой от работы Своей. Затем мы отправлялись на кухню и омывали руки, трижды поливая каждую из сосуда, не произнося ни слова, пока наши мужья не скажут Амоци, и тогда откусывали от плетеной халы.
За первыми блюдами приготовленной нами трапезы мы изо всех сил старались не заговорить о Бат-Шеве. Мы избегали досужих толков, уж за субботним столом так точно. Поэтому обсудили Ширу Фельдман, семнадцатилетнюю дочь Бекки Фельдман, которую опять видели в вызывающе короткой юбке. Отметили, что Йохевед Абрахам, а ведь ей уже двадцать девять, вернулась домой из Нью-Йорка, так и не найдя себе мужа. Такая разборчивая, вечно все недостаточно хороши для нее, но и она-то не большая красавица. Ну и еще, Господи помоги, новость, что сынишка Рэйчел Энн Беркович заболел ветрянкой. И это, само собой, означало, что эпидемии нам не избежать. Не сегодня-завтра наши дети покроются багровыми пятнами.
Но когда мы вынесли курицу, салаты и кугели, которые готовили весь день, держаться уже не было мочи. Мы слишком долго крепились, и любопытство рвалось наружу, как пузырьки в кипящем котле.
За жареной курицей, стручковой фасолью с орехами и фасолью «Черный глаз» Хелен Шайовиц подалась вперед и поделилась новостью с двумя сыновьями, их женами и их детьми. Услышав о Бат-Шеве от миссис Леви, Хелен сделала еще несколько звонков и разузнала кое-что, чего не смогла выпытать миссис Леви. Она была очень горда своим уловом. Это доказывало, что она не просто правая рука миссис Леви – она и сама могла быть глазами и ушами.
Сведения были добыты окольными путями, но не так оно и важно – новость есть новость. Брат Хелен живет в Западном Мемфисе, в Арканзасе, и он перестал быть религиозным, но об этом (по просьбе Хелен) в семье не говорят. Долгая история, но если вкратце, он отправился учиться в светский колледж, и это был конец всему. В общем, он работает в той же компьютерной компании, что и Джозеф Либман, и несколько дней назад они как раз перекинулись парой слов. Разговор зашел про Мемфис, и Джозеф заметил, что они наконец-то сдали свой дом.
– Полагаю, Джозеф рассказал Дэвиду про дом, потому что он в курсе, что я живу здесь, – пояснила Хелен. – Но вы же знаете Дэвида. Он не смог ничего вспомнить про эту женщину, только что она откуда-то с севера.
Хелен покачала головой. Как можно было услышать, что дом сдан, но ничего не разузнать про новеньких? Все равно что долго ехать в магазин и забыть купить молоко. Но Хелен все же выудила из Дэвида еще одну подробность: у женщины, снявшей дом Либманов, были здесь знакомства. Она когда-то была замужем за кем-то из Мемфиса.
Выше по улице Эдит Шапиро ужинала у Ньюбергеров, как оно частенько случалось с тех пор, как умер ее муж. Ципора Ньюбергер настойчиво звала ее приходить в любое время. Когда все остальные принялись ее приглашать, Эдит не была уверена в их искренности: она решила, что вряд ли кому-нибудь нужна компания печальной старухи. И только Ципора как будто и вправду не лукавила. Она звала Эдит раз, другой, третий – пока та наконец не согласилась. Мать Ципоры была четвероюродной сестрой мужа Эдит, и это облегчало ситуацию; в конце концов, нет ничего важнее родственных связей, и Эдит была твердо намерена цепляться за каждую ветвь усыхающего фамильного древа. И теперь, месяцы спустя, гостиная Ньюбергеров стала ей вторым домом. Эдит даже привыкла к Ципориной нервозности, к клеенкам, которые та стелила поверх хороших льняных скатертей, к бедламу, что устраивали дети, которые орали, носились вокруг и переворачивали всё вверх тормашками.
Когда малышню уложили спать, подоткнули одеяла, потом еще раз, тут-то наконец Эдит удалось поделиться новостью. Она считала, что как гость обязана всегда приходить с интересной темой для беседы и с бутылкой хорошего виноградного сока, тогда Ньюбергеры от нее не устанут.
– Сегодня днем, – произнесла Эдит и выдержала драматическую паузу, – я говорила с кузиной Жанетт, которая живет в Нью-Джерси, и среди прочего упомянула о приехавшей женщине с маленькой дочкой.
Удивительное совпадение, но за пару недель до того Жанетт столкнулась с Барбарой Джейкобс, которая прежде жила в Мемфисе. Они встретились в очереди в кошерной булочной в Нью-Джерси, и Барбара тогда приглядывала за своей единственной внучкой. Ее сын, Бенджамин, погиб в ужасной автокатастрофе двумя годами ранее, и эта девочка была единственным, что у нее осталось от него. Жанетт краем уха услышала, как малышка – очаровательная белокурая девочка – говорила, что они с мамой переезжают в новое место, куда-то очень-очень далеко. Когда Жанетт наклонилась за свежей шоколадной бабкой, до нее, она поклясться готова, донеслось слово «Мемфис». Жанетт навострила уши, и, хотя переспрашивать не стала – не хотела показаться чересчур любопытной, – она не сомневалась, что это было слово «Мемфис».
Эдит и Ципора сошлись на том, что девочка в булочной наверняка и есть Аяла – сколько еще белокурых девочек могли переезжать в Мемфис в такой короткий отрезок времени? И если все верно, значит, Барбара Джейкобс приходится Бат-Шеве свекровью, раз та была замужем за ее сыном Бенджамином. Эдит и Ципора удовлетворенно кивнули. Все начинало проясняться.
Тем временем во владениях Леви у миссис Леви появилась информация, подтверждавшая предположения Эдит и Ципоры. Как всегда, за ужином у миссис Леви собралась куча народу: она предпочитала готовить для большого количества гостей, и тем вечером были приглашены Бернеры и Рейнхарды. У миссис Леви был заведен шведский стол. Ей нравилось расставлять все на самой красивой посуде, огурчики и оливки аккуратно разложены, брискет нарезан и украшен веточками петрушки, вишневый кугель из лапши покоится на салатных листьях для пущего цветового контраста, но без драматических излишеств. Важно и восхищение гостей, которые видели все блюда разом. Во всем этом был элемент творчества; готовка и сервировка превращались в искусство.
Когда все наполнили свои тарелки и расселись, миссис Леви громко откашлялась, требуя безраздельного внимания. Ее муж Ирвинг улыбнулся на другом конце стола. Он привык к тому, что она за главного, ему нравилось, что она предстает вот так, во всем блеске, все глаза устремлены на нее, словно на кинозвезду.
– Кое-что странное произошло на прошлой неделе на Женской вечеринке в бакалее, – начала она. – Сама вечеринка была чудесной: восхитительная еда, изумительные декорации. Но…
Тогда миссис Леви не сообразила, к чему бы это, но после визита к Бат-Шеве все встало на свои места. На вечеринке – сразу после кишей с копченым лососем – жена раввина, Мими Рубин, принялась вдруг расспрашивать про Джейкобсов: общался ли с ними кто-нибудь после гибели Бенджамина, помнит ли кто-нибудь, откуда была его жена?
– А сплетничать не в привычках Мими. Но потом я поняла, что ей, в отличие от нас, что-то известно, – пояснила миссис Леви.
Будучи не из тех, кто помалкивает, она прямо так и спросила Мими, с чего вдруг эти расспросы. Но Мими ответила, что просто вспоминала их, вот и все.
– Но я на это не купилась. Ничуточки. Я не знала, почему она спрашивает, но понимала, что какая-то причина быть должна. И теперь знаю какая, – произнесла миссис Леви. По ее теперь уже подтвержденной теории Бат-Шева была невесткой Джейкобсов, и, прежде чем переехать, она, несомненно, позвонила раввину и разузнала про общину. Мими наверняка уже была в курсе ее приезда, а мы еще нет. Ситуация в целом, и миссис Леви отлично это понимает, вполне обычная, но очевидно, что тут имелись и некие особые обстоятельства. Бат-Шеву никак не назовешь типичной приезжей, уж точно не из тех, кто выбрал эту общину, потому что хорошо ей подходит. Мими для полноты картины, скорее всего, навела справки о ее прошлом, чтобы можно было приглядывать за этой женщиной.
Миссис Леви испытывала полное удовлетворение оттого, что в очередной раз смогла отследить все новости, словно сейсмограф, чувствительный к малейшим колебаниям в общине. Она поднялась, чтобы раздать десерт. На этой неделе она превзошла саму себя: вдобавок к стаканчикам охлажденного лимонного мусса со взбитыми сливками парве[3] подавались ее знаменитый персиковый пирог и яблочный тарт татен со специями по рецепту ее матери.
Все эти обрывки новостей о Бат-Шеве и ее дочке пробудили в нас воспоминания, и в каждом доме, за каждым столом мы принялись их как-то упорядочивать. Джослин Шанцер припомнила, что через много лет после отъезда Джейкобсов из Мемфиса Бенджамин обручился с нееврейской девушкой, которую встретил в Нью-Йорке. Семья пыталась замять эту новость. Не было ни объявлений или фотографий счастливой пары в еврейских газетах, ни вечеринок по случаю помолвки или звонков старым друзьям. Разумеется, мы все равно об этом прослышали и знали, что, несмотря на то что она приняла иудаизм, Джейкобсы были убиты горем. Мы и сами не понимали, что думать об этой свадьбе, радоваться ли за Бенджамина, или это означало, что он больше не религиозен, а обращение в веру было просто для успокоения родителей.
Дорин Шейнберг вспомнила, что мы не звонили и не посылали открытки с поздравлениями или стеклянные миски и медленноварки в подарок. Свадьба была скромная, только близкие родственники и пара друзей. Мы не обиделись, что нас не пригласили, хотя мы-то приглашали их на все наши свадьбы и бар мицвы. После этого было уже труднее поддерживать общение. Мы почти ничего не слышали про Джейкобсов до того, как однажды утром миссис Леви не позвонили со страшным известием: Бенджамин с женой и маленькой дочкой (о рождении которой мы не знали) отправились на машине в Катскильские горы. Шел дождь, дороги наверху плохо освещенные, повороты крутые, обрывы отвесные. Бенджамин умер на месте, а жена с ребенком остались целы и невредимы.
С тех пор мы толком и не слышали про жену Бенджамина и его дочку. Со временем мы перестали о них справляться и решили, что они больше не религиозные и, раз уж связь с иудаизмом утрачена, жена вернется к своей семье и в свой круг. За десертом мы качали головами и делали единственно возможный вывод: женщина, приехавшая к нам, была женой Бенджамина Джейкобса, которую Бог весть зачем занесло сюда неведомым ветром. Чувство недоумения добавило остроты нашей субботней трапезе, внесло толику оживления.
Тем вечером никто не видел Бат-Шеву. Тишину наших улиц нарушало лишь приглушенное пение кузнечиков. Ночь не принесла прохлады, и воздух был плотным от влажности и зноя. Время от времени в окне Бат-Шевы мелькала тень и снова исчезала. Несколько раз мы видели, как рука отдергивает штору, открывая смутные очертания лица. Постепенно в наших домах гасли огни, световые таймеры выключали лампы одну за одной. Но в доме Бат-Шевы было тихо и свет горел всю ночь, словно одинокий маяк, посылающий сигналы из самого сердца нашего квартала.
2
На следующее утро в синагогу мы отправились по-прежнему с мыслями о Бат-Шеве. Синагога горделиво стоит в центре нашего мира, как любимый старший сын. Ее построили первые евреи, поселившиеся в Мемфисе более ста лет назад. Но это не обычная синагога. Если в еврейских общинах чуть не вдвое больше нашей встречаются простенькие сооружения, то у нас это храм, который может посоперничать с шатровыми конструкциями, украшающими каждый угол города «Библейского пояса».
Святилище выполнено в форме амфитеатра, и мехица отгораживает мужскую половину от женской. Кресла пурпурного цвета, а стены отделаны серебряными панелями. Эти цвета не случайны, не дань сиюминутной моде; такие же были в мишкане – шатре, построенном евреями в пустыне из ярких красных, синих и пурпурных полотен. Мы здесь выросли, а потому всегда удивлялись, когда заезжие посетители говорили, что чувствуют себя как на дискотеке: вот-вот с потолка опустится стробоскоп, а из-за бимы появится сам Элвис Пресли. Когда мы посещали другие синагоги и видели темные стены, черные стулья и протертые ковры, мы испытывали прилив гордости и укол ностальгии по дому.
Мы шли не торопясь, отправив мужей и детей вперед, и не считали, что опаздываем, если появлялись не позже речи раввина Рубина; ни одна из нас не приходила к восьми тридцати, официальному началу молитвы. Мы усаживались, пролистывали сидуры до нужной страницы и оглядывали синагогу. Мужская половина выглядела пустоватой. Укутанные в черно-белые талиты, они сидели дальше друг от друга, чем мы. Кто-то, раскачиваясь взад-вперед, пел вместе с кантором. Кто-то прохаживался, или перекидывался словом с другими, или, то и дело похрапывая, дремал в последнем ряду. На женской половине было оживленнее. Повсюду пестрели шляпки всевозможных оттенков: высокие, как небоскребы, круглые, как стадионы, отделанные розовыми атласными бантами, шелковыми цветами, павлиньими перьями, вуалью или фруктовыми натюрмортами.
Со своего места в самом центре женской половины Хелен Шайовиц заметила, что Мими Рубин, жены раввина, нет в синагоге.
– Бедная Мими, – сказала она. – Похоже, она все никак не оправится от этой ужасной простуды.
Мими всегда чем-нибудь да болела – она была хрупкой, слишком легкой добычей для всех бацилл, которые заносило в наш город.
– С такой-то жарой удивляюсь, как мы все еще не слегли, – нервно вставила Ципора Ньюбергер. На неделе она как раз прочла об угрозе перегрева.
– Как только закончится шабат, занесу Мими куриного бульона с кнейдлах, – решила Хелен. Хотя миссис Леви открыто усомнилась, не слишком ли часто Мими нездорова, чтобы каждый раз претендовать на суп, Хелен любила Мими. Это был единственный человек (кроме миссис Леви, само собой), на которого она хотела быть похожа.
– Как ты готовишь кнейдлах? – поинтересовалась Эдит Шапиро. – Я охлаждаю тесто. Оно получается таким нежным, что шарики можно делать ложкой. Вот такие и любил мой муж, светлая ему память.
– А я, – Хелен с готовностью наклонилась поближе, – добавляю щепотку корицы, потом беру немножко мясного фарша и заворачиваю в тесто, чтобы получился сюрприз внутри.
Хелен считала правильным честно делиться рецептами – попросить рецепт было самой искренней формой лести, – но какой-нибудь ингредиент она все же утаивала (в данном случае ваниль), чтобы сохранить за собой класс истинного шефа.
Миссис Леви поверить не могла, что в такой момент они обсуждают кнейдлах. Очевидно, чтобы разговор повернул в нужное русло, придется взяться за дело самой.
– Если уж о тех, кто сегодня не пришел в синагогу, обратите внимание, кого еще здесь нет, – произнесла миссис Леви.
Хелен, Ципора и Эдит замолчали, напрочь позабыв о кнейдлах. А ведь миссис Леви права, подумала Хелен; сама-то она не удосужилась глянуть, появилась ли Бат-Шева. В этом разница между ней и миссис Леви. Ее слишком часто что-то отвлекает от происходящего, а миссис Леви целиком и ежеминутно погружена во все дела, важные для общины. Ципора огляделась – вдруг они пропустили приход Бат-Шевы, а Эдит с растущим уважением посмотрела на миссис Леви, которая так умело и быстро завладела их вниманием, – о такой роли в общине она могла лишь мечтать.
– Ты же не думала, что Бат-Шева придет в синагогу на следующий день после переезда? Ей ведь нужно время, чтобы устроиться, – сказала Хелен, но она, как и все мы, была разочарована. Бат-Шева явно засела нам в подкорку. Даже во сне что-то не отпускало нас, то же скребущее чувство, что бывает в отпуске, когда начинаешь сомневаться, выключила ли плиту, заперла ли заднюю дверь.
– Не берусь сказать, что нам стоит делать из этого далеко идущие выводы, но я видела Бат-Шеву во сне, и она была словно призрак: в таком длинном белом одеянии и то вплывала, то выплывала из дома, – сообщила миссис Леви и покачала головой. Она проснулась в холодном поту и не могла уснуть, пока не растолкала Ирвинга и он не обнял ее крепко-крепко.
– Сейчас еще рано, мы не знаем наверняка, что она не придет, – заметила Эдит. – А пока лучше бы нам перестать о ней думать.
Мы пытались отвлечься от мыслей о Бат-Шеве. Нам следовало заняться совсем другими вещами. Мы так и не нашли нужную страницу в сидурах, нам нужно было успеть пробежать пропущенную часть утренней службы, а уже близилось время чтения Торы. Раввин встал перед ковчегом, обращенным к востоку, и наши сердца и глаза устремились к Иерусалиму. Изначально ковчег был покрыт пологом с изображением разделения вод Красного моря. Но со временем ткань истрепалась и выцвела, и в прошлом году семья Цукерманов подарила синагоге новые раздвижные дверцы в форме Скрижалей Завета – две большие плиты из иерусалимского камня. На церемонии посвящения Наоми Айзенберг заметила, что, когда ковчег открывают, кажется, будто скрижали с Десятью заповедями снова разбиваются. Нам это не показалось смешным; напротив, эти грозные плиты напоминали нам о Том, перед Кем мы стояли.
Читалась недельная глава Торы. Одна из наших любимых, настоящее отдохновение после долгих недель чтения о жертвоприношениях в храме. Мы слушали историю Кораха, который восстал против Моисея в пустыне, и старались представить себе эту картину. Вот собрались люди: одни на стороне Моисея, другие против него. И в громе, молнии и огнях, затмевающих фейерверки в день Четвертого июля, земля обратилась чудовищем, разверзла пасть и поглотила Кораха и его приспешников[4]. Мы уже вживались в сцену, воображая себя на краю пропасти, как вдруг двери синагоги распахнулись. Образ Кораха растаял, и в дверном проеме мы увидели Бат-Шеву и Аялу.
Бат-Шева не дрогнула под нашими взорами. Она распрямила плечи, высоко подняла голову и откинула назад волосы. На ней было свободное летящее платье из тонкой бежевой ткани. Но, несмотря на обилие материи, ему недоставало скромности. В нем не было пристойности наших строгих платьев и летних костюмов, и слишком явным для нас было ее тело под этим платьем, ее длинные ноги и стройная фигура. Аяла стояла позади, прикусив нижнюю губу, готовая вот-вот расплакаться. Если Бат-Шеву как будто не смущало обилие новых лиц, то Аяла выглядела робкой и неуверенной.
Увидев миссис Леви, Бат-Шева помахала рукой. Миссис Леви понимала: этого следовало ожидать, во всем городе Бат-Шева знала только ее. Она кивнула и помахала в ответ. Но свободных мест рядом не было. Миссис Леви всегда сидела в ряду за Хелен Шайовиц, вместе со своей кузиной Бесси Киммель с одной стороны и Эдит Шапиро – с другой, и есть же, в конце концов, традиции, которые нельзя нарушать. Бат-Шева поняла и стала высматривать два свободных места, с которыми не было проблем. Синагога заполнялась только на Рош га-Шана и Йом Кипур, а в обычные субботы, вроде этой, больше походила на кинотеатр, где показывают непопулярное кино. Бат-Шева дошла до начала женской половины и опустилась в первом ряду, где никто из нас никогда не садился.
Мы снова попытались вернуться к чтению Торы. Мы же в синагоге, мы должны сосредоточиться, попрекали мы себя и друг друга. Но ничего не могли поделать. Мы то и дело отрывали глаза и украдкой поглядывали на Бат-Шеву.
Хелен Шайовиц наклонилась к Бекки Фельдман, раскрыв Хумаш[5] не на той странице.
– Я точно слышала, что она из обращенных.
– Про остальное не поручусь, а вот что она не еврейка, я поняла в первую же секунду, – ответила Бекки. Она считала себя большим знатоком в этих вопросах. Ее дочь Шира гуляла с какой-то девчонкой, которую повстречала в торговом центре, и Бекки было довольно одного взгляда, чтобы понять, что та не еврейка.
– Это самая печальная история, что я слышала, – сказала Рена Рейнхард. – Сначала Бенджамин Джейкобс так ужасно погибает, а теперь эта потерянная душа появляется здесь.
– Я знала! Говорю вам, я точно знала. Стоило мне ее увидеть, я тотчас догадалась, кто это, – уверяла миссис Леви.
Чтение Торы завершилось, и мы перестали шептаться. Один из мужчин поднял Тору, раскрыв свиток, и мы все вместе произнесли на иврите: «Вот Тора, которую передал Моисей сынам Израиля по слову Бога, данному Моисею». Затем кантор взял Тору и, обнося ее вокруг зала, вместе с остальными мужчинами запел: «Пойте Господу, святые Его, славьте память Святыни его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его». Мы не пели. Хотя мы знали слова, мы тихонечко мурлыкали. Так уж у нас было заведено.
Но Бат-Шева пела, да так, что всем было слышно. Она знала слова, и, к нашему удивлению, ее иврит звучал очень естественно, даже лучше, чем у иных из нас. Но ее громкое пение ясно говорило о том, что она не из наших. Может, встань она где-то сзади, было бы еще ничего. Но она стояла в первом ряду и раскачивалась в такт словам, глаза закрыты, кулаки крепко сжаты. Она молила Господа прямо сейчас, прямо перед всеми.
– Кое-кто явно любит петь, – отметила Бесси Киммель.
– По-моему, она рисуется, – вставила Эдит Шапиро. В свое время она была известна своим чудесным голосом. Между прочим, много лет назад даже исполнила соло на школьном рождественском празднике, но об этом она предпочитала не распространяться.
– Может, так у них принято в церкви. Не то чтобы я там когда-нибудь бывала, но смею предположить, они там много поют, – сказала Бесси.
– Но почему надо петь так громко? – недоумевала Хелен Шайовиц. – Я, конечно, не раввин, но не думаю, что это правильно.
– Я бы сказала, она пробуется на кантора, – хихикнула миссис Леви.
Все это время Леанна Цукерман сидела молча, не принимая участия в разговорах. Леанна была родом из Чикаго, но жила в Мемфисе уже одиннадцать лет, с тех пор как вышла за Брюса Цукермана, коренного мемфийца. Вообще ей нравилось здесь жить, но сегодня уж очень надоело слушать, как люди судачили о Бат-Шеве; ей хотелось, чтобы они оставили бедную женщину в покое. Но произнести это вслух она не осмеливалась. Слишком велика была цена, которую пришлось бы заплатить за такие слова. Вести о ее дерзости в считанные минуты дойдут до свекрови, которая всем и каждому здесь доводилась близкой подругой или родственницей. Но Леанне нравилось слушать Бат-Шеву. У нее красивый голос, и так отрадно видеть хоть кого-то, кто молится от всего сердца, а не повторяет бессмысленно заученные слова. Леанне даже захотелось запеть.
Кантор продолжал обход с Торой, за ним следовали раввин, председатель общины и четыре его заместителя. Мы подошли к перегородке и коснулись бархатного футляра нашими сидурами, а потом поднесли их к губам. Мы почти спустились по ступеням, когда увидели, как Бат-Шева взяла Аялу и через перегородку поднесла ее к свитку, чтобы та поцеловала Тору. Потом Бат-Шева и сама наклонилась и сделала то же самое.
– И что вы на это скажете? – поинтересовалась миссис Леви. – Прямо так вот, губами! Уверена, что это не разрешено.
– Меня не спрашивайте, – ответила Дорин Шейнберг. – Я в этом совсем не разбираюсь.
– Я тоже, – сказала Хелен Шайовиц. Она не училась в ешиве, как многие девушки в наше время; она просто делала так, как делала ее мать, а ее мать уж точно никогда не целовала Тору.
Мы повернулись к Ципоре Ньюбергер. Она общепризнанно была самой религиозной среди нас; если уж кто и знает, так это она.
– Разумеется, это не разрешено, – изрекла Ципора. – Это нескромно – привлекать к себе столько внимания.
Мы согласно закивали. Вот оно, ключевое слово – скромность! В минуту сомнений всегда можно сослаться на скромность. Надо запомнить на будущее.
Тору убрали, и настал момент обращения раввина. Мы посмотрели на часы и прикинули, как идет служба: быстрее или медленнее обычного? Но речь раввина могла перевернуть все расчеты; никогда нельзя предугадать, сколько она продлится. Однажды он говорил целых сорок пять минут. Хелен Шайовиц это отлично помнила, потому что в ту субботу у ее сына была бар мицва, и гости из других городов выказывали недовольство.
Раввин поднялся и занял место за пюпитром.
– Что не так содеял Корах? – начал он. – В чем его грех, навлекший такую страшную кару?
Он остановился и подождал, не захочет ли кто ответить, как у нас иногда бывало. Но не сегодня. Наши головы были слишком заняты Бат-Шевой.
– Давайте откроем наши Хумашим и взглянем на то, что же произошло, – произнес раввин.
Мы зашелестели страницами в поисках нужной, снова пытаясь сосредоточиться на службе.
– Вы же не думаете, – спросила Эдит Шапиро, – что она собирается насовсем здесь поселиться?
– О господи, Эдит, ну конечно, собирается, – прошептала Арлина Зальцман, прикрыв рот Хумашем, чтобы раввин не подумал, будто она разговаривает во время его речи. – Она бы не перевезла сюда все свое имущество, если бы не планировала остаться надолго.
– Но она же никого не знает. У нее здесь нет родственников, – сказала Эдит.
Раввин читал: «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня?»
– Одинокие женщины с маленькими девочками не снимаются с места и не едут через всю страну безо всяких на то причин. Может, она перебралась сюда из-за кого-то конкретного, – предположила Бекки Фельдман. – Если вы понимаете, о чем я.
Мы гадали: возможно ли такое? Тайные отношения за нашей спиной? Мы глянули на мужскую половину, на Ирвинга Леви, Алвина Шайовица, Брюса Цукермана, Даниэля Фельдмана. Трудно представить, но вдруг и правда кто-то из них знал о Бат-Шеве куда больше, чем признавался.
– Как ты можешь такое говорить? – возмутилась Ципора. – Мы все религиозны. Никто бы не мог совершить такое.
– И похуже бывает, дорогая, – заявила миссис Леви. – Не в Мемфисе, само собой, но в других местах точно. Могу только сказать, что у меня нехорошие предчувствия из-за этой женщины.
– И поэтому теперь мы должны ее сторониться? У тебя что, обнаружились экстрасенсорные способности? – бросила Леанна Цукерман со своего места позади миссис Леви. Она не думала сказать это вслух, но, сказав, испытала удивительное облегчение – и оно даже стоило испепеляющего взгляда, которым наградила ее свекровь.
Миссис Леви резко обернулась.
– У меня, между прочим, нюх на такие вещи. Называй как хочешь, но поживешь здесь с мое, смекнешь, откуда не ждать добра. – Она поправила шляпку, убедилась, что та по-прежнему надета самым выгодным образом, и повернулась обратно.
Лучше не отвечать, благоразумно сочла Леанна; одной решительной реплики на сегодня вполне достаточно.
Воцарилась тишина, и наше внимание снова обратилось к раввину. Мы пропустили какие-то важные моменты его речи, и он перескочил на другую, как будто даже постороннюю тему.
– Вот почему мы должны поддерживать нашу школу, наши организации и наших лидеров. Если община забывает об этом, она утрачивает страх перед Господом, – произнес раввин.
– Интересно, – сказала Рена Рейнхард, – что думают Джейкобсы про этот ее переезд? Ведь девочка – их единственная внучка.
– Интересно, разговаривают ли они вообще. Как я слышала, Джейкобсы не были от нее в большом восторге, когда Бенджамин женился, – добавила Наоми Айзенберг.
– Позвоню им, пожалуй, после шабата, расспрошу, как дела. А то мы сто лет не общались, – решила Джослин Шанцер.
– Я бы не смогла. Слишком неловко, – сказала Рена. – Тебе же придется упомянуть Бат-Шеву. А если нет, станет очевидно, что ты избегаешь этой темы. Но если заговоришь о ней, подумают, что ты только затем и звонишь.
Раввин закрыл свой Хумаш, что означало завершение речи.
– Да будет на все воля Всевышнего, и все вместе мы произнесем «аминь», – сказал раввин.
Мы не вполне понимали, о чем он говорил, но не сомневались, что дело благое. И мы слились в общем «аминь».
Служба подходила к концу, и мы то и дело поглядывали на часы: уже 11:45. Значит, финишная прямая. Оставалось дождаться молитвы мусаф, но она, слава богу, была короткой. Двадцать минут спустя Джереми Шанцер, председатель, сделал объявления. Женский кружок заочной школы будет собираться в первую среду месяца в доме Дорин Шейнберг. Тема месяца – «Молитва: надежный путь». По завершении урока будут поданы десерты. Благотворительный сбор одежды продолжается. Билеты на молодежную лотерею уже в продаже – купите и поддержите наших детей.
Выходя с молитвы, мы желали друг другу хорошей субботы, делали комплименты прелестным шляпкам, новым украшениям. Мы переместились в общий зал, который использовали и для бар мицв, свадеб и мероприятий женского общества. Когда здесь что-то устраивают, выглядит он не хуже отеля «Пибоди». Когда дочь Бесси Киммель выходила замуж, флорист превратил зал в цветущий сад – все стены были в розовых бутонах и ветвях гипсофилы.
Бат-Шева вышла одной из первых, и, когда мы заходили в зал, они с Аялой уже были там. Кто другой на ее месте ушел бы, если нет знакомых и не с кем поговорить, но только не Бат-Шева. Она улыбалась каждой из нас и желала хорошей субботы. Мы улыбались, отвечали и вроде собирались как следует представиться, но всякий раз отвлекались на какой-то разговор. Чтобы загладить свой выпад, Леанна Цукерман сообщила всем, что ребенок наконец-то проспал всю ночь до утра. Хелен Шайовиц поговорила со своей дочерью Тамарой, которая сейчас в Нью-Йорке. Она встречалась с молодым человеком, и, похоже, у них все серьезно, так что всем надо держать кулачки и молиться о помолвке.
Мы накладывали себе селедку, фаршированную рыбу, крекеры и шоколадный торт. С полными тарелками в руках мы слушали, как раввин произносит кидуш: «Помни день субботний, чтобы освятить его. Шесть дней трудись и делай свою работу, но седьмой день – суббота Господу, твоему Богу». Рядом с раввином стоял Йосеф, его единственный сын. Неделю назад Йосеф вернулся на летние каникулы из нью-йоркской ешивы, где учился на раввина. Это уже давно не обсуждали, но долгие годы у Мими и раввина не получалось с ребенком, один за другим случались выкидыши, и они почти совсем отчаялись. Мы привыкли к тому, что Мими молилась, закрывая сидуром лицо, чтобы мы не видели слез, текущих у нее по щекам. Но теперь Йосефу сравнялось двадцать два, и он был такой необыкновенный, что как будто даже искупал всех тех неродившихся детей.
Раввин улыбался Йосефу с выражением изумления, которое мы наблюдали у наших мужей, когда рождались наши дети, – с выражением, говорившим: неужели существование этого нового создания возможно? Но у раввина оно не исчезало все эти годы. И когда мы смотрели на Йосефа, то понимали почему. Он был не только невероятно умен, но еще и хорош собой. Ростом за метр восемьдесят, он за последнее время сильно окреп; плечи стали шире, чем нам помнилось. Темные волосы, как у раввина, только у того они начинали седеть и редеть. Суровый царственный подбородок, нос и скулы, а вот улыбка мягкая, точно как у Мими.
Мы были счастливы видеть его дома. Мы помнили день его появления на свет, его первый класс, как он упал с качелей и сломал запястье, как болел ветрянкой. Помнили все его дни рождения, словно были суррогатными родителями, заглядывающими ему через плечо. Мы никогда не забудем день его бар мицвы. Йосеф вел службу, читал отрывок из Торы и говорил с кафедры. В нем были невиданные для тринадцатилетнего мальчика спокойствие и уверенность, будто он всю жизнь вот так стоял на возвышении в синагоге. Потом был самый пышный кидуш на нашей памяти. Мими пекла недели напролет, наготовив горы пирогов и тортов, чтобы как следует отметить переход Йосефа во взрослую жизнь.
За едой мы подходили к раввину пожелать ему хорошей субботы и поблагодарить за глубокую и познавательную речь. Но куда больше нас прельщала возможность поговорить с Йосефом. Мы окружили его, тесня друг друга, чтобы подобраться поближе. Он рассказывал нам, как ему нравится в ешиве, что он отлично ладит с соседями по комнате, что замечательно вернуться наконец домой. Он смотрел нам в глаза, и в его голосе звучала неподдельная теплота. Он не забыл справиться у Ципоры Ньюбергер о ее аллергии, он был так чуток, что помнил, что матери Рэйчел Энн Беркович нездоровилось. Он взял с собой эти частицы наших жизней, и благодаря этому мы чувствовали, что он всегда с нами, а мы – с ним.
Эдит Шапиро была Йосефу ближе нас всех. Это пошло еще с тех лет, когда был жив ее муж, Кива. Они с Йосефом сидели рядом в синагоге. Его собственные сыновья уже выросли и уехали, и Кива с гордостью следил за Йосефом.
– Этот мальчик, – говаривал он, обнимая Йосефа, – этот мальчик станет кем-то особенным.
Кива не дожил года до дня окончания Йосефом школы – рак печени, врачи были бессильны, – и Йосеф стал навещать Эдит по субботам. Только этого она и ждала из недели в неделю, только это прерывало беспросветную череду одиноких дней. Даже после отъезда в ешиву Йосеф продолжал приезжать к ней всякий раз, как оказывался в городе. Он заходил после обеда, и его всегда ждало блюдо с печеньями. Они разговаривали, большей частью о Киве, и перед уходом Йосеф произносил несколько слов из Торы в память о Киве.
– Как хорошо, когда ты дома, – сказала ему Эдит в то утро, окунувшись во все эти воспоминания. – Мы по тебе скучаем.
Она вгляделась в него попристальнее. На мгновение ей показалось, что у него уставший вид. Наверное, это просто после дороги, решила она. Нет причин для беспокойства.
– Я тоже по вам скучал, – ответил Йосеф.
– Тебе нравится в Нью-Йорке? Он ведь не похож на Мемфис. Там же бывает очень холодно.
– Мне нравится, но я очень рад вернуться домой. Нет ничего лучше Мемфиса.
– Ты очень умный мальчик. Мы с Кивой всегда это знали. – Эдит почувствовала облегчение, что даже после столь долгого отсутствия Йосеф по-прежнему понимал, что Мемфис – особенное место. Его не соблазнили блеск и суета большого города. В глубине души он был и остается мемфисским мальчиком.
Раввин похлопал Йосефа по плечу, призывая его поучаствовать в разговоре с Майером Грином.
– Вот, послушай-ка, Йосеф, у Майера есть к тебе вопрос, – сказал раввин, довольный возможностью похвастать сыном.
Майер был всегда готов озадачить Йосефа каким-нибудь заранее заготовленным вопросом. Он часами их придумывал, но Йосеф всякий раз без труда отвечал. Майер описал ситуацию: кусок мяса падает в кувшин молока, нарушая законы кошера. Можно ли все-таки пить это молоко?
Легкий вопрос, но Йосеф глубокомысленно покивал головой, чтобы не расстраивать старика и не умалять серьезности вопроса. Йосеф был не только умным, но еще и добрым и скромным. Даже придумай Майер вопрос посложнее, Йосеф, конечно же, на него бы ответил. Лицо раввина светилось гордостью, когда сын объяснял, что все зависит от соотношения молока и мяса. Вот для этого он и растил своего сына, и это лишь малая толика великих побед, которые ждали впереди. Мы тоже усматривали в этом прообраз блестящего будущего. Еще с раннего детства Йосефа мы лелеяли надежду, что в один прекрасный день он сменит своего отца, и звание раввина перейдет по наследству, как царский престол от Давида к Соломону.
Посреди разговора миссис Леви подошла к Йосефу и раввину.
– Шабат шалом вам, – обратилась она ко всей компании. – Прошу прощения за вторжение, но хотелось наконец поприветствовать Йосефа на родной земле. Не каждый день нам удается его заполучить, так что вам придется делить его и с нами тоже.
Миссис Леви умела так поставить себя, что возразить ей было крайне трудно, посему раввин сделал то же, что и все мы: посторонился и дал ей продолжить.
– Какие у тебя планы на лето? – поинтересовалась она.
– Будем изучать Тору с отцом, – ответил Йосеф и посмотрел на раввина. Тот поймал его взгляд и улыбнулся. Он так долго ждал этого. Всякий раз, как мы спрашивали, как дела у Йосефа, он рассказывал, что сын приедет домой на все лето и они будут вместе изучать Тору.
– А потом вернешься в ешиву?
– После каникул, в октябре.
Он приезжал домой на дольше, чем другие дети. Йосеф всерьез принимал обязательства, которые налагало на него то, что он был единственным ребенком, и он с радостью исполнял заповедь о почитании своих отца и матери.
– А, вот это хорошо, это надолго. Могу поспорить, что еще немного, и мы будем обращаться к тебе «рабби».
Йосеф потупил глаза, его смущал такой натиск миссис Леви.
– Еще год впереди, – заметил он.
– Жду не дождусь. Наш собственный рабби Йосеф. А придет день – и наш собственный рабби Йосеф прямо здесь, в Мемфисе.
Не успел Йосеф рта раскрыть, как миссис Леви пожелала всем хорошей субботы и направилась к Ирвингу, который, несомненно, слишком налегал на сладости, а ведь должен следить за весом.
Бат-Шева оставалась у стола, подле Аялы. Гора пирожков, крекеров, фаршированной рыбы едва умещалась на тарелке девочки, и все вокруг было усыпано крошками. Бат-Шева разговаривала с дочерью как со взрослой, показывала мемориальные таблички на стенах, фотографии с последних мероприятий в синагоге, пришпиленные на доску объявлений. Хотя по залу носилось много детей, Аяла даже не пыталась к ним присоединиться. Просто кивала и слушала, что рассказывает мать.
Наоми Айзенберг тоже стояла одна, недалеко от Бат-Шевы. Ее муж в то утро не пришел на службу – считал, что слишком тяжело высиживать столько часов, – и она уже перекинулась парой слов с теми, с кем была настроена поболтать. Хотя Наоми посещала вместе с нами Академию Торы, училась в колледже Стерна в Нью-Йорке, а после замужества вернулась домой, где-то по пути она успела глотнуть другой жизни. Часть дня она работала социальным работником и оставляла детей с няней. И вечно была не согласна с нами в делах и школы, и Женской группы помощи: чуть не каждый год происходил какой-нибудь инцидент.
Наоми не могла больше вынести, что Бат-Шева по-прежнему стоит одна. Она не сомневалась, что дамы так или иначе собирались подойти, но, вероятно, все ждали, когда кто-то другой сделает первый шаг. Вознамерившись проявить должное гостеприимство, она поставила на стол тарелку и направилась к Бат-Шеве.
– Я наблюдала за вами. Все еще обязательно с вами познакомятся, но это займет время. Такая уж у нас община. Вот Мими, жены раввина, сегодня нет, а она была бы первой, уж поверьте.
Бат-Шева улыбнулась, и в этот момент в голове у Наоми вихрем пронеслись сотни мыслей. Она так давно не заговаривала с новым человеком и теперь ощущала прилив радостного оживления.
– Я слышала, вы поселились в доме Либманов. Очень милые люди, разве что немного нервные. Как-то раз я пролила газировку на ковер, так Эсти едва не расплакалась. Ну, в общем, они переехали, потому что он получил повышение, большие деньги, как мне сказали. Вы наверняка о них слышали. Здесь новости разлетаются в секунды. Готова поспорить, тут уже каждый в курсе всей вашей жизни, а вы и суток здесь не пробыли.
– По правде говоря, – ответила Бат-Шева, – приятно оказаться в месте, где все знают друг друга. Отчасти поэтому я сюда и перебралась. Вы же слышали, что говорят про Нью-Йорк: там помрешь, и никто из соседей даже не спохватится, пока не почует запах разложения.
Она засмеялась собственной шутке, и Наоми тоже – она уже знала, что ей понравится эта женщина.
– Здесь такое невозможно, вот в чем в чем, а в этом можете не сомневаться. Все будут в курсе по меньшей мере за час до, – уверила она.
Наоми обратила внимание, что народ посматривал в ее сторону, отмечая, что она разговаривает с Бат-Шевой. Можно ручаться, они говорили: как мило, два аутсайдера нашли друг друга. Уж очень не хотелось признавать их правоту, но Наоми чувствовала, что у них с Бат-Шевой и правда много общего. Она лишь немного старше, и будет здорово завести новую подругу.
– Вы переехали сюда из-за Бенджамина? Чтобы вроде как отпустило, если пожить именно здесь? – спросила Наоми.
Бат-Шева явно удивилась, что так быстро вычислили ее связь с Бенджамином.
– Просто появилось чувство, что надо куда-то двигаться. Когда я потеряла Бенджамина, казалось, что больше не на что опереться, было необходимо где-то укорениться.
– Понимаю, о чем вы. Порой мне самой интересно, была бы я к чему-то привязана, не живи я в Мемфисе, – призналась Наоми.
Наоми всегда думала о том, чтобы переехать. Как же ей не хватало новых лиц и другой картинки вокруг! Ее жизнь будто все время проигрывалась на повторе, разве что теперь она уже была родителем, а не ребенком. Она жила в пяти кварталах от дома, в котором выросла, дружила с теми же людьми, с которыми ходила в начальную школу, ее дети посещали ту же Академию Торы с теми же учителями и теми же проблемами. И при всем том она не знала, под силу ли ей уехать. Она слишком долго здесь прожила и пустила слишком крепкие корни.
Увидев, как серьезно Бат-Шева настроилась обосноваться именно здесь, Наоми рванулась было предупредить, что все может оказаться совсем не так идеально, как ей думается. Мемфис хорош, только если ты такой же, как все. А если нет – бывает тяжко. Но до чего же не хотелось собственноручно подрезать ей крылья – это произойдет само собой, и довольно скоро. И еще Наоми задумалась: может, это из-за своего аутсайдерства она стала такой циничной, что уже и не способна разглядеть достоинства здешней общины? – Дайте знать, если понадобится помощь, – сказала Наоми, пожелала Бат-Шеве хорошей субботы и отправилась домой к мужу.
Бесси Киммель и ее сестра Эстель Маркс видели, как уходила Наоми, а поскольку подойти к новичку не первыми гораздо проще, они двинулись к Бат-Шеве.
– Вы, судя по всему, новенькая, – констатировала Бесси, и ее сестра закивала в знак согласия. – Я всегда подхожу к тем, кого не узнаю́. Собственно, так я и встретила своего мужа, уже пятьдесят шесть лет тому назад. После кидуша я подняла глаза и увидела симпатичного молодого человека. Подошла и сказала: «Я думала, что знаю в Мемфисе всех и каждого». Оказалось, он только что переехал. Год спустя мы уже были женаты, – сообщила она, улыбаясь тому, как славно все сложилось. – Итак, расскажите-ка, вы с севера?
– До того как приехать сюда, я несколько лет жила в Нью-Йорке, но я толком ниоткуда. Помесь кучи разных мест, – ответила Бат-Шева.
Что это за ответ? Ты либо откуда-то, либо нет. Нет, она наверняка с севера, решила Бесси. Даже если не хочет признаться. Она сразу это поняла по речи Бат-Шевы. Ей довольно услышать пару слов.
– А мы, разумеется, из Мемфиса, – сказала Бесси. – Четвертое поколение. Наша семья переехала сюда сразу после Гражданской войны. Они были из первых евреев тут, может даже и первые. И вот с тех пор мы здесь.
– Я никогда нигде не задерживалась больше пары лет, – призналась Бат-Шева.
– Но Мемфис особенный. У нас замечательная община. Все друг друга знают. И так было на протяжении многих лет. Мы не знаем другого дома.
– Надеемся, так будет и с нами.
Бесси посмотрела на Аялу, которая взяла со стола стопку пластиковых стаканчиков и принялась строить из них пирамидку. Бат-Шева даже не попыталась осадить ее, лишь ободряюще улыбнулась. Бесси знала: такая мягкотелость до добра не доведет. Но при правильном присмотре из Аялы может получиться приличная молодая девушка. Нельзя сказать, что Бат-Шева производила впечатление плохой матери, по крайней мере, насколько могла судить Бесси. Но она таки казалась немного безалаберной: на белом носке Аялы зияла дырка, на субботнем платье красовалось пятно, а волосы не были аккуратно собраны лентой или заколкой. Община могла дать им столь необходимую опору и показать хороший пример того, какими следует быть.
– Было приятно познакомиться, но нам пора, – сказала Бесси, и на этом обе сестры проследовали к столу со шнапсом.
Когда толпа поредела, а еда и разговоры сошли на нет, Йосеф двинулся в сторону Бат-Шевы. Мы видели, что он ее давно заметил, но заговорить покуда не пытался. И это правильно. Совсем не подобало, чтобы именно он приветствовал ее в Мемфисе. Йосеф оглядел столы в поисках селедки или пирога. За чередой бесконечных приветствий он так и не успел поесть. Подцепив зубочисткой кусок фаршированной рыбы и отправив его в рот, он сделал шаг назад и натолкнулся на Бат-Шеву, как раз оказавшуюся под боком.
– Привет, – сказала она.
Йосеф потупился и переступил с ноги на ногу. Он не привык разговаривать с девушками. И хотя Бат-Шева была старше его больше чем на десять лет, она не относилась к числу общинных дам, а только с ними он и не испытывал неловкости. Общение с ровесницами предполагалось отложить до женитьбы. Не то чтобы мы уже не задумывались о подходящей паре для Йосефа; чем быстрее бы он женился, тем скорее бы вернулся в Мемфис. У нас уже имелись кое-какие наметки: кузина кузины из Сент-Луиса, красивая девушка из хорошей (не говоря уже о достатке) семьи, ему бы очень подошла. А поскольку Сент-Луис рядом с Мемфисом, вряд ли она бы стала возражать против жизни здесь. Бекки Фельдман считала, что ее семнадцатилетняя Шира отлично поладит с Йосефом. Конечно, Шира была немного юна, но все всегда отмечали, что она очень продвинутая для своего возраста.
– Вы, наверное, сын раввина. К вам внимания не меньше, чем ко мне, – сказала Бат-Шева. – Не пойму, это на вас или на меня все смотрят?
– Не волнуйтесь, скорее всего, на меня. Это мои первые выходные дома, – ответил Йосеф. – Вы только что переехали?
– Да, я живу прямо в конце улицы. Судя по тому, что мне рассказали, вы наверняка рано или поздно узнаете, что я была замужем за Бенджамином Джейкобсом.
– Я это знаю.
– Вы были с ним знакомы? Он, должно быть, учился на пару классов старше.
– Он был сильно старше. Он даже был моим вожатым как-то летом.
– Забавно, я помню, он рассказывал про лагерь, – засмеялась Бат-Шева. – Боже, как давно это было. Лет двенадцать, тринадцать?
– Пожалуй. Мне было тогда десять, – сказал Йосеф. – И я присутствовал на похоронах. Я был тогда в школе, в Нью-Йорке, и, когда услышал, что случилось, захотел прийти.
– Это так мило, – воскликнула Бат-Шева. – Может, поэтому у меня ощущение, что я вас знаю.
Мы ожидали, что Йосеф смешается, покраснеет, собьется и не будет знать, что ответить. Мы по-прежнему считали, что он чуть застенчив, что ему легко с нами, потому что он знает нас всю свою жизнь. Но, наблюдая за его беседой с Бат-Шевой, мы увидели другого Йосефа. Он стал уверенным и спокойным. Он отлично знал, что сказать.
– Хотя мы давно не пересекались с Бенджамином, я чувствовал связь с ним. Он всегда был добр ко мне. На субботней службе подходил и пожимал руку, как взрослому. А в школе всякий раз, как пробегал мимо класса, махал и корчил смешную рожу. У меня всегда было ощущение, будто он приглядывает за мной.
Бат-Шева печально улыбнулась.
– Я люблю слушать про его жизнь до нашего знакомства. Мы были вместе всего пять лет, и я так многого не знаю.
– Это должно быть очень тяжело, – сказал Йосеф.
– Так и есть. Но я подумала, что если переберусь сюда, то буду ближе к нему и смогу воспитать Аялу так же, как воспитали его.
Бат-Шева хотела сказать что-то еще, но случайно взглянула на раввина. И хотя он слушал Алвина Шайовица, толковавшего про планы Совета починить крышу синагоги, – тот был председателем строительного комитета, и крыша являлась задачей номер один, – раввин неотрывно смотрел на сына.
– Мне кажется, ваш отец потерял вас.
Йосеф поймал отцовский взгляд, и на его лице мелькнуло виноватое выражение. Мы помнили его с детства: каждый раз, когда Йосеф плохо себя вел, раввин как будто не верил, что его ребенок способен сделать что-то не так. Он прищуривал глаза и тихонько качал головой, и Йосеф немедленно исправлялся.
– Мне надо идти, – сказал Йосеф. – Было приятно познакомиться.
– Пока, – ответила Бат-Шева. – Мы наверняка еще увидимся.
Он отошел не оборачиваясь. Она взяла Аялу за руку и смотрела, как Йосеф приблизился к отцу и тронул его за локоть. Раввин улыбнулся и приобнял его за плечо. Они отправились домой, идя в ногу и одинаково, в такт, размахивая руками.
3
Следующие недели мы наблюдали за Бат-Шевой. Это было несложно: каждое утро она выходила на крыльцо, спускалась по дорожке и отправлялась на прогулку. Бат-Шева не меньше часа ходила по влажной, почти сорокаградусной жаре, но почему-то никогда не выглядела уставшей. Двигалась она так, будто где-то рядом звучала легкая музыка, и походка от этого тоже делалась легкой. Волосы ее развевались, руки летали, и она исчезала из поля нашего зрения за холмом или поворотом.
Поначалу Аяла семенила подле Бат-Шевы, стараясь поспеть за маминым широким шагом. Она ходила, потому что ей больше некуда было деться. Школа еще закрыта, в дневном лагере Еврейского общинного центра заканчивалась вторая смена, а найти няню на один час Бат-Шева, конечно, не смогла бы. Но нас поражало, что ей вообще удавалось брать с собой Аялу. Мы бы даже близко не смогли уговорить наших детей погулять в такую жару. Может, оттого, что их было только двое, казалось, они не расстаются ни на секунду. Аяла льнула к Бат-Шеве, боясь хоть ненадолго остаться без нее. И, насколько мы знали, она едва ли разговаривала с кем-то, кроме матери. Нетрудно представить почему. Потеря отца, переезд в новый город – это было бы слишком для любого ребенка. А у нее вдобавок имелась такая необычная мать – само собой, ей непросто.
Гуляла Бат-Шева не развлечения или зарядки ради. Нет, у нее была цель. Не обращая внимания на проезжавшие мимо машины, она изучала ряды домов с крышами коньком. Она поворачивала направо, срезая путь через бесхозное поле, на тупиковую улочку. Оттуда шла либо к фермам Шелби, либо к парку на городской окраине, или же по направлению к торговому району. Для нас Мемфис сводился главным образом к нашим улицам и магазинам да конторам на Поплар-авеню, что прорезает центр города. Но с самого начала Бат-Шева не ходила по тем местам, где бывали мы. Она не выжидала, не старалась понять, как здесь что заведено. Она словно всю свою жизнь жила в Мемфисе.
Куда бы она ни сворачивала, в конце концов всегда выходила к дому, где жил Бенджамин. Он стоял вдалеке от нас, рядом не было синагоги, не было даже десяти мужчин для миньяна. До отъезда Джейкобсов мы привыкли наблюдать, как они устало бредут две с лишним мили до синагоги, хоть в зной, хоть в ливень.
Сначала Бат-Шева останавливалась перед домом и с тоской глядела на него. Пару раз мы видели, как она утирает слезы и обнимает Аялу. Мы гадали, чувствовала ли она там себя ближе к Бенджамину, грезила ли о том, чтобы оказаться в прошлом и увидеть, как маленький Бенджамин выскакивает из кирпичного дома и носится по двору. Из-за Бат-Шевы мы и сами стали думать о Бенджамине, вспоминать, когда кто видел его в последний раз. В детстве в нем не было ни капли строптивости, в избытке присущей нашим мальчикам. Он был тихим и вежливым, всегда скажет нам «пожалуйста» и «спасибо, мэм». Он легко мог расплакаться, всё принимал близко к сердцу. Аяла напоминала нам его: в обоих какая-то общая мягкость и одинаково невинные лица.
В последний день июля Бат-Шева зашла в дом. Перед отъездом Джейкобсы продали его Аккерманам, которые, строго говоря, не были членами ортодоксальной общины. Они не соблюдали кашрут, их дети не учились в Академии Торы, а если они и бывали в синагоге (по особым случаям, вроде Рош га-Шана или бар мицвы), то приезжали на машине. Но Мэрилин Аккерман пока не утратила связи с нами. Она приходилась четвероюродной сестрой Джослин Шанцер, училась в Центральной средней школе вместе с миссис Леви и Хелен Шайовиц, и даже сейчас они вместе играли в маджонг по понедельникам.
Когда Бат-Шева постучалась и представилась, Мэрилин поняла, кто перед ней: хотя к маджонгу относились со всей серьезностью, для сплетен времени тоже хватало, и в прошлый понедельник свою лепту внесла миссис Леви, рассказав о новой соседке. Бат-Шева объяснила, что ее муж вырос в этом доме и умер два года назад, и спросила, не могли бы они с Аялой зайти.
– Я бы хотела, чтобы Аяла увидела дом и Бенджамин стал бы для нее более реальным, – сказала Бат-Шева. – Ей было всего три, когда он погиб. Не могу смириться с мыслью, что она вырастет, совсем его не помня.
Мэрилин, разумеется, удивилась. Не каждый же день обращаются с подобными просьбами. Но она была не против, чтобы Бат-Шева заглянула внутрь. Они прошли в гостиную, и Бат-Шева, остановившись на пороге, долго изучала комнату.
– Видишь, Аяла, здесь жил папа, когда ему было столько же, сколько тебе. Можешь представить его таким маленьким? А вот двор, здесь он играл, – показала Бат-Шева, и Аяла осторожно осмотрелась.
Держа Аялу за руку, Бат-Шева шла по коридору, заглядывая в каждую дверь.
– Вы не знаете, где была комната Бенджамина? – спросила она.
– Трудно сказать, – ответила Мэрилин. – Это было так давно.
– Конечно, – согласилась Бат-Шева. Она прислонилась лбом к дверному косяку одной из комнат. – Что-то подсказывает мне, это она.
Бат-Шева присела лицом к окну на краешек кровати и целиком ушла в свои мысли. Она замерла, словно Бенджамин парил в небе там, за окном, с руками и ногами из облаков. Она объясняла Аяле, что теперь Бенджамин – частица природы, он в каждом цветке и дереве вокруг. Аяла кивала и гладила Бат-Шеву по руке, будто это она была матерью, утешающей ребенка, и от этой картины у Мэрилин разрывалось сердце.
Бат-Шева отвернулась от окна, видение исчезло.
– Можно попросить у вас стакан воды?
– Конечно. Пойдемте, присядьте, – Мэрилин приглашающе махнула в сторону дивана в гостиной.
Она принесла воды Бат-Шеве и сока Аяле и опустилась на диван рядом с ними. Никто не произносил ни слова, и Мэрилин, заметив на подлокотнике пятнышко, в смущении принялась оттирать его пальцем.
– Здесь хорошо, – произнесла наконец Бат-Шева. – Даже кажется, будто я здесь уже бывала.
– Я только рада компании, – сказала Мэрилин. Ее муж трудился юристом в одной из самых никчемных фирм Мемфиса, и это означало, что она почти не видела его: работать до десяти вечера было для него обычным делом. Она напридумывала себе разных хобби, чтобы занять время, – особенно хорошо пошли вязание кружев и садоводство – и все равно частенько сходила с ума от долгих часов в одиночестве.
– Я столько раз думала об этом доме, – призналась Бат-Шева. – Мы никогда сюда не приезжали, пока он был жив, а я ведь хотела. Надеялась, мы объедем юг на машине и закончим путешествие в Мемфисе.
Мэрилин сочувственно коснулась ее руки.
– Но Бенджамин не захотел?
– Он часто говорил, что здесь все всех знают и каждый друг другу с трех разных сторон кем-нибудь приходится. «Я только чихну, а все уже в курсе», – его слова. Для него это все было чересчур. Он задыхался, пока жил здесь. Ему нравился Нью-Йорк, где каждый сам по себе. Но когда я слушала его рассказы про Мемфис, мне хотелось стать частью этой жизни.
Мэрилин смутно припоминала Бенджамина, худого, русоволосого. Когда два года назад он погиб, новость разлетелась мгновенно, и Мэрилин почувствовала, что ее это особенно касается, ведь она жила в доме, на котором теперь лежал отпечаток трагедии.
– Я помню, когда это случилось, – сказала она. – Ужасное несчастье. Мы не могли поверить.
Бат-Шева тряхнула головой.
– Вот так – раз, и я осталась без него. Пыталась любыми способами не потерять связь с ним. Звонила его старым друзьям и говорила с ними о Бенджамине. Пересматривала его детские фотографии. Сохранила в квартире все его вещи. Я не могла принять реальность его смерти. Было так тяжело продолжать делать то, что прежде мы всегда делали вместе. Мы любили готовиться к шабату, приглашали кучу народу, надеялись, что нам удастся создать дом, где люди всегда будут чувствовать, что им рады. Но когда он умер, я даже думать об этом не могла. Мы с Аялой оставались вдвоем, и, когда я зажигала субботние свечи, всегда зажигала еще одну для него, чтобы помнить, какие особенные шабаты были у нас прежде.
– Как свечу в йорцайт[6], – вставила Мэрилин, гордясь тем, что может блеснуть знанием еврейских слов.
– Да, с той лишь разницей, что я делала это каждую неделю, а не только в годовщину смерти. Хотела придумать собственные ритуалы поминовения, и этот казался самым осмысленным.
За все это время Аяла не издала ни звука. Она тихонько пила свой сок и слушала их разговор. Но когда Бат-Шева стала дальше рассказывать о Бенджамине, она сползла с материнских коленок и направилась к эркерным окнам – из них были видны задний двор, новехонький гриль, деревянный настил и в цвет ему мебель для веранды. Девочка взялась за узорчатую кремовую штору и завернулась в нее. Бат-Шева улыбнулась, ничуть не беспокоясь о том, что Аяла могла обрушить карниз или что Мэрилин это могло не понравиться.
Однако Мэрилин не обратила внимания на штору – в голове у нее роилось множество мыслей. Одна неотступно возвращалась: как Бат-Шева умудрялась сохранить веру в Бога после того, что произошло? Она припоминала что-то из давних уроков в еврейской школе: историю о том, как Бог проверял Авраама, устраивая ему всё новые испытания, чтобы убедиться в его праведности. Вот из-за этого-то, помимо прочего, она и не была религиозна: невозможно верить в Бога, который допускает столько страданий. Были и другие причины, по которым она не готова была стать ортодоксальной: тяжесть столь строгого уклада, чрезмерное внимание к мелочам, отжившая свое подоплека многих запретов.
– Можно задать вам один вопрос? – спросила Мэрилин. Она не хотела расстраивать Бат-Шеву, так же как боялась оскорбить своих религиозных подруг, не зная наверняка, что они могут принять за неуважение. – Я бы не хотела лезть в душу, но, когда ваш муж погиб, неужели вы не были разгневаны на Бога, разве не трудно после этого оставаться верующей?
– Еще как была, – ответила Бат-Шева. – Нам было так хорошо с Бенджамином, я не могла принять, что его больше нет. Но мы с Аялой совершенно не пострадали в этой катастрофе. По неведомым причинам нас сберегли. Это ведь что-то да значит? Было чувство, что у меня есть какое-то предназначение, которое я еще не исполнила, и я спасалась этой мыслью.
– Да, вполне логично, – согласилась Мэрилин, – но все равно очень трудно это принять.
– Понимаю. Но мне нужно было придумать, как приблизиться к Богу, чтобы не чувствовать себя оставленной. Когда я молюсь или ем кошерную еду, то стараюсь помнить, что цель моих действий – поиск этой близости к Богу. Иначе я бы совсем пропала.
До сих пор Мэрилин сталкивалась с иным подходом к ортодоксальности. Хелен Шайовиц и миссис Леви говорили о важности послушания и дисциплины, скрупулезного соблюдения всех аспектов учения, важности связи с прошлым. В исполнении Бат-Шевы все звучало куда заманчивее, даже как будто и не чужеродно.
Бат-Шева поднялась, чтобы уходить, и, к удивлению Мэрилин, обняла ее.
– Было очень приятно с вами поговорить. У меня ощущение, словно частица Бенджамина все еще где-то здесь, – произнесла Бат-Шева.
– Тогда приходите еще и в любое время, хорошо? – сказала Мэрилин.
Она смотрела, как Бат-Шева с Аялой идут за руку по дорожке, и пыталась определить, что же отличало ее гостью от других ортодоксальных женщин. В Бат-Шеве совсем не было чопорности, свойственной многим знакомым Мэрилин, как будто между ней и ними всегда возвышался непреодолимый барьер. Бат-Шева вела себя мило и непринужденно. Она легко улыбалась, и казалось, она в ладу с собой и с людьми вокруг. С ней можно было не скрывать, что Мэрилин не религиозна, чего нельзя представить с миссис Леви и Хелен Шайовиц. Мэрилин всегда переживала, что они смотрят на нее свысока. И на случай, если так оно и было, старалась непременно ввернуть что-нибудь из еврейского, хоть бы даже и самолично испеченный яблочный штрудель.
Когда до дома оставалась всего пара кварталов, Аяла вдруг остановилась и расплакалась.
– Ну что ты, Аяла, мы же почти пришли, – сказала Бат-Шева.
Девочка села на тротуар и категорически отказывалась сдвинуться с места. Мы бы звали ее, покуда она не поняла, что мы не шутим. А надо – прибегли бы и к угрозам: никакого десерта или рано марш в кровать. Но Бат-Шева повела себя иначе. Она подошла к Аяле и опустилась подле нее на корточки.
– Скажи мне, что стряслось? – попросила Бат-Шева.
Аяла пожала плечами и уставилась на землю. Бат-Шева обняла ее, словно всегда знала, что именно это и нужно бедному ребенку.
Леанна Цукерман как раз шла мимо с коляской. Она ждала на ужин родственников Брюса и решила отдохнуть от готовки под благовидным предлогом. Несмотря на троих детей, младший из которых родился совсем недавно, Леанна сохраняла фигуру юной девушки. (Как ты этого добилась? – спрашивали мы ее. Нормально ли она питается? – гадали мы промеж собой.) Одета она была с иголочки: кипенно-белая футболка небрежно заправлена в темно-синие кюлоты до колена.
Эти кюлоты Леанны вызывали немало пересудов. Брюки считались у нас нескромными, а носить кюлоты было подобно хождению по лезвию бритвы. Одно дело так одеваться, если никто тебя не видит. Бекки Фельдман и Рэйчел Энн Беркович (а может, и Ципора Ньюбергер, хотя тут никто бы не поручился) на отдыхе, где мало шансов быть замеченными кем-то из знакомых, даже ходили на смешанный пляж. Но появиться на людях в кюлотах – это уже сродни открытой демонстрации пренебрежения заведенным порядком вещей. Чего, говоря начистоту, и добивалась Леанна. Она не считала, что есть что-то неправильное в кюлотах или даже, если на то пошло, в брюках – они бывают куда скромнее, чем некоторые юбки. Нося кюлоты, Леанна давала понять, что она вроде бы как все, но на самом деле – нет. И показать это проще всего с их помощью. Кюлоты не так очевидны, как брюки, не так радикальны, как шорты. Они подавали менее громкий сигнал. Все-таки позволяли ей оставаться своей.
Завидев Бат-Шеву, Леанна улыбнулась. Правда, проявляться стоило бы, конечно, почаще, но она думала о Бат-Шеве. Леанна знала, что такое быть новичком в Мемфисе. Она поселилась здесь только после замужества, а семья Брюса жила здесь испокон веков. Она никогда не забудет, как впервые приехала в Мемфис, сразу после их с Брюсом помолвки. Сколько же разных имен надо было не забыть, сколько родственников и друзей держать в голове! Леанна пыталась запомнить так: миссис Леви носит крупную нитку жемчуга, на кузине Ренель цветастое шелковое платье… Но на следующий день, когда все переоделись, она совсем запуталась и не могла выдавить ни слова.
– Хорошо прогулялись? – спросила Леанна.
– Нет, – ответила Аяла, прежде чем Бат-Шева успела открыть рот.
– Что-то непохоже на довольную девочку, – заметила Леанна.
– Ей сегодня немного грустно, – сказала Бат-Шева.
Знать бы только, как ее приободрить! Леанна могла лишь догадываться, как тяжко приходится Аяле, столько нового свалилось на нее одно за другим.
– Ты любишь купаться? – спросила она Аялу. – На той неделе, – Леанна повернулась к Бат-Шеве, – муж поставил наземный бассейн; я подумала, может, Аяла как-нибудь заглянет? К нам все здешние дети ходят.
– А, Аяла? Как тебе такое предложение? Хочешь искупаться? – спросила Бат-Шева.
Аяла ничего не ответила, но посмотрела на Леанну с интересом, а та довольно смыслила в детях, чтобы расценить это как хороший знак.
– Вот и отлично, – сказала она. – Как насчет завтра?
От горячности, с которой Бат-Шева выпалила «Да-да, завтра в самый раз», дохнуло одиночеством. Леанне раньше не приходило в голову, что это прекрасная возможность познакомиться с Бат-Шевой поближе, прощупать, так сказать, почву, прежде чем с головой бросаться в новую дружбу.
Следующим утром все дети, которые обычно приходили к Цукерманам, были на месте: две девочки Ньюбергеров, Шани и Бася; дочь Рены Рейнхард Браха; ну и, конечно же, Дина, Ривка и Джонатан Цукерман. Леанна сидела с ними во дворе – там она проводила большую часть дня. Иногда она подумывала: а не устроиться ли на работу? Вечерами, когда дети засыпали, они с Брюсом составляли список дел, которыми ей было бы интересно заняться. Она вспоминала колледж, как хорошо у нее шла математика. Но на бухгалтера так и не доучилась, потому что Брюс был из богатой семьи, и она страшно обрадовалась, что не придется работать.
Леанна подняла глаза и за дворовой изгородью увидела Бат-Шеву с Аялой. Она точно не знала, придут ли они, а увидев, поняла, что очень рада. Она открыла калитку.
– Как хорошо, что вы пришли, – сказала Леанна.
– Мы все утро это предвкушали. – Бат-Шева пригладила волосы Аялы. – Надеюсь, в такой замечательной компании Аяла расшевелится. После катастрофы она совсем притихла. Она не пострадала, но это было мощное потрясение, а потом еще пришлось привыкать к тому, что у нее больше нет отца.
– Как вы справляетесь одна? – спросила Леанна. Хотя они с Бат-Шевой ровесницы – обеим по тридцать четыре, – но с жизнью Леанны все понятно от и до. Дом, две машины, трое детей. А у Бат-Шевы словно всё впереди, все дороги открыты.
– Тяжело, когда столько всего нужно успевать, а в ортодоксальной общине, где почти у всех есть семьи, вдвойне трудно за все отвечать самой. Но я не представляю свою жизнь без Аялы. Она не дает мне сорваться и делает жизнь осмысленной, – ответила Бат-Шева.
Она обняла Аялу на прощание. «Я скоро за тобой вернусь», – заверила она.
Аяла стояла, явно не понимая, чем себя занять без мамы. Дина, девятилетняя дочка Леанны, подошла к ней.
– У тебя есть купальник? – поинтересовалась она.
Аяла прикусила губу, казалось, она вот-вот заплачет.
– Ничего страшного, все в порядке, – сказала Дина и приобняла Аялу. Та застенчиво улыбнулась и стянула свои желтые шорты и выгоревшую синюю футболку, под которыми обнаружился красный купальник в белый горошек. Без единого всплеска Аяла опустилась в маленький бассейн. Остальные дети сгрудились вокруг, и Аяла прекрасно влилась в компанию. Глаза заблестели, лицо стало оживленнее. Совсем как все, если бы не волосы – такие светлые, что на солнце казались совсем прозрачными.
Аяла так привыкла купаться в бассейне Цукерманов, что очень удивилась, когда в одно пасмурное утро заглянула во двор и никого в нем не обнаружила. Леанна отправилась с детьми в библиотеку, позабыв про Аялу. Сначала девочка терпеливо стояла за оградой, но потом прошла по лужайке к дому Леви и постучалась. Миссис Леви, все еще в домашнем желто-красном халате, открыла дверь.
– Сегодня можно купаться? – спросила Аяла.
Миссис Леви не поверила своим ушам. Купаться?! В такую погоду? Конечно, нет. Только вчера она прочла в «Ридерз Дайджест» статью о том, как велика вероятность быть убитым молнией, если плаваешь в бассейне.
– По-моему, сейчас пойдет дождь. И я видела, как автомобиль Леанны отъезжал с полчаса назад, – сказала миссис Леви. Бедное дитя так расстроилось, что она не могла этого вынести. – Что толку стоять на улице? Давай-ка, заходи.
Аяла осторожно глянула внутрь и подняла глаза на миссис Леви.
– Не робей, здесь не кусаются, – подбодрила та.
Аяла прошла на кухню. По четвергам миссис Леви всегда пекла, поэтому дом наполняли ароматы свежего хлеба, печенья и фруктовых пирогов.
Перво-наперво миссис Леви интересовал вопрос, кто же присматривает за этой малышкой. Даже в таком безопасном месте, как Мемфис, нет ничего хорошего в том, чтобы ребенок гулял по улицам один.
– Аяла, дорогуша, а где твоя мама? – спросила она. – Неужели она отпускает тебя на улицу одну?
Аяла пожала плечами, окончательно расстроив миссис Леви. Она решительно не понимала, зачем люди приносят в этот мир детей, если не готовы как следует заботиться о них. Разумеется, своих детей миссис Леви так не растила. Ни разу в жизни они не вернулись в пустой дом, никогда у них не было няни из чужих, никогда не оставались они без домашнего обеда. И всегда она следила, чтобы у Ирвинга было все, что нужно, каждая пуговица крепко пришита, каждая рубашка идеально отглажена, обед на работу завернут в крафтовую бумагу.
– Садись сюда, – приказала миссис Леви. Она расчистила стол, отодвинув оливковое масло, коричневый сахар, яичную скорлупу и персиковые косточки. Вытерла сине-белым клетчатым полотенцем. Затем взяла белую фарфоровую тарелочку и положила на нее два клубничных печенья и халу только что из печи.
– Скажи, как тебе. Мои дети уже выросли и разъехались, мне приятно, что маленькая девочка снова отведает моей стряпни.
Аяла попробовала печенье. Облизав пальцы, откусила кусок халы.
– Это самая вкусная хала в жизни! – заявила она.
– Просто сокровище, а не ребенок! – Миссис Леви потрепала Аялу по голове. Она впервые слышала, как Аяла разговаривает, и сочла большой победой, что произошло это именно в ее доме. Неважно, что она думала про Бат-Шеву. Миссис Леви решила, что с некоторой помощью из Аялы вполне выйдет толк. И тогда, может даже, никто и не подумает, что у девочки не было приличной матери. И, по счастью, даже после всех забот у миссис Леви оставалось довольно свободного времени, чтобы заняться Аялой: как она любила повторять, слишком много дел не бывает.
– Расскажи мне, Аяла, а как проводит день твоя мама?
– Не знаю, – пожала плечами Аяла.
– Ну что-то ты видишь. Она убирается дома? Готовит тебе вкусную еду? Что вы ели вчера на ужин?
– Оладьи.
– Оладьи? – недоуменно повторила миссис Леви. Она отстала от жизни, или это все-таки еда для завтрака?
– Они были вкусные.
– Ну конечно, золотце, конечно, вкусные, – согласилась миссис Леви и тяжело вздохнула: без правильного питания задача усложнялась. – Ну а расскажи мне, чем она еще занимается?
– Рисует картинки.
– Вот как! И что же она рисует?
– Краски.
– Ну разумеется, она рисует красками, но на картинках что изображено? Люди или природа?
– Просто краски.
Насколько было известно миссис Леви, сами по себе краски не считаются искусством. Но эта серия вопросов явно вела в тупик, и она решила попробовать зайти с другой стороны.
– Твоей маме, наверное, одиноко. У нее бывают гости?
Она уже прямо-таки видела этих мужчин, приходящих проведать Бат-Шеву поздними ночами.
– Нет, уже не бывают, – ответила Аяла.
– Вот так так! – воскликнула миссис Леви. Она, конечно, подозревала нечто подобное, но никак не надеялась так легко получить подтверждение. Здесь явно стоит покопаться.
Аяла откусила еще печенья.
– Мой папа умер, – сообщила она.
– Бедняжка, – прошептала миссис Леви, обнимая девочку. – Конечно, тебе его так не хватает. Я его помню маленьким мальчиком. Вообще-то, сдается мне, он был очень на тебя похож. Такие же чудные глаза и мягкий голос. – Миссис Леви принялась убирать ваниль и пекарный порошок. – Вы из-за него сюда переехали?
– Да. Чтобы быть к нему ближе, – ответила Аяла, явно повторяя за матерью.
– А что сказали бабушка с дедушкой?
– Они сказали, что мы никого здесь не знаем.
– Да, понимаю, – согласилась миссис Леви. Так она и предполагала. А ведь она и сама была в похожей ситуации, подумалось вдруг миссис Леви. У нее трое взрослых детей, и все они живут не в Мемфисе. Она и помыслить не могла, что вот так все закончится, и глубоко внутри страшно стыдилась, что не удалось убедить их переехать обратно. Всякий раз, говоря с ними по телефону – с Рафаэлем в Балтиморе, Ребеккой в Хьюстоне и Анной Бет (которая теперь носила свое еврейское имя Хана-Бейла) в Монси, – она лелеяла надежду, что они сообщат о своих планах вернуться домой. У всех вроде как имелись веские причины, чтобы жить в других городах: Рафаэль был директором школы в Балтиморе, муж Ребекки учился в резидентуре в Хьюстоне, а Анна Бет (Хана-Бейла) считала, что для ее детей в Мемфисе нет приличных школ строгих правил. Эти причины миссис Леви всегда приводила в беседах с друзьями: нет, дело вовсе не в Мемфисе, тут соображения сугубо практического свойства. И все же порой миссис Леви охватывал страх, что в основе этих причин было недовольство Мемфисом, что ее собственным детям чего-то недоставало в общине, на которую она положила всю свою жизнь. Она старалась отбросить эту мысль. Недовольны Мемфисом? Исключено.
Все еще размышляя о детях и внуках, миссис Леви ощутила прилив сочувствия к Аяле.
– Я напекла слишком много хал на шабат, до следующей недели они зачерствеют. Давай-ка я заверну тебе парочку с собой, заберешь их домой.
Это самое малое, что она могла сделать. Миссис Леви не намерена была сидеть сложа руки, наблюдая, как ребенок ходит голодным. Она вспомнила речь раввина несколько недель назад: И там, где нет людей, постарайся быть человеком. Это же и к женщинам относится, разве нет? (Или нет? Надо ли спросить у раввина, прежде чем примерять это к себе? Она не хотела показаться самонадеянной или, боже упаси, феминисткой. Надо добавить это к списку вопросов для раввина.) Пока же она аккуратно, чтобы с корочки не осыпались кунжутные семечки, завернула каждую халу в фольгу. Потом положила в пакет и вручила Аяле, надеясь, что так та хоть немного распробует, каково это – вырасти в доме миссис Леви.
Примерно неделю спустя Хелен Шайовиц увидела Бат-Шеву в примерочной «Loehmann’s». Все утро она бегала по поручениям миссис Леви, и теперь наконец можно было порадовать и себя. Хелен любила ходить по магазинам, хотя перед мужем и друзьями делала вид, что это тяжкое бремя, которое она смиренно взялась нести. Среди всех этих вещей разных цветов и тканей проще всего было забыться, отключиться от тяготивших ее мыслей. Она раздумывала, не злоупотребляет ли в очередной раз миссис Леви их дружбой, прося забрать украшения на стол для благотворительного завтрака, вместо того чтобы сделать это самой. Размышляла о своей дочке в Нью-Йорке. Случится ли когда-нибудь помолвка с приятным молодым человеком, с которым они встречаются вот уже три месяца? Беспокоилась из-за периодически мучавшей ее боли в плече. Как знать, что за болезнь может там притаиться?
Только поход по магазинам мог отвлечь от этих забот. Хелен специально высвобождала себе побольше времени, она не могла спокойно делать покупки, если над ней что-то висело. Хелен наряжалась, потому что лучше себя чувствовала в хороших вещах. И никогда не просила помощи продавцов. Было слишком утомительно объяснять, почему ее юбка должна прикрывать колени, почему она не носит платьев с глубоким вырезом или с открытыми плечами и спиной. Самой по себе гораздо проще. Тогда никто и не догадается, что она отличается от обычной дамы из Мемфиса. Ортодоксальные женщины легко сходили за местных. Поэтому Хелен частенько подзуживала мужа Алвина надевать шляпу поверх кипы, когда они выходили в люди.
– Я просто хочу сказать, – поясняла она, – что так проще: не надо беспокоиться о том, что подумают люди. Мы все-таки не в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке мужчины в кипах были повсюду. Другое дело – Мемфис, где большинство кипу в глаза не видывали. Было спокойнее слиться с толпой. Но Алвин ее не слушал. «Я здесь всю жизнь живу и не собираюсь теперь стыдиться того, кто я есть», – отвечал он. Вообще Алвин был одним из немногих, кто всегда и всюду ходил в кипе, даже в сороковые и пятидесятые, когда ну просто никто так не делал.
Набрав кучу платьев, Хелен направилась в заднюю комнату, которая была одновременно местом, где продаются самые модные вещи, и общей примерочной без отдельных кабинок. Здесь повсюду, среди шикарных вечерних платьев, женщины раздевались и примеряли одежду. И в дальнем углу, около вешалок с самыми красивыми красными атласными платьями, которые Хелен когда-либо доводилось видеть, была Бат-Шева. Она стояла перед трехстворчатым зеркалом, подле вешалок с облегающими блузками и узкими бархатными юбками. Она не смотрела по сторонам, сосредоточенно изучая свое отражение в черном платье (без рукавов, с открытой спиной!). Как модель, которую снимает «Vogue», она подбирала волосы с шеи наверх. Что она о себе возомнила, не могла взять в толк Хелен.
Бат-Шева увидела ее в зеркале и обернулась, расстегивая молнию.
– Не подходит платье, но я все равно его мерила просто для удовольствия. У меня освободилось немного времени, ездила неподалеку и вот решила заскочить, – сказала она.
– А где Аяла?
– Миссис Леви предложила присмотреть за ней. Я хотела сказать, что не нужно, но Аяла так обрадовалась, что у меня духу не хватило ее расстраивать.
– Как мило.
Хелен вспомнила, что миссис Леви без умолку рассказывала, до чего же чудесный ребенок Аяла и что она намерена сделать для нее все, что в ее силах. Тогда Хелен еще не поняла, насколько это серьезно, но раз уж миссис Леви решила выложиться по полной, тогда и Хелен стоит последовать ее примеру. Она не была знакома с матерями-одиночками, но, напомнила она себе, быть в общине среди прочего означает проявлять участие и в ситуациях, с которыми никак не ожидал столкнуться.
– Буду тоже рада помочь. Позвоните мне, если что-нибудь понадобится.
– Большое спасибо, – ответила Бат-Шева. – Так важно, когда ты среди людей, готовых прийти на помощь.
Бат-Шева расстегнула платье, и это вернуло Хелен на землю. Ее ждали покупки, и самое время приступать. Хелен повесила кипу платьев на ближайший рейл, но все, что она навыбирала, показалось вдруг совершенно безвкусным.
– Вот это очень ваше, – сказала Бат-Шева, показывая на платье в красно-синюю клетку, длиной ниже колена и с воротом, закрывающим ключицы.
Хелен разозлилась: только об этом она и мечтала – чтобы ее воспринимали как старую унылую тетеху. Она хотела носить одежду в духе той, что примеряла Бат-Шева, – облегающие короткие платья, что выгодно подчеркивают фигуру, которой она все еще очень даже гордилась. Но правила скромности этого не позволяли. Хелен выкручивалась как могла. Появлялась в синагоге в черном кожаном костюме до колена или в леопардовой шляпке вместо обычной шерстяной. Чуть больше можно было разгуляться с туфлями: касательно обуви не было правил скромности (по крайней мере, известных ей). Она носила шпильки, открытые золотые сандалии и замшевые оранжевые лоферы. Ее гардеробная была иллюстрацией того, как туфли могут взбодрить даже вполне скромный туалет. Но всего этого было мало. Хелен по-прежнему грезила, как приходит в синагогу в чем-то обтягивающем или в пайетках или фланирует в платье без бретелек на Ежегодном банкете стипендиатов. Все восхищаются, как молодо она выглядит. Восклицают, что в шестьдесят один она так же прекрасна, как и в ранней юности.
Бат-Шева высвободилась из платья и оставила его в куче на полу. Возясь с пуговицами, молниями, завязками и застежками, Хелен пару раз украдкой на нее взглянула. Хелен не из болтливых, но по мере возможности описала нам, как выглядит Бат-Шева. Она не носила обычное белье, ничего из разряда простого белого хлопка, которому мы отдавали предпочтение. Ее белье было предназначено для зрителя. Пара каких-то тесемочек и лоскут черного кружева. И лифчик такой же: того же кружева и едва что-то прикрывает.
Но это еще ладно. Когда Бат-Шева стала натягивать через голову коричневый джемпер с короткими рукавами, Хелен заметила, что слева из-под лифчика что-то виднеется: татуировка в виде розы. Мы не знали ни одного человека с татуировкой. Ни единого. Подобное осквернение собственного тела было категорически запрещено. Хелен отвернулась, испугавшись, что ее застукают за подглядыванием. Она попыталась переключиться на развешанную одежду. Но пока Бат-Шева выбирала, что бы еще померить, Хелен воспользовалась моментом и всмотрелась получше – убедиться, что это не обман зрения, не игра света, не блик от розовых обоев. На этот раз татуировка была видна отчетливее и оказалась более темного красного оттенка, чем почудилось сначала. Стараясь не выдавать себя, Хелен изучала, какого она размера, сколько лепестков у розы, что за форма зеленых листков.
– Вижу, вы заметили мою татуировку, – огорошила ее Бат-Шева, и Хелен, отчаянно забормотав какие-то отговорки, принялась сражаться с очень капризной молнией и крайне непослушными пуговицами.
– Нет-нет, толком не заметила, пока вы не сказали, – запротестовала Хелен. Но теперь, когда было можно, она подошла посмотреть поближе. В голове замелькали образы, которые ассоциировались у нее с татуировками: накачанные мужчины на мотоциклах, сомнительные клубы и кожа, много кожи. Так вот, значит, из какого мира прибыла Бат-Шева.
– Как необычно, – наконец произнесла Хелен, сообразив, что невежливо совсем уж промолчать. Сердце у нее колотилось. Она уповала лишь на то, что Бат-Шева не подметит неловкости в ее голосе и не запишет ее в безнадежно старомодные особы.
Бат-Шева рассмеялась.
– Да уж, подозреваю, здесь такое не принято.
И тут в примерочную вошла Джослин Шанцер. Хелен подскочила к ней и чмокнула в щеку. Джослин и Хелен не были лучшими подругами. Много лет назад они обе претендовали на президентство в Женской группе помощи, и, когда победила Джослин, Хелен еще долго залечивала обиду. На самом деле у нее не было шансов выиграть, у Джослин родственников куда больше, чем у Хелен, и все эти бесконечные кузены обеспечили ей большинство голосов. Что еще неприятнее, Джослин была из тех, кто уже родился популярным. Хелен приняла поражение как знак того, что ее положение в общине ненадежно, что ей требуются постоянное покровительство и поддержка миссис Леви. И если обычно Хелен старалась любыми способами избегать Джослин, в нынешней ситуации надо было работать с тем, что есть.
– Надо же, как удивительно мы встретились. Смотри, и Бат-Шева тут, – заговорила Хелен.
– Хелен как раз любовалась моей татуировкой, – сказала Бат-Шева и подмигнула Хелен, которая густо покраснела, почти в тон обоям. Теперь Джослин доложит всем, что Хелен одобряет или в лучшем случае делает вид, что одобряет подобные вещи.
Джослин повесила платья, которые несла примерить, и подошла поглядеть поближе.
– Ну, это хотя бы роза, не что-нибудь. Красиво. Где ты ее сделала?
Хелен пихнула Джослин в бок. Нехорошо вот так прямо выспрашивать. Лучше исподволь подвести, чтобы Бат-Шева сама все рассказала. Джослин послала ей взгляд, говоривший: «Не волнуйся, я знаю, что делаю». Когда нужно что-то выяснить, правильнее забыть о вежливости.
– Она у меня со школы, – ответила Бат-Шева. – У одной подруги уже была, и мне казалось, это красиво. Мне нравилась идея тела как материала для творчества.
– А родители? Что они на это сказали?
Даже если бы Тора не запрещала, Джослин ни за что бы не позволила дочери сделать татуировку.
– Они разрешали мне все, что заблагорассудится. Считали, что со временем я сама начну разбираться, что к чему.
Не слишком разумная идея, подумала Хелен, но в последнюю секунду решила не произносить это вслух.
– А как они отреагировали на то, что ты решила перейти в иудаизм? – спросила Джослин.
– Думали, что я спятила. Но когда я стала иудейкой, пришлось в некоторой степени разорвать прежние связи. Мне кажется, Тора про это говорит, что обращенный сродни новорожденному. Приходится выстраивать новые отношения.
– Но вы же все-таки общаетесь с ними? – спросила Хелен. При мысли о ребенке, отрезанном от родителей, ею овладевало беспокойство.
– Время от времени звоню матери и сообщаю, что жива. Она один раз видела Аялу, сразу после рождения. Было чувство, будто я навестила кого-то, кого знала в далеком прошлом. Ортодоксальный еврей – последнее, что могла себе вообразить моя мать. А вот мне это всегда казалось не таким уж невероятным.
Это напомнило Джослин – и в куда большей степени, чем ей бы хотелось, – ее собственную историю. Она росла безо всякой связи с еврейством. Ее родители были эмигрантами, которые изо всех сил старались стать настоящими американцами. Джослин еще подростком сама пришла к иудаизму. Надо было, в конце концов, разузнать, что это такое, раз уж она столько лет терпела в школе издевки и насмешки над произношением родителей и их манерой одеваться. Как-то субботним утром Джослин зашла в синагогу и поняла, что она дома.
Сделав этот шаг, она уже не возвращалась назад. Соблюдение законов далась ей легко и естественно. Ей нравилось ощущать, что ее жизнь мало чем отличается от жизни предков. Но кое с чем Джослин все же не смогла расстаться: с креветочным салатом. Она поедала его втайне всякий раз, как появлялось непреодолимое желание. У нее для этого случая имелись особые трефные миска с ножом, и готовый салат она хранила в специальном контейнере, в морозилке, за телячьими отбивными и брокколи. Никто ничего не подозревал. Даже муж. Он всегда был религиозным, и Джослин боялась, как бы он не подумал, что она скатывается к своему прежнему образу жизни, как в детстве. Но у нее была договоренность с Богом: на одно-единственное нарушение Он смотрит сквозь пальцы, а все остальное она соблюдает как положено.
Вместо того чтобы поддержать разговор с Джослин и Бат-Шевой, Хелен направилась к красным атласным платьям: посмотреть, есть ли ее размер – шестой, если самую малость втянуть живот. Пощупала материал. Может, когда Джослин уйдет, она решится померить. За ней водилась привычка купить что-то, что она ни разу не надевала, повесить это в шкаф на пару дней, а потом сдать обратно. Хелен уже представляла себя в этом платье, как вдруг ей подумалось, что будь у нее (по какой-то неведомой причине) татуировка, ее было бы видно с таким глубоким вырезом. Хелен глянула на Бат-Шеву: интересно, приходится ли ей, одеваясь, всякий раз об этом думать?
– А свести татуировку можно? – спросила она. – Я слышала, сейчас есть какие-то хирургические способы.
– Мне она не мешает. Скорее, напоминает о том, откуда я. Ведь не сотрешь то, каким был когда-то, – сказала Бат-Шева.
Хелен считала, что такой подход только осложняет жизнь. Чтобы куда-то встроиться, так или иначе идешь на компромиссы. Хелен-то уж точно: она всегда проглатывала то, что думала на самом деле, лишь бы не идти на конфликт. Отпустить свое прошлое – разве они многого просят? Если Бат-Шева собирается постоянно напоминать им, что она вышла из другого мира, им будет сложно воспринимать ее частью общины.
После этого обсуждать было особенно нечего. Джослин с Хелен мерили свои костюмы и юбки и вежливо попрощались с Бат-Шевой, когда та оделась и покинула комнату.
В другой раз, когда почти все мы уже укладывались спать, гасили свет, запирали двери, задергивали шторы, Бат-Шева вышла из дома и направилась вниз по улице к маленькому домику без окон, стоявшему за синагогой. Если бы не голая лампочка над входом, здания было бы и вовсе не различить. Это общинная миква, и каждую ночь кто-то из нас в строжайшей тайне наведывается туда, чтобы совершить ритуальное омовение. Нам предписано окунаться в нее через семь дней после месячных, и только после этого мы могли снова иметь близость с мужьями.
В ту ночь Ципора Ньюбергер сидела, ожидая своей очереди, на одном из розовых пластиковых стульев, подаренных семьей Леви по случаю шестидесятилетия миссис Леви. Без длинного каштанового шейтла, который она обычно носила (такой натуральный на вид, со спины и не скажешь, что парик; ну да не зря же она заплатила три тысячи долларов за настоящие волосы), Ципору было не узнать. Хотя сидела она в полном одиночестве, но волосы заколола булавками и убрала под платок. Она одна из немногих в общине покрывала голову – для большинства из нас эта мицва[7] потерялась где-то по дороге, но Ципора была решительно настроена не допустить, чтобы хоть один волосок оказался непокрытым.
Хотя она об этом никому не говорила – омовение полагалось совершать одному, – но Ципора терпеть не могла ходить в микву. Она читала рассказы женщин, которые это любили и чувствовали себя потом обновленными, заряженными духовно и физически. Конечно, и Ципора хотела так себя ощущать. Она стыдилась, что без радости думает о заповеди Всевышнего. И она непременно будет ее исполнять. Суть иудаизма – слушаться слова Господа, даже если не хочется. Раз Он всеведущ и всемогущ, уж конечно, Ему виднее, чем ей. И все же с миквой такая морока: хорошенько вымыться перед выходом, успеть уложить детей, нервничать, как бы не встретить по дороге кого знакомого. Если бы кто-то из общины увидел ее и догадался, куда она направляется, он бы мог представить, что произойдет потом между Ципорой и ее мужем.
А Ципора как раз очень даже предвкушала то, что произойдет, – оно почти что оправдывало всю эту мороку с миквой. Если дети спали, а муж возвращался после своих уроков для взрослых, и телефон не звонил, и в раковине не громоздилась гора грязной посуды, а на кровати не валялись бумаги и одежда, Ципора с мужем могли наконец побыть наедине. Долгих двенадцать дней и ночей они не прикасались друг к другу, не делили постель, не раздевались друг перед другом, не передавали тарелку или книгу, чтобы не вызвать сексуального желания. Этот период возвращал их к тем дням, когда они еще не были женаты и ни разу не касались друг друга, ни единого, ни разочка; им даже не разрешалось оставаться вдвоем в закрытой комнате. В ночь после миквы по телу Ципоры мурашки бежали, как от первого прикосновения. Ее охватывала дрожь, когда рука мужа скользила по ее коже. Просто невероятно, что такое наслаждение было дозволено и даже считалось мицвой и что сам Господь задумал это для них.
Стараясь отвлечься на то, что ждало впереди, Ципора придумала, чем еще скрасить для себя ритуал миквы. Перед выходом она принимала ванну с пеной. Намечала себе маникюр на следующий день. Вызывала няню, хотя сама была целый день дома. Но все это не помогало. Как бы тщательно она ни мылась, Ципора понимала, что не исполняет сам дух заповеди. Выходило физическое очищение, но не духовное. Ее внутренний непокой пятнал чистые воды миквы.
Ципора листала случайные номера «Южной жизни» и «Женского журнала для дома», вскользь пробегая статьи о том, как выглядеть моложе, как ухаживать за проблемной кожей, как приготовить воскресный бранч за пятнадцать минут. Она уже с полчаса ждала своей очереди, когда послышался стук в дверь. Ципора понятия не имела, кто это мог быть, но знала, с кем у нее совпадает цикл, так что вариантов было не так уж много. Несколько лет у них с Леанной месячные шли один в один, и, когда случилось, что Леанна пропустила месяц, Ципора уже знала, что та беременна.
Ципора отворила дверь. На пороге стояла Бат-Шева, лицо отмыто до скрипа, щеки горят. Мокрая голова. Мы покрывались, чтобы случайный встречный не догадался, куда мы идем; Бат-Шева же была с распущенными волосами.
– Надеюсь, я не слишком поздно. Никак не удалось вырваться пораньше, – сказала Бат-Шева.
Она села, как будто прийти в микву было для нее самым обычным делом на свете. Но миква предназначена только для замужних женщин, поэтому Ципора не могла взять в толк, что здесь делает Бат-Шева. Ципора смолчала, надеясь, что по ее ошарашенному виду Бат-Шева сама догадается, до чего неподобающе ее поведение, и объяснится. Должна же она понимать, что ее появление нуждается в каком-то оправдании! Но такового не последовало, и пауза начала тяготить Ципору.
– Дождь уже пошел? – спросила она.
– Пока нет. Но, похоже, вот-вот начнется.
– Что ж, надеюсь, он подождет, пока я не дойду до дома.
Бат-Шева скинула сандалии и достала из вязаной сумочки пемзу.
– Забыла про ступни, – сказала она и, закинув ногу на ногу, принялась тереть пятку, роняя мертвую кожу на пол. – Люблю ходить босиком, но это убивает ноги. – Она убрала пемзу обратно. – Как вы считаете, ногти достаточно короткие? Законы такие дотошные, я всегда напрягаюсь, все ли сделано правильно.
Не очень того желая, Ципора все же наклонилась взглянуть на пальцы.
– По-моему, вполне нормально, – сказала она.
Ногти могли быть и покороче, почти всю белую часть положено срезать. Но Ципору не сбить с вопроса, что вообще здесь делала Бат-Шева. Миква – один из краеугольных камней иудаизма, столь же важных, как соблюдение шабата и кашрута. Стоит только начать попирать законы, подгонять их так и сяк под свои прихоти, и они утратят свою законность – и превратятся из слова Божьего в слово людское. Ципора подумала о сыновьях первосвященника Аарона. Они так самозабвенно бросились служить Всевышнему, что позабыли о точном следовании законам. И Господь, разгневанный их чрезмерным рвением, сжег их в Небесном огне. Ситуация с Бат-Шевой была не лучше. Ципора закипала все сильнее. И что дальше, возмущалась она, религиозная анархия?
Наконец пришла очередь Ципоры. Дома она уже приняла ванну, так что теперь оставалось лишь ополоснуться в душе. Она секунду постояла под горячей водой, подставив под струю уставшую спину и ноги. Завернулась в махровый халат и мысленно пробежалась по списку, чтобы убедиться, не забыла ли она чего: кутикулы подстригла, зубной нитью воспользовалась, локти оттерла, почистила пупок, уши и между пальцами ног. Довольная тем, как тщательно она подготовила тело, Ципора произнесла молитву, написанную на карточке возле душа: И как я очищаю тело своё от нечистоты в воде, так Ты по великой милости Своей и великому милосердию Своему очисть мою душу от всякой нечистоты и скверны.
Войдя в комнату с миквой, Ципора сняла халат. Смущенно опустила глаза, по-прежнему чувствуя себя неловко голой в присутствии другого человека. Она напряженно ждала, пока служительница, Бесси Киммель, проверяла, не осталась ли у нее вдруг грязь под ногтями или лишняя кожица на пальцах ног.
– Что нового, дорогая? – поинтересовалась Бесси, снимая с Ципоры волоски, приставшие к спине.
– Ах, да ничего, – вздохнула Ципора.
К обязанностям служительницы Бесси относилась со всей серьезностью. «Это вовсе не так легко, как вам кажется, – говаривала она. – Думаете, мне только и требуется, что следить, есть ли чистые халаты и полотенца? Это-то несложно. А вот ответственность – другое дело. Надо проследить, чтобы вы окунулись целиком и не касаясь руками и ногами стены. И вы даже не представляете, какие тайны приходится хранить: кто забеременел, кто набрал вес, есть ли шрам от кесарева. Все, что у нас случается, проходит перед моими глазами».
Мы помнили первый раз, когда оказались в микве, за день-другой перед свадьбами. Мы нервничали, прекрасно сознавая, что вступаем во взрослый мир наших матерей. Мы оглядывали маленькую комнату, чувствуя себя слишком юными, чтобы находиться в ней, и Бесси ободряюще сжимала каждой плечо и говорила, что из нас получится красивая кала: она повидала на своем веку столько невест, и уж Бесси ли не знать, когда перед ней настоящая красавица.
Ципора спустилась по ступеням в воду, окунулась и произнесла благословение: Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и заповедал нам окунание. И погрузилась еще дважды, пока Бесси стояла над ней, как маяк, ведущий корабли, заплывшие в ее воды. Затем Ципора вышла из воды и глубоко вдохнула, надеясь ощутить обновление, хоть малую тень, хоть слабую искру. Но ничего не почувствовала. Она осталась в точности той же Ципорой, что и прежде.
Пока Ципора обсыхала, Бат-Шева зашла в душ. Бесси недоуменно проводила ее взглядом.
– Что это значит? – обратилась она к Ципоре.
Та помотала головой.
– Понятия не имею. Будь моя воля, отправила бы ее домой.
– Пусть окунется пару раз, – решила Бесси. – Самую малость.
Она не видела большой беды в том, чтобы Бат-Шева совершила погружение, хотя вроде как и не должна бы. Вот если бы она не пришла в день, когда следовало, это другое дело.
Бат-Шева вошла в комнату с миквой и сняла халат, ничуть не смущаясь своей наготы. Можно было не осматривать ее так уж внимательно на предмет случайного волоска или заусенцев. Ведь Бат-Шева не выполняла религиозного предписания, так что для Всевышнего не было большой разницы, полностью она окунется или нет. Конечно, Бесси слегка задержалась взглядом на татуировке, оказавшейся один в один как описывала Хелен Шайовиц: в микве такое, несомненно, наблюдалось впервые.
Бат-Шева зашла в воду и перевернулась на спину.
– Мне нравится подольше оставаться в воде, чтобы глубже все прочувствовать, – сообщила она.
Бесси сочла, что это допустимо. У всех свои отношения с миквой, и она давно пришла к выводу, что правильнее давать женщинам совершать омовение так, как они пожелают. Кому-то надо было минуту-другую попривыкнуть к воде, прежде чем погружаться. Кто-то опускался сразу, она едва успевала сделать осмотр. Кто-то раскидывал руки и ноги так, что они случайно касались стены. Когда, до наступления менопаузы, самой Бесси еще надо было приходить в микву, ей нравилось погружаться, свернувшись калачиком. Эти несколько секунд она испытывала полнейший душевный покой и преисполнялась уверенности, что все непременно образуется. Ночь за ночью наблюдая, как разные женщины окунаются в микву, Бесси понимала, что и сама стосковалась по ней, и порой, когда никто не видел, она снимала туфли и чулки и опускала ноги в теплую воду, чтобы вспомнить былые ощущения.
Казалось, Бат-Шева уснула – волосы растеклись за головой, руки свободно повисли. Одно дело, когда привыкаешь к воде, но это уже больше походило на полноценное купание. Бесси откашлялась, пытаясь привлечь ее внимание. Бат-Шева не отозвалась, но, справедливости ради, ее уши были под водой, так что, может, она и не слышала.
– Ну-ка. – Бесси пощелкала пальцами. – Здесь не ночуют.
Бат-Шева поняла намек и встала посреди миквы. Она погрузилась на дольше, чем кто-либо, и, поднявшись по ступеням, произнесла благословение вдумчиво, с упором на каждое слово.
Ципора еще не ушла, она сушила голову, чтобы на улице никто не догадался, где она была. Когда волосы полностью высохли, Ципора хорошенько их взбила. Она ощущала себя красивой, даже неотразимой. Она так привыкла видеть себя в парике, что порой забывала о собственных волосах. Глянув напоследок в зеркало, она заколола пучок и убрала его под шарф. Она представила, как дома муж вынимает шпильки, накручивает прядь волос на палец, и по телу у нее бегут мурашки. Ему нравилось смотреть на нее простоволосую и нравилось, что он единственный видит ее такой. Это делало его особенным и было еще одной из вещей, которые знал о ней только он.
Когда Бат-Шева вышла на улицу, Ципора как раз садилась в машину. Из окна она наблюдала за тем, как Бат-Шева идет вниз по улице. Ципора не знала, предложить ли ее подвезти – некоторым больше по душе пешие прогулки в ночной тиши. К тому же они совершенно безопасны – это же Мемфис, в конце концов. Но что, если Бат-Шева была не прочь доехать и сочла Ципору попросту невежливой? Ведь она так или иначе поедет мимо дома Бат-Шевы. Нельзя же промчаться мимо и не предложить.
– Вас подвезти? – окликнула ее Ципора.
Бат-Шева подошла поближе, вглядываясь в машину.
– Привет, Бат-Шева, это Ципора. Я спрашивала, не подкинуть ли вас?
– Я не видела, кто там, – подумала, какой-то незнакомец пытается меня подцепить, – ответила Бат-Шева.
Ципора рассмеялась: такого про нее еще не думали.
– Нет, это всего лишь я.
– Очень мило с вашей стороны, но я в порядке, – сказала Бат-Шева.
– Меня не затруднит. Вот-вот польет дождь. Мне будет не по себе, если вы пойдете пешком, когда у меня столько места, – она махнула в сторону пустых сидений минивэна.
– Хорошо, – согласилась Бат-Шева и села в машину. – Вы тоже любите ходить в микву? Я чувствую себя такой обновленной. Все мои тревоги смывает прочь, и я готова начинать сначала. После смерти Бенджамина не смогла отказаться, слишком важной частью жизни это стало.
У Ципоры перехватило дыхание. Неправильно, что незамужняя женщина ходит в микву. В Торе совершенно ясно говорилось, что она предназначена только для замужних женщин, чтобы сделать секс дозволенным. Наверное, Бат-Шева не сознавала, что поступает неподобающе. Может, никто ей не рассказал? Ципора помнила, что Тора велит предупреждать тех, кто совершает грех, если мы верим, что наши слова будут услышаны. И как же это понять, если не попытаться? Они уже почти приехали, и, если сейчас ничего не сказать, другого шанса не будет и ей придется жить с сознанием того, что она не использовала возможность исполнить мицву.
– Знаете, Бат-Шева, – волнуясь, начала она. – Не хотелось бы вас как-то смущать, но мне кажется, вам не следует ходить в микву. Это неправильно.
– Я понимаю, что обычно так не поступают, но не вижу проблемы. Как может быть плохо то, что лишь укрепляет мою веру?
– Весь смысл миквы в том, чтобы вы могли иметь… отношения с мужем. Поэтому непонятно, зачем вам туда ходить, – сказала Ципора.
– Но я хочу, даже если и не обязана. Когда надо мной смыкается вода, я чувствую, будто вся нечистота покидает мое тело. Если выполнять заповеди только потому, что так велено, из мицвы уйдет вся радость. А я думаю, нам нужно гораздо больше внимания уделять духовной стороне иудаизма. О ней так часто забывают, и в результате теряется столько важного, что составляет самую его суть.
Бат-Шева говорила очень уверенно и вела себя так, словно все сказанное совершенно естественно. Ее явно не беспокоило то, что Ципора откровенно не одобряла ее поведения. Может, там, где она жила раньше, подобные разговоры и были в порядке вещей, но для Ципоры все это, скорее, отдавало ересью. Иудаизм не про собственные трактовки; это не какая-то там религия нью-эйдж, где вы изобретаете свои смыслы. Это очень древняя традиция с очень древними законами. Бат-Шева перешла в иудаизм когда, лет пять назад? Кто она такая, чтобы рассуждать, что нужно или не нужно иудаизму?!
Ципора крепче сжала руль: пожалуй, подвозить Бат-Шеву было не такой уж хорошей идеей. Но она сдержалась и промолчала. Какой смысл вступать в споры? Лучше сохранить добрые отношения, тогда в другой раз можно будет при случае вернуться к этой теме. Они подъехали к дому Бат-Шевы, и Ципора, подождав, пока та войдет внутрь, поспешила домой к мужу.
Когда назавтра она проснулась, в душе свербило. Вчерашняя встреча все утро не давала покоя, и, говоря с миссис Леви, Ципора упомянула, что Бат-Шева по-прежнему ходит в микву.
– Интересно! – воскликнула миссис Леви. – Обычным это не назовешь. Это точно наделает шуму.
– Прошу тебя, не говори никому, – взмолилась Ципора. – А то все узнают, что я тоже была в микве вчера ночью. Это будет нескромно.
– Разумеется, дорогая, – согласилась миссис Леви. Совсем не обязательно упоминать ее имя в связи с этой новостью. Источник вполне может быть анонимным.
Известие о том, что Бат-Шева ходит в микву, облетело наши края. Всем было что сказать по этому поводу. Как необычно, как удивительно, что она хочет ходить в микву, даже если ей и не нужно. Бекки Фельдман интересовалась: может ли Бесси Киммель запретить ей? Арлина Зальцман полагала, что правильнее делать вид, будто мы ничего не знаем: если на это не обращать внимания, может, само как-то рассосется. И, конечно же, мы все поражались, как может ее настолько не заботить, что подумают люди, – что все это неприлично и даже таит намек на распутство.
Прослышав про Бат-Шеву и микву, Наоми Айзенберг вознамерилась сама во всем разобраться. Она жила в паре кварталов от Бат-Шевы, на улице, где, кроме них, других ортодоксальных семей не было. Может быть, именно поэтому, предположила Наоми, она не пересекалась с Бат-Шевой – в отличие от всех остальных, с кем это происходило на редкость регулярно. От постоянных упоминаний о встречах с Бат-Шевой она почувствовала себя за бортом общественной жизни и решила сама нанести визит.
– Хотела взглянуть, как вы тут, – сказала Наоми Бат-Шеве. – Знаю, что непросто переезжать туда, где все друг друга знают, и подумала, может, вы не прочь как-нибудь съесть йогурт.
Кафе с йогуртами прямо за углом поначалу было некошерным. Мы проезжали мимо и посматривали украдкой, мечтая о том, чтобы можно было туда наведаться. Тяжело держать кошерное заведение в такой маленькой общине, как наша. Каждые пару лет единственный на всю округу ресторан закрывался, через несколько месяцев на его месте появлялся новый с очередным хозяином, наивно преисполненным оптимизма, что именно у него-то все и получится. Сейчас ресторан звался «Шик перекус». Без официантов и меню. Но они и не были нужны: мы сами все знали наизусть. Жареная курица, кейл, драники и салат с салями – самое близкое к некошерной южной кухне, что мы могли себе позволить. И хоть это и вкусно, все же временами нам приедались однообразные стряпня и декор, и мы мечтали о поездке в Нью-Йорк, или Чикаго, или Лос-Анджелес: уж там в соблюдении кошера идти на жертвы не приходилось, столько там было всяких ресторанов – китайских, мексиканских, французских, даже кошерные суши имелись.
Чуть больше года назад раввин объявил, что у него важная новость, и мы навострили уши: он покидает синагогу? В школе случился скандал? Кто-то из учителей уволен? Но вместо этого раввин сообщил, что договорился с кафе, и теперь все их замороженные йогурты будут кошерные. Какая же это была прекрасная новость! Наконец-то появилось еще одно место, где можно поесть. Первые недели мы только и питались, что замороженными йогуртами. Оказавшись поблизости, непременно туда заскакивали, радуясь возможности быть как все.
Наоми предложила оставить Аялу со своими детьми, но, подъехав к дому Бат-Шевы, увидела ее одну: оказалось, Аяла приглашена к миссис Леви печь абрикосовый ругелах.
– Аяле нравится Мемфис, – призналась Бат-Шева. – Она чувствует себя здесь как дома.
Наоми улыбнулась, вспомнив, что и она когда-то чувствовала себя так же. В детстве она всегда ощущала себя в полной безопасности, частью большой-пребольшой семьи. И хотя теперь ее нередко переполняло беспокойство, все же было замечательно расти именно в такой обстановке.
Они сели за столик в углу. Ей о стольком хотелось расспросить Бат-Шеву! Про всех остальных здесь она знала все от и до.
– Почему вы уехали из Нью-Йорка? – начала Наоми. – Не бойтесь, мне вы можете рассказать, что произошло. Я знаю, каково это. Порой все начинает разваливаться, и самое правильное – начать все сначала.
– Нет, у меня было иначе, – ответила Бат-Шева в легком смущении. – Я хотела уехать из Нью-Йорка. Мне там было очень одиноко. Перед переездом в Мемфис мне приснился сон, будто я стою перед картой Штатов и, закрыв глаза, тыкаю в нее пальцем, куда попадет. И раз за разом выпадал Мемфис.
– И вы просто взяли и уехали?
– От решения до отъезда прошло две недели. Когда по-настоящему чего-то хочешь, все вокруг начинает складываться. Я узнала, что сдается дом, сложила вещи, загрузила в машину, и всё. Когда мы приехали, место показалось идеальным. Точно таким, как я представляла.
– И сейчас тоже?
– Нет, не совсем. Поначалу я так радовалась сплоченной общине, что не обращала внимания на все остальное. Хотела только, чтобы меня приняли. Я и сейчас хочу, но уже поняла, что это займет немало времени.
– После Нью-Йорка это серьезная перемена.
– В Нью-Йорке проще заниматься тем, что тебе интересно, – это во многих отношениях очень хорошо, но в чем-то и плохо. Я никогда не ощущала себя частью общины, а быть религиозным без поддержки людей вокруг очень непросто.
Наоми вспомнила, как не раз решала помолиться, потому что видела кого-то с открытым сидуром, произнести браху[8] перед едой, потому что кто-то еще это делал. У Наоми были кузены в маленьком городке, в штате Миссисипи. Они были там единственными евреями. Она с трудом представляла, каково это – выполнять все самостоятельно. С другой стороны, получаешь ведь и некоторую свободу. Ты знаешь, что выполняешь мицвот потому, что хочешь этого. А если решишь отказаться – тоже только твое дело. Но, похоже, Бат-Шева искала место, где это не было бы только ее делом, где община помогала бы быть религиозной.
– Не хочу вас разочаровывать, но в маленькой общине все не так просто, – сказала Наоми. – Может, не стоит вам этого говорить, но я вполне хлебнула здесь проблем.
И Наоми принялась рассказывать о том, как часто она ощущала себя здесь чужой, как легко можно почувствовать себя одиноким, даже зная всех вокруг… Вдруг она сообразила, что уже был случай, когда подобные речи стоили ей больших неприятностей. Как-то одна семья (Шайнберги? Райнберги? Кто ж теперь вспомнит?), подумывая о переезде из Филадельфии, приехала осмотреться в Мемфисе. Они всем понравились, и каждый постарался рассказать, какая здесь чудесная община: люди дружелюбные, дома недорогие, еврейская школа отменная.
Каждый – за исключением Наоми. Она пригласила жену из той пары на обед и честно ответила на все ее вопросы. Правда в том, что школа была недостаточно серьезной: оценки за экзамены в старших классах пугающе плохие. И никаких культурных развлечений здесь тоже не было, одно кино. А если среди местных нет родственников, очень сложно встроиться в общину. Неудивительно, что после этого семья предпочла переехать в Бостон. Выявить источник вредоносных сведений не составило труда, и мы были в бешенстве. Как смеет Наоми плохо отзываться о нашей школе и о нашей общине? Даже если это и правда, зачем выносить сор из избы?
Бат-Шева молчала, и Наоми подумала: может, она опять зашла слишком далеко?
– Конечно, не для всех оно так. Многие обожают Мемфис и другого места для жизни вообще не представляют, – добавила она.
– Надеюсь, – невесело усмехнулась Бат-Шева.
Она хорошо знала, что значит выделяться из толпы, но также и каково это – нуждаться в корнях. А Наоми разговор о других краях напомнил о том, что ведь она, в конце концов, может уехать из Мемфиса. Это пробудило томительное желание оказаться где-нибудь, где прошлое не привязывает ее к тому, что не она для себя выбирала. Когда, доев йогурты, они поднялись из-за стола, Наоми все еще пребывала в размышлениях о неведомом новом городе, который, возможно, ждет ее где-то впереди.
Неделей позже Рена Рейнхард разбирала шкафы, как было у нее всегда заведено в августе. Она гордилась своей четкостью и аккуратностью. Ей был важен полный порядок – тогда знаешь, где что и даже кто находится. В куче вещей, из которых выросла Браха, младшая дочка, лежало синее бархатное субботнее платье с белым кружевным воротником, темно-зеленое платье принцессы, розовая водолазка с юбкой в тон. Вся одежда в идеальном состоянии – девочки Рейнхард пошли в мать, такие же аккуратистки. Рена не хотела выбрасывать такие прекрасные вещи. Обычно она отдавала всё племянницам, но им не то чтобы нужно. У них шкафы ломились от собственной дорогой одежды. Найти бы кого-то, кому они на самом деле пригодятся, и Рену бы не мучила совесть.
И тут она вспомнила про Аялу. Рена всегда замечала и пятно на ее платье, и когда девочка ходила в одном и том же два дня подряд. Она не думала, что у Бат-Шевы много денег, и от этого чувствовала себя еще хуже, стыдилась большой зарплаты мужа, роскошного дома, дизайнерской одежды детей. Твердо решив помочь, она сложила вещи в пакет и отправилась к Бат-Шеве.
– Хорошо, что я вас застала. У меня Браха выросла из этих вещей, и я подумала, может, они подойдут Аяле, – сказала Рена, когда Бат-Шева открыла дверь. Она покраснела, волнуясь, что Бат-Шева смутится или обидится на предложение.
– Так мило, что вы подумали про нас, – ответила Бат-Шева, пропуская ее. Рена зашла в дом.
– Иди-ка сюда, солнышко, – позвала она Аялу. – Давай посмотрим, подойдет ли тебе. – Она достала бархатное платье и приложила к девочке. – Идеально. Как я рада, что Аяле они пригодятся! Браха так быстро растет, я за ней не поспеваю.
Аяла провела пальцем по бархату и потерлась о него щекой. Даже когда Рена прикинула остальные вещи и убрала их обратно в пакет, Аяла не отпускала платье.
– Хотите чаю? – предложила Бат-Шева. – У меня остался кусок пирога с субботы. Он, наверное, немножко подсох, но, думаю, все еще вполне хорош.
– Просто чаю, благодарю, – согласилась Рена.
Пока Бат-Шева ставила на кухне чайник, Аяла взяла пакет с одеждой и села на пол. Вынула вещи и разложила их на коленках, пробуя на ощупь разные материалы. Воспользовавшись моментом, Рена осмотрелась. «Дом человека – как его собственная фотография», – любила повторять она. Пусть это и было написано в каком-то женском журнале, Рена все равно считала, что это на сто процентов верно. Ей хватало и пяти минут в гостиной, чтобы многое понять про хозяев. Например, в доме Хелен Шайовиц мебель была покрыта чехлами, а на деревянных столах лежали толстые пластиковые подставки. Это указывало на нервный характер Хелен. Гостиная Бесси Киммель уставлена крохотными стеклянными макетами всех мест, где она побывала. Рена полагала, что Бесси боялась забыть, где путешествовала, и покупала сувениры, чтобы прошлое не ускользнуло от нее.
Рена начала осмотр дома Бат-Шевы с прихожей. По стенам в ней выстроились книжные полки, набитые книгами, о которых Рена слыхом не слыхивала. Она пробежалась по названиям. Там были книги по еврейской духовности, иудаизм для начинающих, сравнительная религия, книги по самопознанию, медитации, по искусству как средству для исцеления души. Рена не имела дела с такого рода литературой и, сочтя, что все равно ничего не поймет, двинулась дальше.
Следующим пунктом была гостиная, обставленная более чем скупо: один лишь красный диван с лоснящейся от времени бархатистой обивкой да журнальный столик из стекла, положенного на белый ящик из-под молока. Хотя Бат-Шева жила здесь уже месяц, она так до конца и не распаковалась. В каждом углу стояли коробки, из которых торчали башмаки, пледы и маленькие картинки в рамках. Комнате явно не помешала бы хорошая уборка: мало того что повсюду громоздились коробки, так еще посреди комнаты красовались сандалии Бат-Шевы, были раскиданы игрушки Аялы, а пол и столешницу давненько не протирали.
А стены, наоборот, больше походили на музей. Все они были увешаны огромными картинами. Чистые абстракции, ни людей, ни пейзажей, только смелые цветные мазки поперек холстов. Рена встала напротив и прищурилась. Может, если отойти подальше, будет понятнее. Она сделала шаг назад и все еще изучала картины, когда в комнату вошла Бат-Шева, неся две щербатые кружки с чаем.
– Что скажете? – спросила она.
– Не знаю, – честно призналась Рена. – Я не слишком разбираюсь в искусстве. Мне все они кажутся одинаковыми.
– Ну конечно, разбираетесь. Просто прислушайтесь, что вы чувствуете, глядя на них, – сказала Бат-Шева. Она опустила на стол кружки и встала позади, так близко, что Рена чувствовала тепло ее дыхания на своей шее.
– Они приводят меня в замешательство, – поняла Рена. – Столько цвета и полный хаос.
– Именно на такую реакцию я и рассчитывала. Это мой, как я его называю, растерянный период, – смеясь, сказала Бат-Шева.
Рена хлопнула себя по губам.
– О господи! Я не сообразила, что они ваши. Догадывалась, что вы вроде художница, потому что мы видели тюбики с краской и холсты, когда вы въезжали, но у меня и в мыслях не было… – Она осеклась, не зная, как закончить, чтобы сгладить неловкость.
– Я рада, что вы что-то почувствовали. Иногда я рисую, чтобы вызвать у людей реакцию. Не могу видеть, как они проживают жизнь, как будто напрочь позабыв, что у них есть эмоции. – Бат-Шева тихонько тронула Рену за руку. – Пойдемте, присядем, пока чай не остыл.
– Так значит, вы художница. Надо же!
В детстве учителя говорили Рене, что у нее есть художественные задатки, и она использовала свои умения, занимаясь отделкой дома, выпекая затейливые именинные торты для своих детей и придумывая флаеры для Женской группы помощи. Но она никогда не встречала настоящего художника. Большинство местных женщин не работало, а если они и трудились где-то, увлекательными эти занятия было не назвать. Рэйчел Энн Беркович – воспитательница в детском саду, Дорин Шейнберг – секретарь в школе, Джослин Шанцер занималась рассылкой приглашений из дома, а Норель Беккер продавала шляпы у себя в гостиной. Рена выполняла кое-какую волонтерскую работу, деля свое время между женской общиной при синагоге и Женской группой помощи. Вообще-то в прошлом месяце ее выбрали президентом группы на следующий учебный год.
– Совсем не знаю, что значит быть художником. Как вы к этому пришли? – поинтересовалась она.
– Я всегда любила рисовать. В детстве подолгу сидела в одиночестве, рисуя дома и города из моих фантазий. Но и потом по-прежнему любила переносить на бумагу все, что рождалось у меня в голове. В колледже походила на занятия рисованием, потом взяла академ на пару лет, поработала в художественной галерее в Калифорнии, вернулась и получила диплом магистра по искусству.
Рена чувствовала, что недостаточно подкованна для таких разговоров, и решила подыскать какую-то общую для них тему.
– Что вы думаете делать с домом? – спросила она. Вряд ли же Бат-Шева собирается оставить все как есть. – В смысле, отделать или слегка привести в порядок?
– Ой, не думаю. Мне нравится, как сейчас. Кавардак меня успокаивает. Не хотела бы дом, в котором мне боязно жить, – сказала Бат-Шева и откинулась на спинку дивана. – Перед переездом мы с Аялой гуляли и наткнулись на этот диван на обочине. Поверить не могла, что кто-то мог его просто выкинуть. Позвала приятеля, он приехал, и мы вместе притащили диван ко мне. Было так весело – он всю дорогу пел, чтобы отвлечь нас от тяжести, и все на улице смотрели и смеялись.
Рена кивнула и тихонько передвинулась на краешек, чтобы не запачкать юбку. Она старалась вести себя так, будто взять диван с улицы – обычное для нас дело.
– Это какой-то особенный ваш приятель?
– Да нет, – ответила Бат-Шева, отводя взгляд. – Просто хороший приятель. Он был близким другом Бенджамина.
– Простите, надеюсь, я вас не расстроила, – сказала Рена, не упустив отсутствующего выражения, застывшего на лице Бат-Шевы.
– Нет, все в порядке. Мне очень не хватает Бенджамина, но когда я говорю о нем, делается не так одиноко. Вечерами мы с Аялой выходим во двор, смотрим на звезды и разговариваем с ним. Я приучила Аялу рассказывать ему, как прошел ее день, а потом я говорю о том, как мы устраиваем здесь нашу новую жизнь, – произнесла Бат-Шева и поджала колени к груди.
У Рены навернулись слезы. Слушая про Бенджамина, она невольно задумалась о собственном муже. Рена закрыла глаза руками и попыталась подумать о чем-нибудь хорошем, но все же не сдержалась и расплакалась.
– Не стоит мне на вас обрушиваться, но я так больше не могу, – проговорила Рена сквозь рыдания.
– Все в порядке, можете мне все рассказать.
Рена сама не знала, почему вдруг решилась довериться Бат-Шеве. У нее ведь здесь были давнишние подруги. Но то, что Бат-Шева жила особняком, вселяло спокойствие. Что бы Рена ей ни рассказала, было больше шансов, что это останется между ними.
– У меня твердое ощущение, что, понимаете, он делает то, чего не должен бы. Мне-то он ничего не говорит, – с горечью признала Рена, – потому что мы вообще едва ли общаемся последнее время.
Бат-Шева слушала, и Рена поведала о том, что они с Марти неделями живут молча, с перерывами на ссоры, когда орут друг на друга, выплескивая накопившуюся злобу. Но это еще не самое плохое. Имелись подозрения, что у Марти завелась подруга. Никто не хотел этого обсуждать, потому что Марти – очень уважаемая фигура, член совета школы и синагоги и даже бывший вице-президент, и невозможно вообразить, чтобы один из наших был способен на такое. Но он уже не раз был замечен в отеле «Пибоди» за бокалом вина с неизвестной рыжеволосой женщиной.
Рена вспомнила времена свадьбы. Теперь она уже не та невинная невеста, запечатленная на видеопленке, светящаяся от счастья и полнейшего довольства, которые ей, конечно же, принесет замужество. Она повстречала Марти в девятнадцать. Он был красив, интересен и обаятелен. Он знал, чего хочет от жизни: уже два года он работал в банке. Ровно через год после знакомства они поженились.
– Если мы разведемся, об этом будут судачить везде и всюду. Мне невыносима мысль, что я стану предметом обсуждений за каждым субботним столом, – призналась Рена.
Бат-Шева обняла ее.
– Знаю, каково это, когда о тебе говорят, но я поняла одну вещь: иногда надо пускать все на самотек. Бессмысленно пытаться угодить всем вокруг.
Рена всхлипнула. Если бы только она могла вот так запросто перестать тревожиться о том, что скажут о ней люди. Но ей надо было держать марку: идеальная дочь и идеальная жена. Она обязана хорошо выглядеть, не раскисать и улыбаться, несмотря ни на что.
Бат-Шева поставила кружку и поднялась с дивана.
– Хочу показать вам одну вещь, которую я написала после смерти Бенджамина. Я повесила ее у кровати, чтоб, просыпаясь, помнить о том, что, как бы мне ни было грустно, все непременно будет хорошо.
Она взяла Рену за руку и повела в спальню. Кровать со скомканными простынями и одеялом занимала почти всю комнату. На туалетном столике валялись маленькие стеклянные бутылочки, сухие цветы и легкие полупрозрачные шарфики. Но Бат-Шеву нисколько не смущал этот бардак. Она не стала оправдываться, что как раз собиралась прибраться, когда позвонила Рена, что Аяла перевернула все вверх дном в поисках игрушки. Она не попыталась быстренько все оправить, запихнуть под кровать колготки, сунуть под подушку нижнее белье.
– Вот она, – объявила Бат-Шева. – Это моя любимая картина.
Рене показалось, что она выглядит в точности как остальные. По огромному холсту без рамы бежали волнистые синие и зеленые линии – цвета моря. Вихрем свивались яростные плотные мазки. В центре среди линий возвышалась размытая фигура в белом.
– После смерти Бенджамина мы с Аялой ездили на океан. Больше всего люблю его зимой, когда мы там одни. Я заходила в воду, совершенно ледяную, но почему-то мне становилось легче: под ударами волн я чувствовала, что есть в этом мире сила несравнимо мощнее меня. И это я хотела передать в картине, – пояснила Бат-Шева.
Рена всматривалась в линии, пытаясь углядеть то, что описывала Бат-Шева. Но видела лишь синие и зеленые завитки. Не желая обидеть Бат-Шеву, она выдавила улыбку.
– Спасибо, что поделились со мной. Мне стало много лучше, правда.
Она собралась было поблагодарить Бат-Шеву за гостеприимство и распрощаться, как вдруг поняла, что́ все время не давало ей покоя. В доме не было ни единой фотографии, ни семейных портретов у кровати, ни Аялы, ни даже Бенджамина. Рена вроде бы видела несколько альбомов на книжной полке, но они явно были заткнуты подальше и вряд ли Бат-Шева пересматривала их каждый день. Так не похоже на ее собственный дом, где все поверхности были заставлены фотографиями улыбающихся членов семьи, как будто можно сохранить только счастливые моменты и вымарать остальное. Бат-Шева появилась здесь без прошлого, без свидетельств прежней жизни. Может, фотографии напоминали о вещах, которые она предпочитала оставить позади; следы прошлого могли омрачить будущее.
Рена выглянула из окна напротив кровати и сквозь почти прозрачные белые занавески увидела знакомый лабиринт улиц, разбегающихся в обе стороны. Ей показалось, это больше походило не на реальное место, где реальные люди заняты своими непростыми жизнями, а на город кукольных домиков, где все ярко, жизнерадостно и очень основательно устроено. Дома и садики в полном порядке, хозяева надежные и безмятежные. Рена представила Бат-Шеву, которая лежит в одиночестве на этой кровати и смотрит в окно, и наконец поняла, почему она приехала в Мемфис.
4
В следующий четверг многие из нас прогуливались по рядам кошерной лавки Кана, изучая новинки, заказанные мистером Каном. Магазинчик был небольшой, высокие полки ломились от кошерных продуктов: казалось, они вот-вот выплеснутся на улицу потоками мацы Штрайта, фаршированной рыбы Манишевица, сыра Миллера, кедемского вина и имперских цыплят. В обычных продуктовых водились кое-какие кошерные продукты, на них значилось O/U, O/K, Star-K – что-то вроде тайных кодов, понятных нам одним. Но многого там было не найти, поэтому мы всегда заходили в лавку за свежей курицей и кукурузной мукой для панировки, нежирной заправкой для салата, мукой из мацы, жарким из говядины и солеными помидорами.
– Такого я еще не видела! – воскликнула Рена Рейнхард. – Готовый паштет со вкусом печенки.
Она положила в корзину две упаковки. Муж обожал домашний печеночный паштет, и раньше Рена часами возилась с готовкой, но теперь, когда они бесконечно ругались, она больше не собиралась горбатиться. Пусть сам делает, если так уж приспичит.
Ципора Ньюбергер пробежалась по списку покупок, вытащила из сумочки карандаш и принялась вычеркивать то, что уже лежало в корзине.
– Осталось только три пункта, – она покачала головой. – У них опять закончились железные мочалки.
– Разве в «Пигли Уигли» их нет? – спросила Рена. – Мне кажется, я видела вчера.
Ципора пожала плечами. Она не ходила в «Пигли Уигли». Хотя там и продавались кошерные продукты, она считала, что само название делает все мероприятие трефным. Разок она все же наведалась, и там оказалось в точности так, как она опасалась: огромные изображения улыбающихся красных свинок на стенах, на тележках, даже на пакетах молока. У Ципоры было ощущение, что ее пытаются соблазнить: отведай хоть немножко бекона, хоть ломтик ветчины! Сердце бешено заколотилось, и она выскочила на улицу.
Пока Ципора выясняла у мистера Кана, когда ожидается поставка кошерных железных мочалок из Бруклина, в лавку влетела Бат-Шева. Она схватила тележку и усадила в нее Аялу. Быстро объехала магазин, не остановившись сравнить меню для шабата, спросить рецепт новых закусок или особого десерта. Тележка наполнялась вещами, которые покупает только тот, кто сам не готовит: замороженные рыбные палочки, консервированная фасоль и ячменный суп, упаковка крекеров, виноградное желе и две халы.
– Кто-то явно очень спешит, – отметила Бесси Киммель.
– Она же из Нью-Йорка, чего вы хотите? – покачала головой Хелен Шайовиц.
– Не знала, что у нее есть куда так торопиться, – сказала Бесси.
– Хотела бы я, чтобы мне было куда, – произнесла Хелен. Она носилась весь день: от зубного через химчистку на занятия щадящей аэробикой, на которые записалась недавно, – и ничто из этого ее, прямо скажем, не манило.
Бесси потрепала Хелен по плечу.
– Что-то не так?
– Просто устала. Устала готовить на шабат. – Хелен потерла лоб, пытаясь унять головную боль.
Знакомое нам чувство. Неделя за неделей мы проводили половину четверга и всю пятницу за готовкой и уборкой, и хоть раз хотелось бы передышки. Стоило закончиться шабату, уже надо было думать о следующем: озаботиться новым меню, позвать новых гостей, снова чистить серебро и гладить скатерти.
– Купи готовую еду, – посоветовала Бесси. – Я так все время делаю. Покупаю в «Шик перекусе», сдабриваю солью-перцем и перекладываю на свои блюда.
– А что, если кто-то спросит рецепт?
– Придумай. Пара яиц, оливковое масло, ложкой муки больше или меньше – какая разница? – сказала Бесси. Чтобы подбодрить Хелен, она решила рассказать историю, которой ни с кем еще не делилась. – Как-то к нам на ужин были званы Леви, а у меня не осталось времени на картофельный кугель. У меня был какой-то очень замысловатый рецепт с яичными белками и ста разными приправами. Я только собралась затеяться, но смотрю – шабат уже через час. Схватила готовую смесь и быстренько все состряпала. Подала, не говоря ни слова. И представь, миссис Леви принялась нахваливать, сказала, что такого кугеля в жизни не ела, а ты ж понимаешь, ей есть с чем сравнивать. Она спросила рецепт, и я дала тот самый замысловатый. На следующей неделе она мне позвонила: ей не давался правильный вкус, что она сделала не так? Я велела дословно следовать рецепту, и тогда все получится. Она до сих пор думает, что что-то делает не так.
Хелен с Бесси засмеялись, и Хелен представила, до чего это приятно – провести миссис Леви. Хотя они и были лучшими подругами, слегка осадить ее совсем бы не помешало. Но Хелен не смогла бы провернуть такую штуку, как Бесси. Одно дело – сознательно утаивать один ингредиент в рецепте, но на откровенную ложь она не готова. Это подрывает всю систему обмена рецептами.
А Бат-Шева тем временем покончила с покупками и направилась к кассе. Она выкладывала продукты из тележки, когда в магазин вошла Мими Рубин, жена раввина. На ней были нежно-розовая блузка с жемчужными пуговками, длинная цветастая юбка и такой же шарф на голове; так она обычно и одевалась, и эти пастельные оттенки действовали на нас умиротворяюще, именно такой мы и хотели видеть нашу ребецн. Покрытая голова не добавляла ей строгости, как это часто бывало у других женщин, покрывавших голову. Напротив, только ярче горели ее карие глаза, а на лице светилась милая приветливая улыбка.
Бесси и Хелен радостно ей замахали: встретить Мими всегда было настоящим подарком. Сколько бы мы ни пересекались, каждый раз казалось, мы не виделись годами. Мими помахала в ответ, но не подошла, а заметила Бат-Шеву и направилась к ней.
– Я Мими Рубин. Мы говорили по телефону перед вашим приездом.
– Да, конечно! Очень приятно наконец познакомиться, – сказала Бат-Шева.
– А это, должно быть, Аяла?
Аяла сосала леденец на палочке, который стянула с полки (большой вопрос, собиралась ли Бат-Шева за него платить).
– Поздоровайся с Мими, – велела Бат-Шева, как будто не замечая, что все дети и даже подростки обращались к ней «миссис Рубин».
– Мне ужасно неловко, что я так и не поприветствовала вас в нашей общине, – сказала Мими. – Уже и печенье заготовила, чтобы к вам зайти, но дел было невпроворот. И все же нет мне оправдания. Надеюсь, я смогу это как-то исправить.
И то правда. Мими была занята больше обычного. Последние две недели она сильно недомогала, а до этого ездила в Бирмингем ухаживать за больным отцом. Не говоря о том, что и готовить с приездом Йосефа приходилось больше.
– Все в порядке, – заверила ее Бат-Шева. – Мне очень помогли ваши слова. Всё как вы и говорили; я легко могу представить, что мы здесь приживемся.
– Очень рада. Надеюсь, скоро вам будет казаться, что вы здесь были всегда.
– Да, будем надеяться. Но после смерти Бенджамина я поняла, что нет смысла загадывать далеко вперед.
– Потихоньку-помаленьку, – согласилась Мими.
– Точно! – подхватила Бат-Шева.
Они улыбнулись друг другу, и Ципора, Рена, Хелен и Бесси почувствовали себя брошенными. Значит, как и предположила миссис Леви, прежде чем переезжать, Бат-Шева звонила Мими и расспрашивала про общину. И теперь между ними явно установилась некая связь. Увлеченная разговором с Бат-Шевой, Мими не замечала, как Хелен и Бесси украдкой подсматривают за ними из-за аккуратных пирамидок консервированного супа, как Ципора и Рена прислушиваются, притаившись в отделе замороженных продуктов, и стараются побороть ревность. Если раввин был нашей душой, Мими была нашим сердцем. Мы любили ее как сестру, мать или дочь. В ее сияющем лице мы видели доброту, напоминавшую о том, какими мы хотели бы быть.
– Почему бы вам с Аялой не прийти к нам в пятницу на ужин? Мы бы наконец получше познакомились, – предложила Мими.
– С удовольствием, – ответила Бат-Шева.
– Я пригласила Фельдманов. Вы уже встречались с Бекки? Ее муж в отъезде, но они с дочкой Широй придут.
Бат-Шева расплатилась за покупки наличными – кредит ей еще не открыли, – и, когда она уже выходила, Мими крикнула вслед: «До завтра! Я не хожу в синагогу в пятницу, так что приходите после зажигания свечей».
В пятницу днем мы позвонили Мими пожелать ей хорошей субботы. Мы попытались исподволь подвести разговор к Бат-Шеве. Разузнать напрямую было никак нельзя, так у нас не делалось. Правильнее было так закинуть удочку и задать нужные вопросы, чтобы тема Бат-Шевы всплыла как бы сама собой.
– Тебе сейчас, конечно, недосуг, но я хотела пожелать хорошей субботы. Ждешь вечером гостей? Ах, неужели? Как мило, – сказала Рэйчел Энн Беркович за час до зажигания свечей. – И как оно получилось? Я ведь и сама думала ее позвать.
– Видела тебя вчера у Кана. Заскочила за говяжьим фаршем детям на ужин, но ты была так занята разговором, не хотелось отвлекать, – сообщила Рена Рейнхард всего за двадцать минут до шабата.
Но ничего нового Мими не рассказала, и хотя говорила она мягко и терпеливо, мы уловили нотки упрека: в своей деликатной манере она настаивала, что Бат-Шеве надо дать шанс. Мими часто напоминала, что в наших силах менять мир, для начала исправляя хотя бы маленькую его часть вокруг себя. Никогда не знаешь, говаривала она, когда улыбка или доброе слово изменят кого-то на всю жизнь. Мими никогда ничего не высказывала резко и прямо, но ненавязчиво побуждала нас быть лучше.
Когда мужчины ушли в синагогу, миссис Леви надумала навестить Мими. Это хорошая возможность еще порасспросить Бат-Шеву, и ей бы очень хотелось еще повидаться с Аялой. Но чтобы ее не сочли уж слишком пронырливой, миссис Леви постаралась скрыть свои истинные намерения.
– Разумеется, я иду вовсе не для того, чтобы шпионить за Бат-Шевой, – заявила она. – Я сто лет не была у Мими, вот и все. И если там вдруг окажется Бат-Шева, что с того?
Она двинулась вниз по улице и свернула за угол, одетая в зеленый бархатный халат с золотой оторочкой, который носила всегда по пятницам, даже при гостях. «Он как платье», – говорила она всякий раз, когда кто-то из нас высказывал недоумение ее пусть даже и короткими вылазками за продуктами. Дочери критично отзывались об этом ее обыкновении, но муж всегда заверял, что она выглядит прекрасно в любом одеянии. По правде говоря, Ирвингу так нравилось, как она выглядит в этом халате, что он каждую Хануку покупал ей новый.
Миссис Леви прибыла к дому, как раз когда раввин и Йосеф отправлялись в синагогу.
– Мир вам, рабби. Здравствуй, Йосеф! Я с нежданным визитом к вашей чудесной жене, – заявила она.
– Прошу, заходите, – сказал раввин, и они с Йосефом поспешили по дорожке.
– Эй! – окликнула миссис Леви через сетчатую дверь. – Есть кто дома?
Мими, увидев, кто стоит на пороге, улыбнулась. Что уже было хорошим знаком, потому как не в очень далеком прошлом случились кое-какие обиды. Долгая история, но суть в том, что миссис Леви посчитала, что она, а не Мими сердце нашей общины. Миссис Леви полагала: тот факт, что Мими – жена раввина, не дает оснований претендовать на это звание; по ее мнению, это отдавало протекционизмом. Было непривычно, что кто-то не в ладах с Мими, и мы не понимали, что делать. В конце концов решили не замыкаться на раздоре, а подождать, пока все рассеется само собой.
– Какой приятный сюрприз! – сказала Мими.
– Чудесный вечер! Я вышла прогуляться и решила заодно вас повидать.
– Проходите, садитесь. С минуты на минуту придут Фельдманы и Бат-Шева.
Миссис Леви прошла в гостиную.
– Как мило. Не знала, что вы пригласили Бат-Шеву. Такая интересная женщина. И вполне себе история за плечами, верно?
– Думаю, как у всех нас, – ответила Мими. У Мими-то точно. Она была дочкой раввина из Бирмингема и младшей после пяти братьев. Отец обучал ее как сыновей – в те времена так никто не делал, мы всегда поражались, как много она знает. В старших классах Мими ходила в обычную среднюю школу, потому что в Бирмингеме не было дневной, а потом поступила в Барнард-колледж в Нью-Йорке. И она никогда не переставала быть религиозной – внешние силы не имели над ней власти.
А у нее самой какая история, задумалась миссис Леви. Она родилась в Мемфисе, выросла в Мемфисе, вышла замуж в Мемфисе и, скорее всего, умрет в Мемфисе. Маловато драмы, надо признать.
– Но такой необычной истории, как у Бат-Шевы, по-моему, ни у кого нет, – сказала миссис Леви. – Я на днях как раз думала, каково здесь будет такого рода человеку. Смею предположить, она привыкла совсем к другой жизни.
Миссис Леви уселась на диван и посмотрела на Мими в надежде, что та поделится недостающей информацией. В конце концов, она даже не поленилась дойти досюда, хотя еще надо приготовить салат и накрыть на стол. Но Мими не сдавалась. Только загадочно улыбнулась, отчего миссис Леви лишь утвердилась в мысли, что от нее скрывают какую-то грандиозную тайну. Пока она размышляла, как бы ее выведать, пришла Бекки Фельдман с шестнадцатилетней дочкой Широй. Они явно поругались по дороге. Щеки Ширы пылали от злости, и она старалась держаться подальше от матери. Но Бекки, желая произвести благоприятное впечатление, улыбалась и вела себя как ни в чем не бывало.
– Хорошей субботы, – бодро пожелала она.
Беседа возобновилась, но ушла так далеко от Бат-Шевы, что вернуться к интересующей ее теме миссис Леви уже не могла. Обсуждались привычные дела – результаты молодежной лотереи и одежда в «Goldsmith’s»: так мало длинных юбок, как же быть? Ну и, само собой, пришедший зной. Такой жары еще не случалось на нашей памяти, все были вялыми и едва вылезали из кондиционированных домов и машин.
Ширу разговор не интересовал. Она откинулась на спинку дивана и изучала потолок. В своей короткой юбке, грубых ботинках, супероблегающем свитере с коротким рукавом она словно сошла со страниц модного журнала. В этом году серьезные перемены коснулись хорошенького лица Ширы. Она по-прежнему училась на отлично, все по-прежнему только и говорили, какая она редкая умница, но у нее появилась новая манера разговаривать, почти не разжимая рта и отводя глаза.
– Как прошли каникулы? – спросила Ширу Мими. – Тяжело, наверное, когда лето заканчивается?
– Ага, – кисло ответила Шира.
– Шира, ты с каждой нашей встречей все краше и краше, – сказала миссис Леви, надеясь ее задобрить.
И тут появились Бат-Шева с Аялой. Вместо того чтобы робко и почтительно постучать, как поступили бы мы, будь мы новенькими в общине, они просто сразу зашли в дом. Мы не запирали двери, и тем не менее были некие негласные правила, куда можно или нельзя сразу заходить: к родственникам и друзьям – да, но в дом раввина – никогда.
– Есть кто дома? – послышалось из коридора.
Мими поспешила встретить Бат-Шеву.
– Я так рада, что вы все смогли прийти, – сказала она.
Бат-Шева вошла в гостиную и втиснулась на диван между миссис Леви и Бекки. Она уже собиралась посадить Аялу на колени, но миссис Леви помахала девочке рукой. Аяла отлепилась от Бат-Шевы и подошла обнять ее.
– Привет, милая. Не хочешь ли ко мне на коленки? У меня тут столько места, обидно, если оно зря пропадет без маленькой девочки, – промурлыкала она сладким голоском, которым всегда разговаривала с детьми.
Аяла кивнула и улыбнулась, и миссис Леви водрузила ее на колени.
– Ну разве не прелесть! – воскликнула миссис Леви. Она оправила на Аяле розовую водолазку, слегка замятую у воротничка. Это был один из даров Рены Рейнхард, и сидела она отлично.
– Кажется, у Аялы появился новый друг, – заметила Мими. Она повернулась к Бат-Шеве.
– Вы со всеми знакомы? – спросила она и, не дожидаясь ответа, представила гостей: – Это Бат-Шева и Аяла. А это Бекки Фельдман и ее дочь Шира, а с миссис Леви вы уже встречались.
– Как поживаете? – произнесла миссис Леви и кивнула.
Повисла небольшая пауза. Бекки занялась непослушными волосами Ширы, упрямо падавшими на лицо, миссис Леви откашлялась. Нельзя было возвращаться к прерванному разговору – о мелком ремонте Академии Торы, успеют ли его закончить к началу занятий, всего через две недели. Вряд ли стоило это обсуждать с Бат-Шевой, наверное, это чересчур провинциально для такой особы, как она. Но что ей было интересно, никто не знал.
– Расскажите еще про то, откуда вы, Бат-Шева, – попросила Мими.
– Мы жили в Нью-Йорке. Я только переехала и сразу встретила Бенджамина. – Бат-Шева обвела всех взглядом. – Вы, наверное, его знали.
– Конечно, знали. Я училась в старших классах с его матерью, его бабушка с дедушкой жили на одной улице с моими родителями. А его дядя был недолго женат на моей четвероюродной сестре. Но это уже другая история, – сообщила миссис Леви, легонько подбрасывая Аялу на коленках. – А откуда вы родом, Бат-Шева?
У новичков всегда это спрашивали; по ответу можно было много узнать о человеке. Если спрашивали миссис Леви, она с гордостью говорила: ее семья из Мемфиса. Не просто прожила здесь одно-два поколения, но издавна укоренилась в самом что ни на есть сердце города.
– Я только один раз была в Нью-Йорке и не понимаю, как можно там жить, – вставила Бекки. – Все куда-то несутся, столько народу, грязища.
Она уже собиралась поведать историю о том, как ее там чуть не обокрали, но миссис Леви бросила на нее многозначительный взгляд.
– Ш-ш, Бекки. Так откуда вы, Бат-Шева, будете?
– Я жила во многих местах, но родилась в Вирджинии, – ответила Бат-Шева.
– А где в Вирджинии? – поинтересовалась Бекки. – У меня кузен из Ньюпорт-Ньюс. Его отец был там раввином. Может, вы его знаете?
– Я выросла в Хэмптоне. Это совсем рядом с Ньюпорт-Ньюс, но я, скорее всего, не знала раввина.
Мы ни на минуту не забывали о том, что Бат-Шева перешла в иудаизм, но довольно усиленно делали вид, будто она всегда была еврейкой. Однако неудобная тема все равно всплыла. Само собой, Бат-Шева не знала раввина из ньюпортньюсовской синагоги. Когда доходило до сравнений, кого мы знаем и откуда, с какого юношеского слета, из какого летнего лагеря или колледжа, нам не было равных в еврейской географии.
Бекки готова была сквозь землю провалиться после своей оплошности. Она могла поклясться, что слышала, как Шира что-то пробормотала, то ли «отличный ход, ма» или, может, «так держать» – она теперь вечно отпускала саркастические ремарки. Просторная комната словно сжалась вокруг Бекки, мягкие диванные подушки стали ей тюрьмой, а повисшая тишина – напоминанием о ляпе. Однако опрометчивость Бекки позволила миссис Леви подобраться к кое-какой информации. Теперь, когда тема затронута, можно наконец задать вопрос вслух. Уже не одну неделю мы ходили вокруг да около, и, если Бат-Шева не собиралась давать прямой ответ, миссис Леви была намерена сама разоблачить ее.
– Могу ли я спросить, – начала миссис Леви, – что именно заставило вас перейти в иудаизм?
Вот так, вопрос прозвучал, и задать его оказалось проще, чем она думала. С небес не посыпались молнии, комнату не огласили изумленные охи и ахи. Даже Бат-Шева не выказала удивления. Напротив, она улыбнулась миссис Леви, довольная возможностью поговорить об этом.
– Меня всегда тянуло в иудаизм, словно Всевышний звал меня, – сказала она.
– Неужели? – бросила миссис Леви. Ее Всевышний никогда не звал, и вообще-то она четко помнила, как они учили, что в наше время Он больше не обращается к людям напрямую.
– Я гуляла по городу в пятницу вечером и проходила мимо синагоги, хотя тогда я еще не знала, что это. Двери были открыты, и я зашла. Никогда не видела ничего подобного. Зал был полон жизни. Люди пели, хлопали, раскачивались взад-вперед. Я тоже стала раскачиваться и петь. Я не знала слов и ничего не понимала, потому что они были на иврите. Но это не имело значения. Может, они всегда таились где-то глубоко во мне, может, были частью моей жизни в других временах и краях.
– Это не похоже ни на одну синагогу, в которых мне доводилось бывать. Вы уверены, что она была ортодоксальной? – спросила Бекки. – Насколько я слышала, в Нью-Йорке все синагоги снаружи одинаковые.
Бекки никогда не бывала в неортодоксальной синагоге, но ее четвероюродный брат принадлежал консервативной ветви иудаизма, что, полагала она, делало ее в некотором роде экспертом в этом вопросе.
Миссис Леви оборвала ее:
– Мы слушаем, Бат-Шева. Что же было дальше?
– Ко мне подошла женщина и протянула руку. Мы стали раскачиваться вместе. Слова закончились, все вновь и вновь пели только саму мелодию. И это уже не звучало как пение отдельных людей. Все голоса слились в один. Когда началась следующая молитва, женщина взяла меня за руку и отвела на место рядом с собой, в первом ряду женской стороны. Она дала мне сидур, и я стала читать на английском. Потом все принялись танцевать, меня тоже подхватили в хоровод женщин. Мне казалось, я делала это всю свою жизнь. И тогда-то я поняла, что нашла то, чего мне всегда не хватало.
– Вам всегда чего-то не хватало? – решила уточнить миссис Леви.
– Перед тем как перейти в иудаизм, я ощущала в жизни огромную дыру, как голод, только гораздо глубже.
– Но почему вы были уверены, что хотите стать еврейкой? – спросила миссис Леви. Она не могла взять в толк, зачем кому-то добровольно взваливать на себя выполнение стольких заповедей. Ей с трудом удавалось все их упомнить, а ведь она в этом с самого рождения.
– Просто показалось правильным. В юности я знала одну еврейскую семью. Их мать по пятницам зажигала свечи, и я заходила к ним посидеть. Она зажигала их для каждого из своих детей и как-то спросила, хочу ли я, чтобы и для меня зажгли одну. Мне нравилось смотреть, как моя свеча горит рядом с другими. Годы спустя, когда я очутилась в той синагоге, все стало на свои места. Я хочу верить, что некая рука всегда вела меня к иудаизму.
Слушая ее рассказ, миссис Леви словно заново вдруг ощутила, что иудаизм и в самом деле хорош. Если такие, как Бат-Шева, стремились стать евреями, в иудаизме определенно что-то есть. Не то чтобы у нее были сомнения (ну или, по крайней мере, она ни разу всерьез в этом не усомнилась), но получить подтверждение со стороны не лишне. Всякий раз, как миссис Леви слышала о людях, оставивших иудаизм, она испытывала укол беспокойства. Может, они знали что-то, о чем не догадывалась она? Были ли они умнее ее? Считали ли теперь ортодоксальных евреев недалекими, отсталыми и суеверными? Но если Бат-Шева выбрала иудаизм по своей воле, можно немного выдохнуть. Миссис Леви искренне улыбнулась ей. Как знать, может, эта новенькая здесь очень даже приживется.
– Давайте вернемся к вашей истории, – сказала миссис Леви, желая дослушать до конца. – Что было дальше?
– Когда служба закончилась, женщина поцеловала меня в щеку и пригласила к ним на субботний ужин. О стольком хотелось ее расспросить, но я решила, что лучше все прочувствовать, а волнующие темы отложить на потом. У нее в гостиной стоял огромный стол. Еще не рассаживались, потому что она никогда не знала, сколько человек придет. Гости были отовсюду. Некоторые, вроде меня, еще ни разу не отмечали шабат, другие делали это каждую неделю. Мне и в голову не пришло сказать, что я не еврейка. Никому не было дела, откуда я. Важно лишь, что я там и счастлива там быть.
Трапеза длилась много часов, и после полуночи нас осталось пятеро. Разговор зашел о важном, и я была к этому готова. Как можно почувствовать Бога, спросил один мужчина. Как можно постичь нечто, столь далекое от нас? Этот мужчина обратил на меня внимание. Так я встретилась с Бенджамином. Он пошел меня провожать. На следующей неделе я вернулась в синагогу и представилась раввину. Мы начали заниматься, и через год я сделала гиюр. И сразу после этого мы с Бенджамином поженились. Но к тому моменту у меня уже было ощущение, будто мы вместе прожили несколько жизней. Хотя он вырос в ортодоксальной традиции, мы одинаково воспринимали суть веры. Он тоже считал, что важно познавать, что ты чувствуешь на самом деле, и расти духовно. Прежде я никогда и ни с кем не могла делиться такими вещами и впервые была с человеком, который по-настоящему меня понимал.
Печаль овладела всеми от истории Бат-Шевы и Бенджамина. Бат-Шева сникла, стала как будто меньше ростом; радостное волнение, с которым она описывала свой первый шабат в синагоге, испарилось. Миссис Леви задумалась о том, как будет безутешна, если потеряет Ирвинга. Он был ее половинкой, она это точно знала. А Бат-Шеве пришлось справляться в одиночку. У нее не было семьи, на которую можно опереться.
Бекки перебирала разные темы, чтобы хотя бы перевести разговор на менее трагические моменты из жизни Бат-Шевы.
– Ваше имя, наверное, новое? – предположила она – хватит уже миссис Леви задавать все вопросы.
– Я взяла его, когда перешла в иудаизм. Став еврейкой, хотела взять еврейское имя. Как бы скрепив для себя свое новое «я».
– Но почему именно Бат-Шева? – недоумевала Бекки. Если уж есть возможность выбрать себе имя, есть столько разных вариантов. Будь у нее выбор, она уж точно не стала бы Бекки – предпочла бы что-то более драматичное, вроде Шошаны или Ариэллы.
– Мне нравилось, как оно звучит, и еще в нем был особый для меня смысл. Бат-Шева означает «седьмая дочь», а я решила перейти в иудаизм из-за субботы, седьмого дня.
Шира впервые включилась в разговор:
– Круто. Я тоже хочу сменить имя.
– Что ты такое говоришь? Шира – красивое имя, – возмутилась Бекки и повернулась к остальным: – Ее назвали в честь моей бабушки. Она это говорит, просто чтобы меня расстроить.
Бекки тяжело вздохнула. Она устала разбираться с Широй в одиночку. Муж всегда умудрялся быть не в городе, когда ситуация накалялась.
Она взглянула на миссис Леви и Мими в поисках поддержки, и миссис Леви ободряюще улыбнулась. Она воспитала двух дочерей и отлично знала, как это непросто. Вспомнились жуткие ссоры, когда они заявили, что не собираются возвращаться в Мемфис. Миссис Леви посмотрела на дувшуюся Ширу: она готова была поклясться, что та скорчила недовольную мину в ответ на слова матери. Полная противоположность Аяле, которая, нежно прижавшись к миссис Леви, довольно играла ее золотым браслетом.
– Простите, если мы задаем чересчур много вопросов. Наверное, тяжело рассказывать о таких личных вещах едва знакомым людям, – заметила Мими, несомненно, думая о сказанном в Торе, что, если кто обратился в иудаизм, не отделять его от остальных, не давать почувствовать себя чужаком, потому что мы и сами когда-то были чужаками в земле Египетской. Живя здесь, в Мемфисе, мы это понимали особенно хорошо.
– Я совсем не против, – ответила Бат-Шева. – Хорошо, когда есть с кем поговорить. Бывает, что, когда Аяла уже спит, я смотрю из окна на все эти дома вокруг, и мне становится очень одиноко.
Миссис Леви попыталась представить, что бы она делала, если бы на всем белом свете у нее была одна только тихая маленькая девочка. И не смогла. И хотя ее дети здесь уже не жили, но только в самом Мемфисе – собственно, в радиусе одной мили – у нее были муж, сестра, два брата и две невестки, пять племянниц и семь племянников и несчетное число двоюродных, троюродных и четвероюродных братьев и сестер, про пяти– и шести– и говорить нечего, но их она уже в голове не держала.
– Вы уже думали, чем хотите здесь заняться? – спросила Мими. – Когда ты при деле, всегда легче.
– Меня так занимала сама идея переезда, что времени что-то спланировать толком не было, – сказала Бат-Шева. – Но я собираюсь поискать что-нибудь, связанное с искусством, – может, преподавать в школе или работать в галерее.
– Ах да, верно, – подхватила Бекки. – Рена Рейнхард рассказала мне про ваши картины. Говорит, они очень интересные.
Рена передала Бекки слова Бат-Шевы о том, как ей хотелось бы видеть реакцию на свои работы и как важно ей дать людям что-то прочувствовать, и Бекки гадала: относилось ли это только лишь к ее художествам?
– Лена Гурвиц тоже художница. Она изумительно владеет каллиграфией и еще расшивает диванные подушки. У меня в гостиной есть две, – заявила миссис Леви. – Может, вам стоит придумать что-то вместе.
– Такими вещами я не занимаюсь. Я пишу, – ответила Бат-Шева тоном, который, не предполагая никого обидеть, не оставлял сомнений, что она выше каллиграфии и вышивания.
– Что ж, – откашлявшись, произнесла миссис Леви, – что ж, это очень мило.
Бекки нервно захихикала и хотела было потрепать Ширу по голове, но та отпихнула руку матери.
– Оставь меня в покое, – прошипела она, и Бекки опустила глаза: вечно она все делала и говорила невпопад.
Желая сгладить неловкость, Мими посмотрела на часы.
– Уже вот-вот должны вернуться раввин с Йосефом.
Служба в синагоге в тот вечер задержалась: в городе гостили родители кантора, и он, наверное, решил блеснуть в их честь. Когда раввин и Йосеф наконец появились, их уже совсем заждались. Мими представила раввина Бат-Шеве, и тот кивнул, почти не глядя. Он не был недружелюбным, просто он такой, и особенно с женщинами: немножко скованный, немножко резкий. Йосеф стоял чуть позади, и Мими подошла поцеловать его в щеку.
– Хорошей субботы, – произнесла она, оглядела его темные волосы, белоснежную рубашку и вся засветилась от гордости. – Ты уже знаком с Бат-Шевой и Аялой?
Не успел он ответить, как Бат-Шева вставила:
– Рада снова встретиться, Йосеф. – Она повернулась к Мими: – Йосеф был очень приветлив со мной, когда я только приехала.
Йосеф так явно смутился, что миссис Леви едва могла это вынести.
– Такой уж он, наш Йосеф, – сказала она, надеясь хоть немного разрядить обстановку.
– Так и есть. – Мими положила руку на плечо Йосефа. – Мы им очень гордимся.
Миссис Леви огляделась: теперь уже все собрались к ужину, и оставаться дольше было невежливо.
– Ну вот, пришло время мне вас покинуть, – объявила она. – Ирвинг, наверное, уже вернулся из синагоги и думает-гадает, куда это я сбежала.
Мими пошла проводить ее до двери, и миссис Леви крикнула напоследок, как приятно было повидать Бат-Шеву и наконец нормально поговорить – вместо вечных коротких «здрасьте», которыми они обменивались, когда та приводила Аялу. Она поблагодарила Мими за гостеприимство – все, как всегда, чудесно, – потом дверь захлопнулась, и миссис Леви осталась снаружи, а Бат-Шева – внутри.
Мими пригласила всех к столу. С наступлением шабата комната преобразилась. На безупречно белой скатерти сияла белая фарфоровая посуда. На буфете стояли доставшиеся Мими от прабабушки серебряные подсвечники с тремя зажженными свечами, по одной для каждого члена их маленького семейства. Кидушный бокал был наполнен вином, халы покрыты салфеткой, и нож для хлеба лежал наготове. Мы все любили бывать здесь на шабат; именно так и надо было его встречать. Хотя мы тоже зажигали свечи и старательно накрывали стол, в доме Мими, казалось, все больше отмечено святостью, как будто они жили немножко ближе к небесам.
Но в этот раз у Бекки не получалось проникнуться правильным настроением, не получалось дать духу шабата омыть ее и унести прочь все заботы недели. Они пробрались за ней прямиком в субботу. С Широй было трудно как никогда. Что бы ни делала, ни говорила Бекки, все выходило не так. Вот, например, здесь она попыталась подтолкнуть Ширу поближе к Йосефу, чтобы потом она и за столом оказалась рядом, – так в юности всегда поступала сама Бекки. Но Шира лишь передернула плечами и фыркнула в ответ.
Все стали рассаживаться, и, как нарочно, Бат-Шева очутилась прямо напротив Йосефа и рядом с Мими, там, где должна бы сидеть Шира. Когда запели Шалом алейхем, Бекки наблюдала за Бат-Шевой, которая, сосредоточенно закрыв глаза, раскачивалась взад-вперед. Аяла стояла подле нее, не раскачивалась, не пела, но внимательно всех изучала. Бекки могла поручиться, что девочку смущает эта истовость. Скривившись, она с любопытством огляделась: заметил ли еще кто-нибудь поведение Бат-Шевы? Но все самозабвенно распевали Эшет хаиль и слушали, как раввин произносит кидуш.
Когда Мими поднялась принести еду, Бат-Шева тоже начала было вставать, но Мими жестом показала ей сесть обратно: она любила делать это сама, так было быстрее.
– Тогда я помогу потом убрать со стола, – сказала Бат-Шева.
Бекки раздражало, что Бат-Шева опередила ее, но она тоже послушно села на свое место. Лучше не оставлять Бат-Шеву наедине с раввином и Йосефом. Не то чтобы непременно что-то произойдет, но и рисковать ни к чему.
Йосеф, потупившись, глядел в тарелку. Ему так легко было беседовать с Бат-Шевой в синагоге, но перед отцом – совсем другое дело. Шира сидела, уставясь в никуда; Бекки представить не могла, о чем она думает. Бат-Шева тоже молчала, и в затянувшейся тишине раввин понял, что вести разговор придется ему.
– Как вы находите Мемфис? – спросил он Бат-Шеву.
– Нам тут очень нравится, да, Аяла? Все так замечательно к нам относятся, особенно к Аяле.
– Никогда не забуду день, когда мы приехали сюда, уже почти тридцать лет назад, – сказал раввин. – У дома нас ждали десять женщин с таким количеством еды, что хватило бы на месяц. И то же самое повторилось, когда родился Йосеф. Люди здесь гордятся своим гостеприимством.
– Не просто же так нас называют Южным Иерусалимом, – вставила Бекки. Ее мать была одной из тех десяти женщин у дома раввина, и она этим очень гордилась.
– Как прекрасно! – воскликнула Бат-Шева и рассмеялась. – Южный Иерусалим.
На случай, если в этом был сарказм, Бекки бросилась защищаться.
– Может, вы и не понимаете, но мы не похожи на другие общины. У нас есть начальная школа, средняя школа, синагога, – она загибала пальцы, – ресторан, кошерный магазин, даже булочная. Сколько общин наших скромных размеров могут этим похвастаться?
– Совершенно согласна. Когда я сообщила нескольким нью-йоркским знакомым, куда переезжаю, у всех нашлось что сказать.
– О, неужели? А что именно? – спросила Бекки. Ей редко доводилось слышать, как отзываются о Мемфисе со стороны, и Бат-Шева раззадорила ее любопытство.
– Кто-то удивлялся, что здесь вообще есть евреи. Для них эти места – жуткое захолустье, они просто не верили, что я могу променять Нью-Йорк на какой-то маленький городок.
– Надеюсь, вы им рассказали, что у нас очень уважаемая община с большой историей, – произнесла Бекки.
– Об этом мне как раз поведал мой раввин. Он много хорошего слышал о еврейской общине Мемфиса.
Раввин подался вперед – вот отличный повод побольше разузнать о Бат-Шеве.
– А кто был вашим раввином? – спросил он.
– Рабби Абрамс из синагоги Карлебаха, – сказала Бат-Шева. – Вы его знаете?
– Разумеется, – с облегчением ответил раввин; наконец-то он мог поместить ее в понятный ему контекст.
Хм, подумала Бекки, значит, Карлебах. Эта синагога считалась немного вне традиции, поговаривали, что там довольно разношерстная публика и заведены пение с танцами. У Бекки была старинная подруга, еще из колледжа, которая жила там поблизости и иногда ходила в эту синагогу. Может, она знала Бат-Шеву? Если нужно, Бекки была готова без малейших колебаний воспользоваться прежними связями.
– Самое трудное для меня здесь то, что я больше не могу заниматься с моим раввином. Но я обязательно звоню ему раз в неделю, – добавила Бат-Шева.
Ничего похожего во взаимоотношениях с раввином у Бекки не бывало. Если у нее появлялся вопрос, задавал его всегда муж. Она уже хотела выяснить все поподробнее, как Мими стала расставлять блюда с едой. Как обычно, она превзошла себя. Подавались курица в медово-горчичном соусе и говяжьи ребра барбекю, пирог с брокколи на домашнем тесте, кугель из лапши со свежими персиками, мини-морковка и нарезанные фаршированные кишки, чуть присыпанные коричневым сахаром. Для многих из нас эта стряпня была своего рода соревнованием, кто наготовит больше, кто затейливее, почти как в изысканном ресторане. Но Мими никогда не готовила по этим причинам, она явно делала это просто из любви к шабату.
Бекки смотрела, как Бат-Шева накладывает себе всего, кроме курицы и ребер. Ясно, подумала она. Наверное, вегетарианка. Люди вроде нее обычно ими и оказываются. Бекки попробовала представить, что Бат-Шева готовила на шабат. Тофу? Тунца? Всем известно, что курица или жареное мясо должны быть обязательно. Это стало уже почти что законом. Откусив курицы, Бекки еще больше взъелась на Бат-Шеву. Да она словно нарочно вздумала стать вегетарианкой только для того, чтобы всех позлить. Но Бекки этим не проймешь. Она рьяно уплетала свой кусок курицы.
– Все восхитительно, Мими. Особенно курица. Мне надо взять у тебя рецепт, – сказала Бекки. – Как ты умудрилась успеть все это наготовить?
– Пустяки, – ответила Мими. С ней так всегда: на ней держится столько проектов (сбор одежды для нуждающихся, раздача бесплатных продуктов, список бесконечен), но стоило кому-то заикнуться о ее заслугах, она лишь мило отмахивалась.
– Не выдумывайте! Это просто невероятно! – сказала Бат-Шева. – Вы, наверное, целый день от плиты не отходили. У нас вся готовка была на Бенджамине, так что теперь мы с Аялой импровизируем, да, детка?
Они с Аялой переглянулись и засмеялись, конечно же, припомнив оладьи и прочую еду для завтрака, которую она пыталась выдать за нормальный ужин.
– До гиюра я обычно ела не дома. И, когда стала соблюдать кашрут, не всегда получалось держать это в голове. Однажды зашла в некошерный ресторан и не сразу опомнилась.
Бекки такого даже вообразить не могла. Соблюдение кашрута так глубоко вошло в плоть и кровь, что она уже про это и не задумывалась.
– Могу себе представить, – сказала Мими. – Это ведь такая серьезная перемена. Поскольку мы выросли в ортодоксальной традиции, уже не сознаем, насколько это трудно.
– Шира любит готовить, – вставила Бекки, пихнув Ширу в бок. – Да ведь?
Она подождала, надеясь, что Шира расскажет, какую восхитительную лазанью приготовила прошлым летом.
– Не особенно, – ответила Шира и поглядела на свои ногти, накрашенные ярко-розовым лаком.
– А вы, Йосеф? Любите готовить? – спросила Бат-Шева.
– Не слишком-то, верно, Йосеф? – смеясь, сказала Мими.
– Я умею, – ответил он. – В ешиве я готовил завтрак с ребятами, если мы поздно вставали.
Он робко посмотрел на Бат-Шеву. Ему хотелось поговорить с ней, но он не знал о чем.
– Могу поспорить, юные раввины это обожали: спать допоздна и потом болтаться на кухне, – рассмеялась Бат-Шева.
Йосеф улыбнулся ей, и Бекки чуть не поперхнулась. Она опустила вилку с ножом и чинно сложила руки на коленях. Только-только ужин потек как полагается, как Бат-Шева умудрилась брякнуть непристойность.
– Давайте споем, – предложил раввин, и лично Бекки этому очень обрадовалась.
Раввин начал, а за ним и все остальные: «Создателя, чью пищу мы ели, благословите верные Ему. Мы ели вдоволь и у нас не перевелась еда, как обещал Господь. Он питает весь мир свой, Пастырь наш, Отец наш. Мы ели хлеб Его и пили вино Его». Бат-Шева пела громко, она обняла Аялу, пытаясь вовлечь ее в хор, несмотря на то что у девочки уже слипались глаза. Когда допели до конца, Аяла уже мирно спала, приклонив голову на плечо Бат-Шевы.
– Вы только посмотрите, – сказала Мими. – Совсем сморило.
Бат-Шева взяла Аялу на руки и отнесла на диван в гостиной. Несколько секунд она стояла и смотрела на спящего ребенка, потом снова вернулась за стол. Не дожидаясь отмашки от хозяйки (как следовало бы, согласно миссис Леви и мисс Этикет), она предложила убрать со стола.
– Отличная идея, – согласилась Мими, вставая со стула.
– Нет-нет, сидите! Вы сегодня уже и так потрудились, – сказала Бат-Шева.
– Вовсе нет, – запротестовала Мими.
– Я настаиваю. – Бат-Шева забрала у Мими тарелки. – Не волнуйтесь, Йосеф мне покажет, что куда.
Она принялась складывать посуду.
– Держите-ка вот это, – велела она, передавая тарелки Йосефу, – а я возьму остальное.
Они отнесли все на кухню и принялись расставлять среди кастрюль и обрывков фольги. Вместе со звоном посуды до столовой доносился их смех.
– Спорим, вы никогда не помогали убирать со стола, – подначивала Йосефа Бат-Шева.
– А вот и неправда, – настаивал он.
– И почему это я вам не верю? – сказала она, и они засмеялись.
Когда они вернулись, Бекки окинула обоих весьма многозначительным взглядом, надеясь, что они сообразят, как неподобающе себя ведут. Одно дело, если бы Бат-Шева кокетничала с Йосефом наедине, но совсем другое – вот так, при всем честном народе.
– Йосеф, не скажешь ли ты нам двар Тора?[9] – спросил раввин.
Просил он каждую неделю. Предполагалось, что у юноши из ешивы всегда на языке вертится пара слов из Торы.
– Мы с отцом сейчас изучали главу о пара адума, красной корове, – начал Йосеф. Он огляделся, желая убедиться, что все знакомы с предметом. У всех на лицах отразилось понимание, кроме Бат-Шевы. Мы все когда-то учили это в школе, теперь уж не вспомнить, где и когда.
Он повернулся к Бат-Шеве.
– Господь повелел первосвященнику взять рыжую корову без единого пятна, зарезать и сжечь и пеплом ее очистить народ, чтобы мог он войти в Бейт га-микдаш, Храм. – Йосеф говорил терпеливо и ясно; когда-нибудь из него выйдет замечательный раввин. – Но здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Люди становятся нечисты, если прикасаются к трупу, и тем не менее пепел трупа животного делает их тахор, очищает. Эта мицва – классический пример закона, для которого нам не дано обоснования. Предполагается, что мы слушаемся слова Всевышнего, не спрашивая почему. И в то же время это очень сильное послание о том, что нет ничего абсолютно плохого или хорошего – все может меняться в зависимости от контекста. Из плохого может получиться хорошее, равно как и плохое может родиться из хорошего.
Закончив, Йосеф посмотрел на отца, ища одобрения. Раввин едва заметно кивнул. Моргни Бекки в эту секунду – и не заметила бы. Но даже в мимолетном взгляде она уловила, как его глаза светились гордостью. Йосеф тоже это увидел и с облегчением улыбнулся.
– У меня есть вопрос, – сказала Бат-Шева. – Я не понимаю, что в Торе подразумевается под «тахор»?
– Это необязательно означает чистоту в нашем привычном понимании. Это не имеет отношения к физической чистоте, но отсылает к чистоте ритуальной, которая позволяет человеку служить в Бейт га-микдаш, – ответил Йосеф.
– По-моему, это было совершенно замечательное двар Тора, – едва слышно пробормотала Бекки. И ведь надо Бат-Шеве непременно докопаться! Именно такое двар Тора было Бекки по сердцу: все ясно-понятно, не надо напрягаться, нет нужды обсуждать и задавать вопросы.
– Но ведь и у ритуальной чистоты должно быть какое-то символическое значение. Мне кажется, чистота здесь связана с жизнью. Чем больше мы цепляемся за жизнь, тем чище становимся, – сказала Бат-Шева. Она оглядела сидящих за столом, и Мими ободряюще улыбнулась.
– Хорошо подмечено, Бат-Шева, – похвалила она.
– Мы с Бенджамином всегда изучали Тору вместе и обсуждали символическое значение выполняемых ритуалов. После его смерти я стараюсь продолжать учиться, но каждый раз вижу, как много всего я не знаю.
– Тут нужно время, – сказала Мими. – Я учусь всю жизнь, и о скольких же еще вещах мне надо больше узнать!
– Я бы очень хотела продолжить заниматься. В Нью-Йорке я ходила в группу, которая собиралась дважды в неделю у кого-нибудь на квартире, а летом – в Центральном парке. Каждый готовил свой вопрос, и наш раввин учил нас, – добавила Бат-Шева.
– У нас есть занятия раз в месяц, – заметила Бекки. – Женский домашний кружок. Мы изучаем всё о молитве.
Вот это были занятия так занятия: всего сорок минут, можно спокойно сесть, расслабиться и послушать.
– Мне столько всего нужно догнать. Мне необходимо найти кого-то, кто бы занимался со мной почаще. – Бат-Шева снова обвела всех взглядом. И глаза ее остановились на Йосефе.
Все молчали, и Бекки просто поверить не могла, что Бат-Шева смела рассчитывать на личные уроки с Йосефом – даже у такой не хватило бы духу. Йосеф изредка вел занятия, по праздникам или когда бывал здесь на каникулах, и мы все, конечно же, приходили. Но его время полагалось почтительно беречь. Он был настолько недосягаем, что мы и помыслить не могли об уроках один на один.
– Мы с отцом занимаемся после обеда, и, вероятно, я бы смог заниматься с вами по утрам, – предложил Йосеф.
Он посмотрел на отца, убедиться, что тот не возражает. Бекки была потрясена, что он не спросил сначала позволения. И она не сомневалась, что раввин ни за что такого не одобрит. Насколько ей известно, смешанные занятия один на один не разрешались. И вообще, как-то давно уже возникал разговор о том, чтобы сделать старшие классы в школе смешанными, но в конце концов все дружно сочли идею неподобающей. И раввин всегда старался оберегать сына от дурных влияний. Она точно помнила, что в старших классах Йосефа отговаривали от походов в кино на фильмы 17+ вместе с другими мальчиками. И он не общался с девочками в своем классе, не принимал участия в смешанных вечеринках, которые полутайно устраивались по субботам.
Как Бекки и ожидала, раввина такая идея очень удивила. Мими тоже это заметила и ободряюще улыбнулась мужу, давая понять, что она не против. Так оно зачастую и было между ними: пусть формально общину возглавлял раввин, за ним всегда стояла Мими, направляя его решения своей мудростью и добротой.
– Какая замечательная идея, – сказала Мими Бат-Шеве. – Вы можете заниматься в синагоге, а я буду брать к себе Аялу. Маленькая девочка в доме мне только в радость.
Раввин улыбнулся, видя ее оживление. Но Бекки недоумевала, что вообще Мими себе думает. Единственное объяснение, которое приходило в голову, – что Мими так рвется помочь Бат-Шеве, что даже готова закрыть глаза на вопрос совместного смешанного изучения. Или же она настолько доверяла Йосефу, что твердо знала: из этого не выйдет ничего дурного?
– Вам правда не трудно? – спросила Бат-Шева.
– Да, я же все равно дома, – ответил Йосеф.
– Тогда это просто прекрасно.
Бат-Шева улыбнулась ему, как будто это самая что ни на есть обычная вещь на свете, как будто Йосеф всегда вызывался быть частным учителем у женщин, которые только что переехали и о которых мы толком ничего не знали.
– Ну, раз мы с этим разобрались, можно переходить к десерту, – объявила Мими.
Она удалилась в кухню и вернулась с мраморным тортом. Такой же торт она каждый год пекла для кулинарной распродажи, которую устраивала Женская группа помощи в день летнего солнцестояния. Его покупали просто-таки немедленно, и однажды даже произошла стычка: Хелен Шайовиц и миссис Леви поспорили из-за того, кто был первым (в конце концов Мими решила проблему, разрезав торт пополам и пообещав, что в следующий раз испечет два, чтобы досталось каждой).
Пока Мими раскладывала торт по тарелкам, раввин попытался завязать разговор с Широй. Та сидела молча, изнывала от тоски и ждала, когда же этот ужин уже закончится.
– Ты, наверное, очень ждешь начала школы? – спросил раввин.
– Да не особенно, – ответила она.
О том, что Шира недовольна школой, было известно всем. В прошлом году она вбила себе в голову, что хочет учиться в обычной средней школе. Родители препирались с ней все лето, и мы отчасти привыкли видеть Ширу сидящей на бордюре тротуара, в то время как из дома неслись злобные крики Бекки. В конце концов родители взяли верх. Они сообщили дочери, что она идет в прежнюю школу, и точка. Но вела она себя все хуже, и некоторые из нас подозревали, что не без участия Ширы и другие девочки стали проявлять недовольство. В последние годы учеников в школе сильно поубавилось: в девятом классе учились всего три девочки, и пять – в десятом. Были и другие проблемы. Не все ученики ладили с директором, а учитель физики уволился год назад, и нового так и не нашли. Но когда кто-нибудь начинал жаловаться, мы напоминали ему и себе: нам повезло, что в такой маленькой общине, как наша, вообще есть такая школа.
Учителя всячески изощрялись, чтобы как-то развлечь девочек: была устроена Духоподъемная неделя, когда вместо уроков они катались на роликах, играли в боулинг или отправлялись на водную прогулку по Миссисипи. Были организованы завтрак для дочерей и матерей, показ мод, класс аэробики после уроков. Придумали даже музыкальное действо под названием «Фортуна: вдохновляющий вечер песни и танца для женщин Мемфиса» с живым аккомпанементом и танцевальными номерами. Хелен Шайовиц сшила костюмы – длинные юбки на манер саронга и блузы к ним, – как же мило девочки в них смотрелись!
– Знаете, как оно бывает. Девочкам сейчас непросто, – сказала Бекки. – Порой кажется, что ничего не сработает.
«Фортуна» провалилась; пение с танцами не сложились, там в ноту не попали, здесь сфальшивили, пара-тройка забытых движений, ну и в довершение досадный эпизод, когда одна из танцевавших грохнулась со сцены прямо на пианино. После этого девочки сделались недовольны окончательно и бесповоротно, и Бекки потеряла всякую надежду.
Бат-Шева слушала рассказ Бекки и наблюдала, как Шира вновь презрительно усмехается на слова матери.
– Может, девочкам нужно попробовать что-нибудь новое, – предложила Бат-Шева. – Завтраки матери и дочки, модные показы – это все прекрасно, но, когда я была подростком, я бы тоже не очень прельстилась.
Бекки вперилась в нее взглядом: откуда Бат-Шеве знать, что может понравиться хорошей девочке из ешивы?
– В старших классах мне хотелось скорее творческой свободы выражения, чтобы выпустить наружу все, что я чувствовала, – продолжала Бат-Шева. – Тогда-то я и стала более серьезно заниматься рисованием. Мне казалось, это единственное, что держит меня в узде.
Бекки расхохоталась. Уж конечно, выпустить все наружу – последнее, что нужно девочкам. Она повернулась к Мими, ее это тоже должно было позабавить. Но Мими улыбалась Бат-Шеве.
– Вы правы, Бат-Шева, девочкам действительно это необходимо, – подтвердила она. – Почему бы не решить разом обе проблемы? Йосеф будет заниматься с вами, а вы можете учить девочек рисовать.
Они принялись обсуждать организационные проблемы: сможет ли Бат-Шева преподавать по утрам, пока Аяла в школе, как на эту идею отреагирует директор? У Бекки не было ни малейшего шанса поднять вопрос о том, насколько вообще Бат-Шева годится для помощи девочкам.
После ужина Бат-Шева взяла на руки Аялу. Мими говорила, как ей было приятно познакомиться и как нужно поскорее встретиться еще. Бат-Шева на пороге наклонилась и поцеловала Мими.
– Сразу после шабата я поговорю с директором, – сказала Мими, легонько пожав плечо Бат-Шевы. – Уверена, все получится, вот увидите.
После этого вечера кто-то из нас все еще шептался про манеру Бат-Шевы одеваться, бросал на нее подозрительные взгляды в синагоге и притворялся, что не замечает, когда она проходила мимо на улице. Но для большинства дружба Мими была своего рода кошерной печатью, которая появилась на лбу Бат-Шевы и всё на корню переменила. Мы тепло кивали ей и желали хорошей субботы, улыбались, столкнувшись в магазине, и даже стали приглашать ее на субботний ужин.
5
Мы решили: не так уж удивительно, что Бат-Шева не похожа на нас. В конце концов, она выросла совсем в другой среде. Мы помнили, что́ как-то сказал раввин о тех, кто обращается в иудаизм: жизнь подобна лестнице, и каждый день ты преодолеваешь по одной ступеньке. Если подниматься слишком быстро, можно сорваться. Но главное тем не менее не переставать подниматься. И кто лучше Йосефа мог помочь Бат-Шеве взбираться вверх по этой лестнице?
Впервые они встретились в синагоге. Разумеется, правильнее всего им было заниматься на людях. Тогда мы Йосефа ни в чем, конечно, не подозревали, но оставаться наедине им запрещалось. Если мужчина с женщиной оказывались за закрытыми дверями, выводы были вполне однозначны. И даже если ничего такого не происходило, все равно так вести себя не подобало. Еще одно правило, о котором говорил раввин, когда кто-то из нас взял за привычку покупать кофе в ближайшем «Макдоналдсе»: нельзя делать то, что люди могут неверно трактовать или счесть дозволенным. Если кто-то увидит, как вы покупаете кофе в «Макдональдсе», он может подумать, что там все кошерное, и потом из-за вас съесть чизбургер.
Йосеф пришел в синагогу раньше условленного времени. Он не знал наверняка, что захочет изучать Бат-Шева, поэтому принес целую стопку книг: комментарии к Библии, переводы молитв, руководства по соблюдению шабата и кашрута. Он заглянул в бейт мидраш, маленькую комнатку, изначально задуманную для занятий. Но сколько бы мы ни ходили мимо, она всегда была пуста, если не считать двух-трех стариков, изучавших там Тору в послеобеденные часы.
Йосеф сел за стол и стал ждать Бат-Шеву. Она так загорелась идеей заниматься с ним, невозможно представить, чтобы она позабыла. И все же она опаздывала – на пятнадцать минут, а то и больше. Довольно быстро стало понятно, что у Бат-Шевы напрочь отсутствует чувство времени, некая внутренняя жажда, толкающая ее вперед. Йосеф побарабанил пальцами по столу, пролистнул книгу и в третий раз поглядел на часы. Вышел в коридор посмотреть, не ждет ли она там, и с облегчением увидел, что нет. Не нам было винить Йосефа, что он нервничал. Он едва знал Бат-Шеву, а ему предстояло провести с ней немало времени наедине.
Еще минут пять спустя – да кто ж там уже считает? – в комнату, запыхавшись, влетела Бат-Шева.
– О господи, прошу прощения за опоздание!
– Не волнуйтесь, я и сам только пришел, – сказал Йосеф.
Бат-Шева села напротив. Одета она была вполне предсказуемо: легкая струящаяся юбка в мелкий цветочек, блузка (могла быть расстегнута и поменьше), прозрачный шарфик на шее, украшения из бусин, которые постукивали друг о дружку при ходьбе. Мы, конечно, всерьез не надеялись, что на занятия с Йосефом она оденется иначе, скажем, в джинсовую юбку и строгую блузку, но вообще-то было бы мило с ее стороны.
– Я с головой ушла в рисование и напрочь потеряла счет времени. Когда взглянула на часы, глазам не поверила. Так любезно, что вы не сердитесь. Теперь я у вас в долгу.
Она в нетерпении смотрела на него, желая поскорее начать. Но Йосефу явно было так неловко, будто он в жизни не давал уроков.
– Так что бы вам хотелось изучить? – спросил он.
– Всё, – ответила она с улыбкой.
– Звучит серьезно, – осторожно заметил Йосеф.
– Не волнуйтесь, я шучу. Конечно, я не надеюсь выучиться всему разом. Но выбор слишком велик. В Нью-Йорке мы с раввином изучали еврейскую философию. Читали «Тринадцать принципов веры» Маймонида и старались понять каждый из них.
Йосеф показал ей книги, которые принес с собой. Она просмотрела каждую.
– Даже не знаю. Я очень подробно изучала комментарии к законам, но сами по себе они мне не слишком понятны.
– Весь иудаизм строится вокруг законов. И комментарии определяют всю систему.
– Понимаю. Но бывает очень трудно постичь их смысл.
– Думаю, время от времени все сталкиваются с этим, – сказал Йосеф. – Может, будет легче, если начать с более общих причин того, почему мы всё это выполняем.
– Прекрасная идея! Мне столько всего непонятно. Однажды я отправилась в кемпинг, в горы Сьерры-Невады, проснулась рано утром и пошла гулять. Присела на краю тропинки с видом на водопад. Вокруг полная тишина. Мне казалось, я единственная во всем мире не сплю. Меня поразила эта красота вокруг, и я ощутила невероятное желание постичь Бога и мир, который Он сотворил.
Она запнулась и взглянула на Йосефа.
– Вы молчите. Думаете, это бессмыслица? Люди часто смотрят на меня в недоумении, когда я говорю такое. Не верят, что я это всерьез. Но это правда. Я бы не перешла в иудаизм, если бы так не чувствовала.
– Да нет, это вовсе не бессмыслица. Правильно думать о более глубоких вещах. Комментарии к законам очень важны, но им необходим контекст.
– Я так рада, что вы понимаете. Может, у нас получится брать на каждом занятии новую тему? Я буду заранее отбирать непонятные моменты, и на занятии мы будем их рассматривать, – предложила Бат-Шева и улыбнулась ему. – Хорошо?
Вместо ответа Йосеф потупился и покраснел. Чем увереннее она становилась, тем больше он тушевался.
– Должен признаться, – проговорил Йосеф, не подымая глаз, – все это для меня несколько необычно. Я привык учиться с отцом или с ребятами из ешивы. Большинство из них посмеялись бы, увидев меня здесь. Даже отцу было бы непросто заниматься с женщиной. – Он замялся, окончательно сконфузившись. – Я не привык находиться в обществе девушек.
– Вы считаете, нехорошо, чтобы мужчины и женщины учились вместе?
– Не знаю. Это не соответствует определенному строю жизни, вот и все. – Йосеф выглядел смущенным, он не мог разобраться, правильно ли поступает, занимаясь с ней, правильно ли, что говорит ей все это. – Не думаю, что это плохо, просто я не привык быть в смешанной среде.
– Вы собираетесь так же строго воспитывать своих детей? – спросила Бат-Шева.
– Думаю, да. Это дает своего рода значимость и глубину.
– Но это же, наверное, так тяжело. Особенно в подростковом возрасте. Сложно представить, что вы не сходите с ума. В этом есть что-то противоестественное, будто вас насильно заставляют отгородиться от части самого себя.
Йосеф покачал головой.
– Весь смысл в том, что учение должно стать главной целью, и нужно отгородиться от всего, что сделает этот процесс тяжелее. Это не всегда работает, но я никогда так полно не окунался в учебу, как в ешиве. Все прочее растворяется, есть только ты и текст. Ты становишься частью неразрывной цепи, уходящей в прошлое на тысячи и тысячи лет.
Бат-Шева посмотрела на него.
– Вы уверены, что готовы заниматься со мной? – спросила она. – Я не хочу, чтобы у вас было ощущение, будто вас к этому принудили.
– Я вам это говорил не для того, чтобы все отменить. Просто меня поразило, до чего же это необычно. В любом случае возьмите эти книги с собой. В них найдется немало вопросов.
– Спасибо! Я правда это очень ценю. – Она собрала книги. – Вы идете?
– Еще побуду немного.
Когда она ушла, Йосеф открыл Талмуд. Но вместо того чтобы сосредоточиться на словах, он смотрел вдаль, словно продолжая перебирать в голове разговор с Бат-Шевой.
Бат-Шева срезала путь через парковку, направляясь к Мими за Аялой, а Хелен Шайовиц подъезжала к синагоге, чтобы договориться о кидуше, который она спонсировала по случаю сорокалетнего юбилея свадьбы. Алвин разрешил ей разгуляться по полной, и она собиралась это сделать во что бы то ни стало. В голове роились планы: она будет подавать порционный кугель из лапши, салат из маринованных овощей, мелко нарезанную жареную курицу. Надо еще продумать, что поставить в центре стола и на какую скатерть; с цветовым решением тоже пока неясно. В прошлом году на кидуше в честь помолвки дочери миссис Леви выбрала золотой. Голубой уж очень банально. Может, фуксия добавит лоску? При виде Бат-Шевы все эти мысли моментально улетучились из головы Хелен. Она сообразила, что сегодня та должна была начать заниматься с Йосефом. Миссис Леви накануне вечером обзвонила всех и каждого, напоминая об этом и прикидывая, как все получится, а заодно пытаясь разобраться, есть ли что-то принципиально неправильное в том, что Йосеф будет частным учителем Бат-Шевы. Хелен посигналила, Бат-Шева подняла глаза и помахала рукой.
– Привет! Дайте угадаю. Вы сейчас занимались с Йосефом, – сказала Хелен, вылезая из машины.
– Да, и было замечательно. Меня очень мучило, что я никогда не смогу наверстать упущенное и не восполню этот пробел в знаниях. Но теперь мне как будто дали шанс.
Весь тот день, пока Хелен перебирала возможные цвета скатертей и салфеток, Бат-Шева продолжала пребывать в радостном возбуждении. Хелен, как и большинство детей в ее поколении, ходила в обычную школу. Ее брат днем занимался с Джейкобом Леви, дедушкой Ирвинга Леви, но вести еврейский дом она научилась от матери. И до недавних пор Хелен считала, что ей этого вполне достаточно. Но последнее время учение стало входить в моду среди женщин. Она часто слышала от дочери, что женщины в Нью-Йорке изучают и Талмуд, и Хумаш, и философию. В прошлом году на седер дочь пустилась в подробный анализ значения продуктов на тарелке для седера, и, хотя Хелен слушала внимательно, поняла далеко не все. Когда дочь закончила, Хелен пробормотала: как мило, какая эрудиция, – но на случай, если вдруг от нее ждали еще каких-то слов, поспешно извинилась и ретировалась на кухню приготовить горькие травы и соленую воду.
А теперь Хелен спрашивала себя: уже слишком поздно или у нее, как и у Бат-Шевы, еще есть шанс наверстать? Она вполне могла представить, что начнет учиться, а то и съездит на пару недель в Нью-Йорк и походит на занятия вместе с дочерью. Подтянет иврит, научится разбирать комментарии, может, даже замахнется на Талмуд. Она попробовала вообразить это – Хелен Шайовиц, ученица. И рассмеялась. Ей шестьдесят один. Неужто такое еще возможно?
На следующий день Бат-Шева пришла на занятия с Йосефом заранее. Мы видели, как она забежала к Леанне Цукерман, у которой на несколько часов оставила Аялу, и помчалась дальше в синагогу. Когда появился Йосеф, она уже была готова начать.
– Видите, я же обещала, что буду вовремя, – сказала она.
– Теперь мне придется последить, чтобы самому не опаздывать, – ответил Йосеф, но только ради нее: он никогда не опаздывал.
– Я даже подготовилась, – сообщила Бат-Шева. – Я читала одну из ваших книг…
– Как вы быстро.
– Мне не спалось, и вместо того чтобы, лежа в кровати, предаваться бездумным мечтам, я решила встать и почитать. Невероятно, как тут тихо ночами. В Нью-Йорке так не бывает. Есть в этом что-то, когда читаешь, а за окном кромешная тьма и полнейшая тишина.
– Да, знаю. Иногда я читаю и совершенно забываюсь, не успеваю опомниться, как уже глубокая ночь.
Они улыбнулись друг дружке, и Йосефа как будто впервые отпустило.
– В общем, я почитала книгу о раскаянии. И подумала, что имеет смысл начать с нее, поскольку в следующем месяце у нас праздники, и меня потрясло, что всегда можно покаяться и начать все заново.
– Да, понимаю. В этом идея Дней трепета. Они напоминают о том, что Всевышний дарует нам возможность измениться.
– И вот я как раз задумалась: даже если Всевышний прощает тебе грехи, способен ли человек изменить себя? Действительно ли тшува[10] может сотворить такое?
– Есть два вида тшувы. Один – это раскаяние в деяниях, которые касаются только тебя и Всевышнего, а второй – в поступках, которые касаются тебя и других людей. И за них, чтобы Всевышний простил тебя, нужно сначала просить прощения у человека, которому ты причинил зло. Но зато если ты это сделаешь, то как бы начинаешь все с чистого листа. Неслучайно приводится сравнение с разбитой вазой. В жизни можно склеить ее обратно, но, если присмотреться, всегда будут видны трещины. С тшувой все иначе. Можно все так исправить, что не останется и следа.
– И вы правда в это верите?
– Да. Было бы совсем печально, не имей мы возможности загладить что-то в прошлом. Это означало бы, что мы обречены оставаться тем, кем были, и не в силах этого изменить, что бы ни делали.
Бат-Шева улыбнулась.
– Мне нравится эта мысль. Благодаря ей я вижу, что иудаизм действительно понимает: люди могут меняться. И, значит, всегда есть надежда, что в будущем что-то может стать лучше, чем сейчас.
Они продолжали говорить, но спустя час в бейт мидраш заглянул раввин: пора было Йосефу заниматься с отцом.
– Потеряли счет времени? – спросил он. – Полагаю, это свидетельствует о том, что вы хорошо учитесь.
– Очень хорошо! – подтвердила Бат-Шева. – Йосеф – лучший учитель, который у меня был.
Раввин взглянул на сына, и Йосеф покраснел.
Бат-Шева собрала вещи.
– Не хочу вас задерживать, – сказала она, выходя из комнаты. – До встречи, Йосеф. До свидания, рабби.
На следующем уроке Бат-Шева и Йосеф обсуждали законы шабата. Она в общем и целом знала, в чем суть, – что мы воздерживаемся от работы. Но под работой раввины формально понимали тридцать девять категорий деятельности, с которыми связано возведение мишкана, шатра, служившего переносным храмом в пустыне. А Бат-Шева хотела понять значение, стоящее за каждой из категорий. Йосеф объяснил, что необязательно понимать смысл мицвот. Мы следуем Торе, потому что это слово Господне. Если начать спрашивать, почему такой закон, то потом придумаешь и почему его не надо выполнять.
– Раньше люди считали, что кашрут следует соблюдать ради здоровья, потому что были болезни, распространявшиеся через свиное мясо. Но если считать это единственной причиной для соблюдения кашрута, мы вполне можем доказать, что в наше время она уже не актуальна.
– Для меня иудаизм полон смысла, потому что я задумываюсь о значении. Когда зажигаю субботние свечи, думаю о том, что нам нужно приносить больше света в мир, и в шабат мы как раз можем это сделать, – сказала Бат-Шева. – А вы? Вы когда-нибудь думаете, зачем вы все это делаете, или просто делаете, и всё?
– Иногда думаю. Но я верю в то, что Господь даровал нам Тору, и мы должны служить Ему и выполнять Его волю независимо от того, в чем смысл и цель заповеди.
– Не знаю, достаточно ли мне этого. Мне правда необходимо прежде всего чувствовать. Я не хочу просто делать что-то на автомате. Вас это никогда не мучит?
Йосеф посмотрел на часы и захлопнул книгу. Поднял глаза на Бат-Шеву, все еще ожидавшую ответа.
– Не знаю, – ответил Йосеф, и она внимательно поглядела на него.
Так они продолжали, покуда видеть Йосефа и Бат-Шеву за беседой не стало самым обычным делом. Йосеф больше не сидел потупившись и не заливался краской, не медлил нерешительно перед ответом и не ерзал, когда она смотрела ему в глаза и пытала очередными вопросами. Даже после урока Бат-Шева продолжала без умолку говорить о том, как много всего она узнаёт. Когда мы встречались в магазине, в синагоге, даже в микве, она всегда пересказывала, что сказал Йосеф о недельной главе Торы или как хорошо наконец он объяснил ей, почему важно молиться, даже если ты не в настроении. Поначалу мы списывали эту восторженность на особенности ее натуры: она всегда искренне воодушевлялась по разным поводам, искала ответы, и вполне логично, что она с таким энтузиазмом воспринимает то, что наконец их получает. Не то чтобы мы не любили учиться – мы понимали, как это важно, если в свое время и в правильном месте, – однако нам никогда не приходило в голову, что из-за этого можно так горячиться.
Бат-Шева же говорила, что учение заполнило минуты, когда ее, бывало, настигали сомнения, для чего она приняла иудаизм. Говорила, что никогда не хотела просто слепо выполнять некий набор правил, но что каждый божий день она заново совершала свой выбор. Мы заметили, что тоже хотим получить ответы на вопросы, которые маячили где-то на задворках нашего сознания. Например, почему мы не должны исполнять все те же заповеди, что и мужчины? И правда ли Господь видит каждый наш мельчайший поступок? Разве Он не занят куда более важными вещами?
Мы хотели знать больше, мы задавали вопросы в Женском домашнем кружке, мы требовали от раввина более подробного объяснения понятий, которых он касался лишь вскользь. Мы спрашивали дочерей, не нужно ли им помочь с ивритом, и убеждали их, как важно серьезно относиться к учебе. Мы листали книги по иудаизму наших мужей в поисках того, что могло бы нас заинтересовать, и даже подумывали, не начать ли ходить на вечерние субботние занятия с раввином. Леанна Цукерман попросила мужа выделить ей час в неделю для урока. А Хелен Шайовиц заказала буклеты учебной программы в Нью-Йорке. Как бы мы ни хотели, чтобы Йосеф помог Бат-Шеве стать больше похожей на нас, оказалось, что мы и сами хотели быть немного похожими на нее.
6
В первый день школы Бат-Шева, как и все мы, проснулась рано, собрала Аяле завтрак, и они вышли из дома. Жившие в паре кварталов от школы провожали детей пешком; те, кто подальше, ехали на машинах. Улицы были запружены автомобилями и толпами детей, все они двигались в одном и том же направлении. Со спины дети в форме выглядели почти одинаково. Синие брюки и белые рубашки на мальчиках и джемперы в черно-красную клетку на девочках были выстираны и отутюжены. Эту форму ввели еще в 1970-х, когда президент Женской группы помощи (Белла Шайовиц, наша драгоценная свекровь Хелен) решила, что дети в ней будут чистенькими и опрятными, как ангелочки. В Академии св. Катерины, ниже по улице, девочки носили такие же клетчатые джемперы, и, хотя наши были заметно длиннее, люди вечно их путали.
Академию Торы построили в 1950-х, и многие из нас в ней учились. Сразу после открытия она была великолепна: сияющие полы из линолеума, свежеокрашенные стены из шлакобетона. Но с годами здание обветшало, и низкие потолки со свисающими люминесцентными лампами, когда-то бывшими в моде, стали производить гнетущее впечатление. Каждое лето Женская группа помощи предпринимала попытки хоть как-то оживить обстановку. Мы развешивали постеры, расставляли в каждом классе горшки с растениями, перекрашивали стены в разные цвета. В углах повыше, куда плохо доставали маляры, были видны разноцветные полоски прошлых лет, и мы воображали, что, если взять оттуда срез краски, можно проследить всю нашу историю.
По сравнению с другими эта школа была совсем крошкой. Всего сто пятьдесят учеников, от детского сада до двенадцатого класса. Вполне ожидаемо: в общинах наподобие нашей хорошо если была воскресная школа, что уж говорить о начальной или старшей. Но предыдущее поколение твердо решило создать еврейский оазис посреди пустыни Теннесси. Наши родители и их родители начинали со школы на двадцать детей в доме у Ризов. Она росла на их глазах вместе с их собственными детьми, пока спустя два года не переросла свои стены. Были собраны деньги, куплена земля за синагогой, и в один необычайно солнечный октябрьский день строительство началось.
Закладка первого камня – вот это было событие! Всей общиной мы стали свидетелями того, как вершится история. Даже местная пресса проявила интерес. Газета «The Memphis Commercial Appeal» прислала репортера, и на следующий день на последней странице городских новостей появилась маленькая заметка. И хотя сюжета по телевизору так и не показали, но Эдит Шапиро (тогда еще совсем молодая женщина) заметила припаркованный через дорогу новостной трейлер Пятого канала. Директор и президент школьного совета произносили речи, но никто уже не вспомнит, о чем они говорили. Может, о том, что мы возводим наш собственный крошечный Бейт га-микдаш, место, где пребудет Всевышний, если только мы сами откроем Ему дверь; такого рода вещи всегда говорились на подобных мероприятиях. Но в тот момент это было правдой. Будущее общины было в наших руках, когда мы стояли на земле, где наши дети, внуки и правнуки будут ходить в школу. Если они не откажутся от своей религии, в этом будет заслуга школьного здания.
Когда пришел час закладывать камень, Сью Эллен Голдберг, первый президент Женской группы помощи, взялась за ржавую лопату, украшенную синими и белыми лентами. Поднажав черной лакированной лодочкой на шпильке, она вонзила лопату в грунт и извлекла горку земли. В толпе раздались аплодисменты, и Сью Эллен подняла руки над головой и послала всем воздушный поцелуй. Девять месяцев спустя школа была достроена, и еще до начала занятий в нее переехали все шестьдесят учеников.
В этом году в первый школьный день мы снова ощущали в глубине души радостный трепет. Закрывая глаза, мы вдыхали знакомый затхлый запах классов, только-только проветренных после летних каникул. Мы слышали особый тугой хруст, с которым открываются новехонькие учебники, вспоминали девственную чистоту тетрадок и свежеотточенные карандаши, ощущали дрожь волнения, когда учитель впервые зачитывает наши имена. Многие наши учителя до сих пор преподавали в школе. Миссис Каплан по-прежнему вела детский сад, рабби Блумфилд – второй класс. Те же классы с теми же деревянными стульями и партами, на которых вырезаны инициалы наших однокашников. Глядя, как наши дети заходят в эти классы, мы чувствовали себя и юными, и старыми одновременно.
Мы подоспели как раз к тому моменту, когда Бат-Шева входила в школу. Она подвела Аялу к двери класса детского сада и поцеловала в щеку. Аяла уже не была той застенчивой девочкой, что приехала несколько месяцев назад. Она вошла в комнату без криков и плача. Бат-Шева смотрела ей вслед, а потом двинулась по коридору в свой собственный класс. Прежде он служил то учительской, то классом для аудиовизуальных занятий, то кладовкой, то научной лабораторией. В дальних углах и в шкафах были свалены старая кофемашина, пара немытых чашек, сломанный слайдовый проектор, треснутые колбы, стопка запасной школьной формы и рулоны туалетной бумаги.
Но Бат-Шеву все это ничуть не смущало. Предыдущие несколько дней она провела, оттирая школьную доску, моя шкафы и отскребая парты. Они с Аялой вырезали из журналов картинки, развесили постеры с репродукциями на задней стене класса, а парты покрыли плотной бумагой. А когда Аяле надо было передохнуть, она носилась по пустым коридорам и знакомилась со своей новой школой.
О том, что ей предстоит преподавать рисование, Бат-Шева узнала за неделю до начала занятий. Мими, как и обещала, позвонила директору вечером субботы, через несколько минут после окончания шабата. Даже несмотря на то что сама Мими продвигала эту идею, все шло непросто. Рабби Фишман был не против, но оставался вопрос денег: расходные материалы и зарплата – серьезные затраты. Опасаясь, что идея будет погребена под ворохом других дел, которые необходимо разгрести до начала учебного года, Мими позвонила Рене Рейнхард, которая недавно вступила в должность президента Женской группы помощи.
– Я знаю, что Группа иногда спонсирует школьные программы, – начала Мими, – и мне кажется, нет ничего перспективнее художественной программы.
Хотя Рена была благодарна Бат-Шеве за то, что та выслушала ее признания про непростую ситуацию с мужем, слова Мими застали ее врасплох. Ей впервые сообщили об этой идее.
– Не знаю, не уверена. У нас никогда не было художественной программы, и мы вроде неплохо справлялись.
Но Мими не сдавалась. Она привела свои аргументы: детям важно быть креативными, им будет полезно отвлечься от такого количества основных предметов. В лучших частных школах города обязательно есть уроки рисования, а они и так уже довольно наших детей переманили.
– И к тому же мы совершим мицву, помогая Бат-Шеве. Она совсем одна, ей нужна наша поддержка, – добавила Мими.
Рена вспомнила, как добра была к ней Бат-Шева, когда она, не сдержавшись, расплакалась. И вот у нее появилась возможность отблагодарить, протянуть руку помощи тому, кто действительно в ней нуждался. Если Рена в конце концов разведется и переедет в другую общину, она бы хотела, чтобы кто-нибудь сделал то же самое для нее. Прежде чем распрощаться, Рена пообещала поднять вопрос на заседании исполнительного совета Женской группы помощи через два дня.
Раз идея исходила от Мими, никто не желал высказываться против. Мы безоговорочно доверяли ее мнению: никто не знал общину лучше нее, и, если уж Мими считала, что план хорош, к чему спорить? Нам начала нравиться Бат-Шева. Мы постепенно привыкали к ее странностям, стали думать, что со временем она все же вольется в здешнюю жизнь. При таком благодушном настрое план был одобрен единогласно, да так легко, будто мы решали устроить завтрак или домашнюю вечеринку. Более того, поддержка была столь внушительной, что Группа назначила Бат-Шеву преподавать еще и в начальной школе.
Первый урок Бат-Шевы был у старшеклассниц. Если насчет мальчиков и начальной школы мы были относительно спокойны, то с девочками надеялись лишь, что они хотя бы продержатся еще один год. Число учениц все время колебалось. Их бывало то двадцать, то меньше, иногда доходило до опасных пятнадцати, а вот в бо́льшую сторону – никогда. Каждый год перед началом занятий непременно случалось что-нибудь, от чего мы впадали в панику. Два года назад Шейнберги подумывали отправить Нехаму в Академию Бейс Ривки в Монси, в штате Нью-Йорк, и если бы это произошло, за ней бы поехала и Ариэлла Сассберг, а уж если бы мы потеряли их обеих, Леа Вайсберг тоже наверняка не осталась бы. И тогда в десятом классе были бы только две девочки. В конце концов, слава Всевышнему, этого не случилось, но зато мы поняли, как ненадежно положение нашей школы.
Даже когда в классе удавалось собрать достаточно девочек (пять считалось весьма приличным, десять – просто чудом), все было непросто. В этом году был сложный двенадцатый класс. Проблемы начались еще в восьмом, и не где-нибудь, а на молодежном шабатоне. Раз в году ученики с пятого по восьмой классы проводят шабат в школе, ночуют в классах, вместе едят и молятся. Разумеется, мальчики и девочки спят отдельно; раввины составили расписание для патрулирования коридоров. Но девочки все же проскользнули мимо рабби Горовица, и, хотя он клялся, что не спал на посту, всем известно, что он не слишком-то ответственный. Они пробрались в крыло, где спали мальчики. Кто знает, что там было на самом деле, может, они просто болтали, как позднее уверяли девочки, но доходили сведения об играх в «правду или желание», в «бутылочку» и бог знает что еще.
Мы никак такого не ожидали и долго еще потом продолжали обсуждать. Следует ли детей наказать? И если да, то кого? В результате директор вызвал к себе в кабинет зачинщиц (не будем называть, хотя всем известно, что среди них были Шира Фельдман и Илана Зальцман) и прочел им нотацию о том, что значит быть хорошей еврейской девушкой, о послушании, и уважении, и скромности, и святости. Мы надеялись, что никогда больше не услышим о подобном поведении.
Но это было только начало. Каждый год ознаменовывался новым скандалом: смешанная вечеринка у бассейна в доме Бернеров, когда Рут и Якова не было в городе, про которую стало известно только потому, что мимо случайно проходила Ципора Ньюбергер. На следующий год Илану Зальцман и Натана Риза застали целующимися за синагогой во время субботней вечерней молитвы. Ну и еще, конечно же, окурки и пивные бутылки, обнаруженные Бекки Фельдман в мусорном контейнере.
В то утро старшеклассницы гуськом зашли в класс рисования в сопровождении Йохевед Абрахам, учительницы иврита. Она была не замужем – ей исполнилось двадцать девять, и она наконец-то вернулась домой, бросив попытки найти подходящую пару в Нью-Йорке. Девочки не носили форму, как в младших классах, – это тоже было одно из недавних нововведений, чтобы их задобрить, – но кое-какие правила все же сохранялись: юбки ниже колена, вырез выше ключицы, рукава до локтя, никаких надписей на блузках, ничего вызывающего. И все же они умудрялись выглядеть очень стильно. С темными юбками они надевали грубые туфли на толстом каблуке, длинные серьги, джинсовые куртки и серебряные браслеты, позвякивавшие при ходьбе.
Бат-Шева смотрела, как они рассаживаются. Она пыталась встретиться с кем-то глазами, установить дружеский контакт. Она не потрудилась одеться, как остальные учителя: даже преподаватели неевреи носили строгую одежду. Ее платье не было прямо-таки нескромным, но явственно выделяло ее среди прочих. Оно свободно висело и все было усеяно полосками, крапинками и цветками всех мыслимых оттенков, ее собственное многоцветное одеяние. Девочки взирали на Бат-Шеву пустыми глазами, как и на всех своих учителей, и перешептывались, прикрывая рот ладонью.
– Если они считают, что это заставит нас полюбить школу, значит, они просто совсем не соображают, – прошептала Шира Фельдман.
– Разве это не твоей мамы идея? – спросила Илана Зальцман. Ее мать сказала, что Мими Рубин вместе с Бекки Фельдман придумали позвать Бат-Шеву преподавать.
– И что? Моя мать больше других не соображает, – ответила Шира. Не первый раз здесь что-то придумывали, чтобы заинтересовать девочек, и Шира давно перестала надеяться, что что-то в самом деле переменится к лучшему.
– И об этом я наслышана, – согласилась Илана и легла головой на парту. Она была без сил, допоздна проболтав по телефону накануне ночью, хотя мать тысячу раз предупреждала, что надо ложиться спать пораньше, что пора начинать учиться всерьез, что они не хотят повторения прошлого года. Илана эту песню знала наизусть. Мать имела в виду ужасные оценки, которые она наполучала по всем предметам. Но ей было тяжело собраться. Какой смысл в учебе? Она же не поступит в хороший колледж. Скорее всего, проучится год-другой в семинарии в Израиле, потом выйдет замуж и родит детей. Она понятия не имела, хочет ли сама такой жизни, но точно знала, что от нее ждут именно этого.
У Бат-Шевы были большие планы, и она не желала терять время. Она раздала листы бумаги и пастель.
– Я хочу, чтобы вы нарисовали автопортреты, – заявила она. – И не хочу, чтобы вы смотрелись в зеркало. Просто нарисуйте, как видите себя в своем воображении. Можно нарисовать себя целиком или только часть, а можно – какую-то черту характера, которую вы считаете у себя главной.
Девочки уставились на белые листы бумаги. Они привыкли к более конкретным заданиям: написать рецензию на прочитанный роман, перевести страницу Хумаша, выучить новые слова на иврите. Вдоволь нашептавшись, они приступили к делу. Нехама Шейнберг нарисовала чуть не на весь лист два глаза, а внутри них – свои самые любимые вещи: пару коньков, музыкальные ноты и пианино. Хадасса Бернер изобразила себя в виде цветка в саду роз и фиалок. Но большинство девочек просто сидели и, переглядываясь, строили недовольные гримасы. Шира Фельдман сделала несколько мазков и вперилась в Бат-Шеву, желая вызвать ее на конфликт: таким макаром она довела уже не одного учителя. Шира ждала, что Бат-Шева отреагирует, как и они: выгонит из класса, отправит к директору поговорить о ее плохом поведении или, как в одном печально известном случае, прилюдно разрыдается.
Но Бат-Шева в ответ улыбнулась и оглядела девочек, которые оторвались от рисования и замерли в ожидании, чем все это закончится. Она уселась на край стола, болтая ногами и как будто вовсе не заботясь о своем учительском авторитете.
– Не получается, да? – спросила Бат-Шева. – Я вас не виню. Я же новый учитель, и вам непонятно, почему меня надо слушать. У вас, конечно же, множество вопросов о том, кто я такая. Ну так я позволю вам расспросить меня обо всем, что вы хотите знать.
Девочки молчали: их так легко на эту липовую свойскость не купишь.
– Не стесняйтесь. Не каждый день выпадает такой шанс. Могу поспорить, рабби Фишман не разрешает спрашивать себя о том, что вам про него любопытно.
Девочки нервно захихикали, но продолжали отмалчиваться.
– Если вы меня ни о чем не спрашиваете, тогда я сама стану задавать вопросы, – сказала Бат-Шева, но девочки молчали.
– Ну хорошо, все встали.
Девочки воззрились на нее.
– Я серьезно, – повторила Бат-Шева. – Все встали и идем со мной.
Они неохотно последовали за ней вон из класса, по коридору, через задние двери – прямиком на площадку за школой. Бат-Шева остановилась на дальнем конце, откуда их хуже всего было видно из окна директора.
Она опустилась на траву, а девочки выстроились вокруг и смотрели на нее.
– Садитесь, – велела она. – Сегодня урок будет здесь. Обидно пропускать такой погожий денек.
Они расселись, кто-то лег на спину, закрыв глаза. Стояла страшная жара. Шира Фельдман закатала юбку, чтобы загореть поровнее, а Илана – и без того короткие рукава блузки. Бат-Шева никак не отреагировала на эти вольности: она, как и девочки, вытянула ноги, сбросила сандалии и собрала волосы в пучок на макушке.
– У нас будут неприятности из-за того, что мы здесь? – спросила Хадасса Бернер.
Бат-Шева рассмеялась.
– Если кому-то это не понравится, могут обращаться ко мне. Но мне показалось, здесь будет проще поговорить свободно.
На воздухе девочки оживились. Они вели себя так, будто сидеть в классах было настоящей пыткой, хотя Женская группа помощи немало потрудилась, чтобы исключительно ради них перекрасить стены в розовый и пурпурный.
– И что же вы думаете про школу? – спросила Бат-Шева.
Девочки переглянулись и что-то тихонько забормотали.
– Терпеть ее не могу, – сказала Шира Фельдман, делая ударение на каждом слове и ожидая, что Бат-Шева в ужасе отпрянет, ошарашенная ее прямотой.
Бат-Шева встретила ее взгляд, потом обвела глазами остальных девочек.
– А вы что скажете? Или это более-менее отражает всеобщее настроение?
Пара девочек из числа самых примерных попыталась защитить школу, говоря, что, если бы у других настрой был лучше, все бы поменялось и что замечательно, когда со вниманием относятся к каждому отдельному ученику. Они бы ни за что не хотели ходить в обычную школу, где очень тяжело, если не сказать невозможно сохранить свою еврейскую идентичность. Но недовольных голосов было больше.
– Она слишком маленькая. Восемнадцать человек на всю школу – это безумие, – сказала Ариэлла Сассберг, и ее поддержали другие девочки. Трудно воспринимать ее всерьез, когда так мало учеников; как будто школа не настоящая; они учились с одними и теми же людьми начиная с детского сада.
– Я не могу вас винить за то, что вам тут душно. Я бы и сама так чувствовала, – заметила Бат-Шева.
– Она больше похожа на дневной лагерь, чем на нормальную школу, – сказала Авива Беркович, мрачно выдергивая травинки. – Можно месяц пропустить, никому и дела нет.
– И нам не разрешают общаться с мальчиками, – пожаловалась Илана Зальцман. – Взрослые ведут себя так, будто нам не положено интересоваться друг другом.
Бат-Шева внимательно их слушала, понимающе кивая. Она не обращала внимания, что рабби Блумфельд украдкой поглядывал в открытое окно, пытаясь понять, что же там происходит; что Йохевед Абрахам прошла мимо класса рисования посмотреть, как идут дела, и к своему ужасу обнаружила, что девочек там нет.
– И как вы с этим справляетесь? – спросила Бат-Шева.
– Считаем дни до окончания, – не поднимаясь сказала Шира.
– Звучит увлекательно. И вы намерены продолжать в том же духе? Просто пережидать, надеясь, что время пролетит поскорее?
– А что нам еще делать? – раздраженно спросила Шира.
– Не сомневаюсь, что мы можем придумать кое-какие штуки, чтобы школа стала поинтереснее, – сказала Бат-Шева. – Мне кажется, размер школы – это и преимущество, и недостаток. И, разумеется, нет никаких шансов, что она будет похожа на обычную школу, так что можете забыть о футбольных матчах и выпускных балах.
Девочки засмеялись, представив выпускной в ешиве: все восемнадцать учениц в нарядных платьях танцуют друг с другом в пустом спортзале.
– Но это не значит, что вы не можете воспользоваться тем хорошим, что есть в маленькой школе, – продолжала Бат-Шева. – Мы можем ходить в походы и делать вещи, которые были бы нереальны, будь здесь больше народу. И это уж точно лучше, чем пребывать в унынии, вам не кажется?
Девочки принялись обсуждать, что скрасило бы этот учебный год: им всегда хотелось поставить спектакль, не идиотское представление с песнями и танцами, а настоящую драму со сценарием, декорациями и костюмами. Кому-то хотелось отправиться в поход, а кто-то мечтал, чтобы им позволили ходить на занятия в Мемфисский университет – все что угодно, лишь бы хоть изредка менять обстановку. У Бат-Шевы тоже были кое-какие идеи: общинная служба, в которой девочки работали бы раз в неделю, помогая бездомным, в бесплатной столовой или больнице; самостоятельный доклад на интересующую их тему; еженедельные встречи с директором, на которых они могли бы высказаться о том, что, по их мнению, правильно сделать в школе.
За двадцать минут до конца урока Бат-Шева сказала, чтобы девочки вернулись в класс и закончили свои автопортреты. На этот раз они ее послушались. И хотя по-прежнему не очень понимали, что же нарисовать, задание уже казалось им интересным. Они спрашивали ее совета, делали кое-какие наброски и в конце концов сообщили, что хотят продолжить работу над рисунком на следующем уроке.
Вечером того же дня Рена Рейнхард позвонила Бат-Шеве по рабочему делу.
– Хочу узнать, как все прошло, – заявила она своим самым официальным тоном.
– Мне кажется, хорошо. Но девочки явно взвинчены и недовольны.
– Неужели? – Рена знала, что имелись кое-какие проблемы с настроем учениц, но никто не считал, что их надо принимать всерьез.
– Поверьте мне, я знаю, что это за недовольство. Я его каждый день наблюдала в зеркале – это чувство, что в тебе столько всего происходит и никто на свете этого не знает. Но я знаю, что могу им помочь. Им нужен кто-то, кому они могут довериться. В них столько всего бушует сейчас, и, скорее всего, им совершенно не с кем об этом поговорить.
– Думаете, рисование это исправит? – спросила Рена.
– Думаю, это именно то, что нужно, – ответила Бат-Шева и рассказала Рене, что девочкам нужно чем-то увлечься, нужна какая-то замена нормальной подростковой жизни, которой они лишены.
– Я хочу помочь им увидеть, как ценно учиться в такой маленькой школе, где все их знают и переживают за них. И хочу придумать, как сделать процесс обучения более продуктивным, чтобы они не зацикливались на вещах, которые им недоступны.
В словах Бат-Шевы звучала такая уверенность в своих силах, что Рена заразилась ее энтузиазмом. Готовя положительный отчет для первого собрания Женской группы помощи, она мысленно согласилась с Бат-Шевой. Может, это и правда именно то, что нужно.
Бат-Шева искала общий язык не только с нашими детьми. Мы и сами получили приглашение. Однажды утром, открыв двери, мы обнаружили на пороге свернутые в свиток записки с нашими именами, которые были выведены каллиграфическим почерком на обороте бежевой почтовой бумаги. Аккуратно, чтобы не смазать чернила, мы развернули письма и увидели, что приглашены на празднование рош ходеш по случаю новолуния. Только для женщин. И мелкая витиеватая подпись Бат-Шевы внизу.
Мы не знали, идти или нет. С одной стороны, это походило на какое-то феминистическое новшество, от которых мы здесь, слава богу, были избавлены. До нас доносилось, что творится в Нью-Йорке – женский миньян и все такое; даже в ортодоксальных общинах женщины пытались делать всё больше, читали отрывки из свитка Торы и невесть что еще. Празднования рош ходеш тоже появились совсем недавно, и устроители называли их особым женским праздником, временем прославлять роль женщины. Но для нас все праздники были женскими: уж кто-кто, а мы немало для них трудились.
– Как ты думаешь, допустимо ли вообще присутствовать на таком? – спросила Ципора Ньюбергер своего мужа Шмуэля.
– Не знаю. Не самая хорошая идея, – ответил он. – И я бы уж точно ничего у нее не ел, если ты все же пойдешь.
Ципора согласилась. Они со Шмуэлем мало кому доверяли по части соблюдения кашрута, и Бат-Шева в этот исключительно короткий список точно не входила.
– Бат-Шева сказала мне, что хочет делать это каждый месяц, – поделилась Наоми Айзенберг со своим мужем. – Она ходила в подобную группу в Нью-Йорке и надеется, что здесь тоже получится это устроить.
– Ну и молодец. Хорошо, что кто-то делает что-то новое, – ответил он. Он был родом из Детройта и так до конца и не привык к жизни в Мемфисе. Город слишком маленький, жаловался он, просто задыхаешься. Ему нравилось, когда что-то незначительное раздувалось до невероятных масштабов, и можно было, посиживая в сторонке, наблюдать за всеми перипетиями и дивиться, как же долго он умудрился продержаться в этих краях.
Леанна Цукерман стала регулярно позванивать Бат-Шеве, и они подружились.
– Мне кажется, это интересно. По крайней мере, что-то новенькое.
Когда она заволновалась, получится ли найти няню на вечер, Брюс сказал, что отменит свой рокетбол и посидит с детьми, и Леанну захлестнуло горячей волной любви к нему.
– Слишком уж это оригинально, на мой вкус, – заявила миссис Леви.
С Бат-Шевы станется – еще заставит их скакать на заднем дворе, устроив какую-нибудь церемонию навроде идолопоклонства; между прочим, доводилось слышать о таких вещах.
– Не знаю, – сказала Хелен Шайовиц. – Может, немного разнообразия нам и не помешает. Вдруг будет мило.
– Вот что, Хелен, – предостерегла миссис Леви. – Я, конечно, не раввин, но, думаю, не следует отступать от традиций только потому, что может выйти мило.
Но когда мы разговаривали по телефону с Мими, она спросила, увидимся ли мы на рош ходеш у Бат-Шевы. Выслушав наши сомнения, она сказала, что безумно рада этой замечательной истории, которую затеяла Бат-Шева. Когда Ципора Ньюбергер открыто поинтересовалась у Мими, можно ли доверять Бат-Шеве в плане кашрута, Мими ответила, что не задумываясь будет есть в ее доме. Когда миссис Леви выразила недоумение по поводу столь новомодных веяний, Мими уверила ее, что это только укрепит религиозное самосознание. Она полностью согласна с Леанной Цукерман, что появление Бат-Шевы очень благотворно для общины, и просто чудесно, что с ней приходят новые идеи и живая энергия.
То, как горячо Мими поддержала эту идею, успокаивало. И мы поняли, что очень даже мило со стороны Бат-Шевы позвать нас. Несомненно, таким образом она хотела отблагодарить нас за наши субботние трапезы, за то, что мы сидели с Аялой. Мы подробно обсудили вопрос и окончательно пришли к выводу, что единственно правильное решение – пойти.
В вечер праздника мы приоделись, надеясь, что наши юбки и блузки будут уместны, хотя непонятно, для чего именно.
– Как я рада, что вы пришли! – приветствовала нас Бат-Шева, пожимая нам руки. Нас поразило, как чудесно она выглядела. На ней было длинное белое платье с плетением из белых лент по вороту, длинная коса перехвачена белым переливчатым шарфом.
Мы вошли в гостиную. Мебель была сдвинута к стенам, свет приглушен. Бат-Шева расставила вазы с полевыми цветами, на столе в углу красовались маленькие стеклянные плошки с водой, в которых плавали незажженные свечки. Мими приехала пораньше, чтобы помочь. Было видно, как она горда тем, что мы пришли, и нас согрела мысль, что мы не обманули ее ожиданий. Она отдельно подошла к миссис Леви и Ципоре Ньюбергер, больше других нервничавших по поводу вечера, пожала им руки и сказала, как рада их видеть.
Мы сняли жакеты, положили сумочки и выстроились кругом. Будь это какое-то знакомое мероприятие, мы бы знали, что делать. Если бы это был вечер подарков невесте перед свадьбой, мы бы клали свои подарки в общую кучу и старались занять место в первом ряду, чтобы видеть, как их открывают. Мы бы разыскали невесту, целовали ее в щеку и говорили, как она, должно быть, взволнована. Но здесь мы не понимали, как себя вести.
Бат-Шева уловила нашу неловкость и пришла на помощь.
– Прежде чем мы рассядемся, я бы хотела, чтобы каждая из вас зажгла свечу.
– Ну и как вам такое? – пробормотала миссис Леви. – Так дело пойдет, она попросит нас повыть на луну.
Если Бат-Шева и расслышала ее, то виду не подала.
– Мы зажигаем свечи, встречая наступление шабата, и я думаю, вполне уместно делать это, празднуя начало нового лунного месяца, – сказала она.
С помощью свечи она зажгла фитилек в плошке и прочла благословение, которого мы никогда не слышали: Благословен Ты, подаривший нам новую луну и ведущий нас к обновлению. Мы повторили вслед за ней, стараясь не встречаться друг с другом глазами. Мы боялись провалиться от стыда, что участвуем в такой странной затее.
У Джослин Шанцер при виде по очереди читающих благословение екнуло сердце. Она выросла в нерелигиозной семье и ненавидела читать вслух на иврите, выговаривать незнакомые слова. Но она держала это в глубокой тайне, боясь всеобщего осуждения. Она прикидывала, получится ли незаметно выскользнуть или все сразу догадаются, что на нее нашло? Близился ее черед, и, стоя у стола, она заметила, что Бат-Шева написала благословение и латиницей, словно предвидела подобные трудности. Джослин с облегчением выдохнула. Тайну пока удалось сохранить.
Когда мы закончили, Бат-Шева пригласила всех сесть на пол, и, поскольку выбора не оставалось, мы (включая миссис Леви, которая обычно такого не делала) послушались. Пока мы ждали, разговор привычно зашел о детях. Так оно всегда получалось, как будто, воспитывая детей, мы обменяли свои жизни на их.
– Похоже, девочки стали гораздо довольнее, – сказала Бекки Фельдман. Никаких конкретных подтверждений тому у нее не было. Всякий раз, когда она спрашивала Ширу, как дела, та пожимала плечами и отделывалась ничего не значащим «хорошо». И все же у Бекки было ощущение, а может, надежда, что обстановка в школе улучшилась.
– Мы знаем, кого надо за это поблагодарить, – заметила Мими, кивнув на Бат-Шеву.
– Я никогда не верила во все эти слухи, что девочки становятся неуправляемы. Это прекрасные религиозные девочки, что тут говорить, – сказала Ципора Ньюбергер.
– Иногда ребяткам надо прощупать границы и выпустить пар, – объяснила миссис Леви. – Такой позиции я придерживаюсь со своими детьми.
Мы обернулись на Бат-Шеву, которая оглядывала комнату, страшно довольная тем, что пришло столько народу. Здесь было даже несколько незнакомых женщин, и мы поняли, что она пригласила людей не только из общины; как знать, они вообще из религиозных, да и еврейки ли?
Когда комната набилась до отказа, Бат-Шева встала посередине, и мы притихли в ожидании того, что же будет дальше.
– Сегодня мы встречаем рош ходеш элуля, – сказала она. – И, будучи женщинами, мы имеем особое отношение к этому празднику. Этот день был дан нам, чтобы прославить нашу веру в будущее. После исхода из Египта евреи сорок дней стояли у подножия горы Синай, ожидая возвращения Моисея с Торой, и начали сомневаться, что Моисей к ним вернется. Желая найти замену Богу, они сотворили золотого тельца. Но женщины не поклонялись ему, потому что не страшились, что нет Моисея. Они не считали, что наступает конец. Они по-прежнему видели возможность возрождения. И в этом главная мысль нового месяца. Каждый цикл луны дает возможность новой жизни, так же как и в наших телах каждый месяц дается возможность новой жизни. И этот месяц, когда совсем недолго остается до Дней трепета, дарит нам особый шанс обновления через раскаяние и приближение к Всевышнему. И, празднуя это все вместе, давайте думать о том, как мы можем обновить наши жизни.
– Очень мило, очень мило, – произнесла Бесси Киммель, как и всегда после двар Тора.
– Да, – согласилась Хелен Шайовиц. – Очень интересно.
Бат-Шева удалилась в кухню и вернулась с мисками инжира, семечек и долек граната и блюдом печений в виде полумесяца. Мими помогала передавать их по кругу, а Бат-Шева рассказывала об их значении.
– То, что мы едим на рош ходеш, должно напоминать нам о растущей и убывающей луне, а семечки – о вечной возможности перерождения.
Она откусила от инжира и подняла его, показывая нам крохотные зернышки внутри.
Бат-Шева подсела к нам на пол, и ее платье веером легло вокруг ног. И она сразу же запела: «Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа». Мы привыкли к ее голосу в синагоге, он всегда звучал громче и красивее, чем наши голоса, но мы никогда не слышали ее отдельно. Песня словно лилась из нее, и не верилось, что она не пела эти слова всю свою жизнь. Закончив, Бат-Шева предложила нам присоединиться: «Из тесноты воззвал я ко Господу, – и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня – и не устрашусь». Если вспомнить о том, что ей пришлось пережить, эта песня как будто была написана специально для нее. Окажись мы на ее месте, как знать, нашли бы мы в себе силы или желание не оставить веру? Мы наблюдали в ней именно ту веру, которой не хватало нам самим, – в которой мы могли бы полностью раствориться. Мы исполняли мицвот; у нас не было проблем со всем, что касалось действий. Но вот все, что связано с самой верой – с любовью к Всевышнему всем сердцем, всей душой, всеми силами, – это совсем-совсем другое.
Мы ждали, когда Бат-Шева начнет следующую песню. Удивительное дело – нам хотелось петь дальше. Мы больше не думали, что это какое-то непривычное мероприятие. Но Бат-Шева не просто запела, она поднялась и взяла за руки двух ближайших женщин, увлекая нас в танец. Она ободряюще улыбнулась, и мы потихоньку зашевелились. Сначала мы медленно и размеренно двинулись в традиционном хороводе, как привыкли плясать на свадьбах и бар мицвах. Сделав пару кругов, мы готовы были перейти к более сложным фигурам, которые специально оттачивали на занятиях: сначала вправо, затем влево, пристукивания и повороты, и шаги на раз-два-три. Но Бат-Шева явно не желала ничего подобного, она продолжала вести нас по кругу.
Мы любовались ею, ее гибким телом, руками, взлетавшими, словно птицы. Мы мечтали быть такими же свободными и раскрепощенными, забыть о том, как мы выглядели со стороны или что о нас подумают. Мы представляли, что заботы и тревоги покинули нас. Что какая-то крохотная частица нас, запрятанная глубоко-глубоко внутри, вырвалась из оков, сжимавших наше тело, и выпорхнула на волю. Ведомые этой мечтой, мы двигались всё быстрее. Хелен Шайовиц принялась отчебучивать ногами какие-то хитрые па, миссис Леви покачивала бедрами, а Джослин Шанцер сбросила туфли на каблуках, чтобы легче было отплясывать. Мы все кружились и кружились, и в комнате становилось все жарче, картины на стенах делались всё больше, цвета – всё ярче. Смутно до нас доносился какой-то шум, и мы не сразу поняли, что слышим собственные голоса, распевающие громче, чем когда-либо прежде.
Чем дольше мы танцевали, тем явственнее ощущали, что нам под силу повернуть время назад. Если плясать еще быстрее, мы обратим годы вспять и снова станем молодыми. Мы избавимся от морщин и густого макияжа, которым их замазывали, от наших аккуратно уложенных причесок, распахнем наши приличные дамские наряды, сорвем добротные лифчики и практичное белье. Мы снова будем ходить с длинными распущенными волосами, в легких струящихся платьях, и наша кожа будет гладкой и сияющей. Мы снова станем подростками, как в те далекие времена, когда наши мужья были застенчивыми тощими мальчишками, чьи взгляды мы ловили украдкой, при виде которых заливались краской, а наши разгоряченные тела лихорадило от всего, что ждало нас впереди.
Допев песню, мы остановились, оглядывая друг дружку. Мы тяжело дышали, раскрасневшиеся лица горели, сердца колотились. В полумраке гостиной мы видели лишь очертания лиц, линии и углы смягчились, и на долю секунды мы ощутили, что перестали быть привычными собой.
И тут Ципора Ньюбергер посмотрела на часы. Мы и не заметили, как пробило десять. Пора было возвращаться домой. Мы оправили одежду, пригладили волосы, отерли пот; нельзя же было в таком виде прийти домой, чтобы мужья дивились, что же такое мы там творили.
Мы собирались уходить и застегивали последние пуговицы на жакетах, Бат-Шева стояла среди нас.
– Есть еще одно обновление, за которое я очень благодарна, – произнесла она. – Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы приняли Аялу и меня в вашу общину и дали нам шанс начать все сначала.
Она обвела нас взглядом, всматриваясь в каждое лицо. Мы обернулись на свечи, что зажгли раньше, на крохотные огоньки, подобные стольким новым лунам в темных небесах, и захлопали – ей, друг другу, самим себе.
7
За месяц в школе Бат-Шева так сблизилась с девочками, как не удавалось еще ни одному учителю. Во время урока они улыбались ей, искали ее похвалы, просили совета. Они делали комплименты ее нарядам, ее туфлям, прическе и говорили, что она одевается круче всех в школе. Кто знает, о чем еще они разговаривали, – из наших дочерей мало что удавалось вытянуть. Они заявляли, что она такая клевая, что нам не понять: она знала музыку, которая им нравилась, их любимые фильмы и телепередачи. Всякий раз, как мы проходили мимо класса рисования, вокруг Бат-Шевы толпились девочки. Они даже стали одеваться как она. Последние недели они принялись носить длинные легкие юбки (у нее – почти что прозрачные, но мы заставляли дочерей поддевать вниз шортики), длинные серьги, разноцветные бусы. А некоторые взялись отращивать волосы, хотя каких-то два месяца назад убеждали нас, что теперь в моде короткие стрижки.
Однажды Бат-Шева позвала девочек к себе в субботу днем. Когда другие учителя предлагали внеклассные развлечения, девочки реагировали без энтузиазма. Когда Йохевед Абрахам как-то в субботу вечером пригласила всех поиграть в боулинг, они сослались на подработку нянями, и только Хадасса Бернер, слишком добрая, чтобы отказать, все-таки пришла. А когда жена директора позвала девочек на барбекю (а заодно и посидеть с ее пятью детьми), они сообщили, что у них слишком много домашней работы. А к Бат-Шеве побежали как миленькие.
Они прибывали к ее дому маленькими группками и робко стучались в дверь – хотя в школе они общались легко и свободно, оказаться с учителем вне класса было непривычно.
– Открыто! – кричала Бат-Шева и встречала вновь приходящих на пороге, приговаривая: – Как замечательно, что вы пришли!
Аяла тоже явно была в восторге, что у нее дома не кто-нибудь, а сами старшеклассницы. Они здоровались с ней за руку и не отходили от нее, щебеча, до чего же она миленькая и хорошенькая. Аяла улыбалась.
Взяв еду с расставленных Бат-Шевой подносов, девочки сгрудились вокруг хозяйки. Она не предлагала им спеть вместе, как однажды попыталась Йохевед Абрахам, залучив их к себе в субботу вечером. Это было унизительно: Йохевед со своим не слишком выразительным голосом пела в полном одиночестве, а девочки сидели и наблюдали за тем, как она через силу выводит песню до конца. Но Бат-Шева считывала их настроения и позволяла делать, что им захочется.
А они хотели услышать рассказы о ее жизни – откуда она родом и как оказалась в этих краях. Они плохо представляли, как живется за пределами ортодоксального мира. Все, что они знали, было почерпнуто из книг, телевизора и кино. Иногда девочки пытались делать вид, что они такие же, как все. Однажды Илана Зальцман с Ариэллой Сассберг пошли в универмаг примерить платья на выпускной, сказав продавщице, что они из школы Риджвей Хай. Глядя на себя в облегающих платьях, они и сами почти в это поверили.
– Какой самый безумный поступок вы совершили? – спросила Илана с распахнутыми от возбуждения глазами. Она уже воображала, как Бат-Шева потчует их историями всяких непотребств.
– Ох, даже не знаю. Наверное, когда я в шестнадцать лет сбежала посреди ночи из дома с каким-то мальчишкой, чтобы посмотреть, как отреагируют родители. Мы неделю где-то болтались, разъезжая на машине и ночуя в дешевых мотелях.
– А кто он? – спросила Илана.
– Боже, как его звали? Даже не вспомню. Не так он был важен.
Шира откинулась на спинку кресла, уйдя в свои мысли. Однажды она краем уха уловила, как мать обсуждала по телефону одну вещь, и теперь решила спросить об этом Бат-Шеву.
– А правда, что у вас есть татуировка?
Другие девочки тоже слышали об этом от своих матерей (напрямую или подслушав) и обрадовались, что Шира спросила, – сами бы они не решились.
Бат-Шева удивленно рассмеялась.
– Я рада, что вы меня не стесняетесь.
– А что, это секрет? Я слышала это от матери, – сказала Шира. – Думала, все про это знают.
– Все нормально. Просто удивилась. Но могу рассказать, почему бы нет? Да, у меня татуировка, давнишняя история.
Все сидели, не проронив ни слова, но по их лицам Бат-Шева поняла, что они еще о чем-то хотят попросить.
– Дайте угадаю. Вы хотите взглянуть.
– Наши мамы видели, – сказала Шира. – Так почему нам нельзя?
– Не то чтобы я ходила и демонстрировала ее направо и налево, – ответила Бат-Шева. – Просто несколько человек случайно увидели, вот и все.
– Но все о ней знают, – сказала Хадасса.
– И что они думают? – поинтересовалась Бат-Шева, явно немного занервничав.
– Само собой, не одобряют. Но по-моему, это круто, – признала Шира.
Решив, что особой беды не будет, Бат-Шева расстегнула две верхних пуговицы на блузке и обнажила татуировку. Девочки смотрели, смотрели не отрываясь: они никогда не видели такую штуку вблизи и, уж конечно, не на знакомых.
– Илана, тебе надо сделать такую, – сказала Шира.
– Ага, вместе сделаем.
Девочки принялись строить планы, как они все сделают татуировки, эдакий поход всем классом ешивы в тату-студию. Они смеялись, обсуждая, кто какой рисунок выберет: сердечки с написанными внутри именами воображаемых бойфрендов, змей, обвивающихся вокруг щиколоток, название школы, выбитое на ягодицах. Заодно решили, что можно проколоть нос и пупок, выстричь ирокез и выкрасить его лиловым – что угодно, лишь бы избавиться от образа приличных девочек из ешивы. Они галдели и визжали от смеха. У Бат-Шевы они не боялись, что их кто-то услышит. Они чувствовали себя совершенно как дома.
Девочки придумывали всё более безумные сценарии, и Хадасса Бернер чувствовала себя все больше не в своей тарелке. Ей было нечего добавить – ни про затейливый пирсинг, ни про эксцентричную стрижку мечты, – и она напряглась, испугавшись, что покажется пай-девочкой. Она подошла к книжному стеллажу и стала с притворным интересом изучать названия. Заметив на нижней полке фотоальбомы, взяла один.
– Можно я посмотрю? – спросила она у Бат-Шевы, и все немедленно присоединились к просьбе.
Бат-Шева замялась.
– Я не думаю, что должна скрывать свое прошлое. И не стану вам лгать и делать вид, что не делала того, что делала. Но только помните, что я оставила ту жизнь, – сказала она.
Девочки перелистывали страницы фотографий Бат-Шевы в бикини на пляже, Бат-Шевы в детстве в хэллоуиновских костюмах или на фоне новогодней елки.
– О, мой бог, посмотрите-ка на эту! – воскликнула Авива Беркович. Она показывала на фотографию Бат-Шевы в леггинсах и коротенькой черной футболке выше живота.
– У вас есть вся эта одежда? – спросила Хадасса.
– Нет. Я как-то не собиралась ее больше носить, – ответила Бат-Шева.
– Но почему? Выглядит отпадно, – сказала Шира.
Они представили себя не в приличных субботних нарядах – платьях, строгих костюмах, юбках с джемперами, – а вот в такой одежде с фотографий: Ариэллу Сассберг в черных леггинсах, Авиву Беркович в топе с завязками на шее, Хадассу Бернер в сетчатых колготках, Нехаму Шейнберг в прозрачной красной блузке и Ширу Фельдман в обтягивающем мини-платье.
– Вот здорово, если б мы могли такое носить, да? – спросила Илана.
– Само собой. Достали эти юбки, – согласилась Шира.
Ей до того надоели юбки, что, уходя кататься на роликах, она прятала в рюкзаке пару купленных втайне джинсов и где-нибудь по дороге переодевалась.
– Я понимаю, вам кажется, что так одеваться – это по-настоящему круто, но не забывайте, что для нас с Аялой я выбрала нечто другое, – заметила Бат-Шева. – И я правда считаю, что в скромной одежде что-то есть. Я гораздо увереннее себя сейчас чувствую, как будто мое тело особенное и принадлежит только мне одной.
– Да бросьте, – возразила Шира. – Вся эта тема дресс-кода такая надуманная. Как будто, если носишь длинные юбки, ты религиозная, а если нет – то нет.
– Я не говорю, что одежда – самое главное. Меня гораздо больше волнует то, что у человека внутри. Но это не значит, что она не важна. Смотрите, кто-то из вас доучивается в школе последние несколько месяцев, а потом вы можете делать все что душе угодно. Вот об этом бы стоило подумать. Если вы просто выдаете реакцию на правила, то не сумеете разобраться в том, чего на самом деле хотите.
– А как нам понять, что мы думаем? Все только и делают, что рассказывают, как надо поступать, но никогда не приводят ни одной причины, – сказала Ариэлла Сассберг.
– Да, в этом трудно разобраться. Но надо пробовать. В вашем возрасте меня вдруг накрыло ощущение бессмысленности всего. Я моталась из одного места в другое, от одного человека к другому. И только приход в иудаизм дал мне чувство цельности. Вам доводилось переживать подобное? Когда вы настолько полно во что-то погружаетесь, когда можете стать частью общины ради чего-то более важного и значительного.
– Но ведь вы так всё себе осложняете, разве нет? Неужели вы не скучаете по прежней жизни? – спросила Илана.
– Иногда. Но я всю жизнь не чувствовала себя собой. Скорее, душой, родившейся в чужом теле. В религии ты обретаешь связь с традицией, которой тысячи и тысячи лет. Ты всегда будешь частью чего-то большего. Вот представьте: если бы можно было прямо сейчас все это бросить, вы уверены, что согласились бы? Какое-то время вам будет интересно, но вам не кажется, что потом вы все же ощутите, что потеряли нечто особенное?
Они кивнули, словно понимали, о чем она, и по дороге домой все еще обдумывали ее слова. Порой наши девочки казались такими юными и ранимыми, что мы не могли вообразить их в самостоятельном плавании. А порой являли такую мудрость, будто видели и понимали куда больше нас. С тех пор как они вошли в подростковый возраст, мы безуспешно пытались понять, о чем они думают. В их мрачных недовольных лицах мы пытались уловить отголоски времен, когда они были маленькими и счастливыми. Мы видели, как им неспокойно, когда они возвращались из школы, когда очередной раз брались подработать нянями в субботу вечером. Мы знали, что они мечтают о фильмах 17+, которые втайне от нас брали напрокат. Видели, как зачитываются журналом «Seventeen Magazine» и отвечают на опросы, кто из мальчиков (футболистов, президентов школьного совета, панк-рокеров) им больше подходит; экспериментируют с макияжем, чтобы стопроцентно привлечь его внимание; грезят о платьях на выпускной, которого никогда не будет в их школе.
Даже на фоне других еврейских, но неортодоксальных детей в Мемфисе они были аномалией, меньшинством среди меньшинства. В городах, где ортодоксальные общины больше, можно было всю жизнь прожить в кругу единомышленников. В еврейских школах Нью-Йорка у старшеклассников ешивы имелись собственные баскетбольные лиги и по сотне ребят в каждой возрастной группе. Мемфис был слишком мал для такого; у нас был один Еврейский общинный центр – в нем собирались все евреи города: консервативные, реформисты, даже едва имеющие отношение к еврейству. Порой мы ходили послушать чье-нибудь выступление, наши дети играли за спортивные команды, младшие ездили в летний лагерь. Но наши дочери тосковали о чем-то неизведанном, что находилось бы за пределами группки из двадцати девочек на всю школу, и мы очень опасались, что они будут слишком много общаться с нерелигиозными подростками.
В какой-то год Хадасса Бернер записалась в секцию баскетбола при Еврейском общинном центре. Все остальные девочки там были из неортодоксальных и ходили в одну школу, поэтому Хадасса чувствовала себя не в своей тарелке. Да еще и мать запретила ей заниматься в шортах, но все же сдалась и разрешила тренировочные штаны (Хадасса сказала, что уж лучше не будет вообще ходить, чем играть в юбке). И все равно она без конца отвечала на вопросы: «Тебе не жарко?» или «Почему ты не наденешь шорты?» Поначалу она бормотала что-то вроде: «Мне и так хорошо, я легко мерзну». Но девочки не унимались, а Хадасса слишком стеснялась сказать правду и в результате просто ушла из команды. Может, взрослый и ответил бы гордо и без обиняков, но для подростка быть не как все невыносимо.
Мы вспоминали себя в их возрасте, ужасную неловкость от того, что выделяешься, мучительный стыд, что не можешь слиться с толпой. А ведь тогда еще было полегче. Многие из нас учились в государственной школе, и потому нас объединял сам факт еврейства, независимо от степени религиозности. Нам разрешили вступить в молодежную группу Бней Брит; родители были счастливы, что хоть друзья у нас будут евреи. Ортодоксальный мир был менее строгим. Сладкие батончики, которые у нас считались кошерными, теперь запрещались; наши тогдашние танцы в синагоге теперь считались предосудительными. И это не только в Мемфисе. Весь ортодоксальный мир сделал серьезный шаг вправо, и мы, как партнеры в танце, послушно двинулись следом.
И все равно нам приходилось постоянно объясняться, говорить: нет, мы не можем прийти на баскетбольный матч в пятницу, нет, мы не будем посещать школу в праздники, о которых большинство евреев даже не слышало. Рэйчел Энн Беркович помнила, как однажды, лет в шестнадцать, отправилась на барбекю со сверстниками. Она заранее заказала кошерный хот-дог, чтобы не выделяться. Пока все разбирали некошерные, Рэйчел Энн толклась рядом, стараясь не привлекать к себе внимание. Но когда народ расселся с тарелками хот-догов, картофельного салата и соленых огурцов, организатор выкрикнул: «Чей кошерный хот-дог?», подняв над головой булочку с сосиской. Рэйчел Энн хотела провалиться сквозь землю, там же и немедленно.
Подростками мы представляли себе, что со своими дочерьми уж точно не будем так строги. Мы дадим им пространство для маневра, позволим самим решать, хотят ли они принять этот образ жизни. Но стоило нам стать родителями, все оказалось не так просто. Мы хотели, чтобы дочери выросли и вышли замуж, вели еврейский дом и растили еврейских детей. Хотели, чтобы они передали традицию своими детям, а потом и внукам. Мы не хотели, чтобы они поддавались дурным влияниям, которые могли совлечь их с пути, предназначенного им с рождения. Хотели, чтобы они не потерялись в этом мире, в котором, казалось, уже никто ни во что не верил. Хотели, чтобы они чувствовали связь с традицией, не отдалялись от семей, общины, Бога. И мы совершенно не понимали, как этого добиться, если не прописывать основные правила, не устанавливать границы.
На следующей неделе Бат-Шева наводила порядок в классе рисования, когда вдруг увидела Ширу Фельдман. Она стояла у двери с пылающими щеками и искаженным от гнева лицом. Бат-Шева взяла ее за руку и завела в комнату.
– Что случилось? – спросила она.
– Мне не разрешили идти на рисование, пока я не позвоню матери и она не принесет мне юбку подлиннее.
Шира посмотрела на свои коленки, торчащие из-под черной юбки.
Каждый день юбки девочек заметно укорачивались. Мы уже не знали, что они еще придумают, чтобы выкрутиться. Учителя наметили два решения проблемы: заставить злостных нарушительниц держать запасную юбку в своих шкафчиках или же в школе припасти на такой случай несколько длинных бесформенных юбок. Пока ни один из планов не был пущен в ход, но, судя по тому, как развивались события, это был лишь вопрос времени.
– Вроде до колен достает, – заметила Бат-Шева.
– Я сказала рабби Фишману, что он в любом случае не должен смотреть на мои коленки. Но он ответил, что, если бы их не было видно, ему не пришлось бы смотреть. А я не могу позвонить маме. Я и так уже наказана на сто лет вперед.
– Думаю, тут можно помочь, – сказала Бат-Шева.
Порывшись в шкафу, она достала кусок золотой ткани. Орудуя ножницами и булавками, она смастерила юбку, которая завязывалась на талии и спускалась складками по бедрам. Шира в ней больше походила на покрашенную золотом римскую статую, чем на приличную девочку из ешивы, но юбка была длиной, тут не поспоришь, – до самых щиколоток. Закончив, Бат-Шева усадила Ширу напротив себя.
– Похоже, дело не только в юбках, – предположила она.
– Да, тут все сразу.
И Ширу прорвало: ей надоело выслушивать, что ей надо делать, ее как будто держат в тесной коробке без отверстий для воздуха, и она вот-вот задохнется. Ей необходимы открытые пространства, она мечтает уехать куда-нибудь, где сможет быть самой собой.
– А что говорят родители?
– Мать считает, что может заставить меня быть такой же как она. Но я лишь выжидаю момент, когда смогу делать что захочу.
– Скоро станет легче, поверь. Ты во всем разберешься, и тогда не придется беспокоиться о том, чего от тебя ждут другие.
– Старшая сестра учится в колледже Стерна, и мать тоже там училась, а теперь пытается и меня туда засунуть. Но это последнее, что я сделаю, – согласиться еще на четыре года религиозной школы для девочек!
– А какие у тебя планы?
– Я запросила бумаги для поступления в Колумбийский университет и в Браун, но мать нашла их у меня в комнате и заявила, чтобы я и думать про них забыла. Считает, что если я поступлю куда-нибудь кроме Стерна, то отойду от религии. Но она никак не возьмет в толк, что я и так отойду, где бы дальше ни училась. Она ничего для меня не значит.
– С этим бывает непросто. Уже после гиюра случались моменты, когда я сомневалась, то ли это, чего я искала. И хотя я точно знаю, что в конечном итоге это оно, было тяжело соблюдать всё от и до. Но мне кажется, преодоление – очень важная часть веры.
– Можно я буду это цитировать? – спросила Шира. Мать была бы в ярости, услышь она такое, а Шира сейчас была готова на все, лишь бы затеять ссору.
– Пожалуйста. Совершенно естественно, что в тебе происходит борьба. Это говорит о том, что ты думаешь.
– Что бы вы сказали, если бы я поборолась, но в конце концов решила, что не верю во все это? У вас же так, наверное, было с религией, из которой вы пришли.
– Я выросла вне религии, так что ситуация все же другая. – Бат-Шева посмотрела ей в глаза. – Но если ты действительно серьезно думала об этом и пришла к такому решению, я бы советовала делать, как тебе хорошо. Для меня это, конечно же, верный образ жизни, что не означает, что и для других оно так же.
Йохевед Абрахам заглянула в класс и многозначительно посмотрела на Ширу: она пропускала уже третий урок подряд.
– Не волнуйтесь, уже иду, – сказала Шира учительнице, которая не отрывала глаз от ее нового туалета. – Вам нравится? Мама привезла. Моя самая длинная юбка.
Йохевед с трудом представляла, что мать Ширы могла бы привезти такую вещь. Она перевела взгляд на Бат-Шеву, на лице которой блуждала едва заметная улыбка. Скорее всего, ее рук дело. Вполне похоже на юбку из ее гардероба. Она снова посмотрела на Бат-Шеву; улыбка исчезла.
Шира попрощалась с Бат-Шевой и отправилась на урок, оставив их с Йохевед вдвоем. Та старалась быть любезной с Бат-Шевой, но у них едва ли было что-то общее. Йохевед казалось, что Бат-Шева, хоть и старше всего на несколько лет, по части жизненного опыта обогнала ее на годы вперед. И потому Йохевед всегда напрягалась в присутствии Бат-Шевы, побаиваясь, что та станет над ней смеяться. К тому же у Йохевед создавалось ощущение, что ее отодвинули. Ведь это она должна быть девочкам ближе всех, должна быть им примером. Она уехала из Нью-Йорка, потому что здесь было ее место. Йохевед думала, здесь ее будут ценить, не то что в Нью-Йорке, где она всего лишь очередная мечтающая выйти замуж женщина под тридцать. Но теперь все только и говорили о том, как девочки обожают Бат-Шеву; Йохевед опять обошли вниманием.
– Ох уж эти девочки, – покачала головой она. – И что нам с ними делать?
– Просто у них трудный период. Тяжело учиться в такой маленькой школе, – сказала Бат-Шева.
Опасаясь, что страх насмешки вот-вот оправдается, Йохевед принялась уверять, что не имела в виду ничего дурного, и поспешила вон из комнаты, теперь уже опаздывая на собственный урок.
Чем больше времени девочки проводили с Бат-Шевой, тем заметнее становились происходившие с ними перемены. Рэйчел Энн Беркович рассказала, что Авива стала охотнее помогать на кухне – не принималась отнекиваться, когда ее просили вытереть посуду. Рут Бернер была поражена, что Хадасса без всяких напоминаний сама молилась в воскресенье утром. Нехама Шейнберг подумывала поехать на год в Израиль после школы, хотя всего пару месяцев назад даже слышать про это не хотела. Да и Шира как будто успокоилась. Стала приходить на уроки вовремя, меньше прогуливать. Даже ходила в синагогу в субботу утром, хотя последние месяцы непременно просыпала. Мы были довольны такими переменами и уповали на то, что Бат-Шева все же окажет на них благотворное влияние. Мы души не чаяли в Йохевед Абрахам, но у девочек с ней не сложилось. Сами мы бы, конечно, не выбрали Бат-Шеву образцом для подражания, но пути Господни неисповедимы, и мало ли, может, она и впрямь была ниспослана нам, чтобы спасти наших дочерей.
8
С наступлением осени наша жизнь завертелась вокруг приближавшихся праздников. Они надвигались целой лавиной: сначала Рош га-Шана, еще через десять дней Йом Кипур, а вскоре вслед за ним и Суккот.
Обычно на Рош га-Шана все сводилось к стряпне и подготовке, но в этом году праздник выдался совсем иным. Бат-Шева первой из женщин появилась в синагоге, и, когда мы пришли, она уже вовсю молилась. Она раскачивалась взад-вперед, прикрыв глаза. Глядя на нее, мы тоже стали усерднее молиться. Вместо того чтобы воображать Всевышнего где-то далеко на небесах, мы увидели его среди нас. Мы уже начали уставать, ноги тяжелели, и тут кантор запел главную молитву. Музыка всколыхнулась где-то глубоко внутри и устремилась ввысь через наши сердца: «На Рош га-Шана пишется, на Йом-Кипур запечатывается, сколь многие покинут этот мир и сколь многие родятся в этом мире, кто будет жить и кто умрет, кто прожил предел своих лет и кто погибнет в огне и в воде. Но раскаяние, молитва и добрые дела могут смягчить жестокость приговора». Если нам был уготован плохой приговор, мы молились о том, чтобы его заменили на хороший. Макая яблоки в мед и чувствуя сладость во рту, мы молились о сладком годе для наших семей и нашей общины.
После полудня мы собрались, чтобы совершить ташлих – символически бросить наши грехи в воду. Миссисипи была слишком далеко, поэтому мы пришли к мелкому ручейку, бежавшему к реке через двор Шайовицев. Мы встали у него и прочитали молитву: «Он опять явит нам сострадание; Он растопчет наши беззакония. И Ты бросишь в глубины моря все их грехи». Мы отламывали кусочки хлеба, символизировавшие наши грехи, и кидали их в воду. Любовь к сплетням миссис Леви смешалась с неумением Хелен Шайовиц сосредоточиться во время молитвы, со склонностью Ципоры Ньюбергер поспешно судить о людях, с неподобающими мыслями Бекки Фельдман и тайной слабостью Джослин Шанцер к креветочному салату. Вскоре ручей стал белым от крошек, и мы представляли, как течение уносит наши грехи в открытое море.
На Йом Кипур мы начали поститься, всё еще сытые предыдущей трапезой, последней перед следующими двадцатью пятью часами. Мы стояли перед Господом, единый народ. Мы были одеты в белые платья, на головах белые шляпы и белые шарфы. Наши мужья были в простых белых одеяниях, в которых стояли с нами под свадебной хупой и в которых мы хоронили умерших. Мы одевались так, чтобы показать чистоту наших помыслов, чистоту, которую мы надеялись обрести в наступающем году. Мы оглядывали синагогу, разлившуюся белоснежным морем, и это было словно видение рая.
Суккот – праздник сбора урожая – последний в осенней череде, настоящее облегчение после серьезных и важных Рош га-Шана и Йом Кипура. Тора велит нам строить сукки – шалаши, подобные тем, что строили евреи, когда сорок лет ходили по пустыне, – и жить в них семь дней и семь ночей. Когда весь мир перебирается с улиц в дома и сезон пикников заканчивается до следующего года, мы выходим есть на улицу.
Мы строим сукку из чего ни попадя: стены из алюминия, брезентовых навесов, металлических шестов, фанерных досок, старых занавесок для душа. В сукке должно быть по крайней мере две с половиной стены, а крыши должны быть из того, что растет на земле – веток, листьев, бамбуковых палок, – и уложены так, чтобы мы видели звезды по ночам, а днем внутри было больше тени, чем солнца. Мы делали это столько лет, что отлично знали, как строить наши сукки, к какому углу крепить опоры, какой величины они должны быть, чтобы вместить наши большие семейства, и насколько прочными, чтобы устоять в ветер и дождь. Пятнадцать лет назад над городом пронеслась страшная буря и многие сукки повалило, а некоторые даже летали по кварталу.
Когда дети были маленькими, мы гораздо больше времени проводили, украшая сукку, мастерили бумажные цепи из картона, нанизывали гирлянды из клюквы, вырезали фигурки из войлока. Хелен Шайовиц купила самодельный набор для витражных окон, миссис Леви научила свою Анну Бет строить мобили из сшитых вручную фруктов, а Бесси Киммель усадила дочерей рисовать подставки под тарелки для гостей, которые будут есть в их сукке, для каждого свою. Мы ламинировали все картинки (кто-то даже пропитывал их специальным раствором), чтобы дождь их не испортил, и после праздника аккуратно убирали до следующего года.
Теперь мы всё еще доставали из гаражей коробки с припасами, покупали отрезы войлока, наборы цветного картона и пакеты клюквы. Но время, оставленное на украшения, после всей готовки и уборки неумолимо сокращалось, и мы гадали, не исчезнет ли оно вовсе в один прекрасный день. Вместо того чтобы делать новые украшения, мы развешивали то, что сохранилось с прошлых лет, пытаясь спасти все, что возможно. Но картонные цепи ссыхались, картинки выцветали, и покрывавшая их пленка отслаивалась по углам.
В этот раз, за два дня до наступления Суккота, Бат-Шева постучала в наши двери и сообщила, что собирается завтра украшать свою сукку, не могли бы наши дети помочь ей? Мы видели ее радостное волнение, когда она объясняла, что впервые будет строить сукку, потому что в Нью-Йорке у нее не было места. Она тронула нас, мы бы и сами мечтали испытать такое воодушевление и потому сказали, что непременно передадим все детям, а может, даже и сами успеем зайти.
На следующий день мы направились во двор к Бат-Шеве. Она построила сукку из светлого дерева. Вдобавок вместо светло-коричневого бамбука, которым мы выкладывали крышу (несколько лет назад он был в большой моде, и теперь мы уже не могли вернуться к обычным веткам, с бамбуком было куда проще и чище), она взяла листья магнолии, кое-где даже с цветами. Бат-Шева стояла в окружении детей. Был погожий день, из последних в году, и солнце бабьего лета озаряло ее волосы золотисто-янтарным светом.
– Так много детей, – заметила Ципора Ньюбергер. – Неужели ее это не пугает? – От одного ее вида чувствую себя негодной матерью, – сказала Рена Рейнхард.
– Вздор, – отрезала Хелен Шайовиц. – Ты прекрасная мать.
Аяла держала банку из-под кофе с кисточками, торчащими аккуратным пучком. Бат-Шева кивнула ей, что пора раздать их детям, и Аяла бережно вложила по одной в каждую руку.
– В моей сукке мы нарисуем сцены из Торы, – объявила Бат-Шева. – Я хочу, чтобы вы закрыли глаза и представили, что Господь спустился в этот двор и попросил нас изобразить историю из Торы.
Наши дети вошли в узкий проем сукки, над которым висели нити из белых бусин. Внутри уже были расставлены банки с красками. Сначала наши дети не понимали, что делать. Кто-то окунул кисти в краску и нанес несколько осторожных штрихов на стену, поглядывая по сторонам, кто там чего придумал. Беня Рейнхард нарисовал маленькую синюю звезду Давида у подножия стены. Его сестра Браха изобразила коричневый свиток Торы.
– Мы с Аялой напишем разделение Красного моря, – крикнула Бат-Шева. – Кто хочет взяться за Ноев ковчег?
Она принялась рисовать огромное солнце, а Аяла закрашивала его мазками желтого, нисколько не заботясь о том, что краска стекает со стены прямо на траву, что у нее самой перепачканы руки. Дети смотрели на смелые мазки Бат-Шевы и Аялы. И Йехиэль Ньюбергер приступил к Ноеву ковчегу. Он нарисовал золотистый ковчег, возвышающийся над вереницей животных, – красных коров, и зеленых лошадей, и желтых птиц. Его сестра Хани, стоя на складном стуле, выводила радугу на голубом небе. Сестры Цукерман трудились над картиной дарования Торы. Ривка рисовала гору Синай, коричневый треугольник с зеленым по краям, а Дина – Моисея, бородатого мужчину со скрижалями с десятью заповедями на плечах.
В разгар этого действа появились Мими с Йосефом. Она держала его под руку, и они наблюдали за происходящим, стоя на краю лужайки. Заметив их, Бат-Шева поспешила навстречу.
– Я так рада, что вы смогли прийти, – сказала она.
– Бат-Шева, это просто замечательно. Всем так весело! – Мими часто напоминала нам о том, как важно себя подзаряжать, чтобы обряды не превращались в рутину. Она говорила, что недостаточно просто соблюдать праздники, шабат и кашрут, если не вкладывать в это душу; необходимо пропускать через себя то, что они несут, – именно это и происходило сейчас во дворе у Бат-Шевы. – Разве это не чудесно, Йосеф?
Он кивнул.
– Да, правда.
– У меня есть для вас задание, – сказала Бат-Шева Йосефу и всучила ему ведерко с мутной водой. – Вы будете отвечать за чистую воду. Можно наполнять из шланга у задней двери, а грязную просто выливайте на траву.
Он послушно взял ведерко, а Мими подошла к нам, продолжая восхищаться: она-де никогда прежде не видела, чтобы вся община так прониклась духом Суккота, и теперь нам перед каждым праздником нужно делать нечто подобное. Мы были согласны с Мими: нам не доводилось видеть ничего похожего.
Йосеф тоже втянулся. Он бегал от ребенка к ребенку, любуясь их работами. Он не стал рисовать свою картину, но время от времени подходил к сестрам Цукерман, брал свободную кисточку и закрашивал голубым небо над их горой.
Смех Бат-Шевы отвлек Йосефа. Мы понимали, почему он не может отвести от нее глаз. С развевающимися волосами она носилась туда-сюда, то давала совет, то открывала банку с краской и смеялась вместе с детьми. И она продолжала рисовать свое разделение Красного моря. Море вздымалось синими и зелеными завитками над мужчинами, женщинами и детьми, бредущими друг за дружкой по сухому желтому песку. На дальнем берегу сгрудились египтяне на черных лошадях, преследующие евреев. Подле Моисея шла его сестра Мириам в длинном бирюзовом одеянии и с бубном в руках. Танцуя, она вела за собой вереницу женщин.
Но когда мы присмотрелись, то заметили, что Мириам подозрительно напоминала Бат-Шеву. Те же светлые волосы и пронзительно-зеленые глаза. И мы готовы были поклясться, что один из мужчин походил на раввина, у женщины в черном было лицо Хелен Шайовиц, а у другой – прическа в точности как у Бесси Киммель. Мы ничего не сказали – это было бы невежливо, тем более когда мы гости во дворе Бат-Шевы, – но между собой мы живо интересовались, случайны ли эти совпадения. Может, нет ничего страшного, даже если она нарочно вписала себя в сцену из Торы; нет четкого закона, запрещающего подобное, по крайней мере, мы с ходу ничего такого вспомнить не могли.
– Вот так дела! – воскликнула Хелен. – Вам не кажется, что эта женщина чем-то на меня похожа?
Она не могла определиться, польщена она или возмущена.
– Ты гораздо красивее, Хелен. Не бери в голову, – сказала Леанна Цукерман, посмеиваясь – и мы не совсем поняли, над картиной или над Хелен.
– Пожалуй. Но мне все же кажется, что это я там, – произнесла Хелен.
Бат-Шева вышла из сукки передохнуть и выпить воды. Но вместо того чтобы зайти в дом, она направилась к садовому шлангу и стала пить из него. Через минуту все лицо ее было в водяных брызгах. Напоследок Бат-Шева намочила макушку и только тут заметила, что мы за ней наблюдаем. Она подошла к нам, отирая воду с лица.
– У вас прямо настоящая вечеринка, – сказала миссис Леви.
– Я очень надеялась, что детей это захватит так же, как и меня. И мне хочется, чтобы у Аялы были воспоминания из еврейской жизни, которой у меня не было. Когда не растешь в этом с рождения, все совсем иначе. Можешь только надеяться, что делаешь все правильно.
Миссис Леви понимающе улыбнулась.
– Это очень мило. Но поверьте мне, дорогая, я это проделываю уже почти пятьдесят лет, и через некоторое время это перестает захватывать. Так уж оно устроено. И в жизни все так, ничего не попишешь.
Мы согласились с ней, вспомнив, как после свадьбы были преисполнены энтузиазма, что теперь ведем свое хозяйство, устраиваем красивый шабат с новой сияющей посудой, столовым серебром и сверкающим хрусталем.
– Не знаю, – ответила Бат-Шева. – Мне трудно представить, что когда-нибудь это перестанет меня волновать.
Она отвлеклась на детей, показывая им, где лежат новые банки с краской, и крикнула Йосефу, что им нужна чистая вода. Потом, пропустив мимо ушей циничные слова миссис Леви, вернулась к нам.
– Даже не надейтесь, что вам удастся просто постоять в сторонке! У меня есть для вас работа. – Она протянула нам пакет с гирляндами из бусин. – Я не успела их развесить. Думаю, они будут красиво смотреться снаружи – тогда любой сразу их увидит, как зайдет во двор.
Бат-Шева дала нам моток бечевки и детские ножницы с круглыми кончиками и зелеными резиновыми ручками. И убежала, оставив выполнять ее задание.
Не очень понимая, во что ввязываемся, мы подошли к сукке.
– Давайте приклеим их скотчем? – предложила Хелен. – Это, наверное, несложно.
– Нет, это будет плохо смотреться. Надо их привязать, – сказала Ципора Ньюбергер. Как мать четверых детей она намастерила немало разных поделок и считала себя некоторым образом экспертом в этих вопросах.
Мы приступили к работе, распутывая гирлянды, отрезая кусочки бечевки, чтобы привязывать их к доскам сукки с лестницы, которую оставила Бат-Шева. Мы не были одеты для карабканья по лестницам, но придерживали юбки, выскальзывали из лодочек на высоких каблуках – и все равно взбирались, привязывали, резали и распутывали.
– А это не так уж и плохо. Мне почти что нравится, – сказала миссис Леви. Жаль, что Ирвинг на работе, он бы порадовался этой картине. Она вспомнила их первую сукку после свадьбы, как Ирвинг построил ее своими руками, а она придерживала лестницу, пока он сколачивал доски. Какими же молодыми и азартными они были! Как гордились своей суккой с кособокими стенами и самодельными украшениями! Теперь Ирвинг нанимал людей, которые устанавливали сукку, заказанную в специальном магазине в Бруклине, где продавали легкосборные комплекты. А она заказывала украшения по каталогу, торгующему в несезон рождественскими украшениями; никто не догадывался, что сине-белые серебристые звезды, которые она развешивала на стенах, предназначались для совсем других праздников.
– Вы только поглядите! – воскликнула Хелен Шайовиц. Она обнаружила, что, если переплести несколько гирлянд, получается радуга. Хелен подвесила свое творение между отдельными нитями, которые как раз прикрепляла миссис Леви.
– Все это, конечно, увлекательно, но у меня куча дел, – сказала Ципора Ньюбергер. Она еще не закончила с готовкой и уборкой, надо было искупать детей, нарядить их и принять гостей, съехавшихся из других городов. Слишком много, просто слишком.
– Расслабься, Ципора, – урезонила ее миссис Леви. – У тебя будет полно времени закончить, когда вернешься. А даже если и нет – я уверена, ты уже горы наготовила.
Рена отошла от нас в сторонку. У задней стены сукки Бат-Шева оставила лишнюю доску. Рена смотрела на нее, и потихоньку в ее воображении вырисовывались фигуры и цвета, которые ей хотелось изобразить. Она вспомнила картины Бат-Шевы, которые увидела, когда приносила одежду для Аялы, и задумалась, смогла ли бы она написать что-то подобное. Надеясь остаться незамеченной, она взяла кисточку и банку красной краски. Окунула кисть в краску и приступила. Злыми мазками она изливала подступавшую ярость. Все последние месяцы Рена из кожи вон лезла, чтобы сохранить видимость семейного благополучия. Этими красными взмахами она словно кричала миру, что ее муж холодный и невнимательный, что он не прикасался к ней долгие месяцы, что у него почти наверняка связь с какой-то женщиной на работе. Она сама от него откажется; сама уйдет не оглядываясь, оставит на него весь дом с детьми, стиркой и грязной посудой.
Пока мы были заняты украшениями, Йосеф подошел к Бат-Шеве и принялся пририсовывать светло-зеленые пятнышки к ее волнам.
Бат-Шева уперла руки в боки и улыбнулась.
– Что это вы вытворяете? – спросила она.
Он засмеялся и добавил маленькую синюю рыбку с глазами навыкате.
– Так лучше.
– Да неужто?!
И, быстро взмахнув кисточкой, она шлепнула ему на щеке красный кружок.
– А я вот считаю, вам так лучше.
Он в ответ мазнул ее по лбу синей краской, и они засмеялись. Больше всего нас поразило, как им было легко друг с другом, будто закадычным друзьям.
К ним подошла Аяла.
– Что вы делаете? – спросила она.
– Рисуем всякие рожицы, – ответила Бат-Шева. – Хочешь тоже?
Аяла кивнула, и Йосеф нарисовал ей на обеих щеках по синему кружочку.
– Теперь ты похожа на маму, – сказал он.
Бат-Шева протянула Аяле кисть, и та доделала на волнах моря завитки вроде тех, что добавил Йосеф. Закончив, она одной рукой обхватила мамины ноги, а вторую протянула к Йосефу. Будь вы не местным и не знай, что и как, запросто могли бы принять эту троицу за семью.
Когда мы вернулись в свои сукки, они показались старыми, унылыми, как заплесневелый хлеб. Прикнопленные постеры с видами Иерусалима, выцветшие детские рисунки, пластмассовые апельсины, свисающие с хваленого бамбука, гирлянды из открыток на еврейский новый год, приклеенные скотчем на стены, – все это мы развешивали ежегодно, и все это бесповоротно меркло на фоне того, что сделала Бат-Шева. Мы пытались объяснить нашим мужьям, что же такого особенного было в ее сукке, но они не понимали. И убеждали нас, что у нас самые красивые сукки и ничто не сравнится с огромной работой, которую мы проделали, готовясь к Суккоту.
Тем первым праздничным вечером мы ужинали в наших сукках. Пусть и во дворе, но мы ели на лучшем фарфоре и серебряными приборами. Мы расстарались и подали блюда, напоминавшие нам об осени и урожае. Мы настряпали из тыквы все, что только можно представить: тыквенно-ореховый хлеб и тыквенные пироги со сладким картофелем, фаршированную тыкву и тыквенные оладьи. Центр стола украшали композиции из мускатных и желудевых тыкв. Даже скатерти и салфетки мы взяли желто-красно-оранжевых оттенков.
Оглядывая столы, мы преисполнялись гордости при виде лиц наших детей, внуков, бабушек и дедушек, сиявших в свете желтых лампочек, которые мы подвесили, чтобы отгонять мотыльков. Сквозь щели в бамбуке мы наблюдали черное небо и мерцающие звезды и чувствовали, что Господь оттуда смотрит на нас. Не укрытые за кирпичными и бетонными стенами домов, мы надежнее спрятались в Его руках. После ужина мы спели биркат га-мазон, благодаря Всевышнего за данную нам пищу. Со всех сторон слышались голоса соседей, поющих те же слова той же мелодии. Как будто бы мы ели все вместе и теперь слились в единой молитве, взывая к почти что зримому Господу над нами.
Мы слышали голоса, доносившиеся со двора Бат-Шевы. Она пригласила странную компанию: нееврейскую женщину, которая жила в паре кварталов отсюда и никогда прежде не видывала сукки, двух студентов из Мемфисского университета, которых неизвестно как повстречала, и миссис Ганц, которая жила совсем одна в дальнем конце квартала и про которую, увы, частенько забывали в праздники, когда мы принимали столько гостей из других городов. Мы представляли Бат-Шеву в ее сукке, в окружении картин, нарисованных нашими детьми, и мечтали, чтобы нас тоже пригласили. И когда мы, убрав со столов, шли укладываться спать, их пение долетало до нас, наполняя воздух сладостью, свежей, словно вкус неведомого фрукта, который нам еще не доводилось отведать.
9
Йосефу пора было возвращаться в ешиву через несколько дней после Суккота, а мы уже думали о том, как нам будет его не хватать. Когда он уезжал, Мими заметно грустнела, а раввин выглядел одиноким и как-то расклеивался. Мы утешались мыслью о том, что Йосеф снова приедет уже совсем скоро, на Хануку, через каких-то два месяца.
За пару дней до его отъезда Эдит Шапиро зашла в мужской отдел «Goldsmith’s». Она искала подарок племяннику на бар мицву и совершенно не понимала, чем его порадовать: вся мужская одежда была на одно лицо, сплошь черный, синий да серый. Бродя по магазину в одиночестве, она вдруг почувствовала, как сильно скучает по своему Киве, да покоится душа его с миром. Накатывал новый приступ уныния… но тут Эдит заметила Мими и радостно замахала. Так славно увидеть знакомое лицо, когда тебе совсем тоскливо. Мими стояла у вешалок с брюками, а рядом в корзине высилась стопка фуфаек, носков и белых выходных рубашек.
– Новый гардероб? – спросила Эдит.
– Йосеф ненавидит магазины, вот я и покупаю сразу все, что ему понадобится, – ответила Мими.
– В ешиву, – кивнула Эдит. – Мальчики так быстро снашивают одежду. С моими сыновьями было то же самое. Только они уехали, как начали расти со страшной силой. Готова была поклясться, что с каждым возвращением домой они вытягивались на тридцать сантиметров.
– Собственно, – сказала Мими, тщательно подбирая слова, – Йосеф решил, что проведет год дома, занимаясь с отцом.
– Правда?! – воскликнула Эдит.
Судя по тому, как нервничала Мими, решение далось не так легко, как она пыталась изобразить.
– Мы ничего не говорили, потому что хотели дать ему возможность хорошенько все обдумать. Но он в самом деле хочет остаться. Говорит, так будет правильнее.
– Но ты в этом не очень-то уверена, – договорила Эдит за Мими.
– Сначала я встревожилась. Но я доверяю Йосефу. Если он считает, что ему это нужно, так тому и быть.
Если в отношениях с раввином у Йосефа была толика напряжения, то с Мими они были по-настоящему близки. Мы помнили, как совсем еще ребенком он приходил в женское отделение синагоги, взбирался к Мими на коленки и, прильнув к ней, слушал, как она объясняла ему все про молитву. Потом он подрос и уже не мог приходить в женское отделение, но всегда махал ей со своего места в первом ряду, и мы видели, как ему по-прежнему хочется быть тем маленьким мальчиком у нее на коленях.
– Вот и правильно, – сказала Эдит. – Именно так тебе и следует поступить. У нас-то была другая проблема. Я хотела, чтобы мальчики учились в здешней старшей школе, а Кива и слышать об этом не желал. Считал, им нужна настоящая ешива.
Эдит и сейчас помнила, каково ей было отпускать старшего сына, словно это случилось вчера. Рувен только после бар мицвы, тринадцати лет, и очень маленький для своего возраста. Он ни разу не уезжал из дома, даже в лагерь с ночевкой, и она не представляла, как он будет справляться один. Обнимая его на прощание, она вдруг почувствовала, будто увидит его снова еще очень-очень нескоро. Эдит всегда задавалась вопросом, стоило ли оно того. Понимала, что должна бы ответить: разумеется, это жертва во имя Торы. Все ее сыновья стали раввинами – о чем еще можно мечтать? Но после того как они покинули дом, все переменилось. Если бы Рувен хоть раз попросился приехать, она бы сказала мужу, что тринадцатилетнему мальчику нужна мать. Но он легко влился в жизнь ешивы. За ним последовал второй сын, Барух, потом пришел черед Нафтали и, наконец, младшего, Элиезера. И каждый раз расставание было как впервые. Но она научилась заглушать боль и напоминала себе, что дети – дары Господа и принадлежат ей лишь до поры, пока не достигнут возраста, чтобы посвятить себя Ему.
– Цени время, которое он с тобой. Поверь, оно так скоротечно, – произнесла Эдит и сжала руки Мими. Она бы все отдала, лишь бы вернуть далекие дни, когда каждый вечер за ужином собирались ее муж и сыновья. Если у Мими есть шанс прожить так еще целый год, нельзя его упускать.
Уходя, Эдит в обувном отделе столкнулась с Ципорой Ньюбергер; на той неделе были большие распродажи, все осенние туфли со скидкой двадцать процентов.
– Как хорошо, что мы встретились! У меня потрясающие новости. – Эдит отодвинула обувные коробки и уселась рядом с Ципорой. – Я сейчас видела Мими в мужском отделе, и она рассказала, что Йосеф в этом году не вернется в ешиву. Он хочет остаться и учиться дома вместе с отцом.
– Не может быть. Наверняка это просто слухи.
– Клянусь! Я слышала прямо от Мими.
Ципора задумалась. Учиться дома – совсем не то же самое, что в ешиве. Она любила слушать рассказы мужа про его годы в бруклинской ешиве, как он с головой уходил в изучение, как древний мир Талмуда казался более реальным, чем сам город. Ей представлялись молодые люди в белоснежных рубашках и черных брюках, встававшие с восходом солнца, чтобы поскорее припасть к страницам Талмуда, который нехотя оставили накануне ночью. Наверное, родись она мальчиком, именно такая жизнь была бы ей по сердцу. То, что Йосеф предпочел не возвращаться, заставило ее усомниться, так ли уж серьезно он относился к учебе. И тут же она напомнила себе: не спеши с суждениями, нельзя спешить с суждениями. Именно эту мицву она выбрала себе в этом году в своем упорном стремлении к самосовершенствованию.
Женщины попрощались. Ципора стала примерять синие замшевые балетки, а Эдит отправилась искать подарочную упаковку для купленного галстука.
Новость о том, что Йосеф остается дома, постепенно разнеслась по округе. Мы расспрашивали друг дружку: кто знал? Кто подозревал? Похоже, никто понятия не имел, пока Эстер Абрамович, секретарь раввина, не призналась, что знала, но держала язык за зубами.
Она не слишком-то годилась для секретарской работы, но с годами стала своим человеком в семье раввина. Эстер никогда не была замужем и в шестьдесят девять лет смирилась с мыслью, что уже и не будет. Йосефа она считала почти что внуком.
Несколько дней назад Эстер принесла раввину его кофе. Она не постучалась – проработав здесь девятнадцать лет, она уже научилась проскальзывать в кабинет незамеченной, – и застала там Йосефа, который выглядел смущенным, почти испуганным. Эстер знала, как трепетно относились друг к другу раввин и Йосеф, только плохо умели открыто выражать свою любовь. И поначалу на это и списала неловкость. Но, когда она уже уходила, Йосеф заговорил срывающимся от волнения голосом. Это было сильнее нее: Эстер неплотно притворила дверь и слышала каждое слово.
– Я думаю остаться дома в этом году, – произнес Йосеф.
– Что?! – ошеломленно воскликнул раввин.
– Мне кажется, я должен сделать перерыв с ешивой. Может, будет лучше, если я пока не вернусь.
Насколько раввин знал, Йосеф любил ешиву: он был там счастлив, он занимался тем, чем всегда хотел. И учился он блестяще – уже сдал первый экзамен на смиху[11], оставалось всего два для официального рукоположения.
– А стать раввином? А закончить смиху? – спросил раввин.
Йосеф смотрел на отца, подыскивая нужные слова.
– Скажи, что происходит? Что-то случилось? – продолжал вопрошать раввин. Все надежды на то, что сын пойдет по его стопам, вдруг показались призрачными, и впервые его кольнула мысль, что, может быть, он не так уж хорошо знает собственного сына.
Йосеф видел, какая боль исказила лицо отца; должно быть, видел, потому что запнулся и не смог выговорить то, что готов был произнести.
– Ничего не случилось. Просто я был бы счастлив провести здесь этот семестр и думаю, что больше почерпну из учения с тобой, чем в ешиве. А на следующий год я вернусь и досдам экзамены. Многие берут год, чтобы поучиться в Израиле. Я сделаю, по сути, то же самое, просто буду здесь.
– Отчего ты принял такое решение? – спросил раввин.
– Я всегда хотел заниматься вдвоем, как это было в старших классах. И теперь, когда я серьезно подучился, мне кажется, я смогу взять от наших занятий гораздо больше.
Мы тоже помнили, как они вместе учились. Каждый день Йосеф уходил с уроков в школе и два часа занимался с отцом. Он сильно опережал ровесников, поэтому в школе одобрили такое решение. Не желая упускать ни минуты времени с отцом, Йосеф бежал из школы в синагогу. Он впитывал каждое его слово, а по ночам повторял пройденное, чтобы уж точно ничего не позабыть.
Слова Йосефа убедили раввина. Он поднялся и обнял сына. Тревога сменилась облегчением, и он пуще прежнего был уверен, что сын последует по его стопам.
Ни раввин, ни Йосеф не заметили за дверью Эстер. Она не первый раз там угнездилась, чтобы подслушать разговор. Не имея собственных детей и мужа, Эстер почитала своей обязанностью присматривать за семьей раввина, и если для этого требовалось немножко пошпионить – что ж, так тому и быть. Надо было подготовить объявления на неделю, но по дороге Эстер отметила, что никак не проникнется радостью раввина. Йосефу она желала только счастья, но у нее были нехорошие предчувствия из-за такого неожиданного поворота. Она уже научилась читать по его лицу, и теперь на нем застыло не виданное прежде выражение неуверенности. И хотя Эстер не знала причины, но подумала, что это как-то связано с его решением.
Все мы тоже испытали двойственные чувства. Мы были уверены, что Йосеф вернется жить в Мемфис, но полагали, что до этого он проведет несколько лет в ешиве, а потом уже, со смихой в одной руке и женой – в другой, вернется домой. Такого пути мы ожидали от всех наших детей. Они могли уезжать в ешиву или колледж в Нью-Йорке: в Ешива-университет для мальчиков, колледж Стерна для девочек. Потом они бы женились или выходили замуж и возвращались обратно. Всякий их отъезд за пределы Мемфиса выпадал из нашей отлаженной жизненной канвы. Мы вовсе не мечтали, чтобы они навсегда поселились где-нибудь еще, и с трудом могли вообразить, чего искали те, кто все же переехал. Мемфис был тихим, спокойным и красивым, дома – большими и недорогими, тут вам и школа, и булочная, и синагога, и ресторан. Что еще нужно?
Если дети все же не возвращались, родителям приходилось разворачивать масштабную кампанию, призванную убедить их в ошибочности такого решения. Миссис Леви чего только не предпринимала, чтобы убедить своих детей приехать обратно: кричала, что они неблагодарные предатели; пыталась запугивать, указывая на страшный уровень преступности в городах, где они поселились. Был и такой печально известный случай, когда она встала на колени и молила их. Не склонная, в отличие от миссис Леви, к драматическим жестам Эдит Шапиро рассылала каждому из детей последние статьи из мемфисских газет, в которых рассказывалось, что город превращается в финансовый центр Теннесси. Бесси Киммель приложила все усилия, чтобы ее старший сын (единственный уехавший) узнал, что ходят верные слухи: не сегодня-завтра в Мемфисе появится своя спортивная команда. Когда Брюс и Леанна Цукерман подумывали перебраться в Чикаго, Этель Цукерман даже раскошелилась им на дом в паре кварталов от себя. И это в конце концов оказалось достаточно убедительным аргументом.
– Я училась в Нью-Йорке, но при этом знала, что мой дом – в Мемфисе, – любила повторять Бекки Фельдман. – Когда я встречалась с молодым человеком, всегда думала, переедет ли он в Мемфис. И на каждом свидании непременно об этом спрашивала. Потом, когда муж выбирал место для поступления в ординатуру, то подумывал про Денвер. Но я сказала, что, если первым в его списке будет не Мемфис, я его никогда не прощу.
– Мы жили в Бруклине, когда только поженились, – вспоминала Ципора Ньюбергер. – Я его терпеть не могла. Повсюду толпы народу, никто друг друга не знает. Там нельзя растить детей.
Единственное, что хорошо в Бруклине, – это магазины. Там на каждом углу продавали шляпки и парики. Но это все же не перевешивало всех ужасов проживания там – тем более можно же просто приезжать раз в год и закупаться всем необходимым.
В довершение всего Ципоре еще приходилось сносить подколки: «А что, в Теннесси и впрямь есть евреи? – спрашивали ее ньюйоркцы. – Вы живете на ферме? А Элвиса видели?» Ципора понимала, что они шутят, но это лишний раз убеждало ее в том, что она не хочет становиться местной, не хочет быть частью этой насмешливой бесцеремонной толпы. Их со Шмуэлем возвращение в Мемфис было чудесным. Как раз продавался соседний с родительским дом, и они успели его перехватить. Всего через пару недель ее избрали ответственной за художественное оформление в Женской группе помощи. Казалось, они и не уезжали. Через два месяца Шмуэль тоже прижился – сказал, что даже представить не может, чтобы они вернулись в Бруклин.
Когда-то люди просто сидели себе на месте, никуда не трогались. Не было этих разъездов туда-сюда. Считалось, что Нэшвилл и Бирмингем – очень далеко. А Нью-Йорк и Лос-Анджелес – просто за тридевять земель, не ближе чем Европа, из которой бежали наши прадеды и прабабки.
– Как мне это объяснить? – говорила миссис Леви. – В прошлых поколениях мы женились между собой. Кузены на кузинах, если было надо. Обходились тем, что есть.
Это так непохоже на нынешних детей, которые вечно ищут чего-то, что им никогда не найти.
– Тогда еще не было шуб и мерседесов бенц, доложу я вам, – рассказывала Хелен Шайовиц. – Я выросла в квартирке над родительской бакалейной лавкой и уже маленькой девочкой начала работать.
И хотя теперь у них с Алвином все было вполне благополучно, Хелен не могла отделаться от ощущения, что в любой момент деньги могут исчезнуть и она снова станет той бедной маленькой девочкой, изо дня в день ходившей в школу Фэйрвью Джуниор Хай в одном и том же платье.
– И вот еще что, – замечала Эдит Шапиро. – Вам кажется, сегодня непросто быть евреем. Так вот раньше времена были ох какие. Мы не говорили всем вокруг, что мы евреи. Мы гордились тем, кто мы, но не сообщали об этом каждому встречному. Старались подстраиваться, где и как возможно.
Эдит получила свою порцию антисемитизма в Мемфисе. Когда ей было десять, они с братом играли в садике перед домом, и двое мальчишек, живших по соседству, проезжая мимо на велосипедах, обозвали их жидами. Она тогда не поняла, что это значит, но потом наверстала знакомство с лихвой. В конце концов, это же юг: здесь, конечно, все родное, но репутацией толерантного края Мемфис похвастаться точно не мог.
Мы были счастливы, что Йосеф не прочь остаться дома, и все же очень беспокоились за него. Мы вспомнили, каким он был последнее время. И дружно согласились, что в нем появилась какая-то неуверенность, как будто он больше не понимал, кто он и чего хочет. И еще кое-что. Йосеф обычно приглашал своих товарищей из ешивы на Симхат Тору, с ними празднование оживлялось, они вместе вели нас в пляс в честь окончания годичного цикла чтения Торы. Но в этом году он их не позвал. Сначала мы не придали значения, но теперь это тоже показалось важным.
– Интересно, может, он скучает по дому? Мими ведь всегда все для него делала, и теперь ему тяжело дается разлука, – предположила Эдит Шапиро. Она мечтала, чтобы ее собственные сыновья хоть разок это испытали. Каждый раз, как они уезжали в школу, она давала им в дорогу курицу и кугель. Посылала печенье на шабат и предлагала постирать вещи, если они пришлют их почтой. Те дни давно прошли – теперь за ними ухаживали жены, – но до женитьбы она бы все отдала, лишь бы почувствовать, что все еще им нужна.
– Если бы все было так просто. На самом деле все куда хуже, – сказала миссис Леви. – Так уж оно всегда бывает.
Она, конечно, не хотела нагнетать, но жизнь есть жизнь, тут уж ничего не попишешь.
– Я вот думаю, – Хелен Шайовиц выдержала паузу для пущего эффекта, – Йосеф серьезно болен и останется здесь на лечение. – Разные картины болезни замелькали в ее воображении: лихорадка и сыпь, приступы кашля и пожелтевшая кожа. – Боже упаси, конечно, но все может быть.
Наоми Айзенберг увидела Йосефа по дороге на занятия с Бат-Шевой и нагнала его. Хотя сама она вернулась в город, где родилась и выросла, ей было странно, что Йосеф не стремится узнать новые места. Он же такой умный, он мог отправиться куда угодно, и все двери были бы открыты для него.
– Как дела? – заговорила Наоми, стараясь, чтобы вопрос звучал как можно непринужденнее. Она не хотела, чтобы Йосеф подумал, будто она допрашивает его или надеется выпытать какую-то свежую сплетню. Она и вправду просто хотела знать, как дела.
– Все хорошо, – ответил он уклончиво.
– Вот и славно. Радуешься, что задержишься здесь на подольше?
– Да. Я давно не оставался надолго, мне нравится идея побыть дома. Я скучаю по Мемфису.
– Родители, небось, на седьмом небе от счастья, – произнесла Наоми, не зная, что еще сказать. Разве могла она спросить, думал ли он когда-нибудь уехать насовсем? Могла ли признаться, что и дня не проводила без мысли, уедет ли когда-нибудь сама?
– Наверное, да. Конечно, они немного удивились, но теперь радуются не меньше меня.
Наоми показалось, что Йосеф пытался убедить всех, включая себя самого, в этой версии событий. Он напоминал актера, произносящего заученный сценарий. Всю жизнь он играл роль сына, и было трудно определить, где кончается роль и начинается настоящий Йосеф. Но когда мы все узнали о том, что Йосеф поведал Наоми, мы немного успокоились.
– Раз уж он будет дома, мы сможем проводить с ним больше времени, – сказал Эдит Шапиро.
Она уже воображала, что теперь Йосеф будет частенько заходить к ней, может, даже на ужин посреди недели. Она приготовит ему свои коронные блюда – стейк с жареным луком, ботву репы, домашнюю жареную картошечку, а на десерт – ее знаменитый мятно-шоколадный торт.
– Раз он остается, так тому и быть, – признала Бесси Киммель, склоняясь к мысли, что иногда правильнее просто плыть по течению.
Для Джослин Шанцер, которая все еще надеялась выдать за Йосефа свою племянницу Мириам, жившую в Нэшвилле, решение Йосефа было как нельзя кстати. Уж в этом-то году она справит дело.
– Надо узнать, сможет ли Мириам приехать на следующий шабат. Она сто лет тут не бывала, – сказала Джослин мужу, уже представляя, какой почет ее ждет, если она породнится с Йосефом. Ее, как королевскую особу, будут приглашать на все свадьбы и бар мицвы в городе; может, даже усадят за главный стол вместе с раввином.
– Йосеф может вести уроки в синагоге и преподавать в молодежных группах, как раньше, – заметила Ципора Ньюбергер. – Попрактикуется на роль раввина.
Ее детям не помешает достойный пример перед глазами, особенно двум младшим мальчикам: Моше и Йехиэль были совсем неуправляемы. Вместо того чтобы ходить в Молодежную общину, они болтались без присмотра. Этого было довольно, чтобы Ципора делала вид, будто знать их не знает.
Теперь, свыкнувшись с мыслью, что Йосеф остается в Мемфисе, мы не понимали, как вообще могли его куда-то отпускать. Все, что он мог получить в ешиве, точно так же мог дать ему отец. И смиху тоже. Он бы стал помощником раввина в синагоге. И ездил бы на выходные в Нью-Йорк на шидух[12]. Нашел бы себе невесту и привез сюда. Потому что здесь был его дом, здесь было его место.
10
Прошло несколько месяцев, и мы уже с трудом могли припомнить, какой была наша община без Бат-Шевы. Она так вросла в нашу жизнь, что казалась неотделимой ее частью. Она даже разговаривать начала, как мы, протяжно, на южный манер. Никто не мог точно сказать, когда это произошло; ее речь едва уловимо менялась день ото дня. Но спустя несколько месяцев перемена стала очевидна. Ее легко можно было принять за коренную мемфийку.
Аяла тоже влилась в общину. Теперь она запросто носилась по улице вместе с другими детьми. Всегда приходила к нам поиграть, чувствовала себя как дома в наших гостиных и кухнях. При каждом случае мы помогали Бат-Шеве с Аялой: забирали из школы, если Бат-Шева задерживалась, звали поужинать, не отпускали без свитера, когда на улице холодало. И поэтому привязались к Аяле больше, чем к другим знакомым детям; мы испытывали чувство материнской гордости от того, что так участвуем в ее воспитании.
Разумеется, бывали моменты, напоминавшие нам, что Бат-Шева не из наших. Она по-прежнему одевалась более вызывающе, чем мы, чересчур громко пела в синагоге, держалась чересчур свободно и говорила вещи с не свойственной нам прямотой. Но мы напоминали себе, что наша непохожесть свидетельствует лишь о том, как далеко вперед она ушла. Раввин говорил нам, что евреи, рожденные в вере, никогда не достигнут тех высот, что люди, пришедшие к еврейству сами: те всегда будут видеть дальше, словно стоят они на наших плечах. Даже когда мы соблюдаем кашрут и субботу, мы делаем это не по собственному выбору.
Не к кому-нибудь, а к Бат-Шеве обратилась Рена Рейнхард, когда ситуация с мужем стала совсем невыносимой, примирением даже не пахло и развод был неминуем. Она пришла к Бат-Шеве домой и излила ей душу. Ей не было неловко, что она как будто слишком много жалуется, она не волновалась, что Бат-Шеве опостылит вечно выслушивать про ее несчастья. Бат-Шева сочувствовала и не осуждала. Она напомнила Рене, что у нее есть выбор, что она сама может решить, хочет ли развестись, и община в любом случае поддержит ее.
Когда у Леанны Цукерман разладились отношения с родителями мужа, когда стало казаться, что она совершенно утратила всякую самостоятельность, она пришла за советом к Бат-Шеве. И призналась, что уже не понимает, кто она и что, и Бат-Шева говорила, как важно найти в себе некую точку, своего рода уголок, где ты существуешь наедине с собой. Она убедила Леанну чем-нибудь заняться, записаться на лекции в Мемфисский университет, может, даже доучиться и получить диплом бухгалтера, найти работу, приносящую радость, – не потому что от нее этого ждут, но потому что ей и только ей этого хочется.
Вечер после субботы теперь неизменно заканчивался у Бат-Шевы, потому что нам прискучили наши обычные разговоры. Мы снова и снова просили рассказать, как она пришла к иудаизму, – ничто не увлекало нас больше истории о том, как она брела по улице Нью-Йорка и вдруг наткнулась на синагогу. Мы расспрашивали ее, вправду ли так хорош «Макдональдс», как изображают в рекламе, похожа ли хоть немного наша пицца с салями на настоящую, отличаются ли пятничные телепередачи от программ в остальные дни недели. Наши вопросы о внешнем мире не кончались, и Бат-Шева отвечала со всей прямотой: больше всего ей не хватает мексиканской еды, и нет, наша пицца даже рядом не лежала, а расстаться с пятничными передачами ей уж точно ни капли не жаль. Слушать рассказы Бат-Шевы про жизнь, из которой она пришла к нам, было все равно что смотреть из окна туда, где мы никогда не побываем.
Когда требовалось придумать декорации к спектаклю в детском саду, на Книжной ярмарке, к Десятому ежегодному спагетти-ужину в итальянском стиле, мы обращались к Бат-Шеве. Она не хотела официально вступать в Женский клуб помощи – например, на должность ответственного за художественное оформление или сопредседателя по дизайну, – но всегда с готовностью помогала – так она ощущала свою причастность общинной жизни. Стоило нам описать суть проекта, как она засыпала нас идеями, и голос ее дрожал от возбуждения, когда она рассказывала, как можно превратить спортзал в маленькую Венецию для спагетти-ужина, как на Книжную ярмарку дети могут переодеться в своих любимых героев.
Бат-Шева так много делала для нас, что мы тоже хотели сделать что-нибудь для нее. Мы пеклись о ней, как будто она была нашей родной дочерью. Что, если она больше не выйдет замуж? Что, если останется одна на всю жизнь? Мы старались не наседать. Лишь упоминали, что в Ноксвилле планируется уик-энд для еврейских одиночек, может, ей это интересно? Или что в газете «Jewish Press» на последних страницах очень много объявлений. Мы их просмотрели, ну просто из любопытства, и знаете что – там очень даже попадаются достойные внимания мужчины. Но Бат-Шева не проявляла никакого интереса. Она смеялась над нашими попытками и говорила, что сама о себе позаботится. Что только нас раззадоривало. Было ясно, что ее замужество возможно, только если мы возьмемся за дело.
Как-то вечером в субботу несколько человек собрались у Хелен Шайовиц. У ее дочери Тамары, слава тебе господи, на неделе была помолвка, и разговоры велись только о свадьбах да браках.
– Его зовут Джошуа Кальб, он из прекрасной семьи из Майами, учится на юриста и очень хорош собой. Свадьбу мы планируем отпраздновать в мае, в отеле «Пибоди», и цвета выбрали персиковый и золотой, – сообщила Хелен.
Тамара была единственной дочерью, и Хелен ждала этого события всю свою жизнь. Когда женились двое ее сыновей, свадьбы устраивались не в Мемфисе. Там она ничего не решала – по правилам, как мать жениха, она должна была одеться в цвет слоновой кости, прикусить язык и развязать кошелек. Но в этот раз заправлять всем будет она сама. Забот вокруг свадьбы хватило бы на год, но у Хелен было всего шесть месяцев. К счастью, она уже несколько лет собирала вырезки из «Южной невесты» про цветовые композиции, украшения в центре стола, свадебные торты и платья матери невесты. Был момент, когда Хелен чуть было не купила Тамаре подвенечное платье с хорошей скидкой, потому что, пусть даже тогда она ни с кем не встречалась, но ведь рано или поздно это непременно произойдет.
За всеми эти разговорами о женитьбе зашла речь и о том, как сосватать Бат-Шеву. Мы сводили людей годами. Составляли списки одиноких мужчин и женщин. Затем приступали к самой сложной части работы – составляли пары, прикидывали, кто с кем будет хорошо смотреться, у кого похожие семьи, у кого схожие характеры. Создать удачную пару – ох какая непростая задача; даже Господь считал, что сводить людей – тяжелый труд, сложнее даже, чем разделение Красного моря.
– Как насчет сына Посманов? – спросила Джослин Шанцер.
Миссис Леви покачала головой.
– Так и не женился, – вздохнула она. – Какая жалость!
– Не знаю, – сказала Леанна Цукерман. – Он очень уж правильный. Мне кажется, Бат-Шеве нужен кто-то пораскованнее.
– Тут не угадаешь, – не отступала Джослин. – Они оба такие славные, оба религиозные, оба не женаты. Вон уже сколько общего.
– Давайте подождем, может, придумаем что-то получше, и если нет – тогда попробуем с ним, – предложила Хелен.
– А что скажете про Алана Кранцлера? – спросила миссис Леви. – Он из очень хорошей семьи.
– Как можно сватать за него Бат-Шеву?! – воскликнула Наоми Айзенберг. – Ему по меньшей мере пятьдесят.
– Бат-Шева тоже уже не девочка, – заметила миссис Леви.
Она вышла за Ирвинга в двадцать и считала это идеальным возрастом для замужества – не слишком рано, не слишком поздно. Она не понимала, зачем сегодня женщины предпочитают подождать; неужто они не боятся, что упустят лучшие годы? Ее внучке исполнилось восемнадцать, и миссис Леви всячески наставляла ее не зевать и смотреть в оба, пока она, что называется, в самом цвету.
– Погодите, – встрепенулась Хелен. – А что насчет Аарона Фокса?
Миссис Леви захлопала в ладоши.
– Идеально! Идеально! И как я могла о нем забыть?
Аарон Фокс был из Блайтвилля и переехал в Мемфис, чтобы поработать в магазине компьютеров, принадлежащем его кузену. В Блайтвилле не было ортодоксальной синагоги, и Аарон ничего не знал про то, что значит быть евреем. Но, оказавшись в Мемфисе, стал проявлять интерес: он встретился с раввином, и у них произошел любопытный разговор – и так он начал ходить в синагогу. Спустя несколько месяцев он уже был более религиозным, чем многие из нас.
Вот было бы замечательно, если бы у них сладилось! Мы уже воображали их свадьбу. Справляли бы, разумеется, в Мемфисе, и, раз у Бат-Шевы не было близких родственников, мы бы занялись всем сами. Сначала синагога, а потом ужин в саду у Джослин Шанцер, в котором довольно места, чтобы рассадить по крайней мере сотню гостей. Бат-Шева была бы чудо как хороша в простом платье белого шелка (она наверняка не захочет обильно украсить его блесками и бисером), с живыми цветами в волосах. Аяла была бы душкой в бело-розовом платье и с корзинкой лепестков, которые она разбрасывала бы перед молодоженами. После свадьбы все оставшиеся различия между нами и Бат-Шевой стерлись бы окончательно – их сгладила бы благопристойность брака. А там уже недолго ждать братьев и сестричек для Аялы. Нам уже не терпелось увидеть эти сладостные картинки воочию.
Джослин было поручено позвонить Аарону Фоксу. У нее было больше всего опыта в подобных делах. В юности ей нравилось, чтобы вокруг вилось сразу несколько поклонников, не бывало, чтобы в субботу вечером она не отправлялась на свидание. И, уже выйдя замуж, она применяла свои умения, чтобы создавать пары. Много лет назад она соединила Цукерманов. Брюс, как и она, был из Мемфиса, Леанна – родом из Чикаго, а Джослин была ее наставницей на молодежном слете. Она свела племянницу Берковичей Таню с младшим сыном Эдит Шапиро Элиезером, хотя они были троюродными братом и сестрой и знали друг дружку с рождения; но какая разница – пара есть пара. С двумя успешными партиями на счету Джослин оставалось устроить третью, чтобы застолбить себе место в раю.
Уложив детей, она набрала Аарона и, поболтав о том о сем, перешла к делу: «Думаю, у меня есть для тебя кое-кто. Тебе это интересно? Очень хороша собой, доброе сердце и самую малость необычная».
Аарон тут же согласился. Он обратил внимание на Бат-Шеву в синагоге и хотел узнать, кто это. В общине одиноких женщин почти не было, если не считать старшеклассниц, но они, полагал он, все-таки для него маловаты. Настроен он был серьезно – уже не раз ездил в Нью-Йорк на шидух, который организовывал тамошний раввин, знакомый нашего раввина. Он встречался со всеми девушками в лобби гостиницы, разговор вели исключительно серьезный, ведь главной целью было понять, подходят ли они друг другу. Но ни с одной из девушек ничего не вышло, и Аарон был готов испробовать любые возможности.
– Давайте, чтобы получилось мило и непринужденно, я позову вас обоих на шабат, и, если вы друг другу понравитесь, дальше уже будете действовать сами, – предложила Джослин. Она надеялась, обоим будет спокойнее в их с мужем присутствии.
Так и порешили. От Джослин требовалось только залучить Бат-Шеву. Она позвонила ей в понедельник, что было рановато для приглашений на шабат. Бат-Шева обещала прийти, но, прежде чем повесить трубку, Джослин спохватилась, что все же правильнее будет рассказать, что именно она задумала.
– Есть один небольшой момент, – выговорила она. – Я еще пригласила Аарона Фокса. Он очень приятный молодой человек, и я подумала, может, ты захочешь узнать его получше.
– Не уверена, – сказала Бат-Шева. – Я его знаю, и вряд ли у нас что-то получится.
– Почему нет? Мы все считаем, что это отличная идея.
– Просто есть ощущение. У нас явно нет ничего общего.
– Послушай, Бат-Шева. Ты едва с ним знакома. Он прекрасный человек, и я всего лишь прошу дать ему шанс. И я уже позвала его и обещала, что ты придешь.
Люди частенько отказывались, когда Джослин предлагала устроить встречу: говорили, что у них недавно закончились отношения, им необходим перерыв со знакомствами, они слышали всякое неприятное о данном человеке, ну или попросту стеснялись. Работа свахи в том и состояла, чтобы убедить их, даже если надо было немного приврать. Ей приходилось называть светло-русые волосы белокурыми, выдавать рост метр семьдесят с хвостиком за метр восемьдесят, уверять, что у человека имеются планы в ближайшем будущем поступить в медицинскую школу. Но Джослин не знала, как понимать Бат-Шеву и ее нежелание знакомиться. Бат-Шева не была стеснительной, у нее не закончились отношения, она ни с кем не встречалась, а других причин для отказа Джослин представить не могла. Преисполненная сомнений, она сообщила нам, что Бат-Шева согласилась, но крайне неохотно.
– Чепуха! – фыркнула Эдит Шапиро. – Бат-Шева должна дать Аарону шанс. Когда Кива первый раз позвал меня на свидание, я только взглянула на него и уже поняла, что ничего и никогда с ним не сложится. Но мы счастливо прожили пятьдесят три года.
– Встречайся до тех пор, пока станет совсем невмоготу, – сказала Хелен Шайовиц. – Так всегда говорили мои подруги. И тогда не придется беспокоиться, что упустила того самого.
С Алвином все было неоднозначно. Он показался вполне симпатичным, но как понять наверняка, что это он? Если замужество – на всю жизнь, как любили повторять подруги, то срок выходит внушительный. Но Алвин проявил терпение. Сказал, что готов ждать, потому что оно того стоит. И, несколько раз порвав с ним, Хелен все же набралась храбрости и ответила «да».
– Может, она уже с кем-то встречается, – предположила Бекки Фельдман.
– Нет, вряд ли, – сказала Наоми Айзенберг.
Ей было противно слушать, как здесь объясняли нежелание Бат-Шевы знакомиться с Аароном. Судя по тому, что все говорили, возникало ощущение, что Бат-Шева не выказывала готовности просто из вредности, в пику всеобщим благим порывам. Наоми так хотела расставить все точки над i, что в минуту слабости оплошала и выдала секрет Бат-Шевы.
Наоми стала гулять вместе с Бат-Шевой – физическая нагрузка и хорошая компания всегда на пользу. Как-то они шли по авеню Поплар, и Наоми завела разговор о мужчинах.
– У тебя был кто-то после Бенджамина? – спросила она.
Бат-Шева была такой красивой, такой полной жизни; ясно же, что мужчины проявляли к ней интерес.
Но Бат-Шева, всегда открытая и откровенная, замолкла и отвернулась.
– Если не хочешь, не будем об этом, – поспешила заверить ее Наоми. – Я просто спросила.
– Нет-нет, все нормально. Я знаю, ты ничего такого не имела в виду.
Очень тихо Бат-Шева поведала Наоми, как через год после гибели Бенджамина она сблизилась с одним из его друзей. Он был женат, и они с женой ходили в ту же синагогу, что и Бат-Шева. Сначала она и этот мужчина вместе горевали о Бенджамине. Он был добр и чуток, они часто разговаривали допоздна, порой даже ночь напролет, и он слушал ее рассказы о муже. Она могла признаться ему, как это тяжело, как одиноко ей бывало просыпаться посреди ночи и не видеть Бенджамина рядом. И Аяла тоже к нему привязалась. Он гулял с ней в парке и усаживал на колени в синагоге, в точности как Бенджамин.
– Поначалу я просто очень радовалась, что у меня есть такой замечательный друг, который понимает, что мне выпало пережить. Он тоже скучал по Бенджамину и рассказывал, каким тот был до нашего знакомства, и мы смеялись всяким хорошим воспоминаниям.
Слушая Бат-Шеву, Наоми занервничала. Хотя пока ничего плохого не прозвучало, но у нее возникло четкое ощущение, что это еще далеко не вся история.
Бат-Шева набрала воздуха.
– Но несколько месяцев спустя это как-то произошло. Я никогда не имела в виду ничего большего, чем дружба, но мы так сблизились и стольким делились…
Бат-Шева осеклась и умоляюще посмотрела на Наоми, прося о понимании. Как бы ни хотелось Наоми верить в лучшее, все было предельно ясно: Бат-Шева действительно говорила о любовной связи.
– Я никогда не думала, что все может этим закончиться. Но было чувство, что я не в силах этому помешать. Все, что было у нас с Бенджамином, ушло навсегда, и я осталась одна. И я думала, что, если бы кто-то оказался рядом, мне было бы легче.
– А потом?
– Мы решили, что должны прекратить, что самым главным между нами был Бенджамин, и нам обоим надо с этим покончить.
Бат-Шева выглядела страшно подавленной и смущенной, Наоми ни разу не видела ее такой.
– Потом мне было необходимо куда-нибудь уехать, – продолжила Бат-Шева. – Слишком много всего навалилось, и я надеялась, что здесь мне не будет так одиноко и я смогу начать все сначала.
Бат-Шева встряхнула головой, словно отгоняя эти воспоминания, и вымученно улыбнулась.
– Как знать? – сказала она.
Услышав все это от Наоми, мы были поражены. Мы уже привыкли всякого ждать от Бат-Шевы. Может, до прихода в иудаизм она и совершала подобные вещи. Но ведь потом она должна была жить в вере, а роман с женатым мужчиной уж точно не вязался с нашим пониманием веры. Мы пытались найти причины, объясняющие ее поведение. Она была одинока, она пережила страшную трагедию; кто из нас может знать, как поступил бы на ее месте? Но, как бы ни старались мы понять Бат-Шеву, забыть об этой истории было уже невозможно.
– Ну что ж, теперь все ясно, – объявила миссис Леви. – Она таки не религиозна.
Насколько было известно миссис Леви, никак нельзя быть религиозной и иметь роман на стороне, эти вещи несовместимы.
– Пожалуй, нет, – вынуждена была согласиться Хелен Шайовиц.
Новость облетала округу, а миссис Леви как раз отправилась проведать бедную миссис Ганц. Она была такой тихой, такой старенькой, что о ней частенько совсем забывали. Но она была близкой подругой дорогой матери миссис Леви, упокой Господь ее душу, и миссис Леви почитала своим долгом навещать старушку. Она испекла свои фирменные пирожки, которые всегда приносила в таких случаях в гости как своего рода визитную карточку.
Миссис Ганц была рада ее видеть – для любой из нас личный визит миссис Леви был особым событием. Поболтав о всякой всячине, миссис Леви изложила последнюю сплетню о Бат-Шеве, чтобы миссис Ганц почувствовала себя полноценной частью общины.
– О, я что-то такое уже слышала, – сказала миссис Ганц, пытаясь припомнить, где именно.
– Вот как! – Миссис Леви решила ей не перечить. Ну не могла миссис Ганц знать об этом больше самой миссис Леви.
– Да, мне кажется, дело было в парке на днях. Мими говорила про это, – ответила миссис Ганц, пытаясь навести фокус на свои воспоминания. – Может, она видела какую-то телепередачу, где у кого-то был роман на стороне, и Мими рассказывала о ней Бат-Шеве.
Миссис Леви вся подобралась. Возможно ли, что миссис Ганц случайно услышала нечто важное и даже не поняла этого? Если Бат-Шева и Мими говорили о любовной связи, то наверняка о той самой. Миссис Леви принялась усиленно потчевать миссис Ганц пирожками с чаем, и та потихоньку выдала все, что услышала в парке.
Мими с Бат-Шевой воскресным днем сидели на одеяле в парке Одобон. Аяла кормила уток в пруду остатками халы. Миссис Ганц кормила этих уток каждое утро ровно в десять – ей было приятно думать, что утки рассчитывают на нее. Она не подошла поздороваться, потому что была занята питомцами, а Мими с Бат-Шевой были так поглощены беседой, что не заметили миссис Ганц на скамейке прямо перед ними.
– Я знала, что это неправильно, – сказала Бат-Шева. – Я даже хотела пойти в микву, потому что так я хотя бы не буду совсем отрезана от веры. Но сознание того, что это неправильно, не помогало остановиться. Только вдвоем с ним я не чувствовала себя такой одинокой. Но стоило ему уйти, мне делалось только хуже.
– Бат-Шева, нельзя себя изводить, – промолвила Мими. – Все совершают ошибки, но важно извлекать уроки из прошлого и двигаться дальше. Тебе нужно сосредоточиться на том, какой большой путь ты проделала, а не копаться в том, над чем еще нужно работать.
– Я знаю. Но все же мне надо было удержаться. Когда я пришла в иудаизм, меня среди прочего очень захватила идея, что в ограничениях есть красота, что можно ощутить бо́льшую свободу, устанавливая запреты, чем когда всё в мире тебе доступно.
Мы понимали, почему Бат-Шева поделилась этим с Мими. Когда Мими спрашивала, как у нас дела, мы чувствовали, что она глядит много дальше наших никчемных ответов, прямиком в самые потаенные уголки наших сердец. Когда Эдит Шапиро беседовала с Мими, ей не приходилось говорить, что она почти свыклась со смертью мужа. Эдит полагала, что именно это хотят от нее слышать, ведь никому неинтересно знать, что боль так и не ушла, что и сейчас, четыре года спустя, она порой просыпается по утрам и горько сожалеет, что не умерла во сне. Но Мими давала понять, что совершенно нормально говорить о неприятном и печальном. Рена Рейнхард чувствовала то же самое: Мими была единственной, кроме Бат-Шевы, кому она могла рассказать о своих проблемах с мужем. Мими по несколько раз в неделю звонила узнать, как она, чтобы Рена не чувствовала себя одиноко.
И все же, пусть мы и привыкли, что Мими всегда вникала в наши проблемы, нас удивило, что она была так снисходительна к Бат-Шеве. Мы полагали, что прелюбодеяние – это черта, которую, коли уж перешел, назад дороги нет. Но миссис Ганц говорила, что Мими была сплошное участие, ни нотки осуждения, и мы недоумевали, было ли на свете что-то, что возмутит Мими, такой грех, на который не хватит ее сочувствия и понимания.
Несмотря на готовность Мими простить и забыть, Ципора Ньюбергер испытывала победоносное торжество: значит, все-таки было нечто неподобающее в том, что Бат-Шева ходила в микву. Она только запятнала мицву, используя микву во грехе. Ципора слыхала о женщинах, у которых был секс, нарушающий святость брака, и которые пытались обелить свой грех, ходя в микву. Просто извращение, так она считала. К тому же Ципора умела читать между строк в истории, которую поведала Бат-Шева Мими и Наоми. Хотя Бат-Шева старалась изобразить все так, будто роман возник из-за тоски по Бенджамину, Ципора прекрасно видела, что Бат-Шева из тех женщин, что охотятся на мужчин, даже женатых. Прелюбодеяние – это плохо, хуже не бывает. И причина самых скандальных происшествий.
Для Леанны Цукерман история с романом Бат-Шевы лишь подтвердила то, что она всегда в ней угадывала. Она видела, как Бат-Шеве одиноко, как она рвется сблизиться хоть с кем-то, пусть даже со старшеклассницами. Леанна знала, каково это. На первый взгляд у нее было все, чего не хватало Бат-Шеве: муж, многочисленная семья, община. Но это ничего не меняло. Если есть в тебе это одиночество, ничто не сможет его заглушить.
Новость о романе Бат-Шевы сильно задела за живое Рену Рейнхард. Выходит, она обратилась к Бат-Шеве за советом из-за своих проблем с мужем, а сама Бат-Шева была причиной точно таких же проблем еще в чьей-то семье. Она задумалась о той несчастной жене. Знала ли она об этой связи? Или только подозревала, как сама Рена? Сходила ли с ума всякий раз, как муж возвращался домой позже обычного? Перебирала бы снова и снова все, что он сказал, пытаясь найти хоть какие-то зацепки? Как бы ни помогла ей Бат-Шева в ее нынешней ситуации, Рена уже никогда не сможет обратиться к ней снова. На всем, что бы отныне ни сказала Бат-Шева, будет печать ее прошлого.
Теперь, зная это про Бат-Шеву, мы уже не могли так радоваться нашему плану с Аароном Фоксом. Несомненно, она скрывала то, что, как можно предположить, пришлось бы нам не по душе, и тогда мы задумались: а что еще она нам не рассказывает? И захочет ли теперь Аарон с ней знакомиться? Он ведь стал очень религиозным и вряд ли мечтает жениться на сотворившей такое.
Миссис Леви переключилась на других известных ей одиночек. Ее ниспосланным свыше предназначением, полагала она, было, среди прочего, найти мужа Йохевед Абрахам. Она прикидывала, будет ли это чересчур, если дать от имени Йохевед объявление в «Jewish Press». Хелен Шайовиц поняла вдруг, что со всей суетой вокруг стремительно надвигающейся свадьбы у нее совершенно нет времени думать о чем-то еще. И так неприятности валились одна за другой: фотограф, которого она наметила, был занят в тот день на другой свадьбе; оказалось крайне трудно найти платье матери невесты тон в тон персиковому оттенку декора в зале; получить идеальный свадебный торт можно было только с доставкой из Нью-Йорка.
Одной Джослин Шанцер удалось отбросить сомнения и продолжить делать дело. Она отлично знала, что успешная пара получается, только когда ведешь себя так, будто оба просто созданы для хупы. И, напоминала она себе, бывает и не такое. Она знавала и куда менее вероятные случаи, чем Аарон с Бат-Шевой. Если бы у них все сладилось, мы бы могли закрыть глаза на историю с женатым мужчиной. И если Аарон не узнает об этой истории, мы надеялись, что святость брака смоет печать греха. Джослин начала продумывать меню к пятничному ужину: ее знаменитая закуска «под лангуста» (рецепт почти тот же, что и с креветочным салатом), затем цыпленок барбекю, овощные оладьи и пирог из сладкой картошки с кремовым зефиром. Сытого довольного желудка бывает достаточно, чтобы захотелось пойти на второе свидание.
И вот знаменательный вечер наступил, и Аарон возвращался из синагоги с Джереми Шанцером. Он специально побрился, постригся и надел свой лучший костюм. На нем была недавно купленная черная шляпа, и выглядел он, будто всю жизнь провел в ешиве. Он стоял в коридоре, раскачиваясь с мыска на пятку и робея войти в гостиную – вдруг Бат-Шева уже там, а он не найдется что сказать.
– Она уже пришла? – спросил он шепотом у Джослин.
– Нет еще. Расслабься. Уверена, все будет прекрасно.
Аарон сел в гостиной вместе с Джослин и Джереми. От малейшего шума он нервно подпрыгивал. Только теперь Джослин заметила, что Аарон немножко нескладный. Может, Бат-Шева не обратит внимания, ну или хотя бы не сразу.
Двадцать минут спустя постучали Бат-Шева с Аялой, и Джослин кинулась открыть им дверь.
– Простите за опоздание, – произнесла Бат-Шева, но по виду не сказать, чтобы она спешила. Даже самую малость не запыхалась.
– Все хорошо. Я как раз закончила последние приготовления, – сказала Джослин, стараясь скрыть раздражение.
Она оглядела платье Бат-Шевы и расстроилась. Когда наши дочери ходили на свидания, они готовились по полной: наряды, макияж, идеальная укладка. Но Бат-Шева оделась в сто раз уже виденное нами черное платье-свитер, немного слишком облегающее, с серебряными пуговицами спереди. Вполне сносно (если не считать катышков в некоторых местах), но ничего особенного.
– Бат-Шева, это Аарон. Аарон – Бат-Шева, – представила Джослин. – Давайте начинать.
Все расселись, Аарон рядом с Бат-Шевой, как пожелала Джослин. Она сделала, что могла, чтобы вечер сложился как надо. Субботние свечи на столе вместо буфета, приглушенный свет, в центре – ваза с дюжиной длинных красных роз. Она взглянула на мужа, сидевшего напротив. Когда он ей улыбался, Джослин вспыхивала; у нее и самой появилось романтическое настроение.
Джослин посмотрела на Бат-Шеву с Аароном. Ни словечком не обменялись. Бат-Шева занималась Аялой, Аарон молчал, уставившись в тарелку. Тревожный звоночек прозвенел в голове Джослин: если Бат-Шева и дальше будет возиться с Аялой, у Аарона не будет ни малейшего шанса. Чтобы не допустить этого, Джослин на секунду отлучилась и вернулась с коробкой игрушек своих детей, которые она до сих пор хранила. Если Аяла будет играть с ними, Бат-Шева сможет переключиться на Аарона.
– Смотри-ка, Аяла, что у меня есть для тебя, – радостно произнесла Джослин и высыпала на ковер разных барби и мягкие игрушки.
Ни слова не сказав Аарону, Бат-Шева подвела Аялу к игрушкам и принялась играть с ней. Аарон несколько раз посматривал в их сторону, надеясь, что Бат-Шева все же вернется к столу, но та не обращала на него внимания. Джослин вспомнила совет, который давала собственным дочерям, когда они начали ходить на свидания, и которому в юности следовала сама: всегда давай почувствовать мужчине его важность. Всегда веди себя так, словно, что бы он ни сказал, ничего замечательнее ты не слыхала. Бат-Шева же весьма старательно поступала с точностью наоборот: она не давала Аарону шанса сказать хоть что-нибудь.
Но еще было время все поправить. Джослин вежливо, но настойчиво пригласила Бат-Шеву к столу, и они приступили к ужину. Все были заняты закусками, и Аарон неуверенно улыбнулся Бат-Шеве. Несколько раз откашлялся, нервно ломая руки, и наконец собрался с духом:
– Я слышал, вы из Нью-Йорка. Это должно быть интересно.
– А вы ведь из Блайтвиля. Там тоже наверняка очень интересно.
– Я там родился и жил почти всю жизнь. Но теперь надеюсь, что Мемфис станет моим домом, – сказал он и со значением посмотрел на Бат-Шеву.
Она не ответила на его взгляд. В руке у нее была полная ложка розового псевдолангуста.
– На вкус совсем как настоящий, – произнесла она.
– Благодарю. Придется поверить на слово, – ответила Джослин, стараясь не думать о контрабандном салате с креветками, спрятанном в морозилке.
– Когда я перешла в иудаизм, соблюдение кашрута было, пожалуй, самым сложным моментом. С шабатом было легко с самого начала, но про кошерное – некошерное приходилось постоянно себе напоминать. И много работать, чтобы это наполнилось смыслом. А у вас? Трудно было начать соблюдать кашрут? – спросила Бат-Шева Аарона.
Он опустил глаза, сгорая от стыда. Он хотел отгородиться от своего прошлого, сделать вид, что его просто не было. Все эти годы, что он нарушал слово Божие, висели над ним его личным страшным позором.
– Аарон, расскажите про свою работу в компьютерном магазине, – попросила Джослин.
Он рассказал, что ведет бухгалтерскую отчетность. Целыми днями сидит за столбцами цифр.
– Я люблю свою работу, – добавил он. – Мне нравится следить, чтобы все идеально совпадало.
Бат-Шева рассмеялась.
– Даже представить себе не могу что-то подобное. Я бы с ума сошла.
Он продолжал говорить о красоте точной отчетности, но Бат-Шева едва слушала. Вырез ее платья сложился в острый треугольник, быть может, чересчур глубокий, если бы не розовая заколка для волос, прихватившая края. Вместо того чтобы послушать или хотя бы взглянуть на Аарона, Бат-Шева игралась с заколкой, крутя ее между пальцев, и в конце концов та расстегнулась и упала на стол.
– Это Аялина, – улыбаясь, сказала она, как будто это все объясняло.
Аарон умолк и смущенно кашлянул. Бат-Шева снова сцепила края заколкой.
– Бат-Шева, расскажешь Аарону про свои уроки в школе? – попросила Джослин. Вечер давался много труднее, чем она ожидала. Но она надеялась, Аарон с Бат-Шевой хоть в этом сойдутся. Аарон очень обрадовался, когда Джослин сообщила ему, что Бат-Шева преподает: сказал, что такая работа явно не противоречит воспитанию детей и созданию еврейского дома.
Бат-Шева рассказала о художественных проектах, над которыми они работали с девочками. Как она поощряет их самовыражение через рисование. И уже замечает кое-какие перемены: они стали более уверенными в себе, более раскованными внутренне.
– Так прекрасно видеть, как они меняются. Как будто наблюдаешь, как они оживают, – сказала она.
Аарон сощурился, пытаясь определить, хорошо ли это.
– А что думают в школе? – спросил он наконец. Он не слишком разбирался в таких вещах, но был вполне уверен, что иудаизм не поощряет свободу самовыражения и творческое начало.
Бат-Шева улыбнулась.
– Почему? Вы считаете, нельзя быть религиозным и в то же время свободным и творческим?
– Нет, не совсем так, – ответил он и заерзал на стуле.
Слушая их разговор, Джослин наконец поняла, что за безумная идея была свести их вместе. У них же нет ну просто ничего общего. Розы с догоревшими свечами теперь казались насмешкой, досадным напоминанием о ее радостном предвкушении. Ужин бесповоротно катился под откос. Редкие обмены репликами сменялись долгими паузами. Джослин попробовала завести разговор о самых красивых туристических достопримечательностях Мемфиса, которые им обоим, новичкам в городе, быть может, стоило бы осмотреть вместе. Безуспешно. В конце концов Джослин решила, что тишина и то лучше, чем полнейшее фиаско. Она поднялась, чтобы принести пирог с шоколадным кремом, надеясь, что повисшее молчание спишут на исключительно плотный десерт.
Аарон ушел, не сказав на прощание даже «Я вам позвоню», и Джослин принялась обрабатывать Бат-Шеву. Если она захочет, Джослин попробует уговорить Аарона на еще одну встречу.
– Что скажешь?
– Он хороший, но совсем не для меня, – ответила Бат-Шева.
– Но почему? – недоумевала Джослин. Она не могла взять в толк, почему Бат-Шева так упрямится; тут уже нет-нет, а подумаешь, что она и вовсе не собирается снова замуж. – Нельзя вечно оставаться одной. Что ты будешь делать, если больше не выйдешь замуж?
– Я не готова что-то делать через силу.
– Но как же Аяла? Ей нужен отец, так же как тебе нужен муж.
– Нам и вдвоем прекрасно, – сказала Бат-Шева, присев на корточки, чтобы застегнуть Аяле пуговицы на пушистом красном пальто. На улице было холодно, и она натянула ей на голову капюшон и завязала веревочки под подбородком. Затем поблагодарила Джослин за ужин, пожелала ей хорошей субботы и ушла.
То, что Бат-Шева наотрез отказалась дать шанс бедному Аарону, навело нас на размышления. Мы были уверены, что это лишь вопрос времени, что рано или поздно Бат-Шева все же станет одной из нас. Мы к ней уже прониклись, и многие считали ее близкой подругой. Мы тешили себя картинами ее свадьбы и благополучной семейной жизни. Но стоило нам сгладить какую-то одну шероховатость, как немедленно возникала новая. Мы даже думали: может, Бат-Шеву не интересует замужество, потому что ей просто ни к чему нечто столь традиционное? Как известно, она вполне способна на сексуальные отношения вне брака. Может, это и есть то, что ей нужно.
Миссис Леви усмотрела в ее равнодушии к Аарону явный признак того, что мы с Бат-Шевой хотим очень разного. Одно дело не выходить замуж, потому что не за кого, но для Бат-Шевы это, несомненно, было сознательным решением. Что могло плохо повлиять на девочек-старшеклассниц – им могло вздуматься, что можно быть одинокой и счастливой. Йохевед Абрахам была безоговорочным примером того, как ужасно быть не замужем. И тут, при мысли о бедняжке Йохевед, в ее голове зазвонило и замигало. Миссис Леви хлопнула себя по лбу: Йохевед Абрахам и Аарон Фокс. Они же созданы друг для друга, просто идеальная пара. Это же всю дорогу лежало у нее прямо под носом, но она была слишком занята пристройством Бат-Шевы.
У Эдит Шапиро после провального свидания добавилось поводов для беспокойства за Йосефа. Она обратила внимание, как им с Бат-Шевой легко вместе. Может, Бат-Шева положила на него глаз и поэтому не проявила интереса к Аарону Фоксу? Эдит Шапиро очень воодушевилась по поводу плана свести их вместе, потому что, если Бат-Шева станет встречаться с Аароном, все будут при па́рах, и Йосеф сможет наконец сосредоточиться на учебе и своем будущем. От того, что Бат-Шева была по-прежнему свободна, у Эдит возникало ощущение, что община шатается, как стол с хромой ножкой.
Ципора Ньюбергер сочла, что теперь самое время еще раз поднять вопрос о Бат-Шеве и микве. Может, все это связано. Может, Бат-Шева не желает, чтобы ее с кем-то знакомили, потому что у нее здесь тайный роман. И поэтому-то она и ходит в микву. Если она сделала это однажды (а то и не однажды – кто теперь поручится?), почему бы не повторить?
Мы старались занять голову разными другими делами. Напоминали себе, что надо быть терпеливыми: Бат-Шева все еще продолжала взбираться по ступеням лестницы к более серьезному и полному соблюдению законов. И после того, что мы о ней узнали, мы понимали, что этот путь совсем не легок. Но нам не удавалось забыть о ее прошлом. Мы представляли, как она флиртовала, как, быть может, откидывала назад волосы и улыбалась, как просто ей было открыться перед кем-то. Размышляя обо всем этом, мы начинали сомневаться, что Бат-Шева когда-нибудь станет одной из нас.
Что еще хуже, в это время года всегда было затишье, никаких праздников, чтобы мы могли отвлечься, – лишь монотонное течение будничной жизни. Каждый день похож на вчерашний, бесконечная стирка, дети, которых надо развозить то туда, то сюда, готовка. Вдобавок похолодало. Дни напролет не показывалось солнце, и мы сидели по домам, перебегая лишь от двери до машины и до магазина. С голыми деревьями, подмерзшей бурой травой Мемфис уже не был красив. Он был уныл и сер. Стал похож на любой другой город.
11
Когда до Хануки оставалась всего неделя, мы снова окунулись в заботы, головы были заняты подарками, украшениями и вечеринками. Но весь город вокруг был поглощен Рождеством. Не так-то просто отмечать Хануку в городе, целиком раскрашенном в красное и зеленое. Мы старались отвлечься, воображая себя Маккавеями, которые противостояли эллинам и разгромили превосходящих численностью и могуществом греков. И в награду Господь сделал так, что единственного найденного ими кувшинчика неоскверненного масла для меноры хватило на восемь дней. Но все же было что-то замечательное в рождественской иллюминации, во всех этих разноцветных огнях и украшениях на лужайках и домах. Мы брали детей в город полюбоваться на это великолепие, медленно проезжая на машине и останавливаясь перед самыми впечатляющими композициями: подсвеченными Сантами в санях с оленьей упряжкой, снеговиками из пенопласта, увитыми гирляндами белых лампочек, деревьями, мигающими то красным, то зеленым.
Однако в этом году кое-что привлекло наше внимание в нашем собственном квартале. Однажды в воскресенье, за пару дней до Хануки, Бат-Шева села в машину, усадила сзади Аялу и двинулась вниз по улице. Сначала остановилась у дома Йосефа. Посигналила, но не успела и руки с клаксона убрать, как выскочил Йосеф и запрыгнул на переднее сиденье. Затем доехала до дома Фельдманов и посигналила, думая, что и Шира сейчас тоже выскочит. Но нет. И тогда Бат-Шева загудела так, что Шира услыхала бы, даже спи она беспробудным сном. Но Шира не появилась. Бат-Шева не собиралась сдаваться. Не заглушая мотора, она вылезла из машины, подбежала к двери и постучала.
Ей открыла Бекки, явно не удивленная появлению Бат-Шевы. Они с Широй много времени проводили вместе, в школе и не только. Шира утверждала, что с Бат-Шевой можно по-настоящему общаться, что та не достает ее разговорами о том, что ей делать, чего не делать, и, хотя Бекки была рада, что Шира заметно приободрилась, замечание восприняла как камень в свой огород.
– Я за Широй. Она помогает мне с одним проектом, – сообщила Бат-Шева.
Бекки хотела расспросить поподробнее, но тут из комнаты вылезла Шира. На ней был старый мешковатый свитшот, нижняя юбка торчала из-под джинсовой – так нынче одевались девушки.
– Я готова, – сказала она Бат-Шеве, едва взглянув на мать.
Бат-Шева улыбнулась Бекки и распрощалась, оставив ее с ощущением, что она здесь лишняя. Бекки вспомнила, как в детстве Шира любила бывать с ней. Как же она тосковала по временам, когда они вдвоем ездили за покупками и готовили ужин, а Шира смотрела на мать с обожанием.
Бат-Шева тронулась дальше. Никто не знал, куда она поехала, но через час они уже вернулись. Машина была доверху завалена свертками, а из окна торчали доски. Они вытащили покупки и отнесли их на задний двор Бат-Шевы. Весь день оттуда доносились стук молотков, визг пилы и смех, но мы так и не знали, что они там затеяли; нам ничего не рассказали о проекте и не предложили поучаствовать.
Единственной, кого позвала Бат-Шева, была Мими. Она зашла с пакетом печенья, и ее голос слился с их болтовней. Наверное, нам стоило бы уже привыкнуть: Мими с Бат-Шевой были просто неразлучны. Мы старались не пускать мысли о том, что остались не у дел, напоминали себе, что куда дольше знаем Мими. И все же нам не давала покоя их дружба, и мы пытались найти ей какие-то объяснения.
– Раз Мими там, может, и нам прилично зайти, – сказала Хелен Шайовиц.
– Я бы на это не рассчитывала. Ясно же, что Бат-Шева готова сделать исключение и посвятить в свои планы одну только Мими, – возразила миссис Леви.
– А вдруг им нужна помощь? Мы бы могли прийти и справиться, – не сдавалась Хелен.
– Хелен, если бы Бат-Шеве требовалась наша помощь, она бы попросила, – ответила миссис Леви. – Очевидно же, что нас никто не ждет.
Нам претило, что в общине что-то происходит, но мы в этом не участвуем. Так у нас было не принято, мы чувствовали, что нас не подключают намеренно, и поэтому было особенно важно знать, что же задумала Бат-Шева. Обычно стратегическое расположение дома миссис Леви помогало ей быть в курсе, но, живя напротив, она никак не могла видеть, что происходит на заднем дворе. В дальнем правом углу с ним граничил двор Дорин Шейнберг, но много лет назад они обнесли свой участок высокой изгородью, так что теперь им не было ничего видно.
Мало-мальски что-нибудь разглядеть мы могли только со двора Хелен Шайовиц, тремя домами дальше. Поздно ночью Хелен, в надежде, что ей удастся хоть что-то для нас разведать, стояла на цыпочках у забора и всматривалась вдаль через ограды. Посреди двора Бат-Шевы стояло нечто высотой под два с лишним метра, укутанное старыми простынями в цветочек. Оно было высокое и широкое, но больше ничего понять было невозможно. Мы чуть голову не сломали, но не смогли придумать, что же эта странная троица могла учудить.
На следующий день Ципора Ньюбергер столкнулась с Бат-Шевой перед школой – и, лишь завидя ее, испытала сильнейшее раздражение. Она никак не могла взять в толк, почему Бат-Шеве непременно надо выделяться. Ведь она уже немало времени здесь прожила и должна была уяснить местные порядки, почему же нельзя постараться и влиться в общество? С той первой встречи в микве Ципора вела себя с Бат-Шевой сдержанно-вежливо. Ей не удавалось снова вернуться к теме неподобающего использования миквы, и она выжидала, когда подвернется подходящий момент.
Ципора изобразила улыбку и двинулась навстречу.
– С вашего двора вчера доносился такой грохот, что я уже начала волноваться, все ли в порядке.
Бат-Шева улыбнулась.
– Все отлично.
Не сдаваясь, Ципора переспросила, что же там такое происходило.
– Не волнуйтесь, Ципора. То, что я делаю, совершенно кошерно. – Бат-Шева засмеялась и подмигнула ей.
Ципора ушла с ощущением, что поводов для недоверия только прибавилось. Если ей нечего скрывать, почему она увиливает? Будь на месте Ципоры Леанна Цукерман или Наоми Айзенберг, она бы им рассказала. Всегда она с ними смеется и болтает без умолку. И Мими тоже включили в эту компашку. Но Ципора явно не была в числе избранных. Наглости Бат-Шеве не занимать, заключила Ципора. Она попыталась помочь ей более добросовестно соблюдать законы иудаизма, и вот, значит, как ей отплатили. Ципора отошла, лишь припомнив, что и в библейские времена пророков частенько недолюбливали в общинах.
Из Аялы тоже не удалось вытянуть ни словечка. После уроков она болталась по коридорам, поджидая Бат-Шеву, которая заканчивала убираться в классе, и тут ее увидела Бекки Фельдман.
– Похоже, у вас на заднем дворе творится что-то интересненькое, – начала Бекки.
– Да! – горячо согласилась Аяла.
– Можешь рассказать мне, золотце? Я никому не скажу. Моя дочка вам помогает, так что ничего страшного, если я узнаю.
– Нет. Это сюрприз, – твердо ответила Аяла и убежала к матери.
Чуть позже в тот же день миссис Леви встретила в синагоге Йосефа, который выходил после занятий с отцом.
– Я смотрю, ты все время занят, – заметила она.
Йосеф кивнул, но ничего не ответил.
– Я смотрю, у тебя работы по горло с Бат-Шевой – что-то она там делает у себя на заднем дворе.
– Я просто помогаю ей кое в чем, вот и все, – промямлил он.
От миссис Леви не укрылось, как ему было неловко. Может, его против воли втянули в это дело? Но такой уж он – всегда готов прийти на помощь, даже если не хочется. Она вспомнила, как он все старшие классы вел в синагоге занятия в молодежной группе просто потому, что больше никто не согласился.
– Но ты же знаешь, что она задумала, – не унималась она.
– Я обещал Бат-Шеве ничего никому не говорить, – ответил Йосеф.
Тут уж миссис Леви ничего не могла поделать. Но она докопается, дайте время. Может, Бат-Шева вздумала, что теперь она верховодит общинной жизнью. Ну так ей придется запомнить, что в Мемфисе ничего не происходит без участия миссис Леви. Ну или без ее совета, на худой конец.
В первый вечер Хануки мы как раз выставляли меноры в окна наших домов, когда увидели Бат-Шеву, Йосефа и Ширу, которые что-то тащили на лужайку Бат-Шевы. Аяла семенила сзади, держась за простыню, прикрывавшую загадочный предмет. Они остановились посреди лужайки. Подморозило, но Бат-Шева была без пальто – зеленое бархатное платье плотно облегало грудь и широко расходилось книзу, едва прикрывая колени. Волосы развевались во все стороны, но она даже внимания не обращала. Ее слишком занимал их сюрприз, чтобы замечать что-то еще. Шира стояла рядом и тоже без пальто. Они разговаривали и смеялись, как закадычные подружки-ровесницы. Йосеф поглядывал на другие дома, надеясь, что нам сейчас некогда смотреть по сторонам. Как бы не так – как можно пропустить то, что происходит у нас прямо перед носом?
Мы собрались у окон – кто поднял жалюзи, кто раздвинул шторы – и ждали, что же будет. Чтобы разглядеть получше, наши дети выстроились у ее лужайки. Мы не посмели их остановить, но, даже если бы и решились, вряд ли бы они нас послушали. На долю секунды нам захотелось, чтобы между нами с Бат-Шевой все стало как прежде. Мы вспомнили, какой чудесный получился Суккот, когда мы все собрались у нее на дворе. Но мы одернули себя, что в этот раз нас никто не пригласил, и все же остались дома.
– Не стесняйтесь! – пригласила детей Бат-Шева. Их смущало наше нежелание присоединиться.
И они, как всегда, послушались; в очередной раз она собрала вокруг себя наших детей. Она купалась во внимании и не снимала покрывала, пока все не подошли поближе. Появилась Мими и встала за детьми, наблюдая за происходящим. Теперь, когда дети были подле нее, а мы – у окон, Бат-Шева сорвала простыни, открыв нашим взорам самую большую менору, что нам доводилось видеть. Сделана она была из выкрашенных в серебро досок, и все восемь светильников ждали, чтобы их зажгли.
Мы уговаривали себя, что нет в этой меноре ничего особенного. Мы сразу заметили, сколько в ней недостатков – кричащая, претенциозная. Хотя нам было заповедано славить чудо Хануки, мы и так уже слишком отличались от наших нееврейских соседей, чтобы лишний раз тыкать им этим в лицо. А какой пример Аяле? Она вырастет, полагая, что совершенно нормально всем и каждому сооружать гигантские меноры. Мы сомневались, не противоречит ли это вообще еврейским законам? Мало ли, может, существует какой-нибудь запрет на подобные творения.
И все же мы не могли отвести глаз от этой огромной горделивой меноры, которая возвышалась на фоне темнеющего серо-голубого неба, от ее чистых и простых линий. Она принесла чудо тех давних-предавних времен прямо в наши дворы, и мы уже жалели, что не додумались до чего-то подобного сами. Благодаря меноре Бат-Шевы мы почувствовали, что теперь нам больше не нужно жадно разглядывать рождественские декорации в городе. У нас и самих наконец есть на что полюбоваться.
– Пора зажигать свечи, – объявила Бат-Шева детям и протянула Йосефу коробок со спичками.
Йосеф зажег служебную свечу шамеш, а Бат-Шева усадила Аялу ему на плечи. Вытянувшись изо всех сил, Аяла зажгла от шамеш первый светильник. И они втроем запели благословение: Благословен ты, Господь, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальный огонь, сотворивший чудеса для наших отцов в те дни, в это же время, давший нам жизнь, поддержавший нас и давший дожить нам до этого времени. Бат-Шева приобняла Ширу, пытаясь вовлечь и ее. Шира скорчила рожицу, но шутливо, без раздражения. И нехотя, но все же запела, и, несмотря ни на что, ей было хорошо.
Когда Бат-Шева запела «Маоз цур», наши дети подхватили. Они разучивали песню в школе и знали слова наизусть. Они раскачивались взад-вперед, повторяя за Бат-Шевой. Она целиком отдавалась пению, и ее совершенно не заботило, слышен ли ее голос в конце улицы, разносится ли по кварталу и дальше, через весь город.
Нам предстояло петь те же песни дома, когда мужья вернутся с работы, и мы гадали, будут ли наши дети петь их с тем же чувством, не померкнет ли это настроение первого вечера Хануки. Как бы ни старались мы себя убедить, что ничего не поменяется, что зажигание свечей будет особенным, что бы там ни сотворила Бат-Шева, мы знали, что теперь уже все будет не так: неповторимость момента, когда горит лишь одна из восьми свечей, в этом году была утрачена.
Когда Бат-Шева допела, мы снова занялись нашими менорами. Поставили их на подоконники, очистили от прошлогоднего воска, подстелили фольгу на буфеты и столы, куда тоже ставили подсвечники. Дети принесли свои самодельные меноры, которые смастерили на уроках Бат-Шевы. Все были разные. Из глины, из разных ненужных железяк и банок из-под газировки, раскрашенные в разные цвета, обклеенные бусинами и пестрыми керамическими плитками.
Позже вечером, когда мы смотрели в окна, первыми в глаза бросались именно эти самодельные меноры. Они выделялись на фоне других, как будто свечи в них горели сильнее, набираясь яркого света от меноры во дворе Бат-Шевы. Мы продолжали праздновать Хануку, мы натирали картошку для латкес, поджаривали их до золотистой корочки, раздавали детям подарки. Но мы не могли отмахнуться от присутствия Бат-Шевы, потому что она была в каждом нашем окне, среди каждого из нас.
12
Кому ведомы пути Господни? Кто скажет, почему одно проистекает из другого? Мы знали лишь, что после Хануки жизнь нашей общины окончательно покатилась под откос.
В январе старшеклассницам всегда устраивали школьные поездки, чтобы у них не случилось зимней хандры. В прошлом году они побывали в Сент-Луисе, в позапрошлом – в Новом Орлеане, а до этого доехали аж до Чикаго. Теперь предстояло путешествие в Гатлинбург, штат Теннесси, городок в Смоки-Маунтинс. Большую часть года они собирали деньги на поездку; выручка от всех этих пицц на продажу и завтраков матерей с дочерьми шла на оплату пяти дней в горах.
Раньше с ними ездили разные учителя, но теперь в процессе подготовки выяснилось, что никто не хочет их сопровождать. Жена директора была беременна и не могла рисковать, Йохевед Абрахам решила, что не справится. Она отговорилась тем, что неважно себя чувствует, что ее стало укачивать в машине, но на самом деле она просто догадывалась, что девочки от нее устали, и ей, разумеется, не хотелось быть там, где ее не очень-то ждут. У Рэйчел Энн Беркович, Рут Бернер и Арлины Зальцман причины не ехать были наготове – у них полно забот с мужьями и детьми, и еще чужих детей забирать-развозить, и мероприятия в Женском клубе помощи готовить.
Мы недоумевали, что же нам делать, и тут Мими предложила, чтобы с девочками поехала Бат-Шева.
– С ней будет весело, и девочки точно обрадуются, – сказала Мими и принялась нахваливать эту идею.
Ципора Ньюбергер поверить не могла, что Мими готова без колебаний отправить впечатлительных подростков в компании Бат-Шевы. Ведь Мими, как и Ципора, была религиозна, по-настоящему благочестива. Она не может не понимать опасности дурного влияния, чужеродных идей, неподобающего поведения перед глазами. И как-то вечером Ципора позвонила Мими и высказала свои соображения: Бат-Шева явно не лучший пример для подражания, и нет твердого ощущения, что ее суждения вызывают доверие.
– Я понимаю, о чем ты, – ответила Мими. – И догадываюсь, что ты не привыкла к таким людям, как Бат-Шева. Но я видела, как серьезно она заботится о девочках, и мне кажется, она прекрасно на них влияет.
В устах Мими это звучало так успокаивающе. Она всегда видела в людях лучшее, верила в их намерения, даже когда те не подтверждались действиями; она считала, что добро может родиться из любой ситуации. Все, что говорила Мими, было замечательно и мило, и все же Ципора испытывала разочарование. Она попробовала еще раз:
– Но как же те неподобающие вещи, которые совершала Бат-Шева? Откуда нам знать, что она не делает того же и здесь?
– Ципора, я знаю, ты веришь в возможность переменить себя через тшуву, – сказала Мими. – Подумай над смыслом Рош га-Шана и Йом Кипура – Господь дает нам жизнь с чистого листа, и мы должны делать то же и друг для друга.
– Да-да, конечно, – выдавила Ципора. Возразить eй было нечего, хотя о Бат-Шеве она все равно лучше думать не стала. Повесив трубку, Ципора почувствовала то же, что и в микве, когда не смогла убедить Бат-Шеву, что негоже ей туда ходить: твердо зная, что хорошо и что плохо, она почему-то не умела донести свою мысль до других.
– Не знаю, что нашло на Мими, но я бы ни за что не отпустила свою дочь с Бат-Шевой, – говорила в тот день Ципора Ньюбергер, прижимая к себе двухлетнюю девочку.
– Может, стоит тебе поехать? – предложила миссис Леви. – Ты будешь чудесным примером для девочек. Им будет так полезно провести с тобой эти дни!
Ципора засмеялась.
– Шутишь? У меня четверо детей, я никуда не поеду.
До сих пор Леанна Цукерман думала, что Бат-Шева будет отличной провожатой. Хотя у нее пока не было дочки-старшеклассницы, она не сомневалась, что Бат-Шева сумеет развлечь девочек, а им это было ох как нужно. Леанна видела, как им надоело выслушивать нравоучения о том, как следует поступать. С Бат-Шевой девочки уж точно хорошо проведут время, гораздо лучше, чем с Йохевед Абрахам. Даже если это означало, что кое-какие правила будут нарушены, оно того стоит. Однако услышав от всех одно и то же – как плохо может Бат-Шева повлиять на девочек, – Леанна поняла, что ее мнения никто не разделяет. Тогда она вспомнила, что именно Мими предложила кандидатуру Бат-Шевы, и решила ей позвонить.
– Просто хотела знать, что я не одна так думаю, – объясняла Леанна по телефону. – Иногда я чувствую, будто упускаю что-то, что ясно видят все остальные, и тогда начинаю сомневаться, не напрасно ли доверяю своему мнению.
– Конечно же, ты должна себе верить! – воскликнула Мими. – И я полностью с тобой согласна. Бат-Шева – именно то, что нужно девочкам. Я иногда переживаю, что до них не удается донести прекрасную сторону того, что означает быть религиозным. В их возрасте плохо воспринимают авторитеты, и я как раз надеюсь, Бат-Шева может им помочь увидеть красоту в вере.
– Я так рада это слышать, – сказала Леанна. Отрадно знать, что, хоть она и в меньшинстве, но зато в хорошей компании.
Ее уверенность окрепла после разговора с Мими, и теперь Леанна уже и с нами делилась своими соображениями.
– По-моему, у нее все прекрасно получится, – утверждала она. – Бат-Шева – именно то, что нужно девочкам.
С ней соглашалась Наоми Айзенберг.
– Девочки ее обожают, – говорила она. – Никогда не видела, чтобы хоть один учитель так их увлекал.
Глядя на свою шестнадцатилетнюю дочь Каялу, Наоми еще больше убеждалась в положительном влиянии Бат-Шевы. Обычно Каяла была болезненно стеснительной и с трудом общалась даже с однокашницами, которых знала всю жизнь. Но в последние месяцы Каяла начала потихоньку выползать из своей ракушки.
Со всей этой поддержкой, которую подогревала Мими, мы в конце концов неохотно попросили Бат-Шеву сопровождать девочек. Она тотчас же согласилась. Будет здорово, сказала она, как будто и сама снова стала подростком. Бат-Шева не подозревала о настроениях, гулявших среди нас последние недели, и сочла приглашение поехать с девочками еще одним подтверждением того, что она вливается в нашу жизнь. Она захотела взять с собой Аялу: как чудесно, сказала она, Аяла почувствует, будто у нее столько сестер.
Все еще очень переживая, что наши дочери проведут пять дней в компании Бат-Шевы, мы твердо обозначили несколько неукоснительных правил. У девочек должен быть час отбоя, никакой вольницы. Они будут носить скромные юбки и платья. И Бат-Шева должна неотлучно за ними присматривать. Мы вверяем ей наших дочерей и ждем от них и от нее ответственного поведения.
В день отъезда мы завезли девочек в школу. На парковке кипела жизнь, их разноцветные пальто и дорожные сумки даже хмурые небеса расшевелили. К нашему удивлению, Бат-Шева прибыла вовремя. Девочки уже толпились вокруг нее, хотя у них еще целая неделя была впереди. Они брали на руки Аялу, всячески ее тетешкали, рассказывали, какая она миленькая, и говорили, что она может всю дорогу сидеть у них на коленках. Загрузив вещи, они коротко попрощались. Мы глядели вслед уезжавшему автобусу и махали нашим девочкам, пока они не скрылись из виду.
Всю неделю мы волновались, как они там. Ариэлла Сассберг позвонила сообщить, что они благополучно добрались, а Нехама Шейнберг на пару минут позвонила среди недели, и это все. Нам оставалось лишь надеяться, что поездка устроена не зря и девочки вернутся полными сил и в хорошем настроении.
Когда они вернулись, только и разговоров было, что это лучшая из всех поездок, и не из-за катания на санках или долливудского парка развлечений, а благодаря Бат-Шеве. Она поднимала их пораньше, чтобы всем вместе помолиться у нее в номере, а не как обычно, когда каждая сама по себе поскорее пробегает текст молитвы, а то и вовсе пропускает. Из нее ключом била энергия. Первая просыпалась по утрам, последняя ложилась спать, а остальное время беспрестанно подбивала их то взобраться к водопаду, то подняться на подъемнике на вершину горы. Они и с Аялой сблизились, все наперебой рвались за ней присмотреть. А когда она засыпала, они допоздна сидели с Бат-Шевой и говорили о религии, о замужестве, о том, чем хотят заниматься после школы.
– Как вы поняли, что он и есть тот единственный? – спросила Илана Зальцман, мечтая услышать подробности о ее браке с Бенджамином. – Вас не беспокоило, что вы можете встретить кого-то получше?
Бат-Шева рассмеялась.
– Вы поймете. Не сможете представить никого другого. С Бенджамином я получила все, что мне нужно. Со всеми остальными сразу же могла сказать, почему ничего не выйдет. Иногда я все же продолжала встречаться, но отношения всегда заканчивались именно по той причине, которую я видела изначально.
– А зачем тогда вы продолжали встречаться? – спросила Хадасса Бернер. Она выросла с идеей, что на свидания ходят для того, чтобы найти мужа; никак не предполагалось рассматривать это как самостоятельное времяпровождение.
– Не знаю. Думаю, с каждым из молодых людей я что-то узнавала. И о себе узнавала какие-то вещи, которые иначе никогда бы не поняла.
Выслушав эти подробности из их жизни в поездке, мы с облегчением выдохнули. Может, Бат-Шева в конце концов и правда исправилась. Девочкам полезно послушать про положительные стороны брака, особенно от кого-то вроде Бат-Шевы. И очень мило, что они присматривали за Аялой; сидеть с ребенком – безусловно, хорошо и правильно, и нам было приятно, что наши дочки тоже старались, чтобы Аяла чувствовала себя здесь как дома. Все это явно пошло на пользу, потому что после поездки они меньше жаловались на невыносимые нагрузки в школе, меньше раздражались, когда их расспрашивали об уроках. Мы доверили Бат-Шеве наших девочек, и она вернула их полными новых сил и энергии.
Так, по крайней мере, мы думали до тех пор, пока не увидели фотографии. Нам не приходило в голову, что их нельзя смотреть, – это же фотографии из школьной поездки, и нам хотелось поглядеть, как там наши девочки проводили время. Это ведь не читать их почту или дневники, чего никто из нас (кроме Бекки Фельдман) никогда не делал. Поначалу снимки были вполне предсказуемыми: девочки на фоне Грейт-Смоки-Маунтинс, идут по пешим тропам у водопадов. Вот они в городке, на фоне магазина сладостей с гирляндами ирисок в витрине. И на горнолыжном подъемнике, и на желтых санках несутся вниз, с горы, подоткнув под себя юбки.
Но, приглядевшись попристальнее, мы забеспокоились. Мы не могли нащупать, что именно не так, но всем стало очевидно: девочкам явно было как-то слишком хорошо. Они никогда так весело не гуляли в предыдущих поездках, поэтому с трудом верилось, что обошлось без нарушения правил. Мы пытались хоть за что-то зацепиться. Но единственное, что смогли выудить, – на одной фотографии девочки были накрашены, на голове невесть что, а юбки задраны чуть не до середины бедра. Если они так выглядели, должна быть причина.
Когда мы стали их выспрашивать, они твердили, что все было в точности как они описали. Все дело во вспышке, на них и макияжа почти нет. А юбки кажутся короткими, потому что их подняло ветром. Ничего не удавалось выяснить, пока однажды вечером Хадасса Бернер наконец не сдалась и не рассказала матери всю правду.
Почти всю поездку Хадасса чувствовала себя не в своей тарелке. Девочки обсуждали мальчиков, фильмы и рок-группы, а она во всем этом не разбиралась. Не могла упомнить ни какой певец из какой группы, ни тексты песен, которые ей все казались на один лад. Совсем туго пришлось в последний вечер. Девочки дурачились, делая безумные прически и макияж. Хадасса тоже попробовала накраситься красной помадой и подвести глаза, но вовсе не собиралась выходить так на улицу. Но все решили в таком виде пойти гулять, и Бат-Шева не возражала. Сказала, что не может диктовать им, что носить; они достаточно взрослые, чтобы решать за себя. И тогда все надели самые обтягивающие блузки и закатали повыше юбки.
Хадасса не захотела в этом участвовать и вызвалась остаться в гостинице и посидеть с Аялой. Бат-Шева уговаривала ее пойти, сказала, что готова взять с собой Аялу, хотя было уже довольно поздно. Но Хадасса настояла на своем и с отвращением наблюдала, как девочки отправились в город при таком параде. Они вернулись, с хохотом обсуждая, как было весело, как на них пялились прохожие и свистели вслед. И Бат-Шева смеялась вместе с ними – она явно считала все это шуткой.
Единожды сняв с души груз, тяготивший ее с самого возвращения, Хадасса решилась выложить матери и остальное. Да, Бат-Шева говорила с девочками о замужестве, но потом разговор зашел и о сексе. Было поздно, Бат-Шева переоделась в ночную рубашку без рукавов, не ожидая, что девочки снова к ней зайдут. Девочки стали обсуждать то, о чем им даже думать не следовало, сравнивали свои истории с мальчиками, пытались представить, чего они еще не пробовали. И решили проверить, не спит ли еще Бат-Шева, и она их охотно впустила; сказала, что, уложив Аялу, чувствует себя одиноко. Девочки расселись на ее кровати и заговорили шепотом, чтобы не разбудить Аялу.
– Мы хотели вас кое о чем спросить, – начала Шира Фельдман. Она замолчала и оглядела остальных – убедиться, что не переходит черту, спрашивая о том, что они обсуждали.
– Вы можете спрашивать меня о чем угодно, – ответила Бат-Шева.
– Мы говорили… ну, знаете… – нервничая, произнесла Илана Зальцман.
Увидев, как они покраснели, Бат-Шева улыбнулась.
– Дайте-ка угадаю. Вы хотите спросить меня о сексе.
Девочки смущенно переглянулись. Никто не произнес ни слова. Им было непривычно обсуждать такие вещи с учительницей, даже если ею была Бат-Шева. Этой темы касались строго раз в году. В этом году был черед Йохевед Абрахам, и она говорила на уроке о шомер негия – законах, запрещающих физический контакт между мужчиной и женщиной до брака: ни за руки держаться, ни целоваться, вообще никаких прикосновений. Она подчеркнула, как важен этот закон, быть может, самый важный во всей Торе. Привела и другие основания: вы никогда не знаете, что на уме у мальчиков, они могут использовать вас для удовлетворения своих плотских желаний, и лучше не иметь с этим никаких дел. Закончив, предложила задавать вопросы. К ее величайшему облегчению, таковых не последовало, и Йохевед Абрахам сочла это показателем того, что она безупречно раскрыла тему, не допустив никакой двусмысленности.
– Совершенно нормально, что вы обсуждаете эти вещи. Меня бы больше обеспокоило, если бы у вас это не вызывало ну хотя бы любопытства, – сказала Бат-Шева.
– Многие из нас соблюдают шомер негия, но не по своей воле. Мы же не пересекаемся с мальчиками, так что и возможности особо нет, – заметила Ариэлла Сассберг. Она стеснялась того, что в семнадцать лет еще ни разу не целовалась. Если бы кто-то из обычной школы узнал об этом, решили бы, что с ней что-то не так.
– Неправда, – возразила Илана. – Если по-настоящему хочешь, то можно. – Все знали, о чем она: ее не раз ловили с Натаном Ризом. – Не понимаю, что за проблема. Мы же не сексом занимаемся.
Девочки обернулись на Ширу. Она была самой опытной из всех. Поговаривали, что Шира проводит время с мальчиками из обычной школы, может, даже с кем-то из них встречается, но Шира взяла с них слово молчать.
– Нечего на меня смотреть, – сказала она. – По крайней мере, я не лицемерю.
– А как было у вас? – спросила Илана Бат-Шеву. – До того как стать религиозной.
В комнате царил полумрак, он как будто скрадывал их любопытство, и можно было свободно расспрашивать обо всем.
– Знаю, вы наверняка думаете, что там совсем другой мир. И это действительно так. – Бат-Шева замялась, прежде чем продолжить. – Надеюсь, это ничего, что я с вами об этом говорю? – нерешительно спросила она. – Мне бы не хотелось никого расстраивать.
– Мы не такие наивные, как все считают. Думаете, мы это не обсуждаем, кино не смотрим? – сказала Шира.
– Ты права. И я хочу общаться с вами как со взрослыми.
– Сколько вам было, когда вы впервые сделали это? – спросила Илана.
– Четырнадцать, что даже в моей школе было рановато. Я была оторвой и хотела все перепробовать.
– Четырнадцать, – охнула Хадасса. – Я едва ли что-то слышала о сексе в четырнадцать.
– У меня все было по-другому. Я же не росла в строгой семье, у меня не было этого предвкушения, ожидания того, как же поступить.
– А сейчас вы об этом жалеете? – спросила Илана.
– Да нет. Я смотрю на это иначе: в тот момент жизни так было правильно. Я делала то, что хотела. Если чего-то по-настоящему хочется, трудно себя сдерживать.
Девочки попытались представить, каково это – отдаться на волю своих порывов и желаний. Все в их жизни определялось тем или иным запретом, и представить, что нет никаких правил, было все равно что воображать себя кем-то совершенно другим.
– Ну, пора спать, – мягко сказала Бат-Шева. – Поговорим завтра.
Она проводила их до двери и на прощание поцеловала каждую в щеку.
Что там еще были за разговоры, Хадасса молчала. Она и так уж слишком разоткровенничалась и, хотя все еще злилась на подруг, испугалась, что эти признания обернутся для нее в школе большими неприятностями.
Пожелав спокойной ночи Хадассе, Рут позвонила Бекки Фельдман. Если кто и способен понять, как она расстроена, то это Бекки.
– Что-нибудь новенькое слышала про поездку? – спросила Рут, стараясь не выдать себя голосом.
– А что? Что-то случилось? Ты чего-то недоговариваешь? – встрепенулась Бекки. Она уже вообразила разные ужасы: может, Бат-Шева договорилась встретиться в Гатлинбурге с мужчиной; может, они жили в одной комнате?
– Не знаю. Хадасса передала мне один разговор между Бат-Шевой и девочками. Не стоит нам торопиться с выводами, но звучит не слишком хорошо.
И Рут, не упустив ни одной детали, выложила все, что ей рассказала Хадасса, хотя обещала дочери никому ничего не говорить. Ее кольнуло чувство вины, что она нарушила слово, но это же для блага Хадассы. Для Рут Хадасса по-прежнему была маленькой девочкой, и ее страшно возмущало, что Бат-Шева обращается с ней как со взрослой. Зачем торопить то, что неизбежно наступит само? Рут всеми силами хотела еще чуть-чуть задержать дочку в детстве.
– Стоит упустить всего одну вещь – и оглянуться не успеешь, как все летит в тартарары, – сказала Бекки, ненавидя себя за то, что позволила Шире отправиться в поездку под присмотром Бат-Шевы. Ширу даже не нужно было подталкивать – она и так уже висела на самом краю. И, судя по описанному Рут, Шира явно опять была в зачинщицах. Когда Бекки показалось, что Шира стала исправляться, она умерила строгости. Но теперь Бекки крепко закрутит гайки. Она ужесточит время прихода домой, а вдобавок и правила, когда можно звонить по телефону и смотреть телевизор. Сделает все, чтобы не допустить неподчинения.
Кипя от ярости, Бекки набрала Ципору.
– В жизни не догадаешься, что происходило у нас за спиной.
– Дай-ка угадаю, – сказала Ципора. – Это связано с Бат-Шевой.
– А с кем же еще? Я узнала, что она говорила с девочками про секс.
– Что? – воскликнула Ципора. Она, конечно, не была из числа поклонниц Бат-Шевы, но ей все равно не верилось, что та способна на такую безответственность. Более всего Ципора почитала скромность, тайну личной жизни, соблюдение приличий. Мысль о том, что секс обсуждался вот так буднично, походя, противоречила всему, что было ей по-настоящему важно. Так уж ее воспитали. Когда у нее начались месячные, мать шлепнула ее по лицу, чтобы уберечь от сглаза, вручила коробку прокладок и сказала, что красота в том, что превращение в женщину должно происходить без посторонних глаз. И только накануне свадьбы мать усадила ее перед собой и спросила, есть ли у нее какие-нибудь вопросы.
– Чистая правда. Мне рассказала Рут Бернер, а ей – Хадасса, – подтвердила Бекки.
Повесив трубку, Ципора тотчас перезвонила миссис Леви. Ее опыт и мудрость должны подсказать, как быть.
– Нужно поговорить, – произнесла Ципора, и миссис Леви сразу поняла, что это не простой звонок. – До меня дошли очень неприятные новости, и я понадеялась, что ты подскажешь, что делать.
– Разумеется, дорогуша. Слушаю тебя.
Она уселась поудобнее на мягком диване и приготовилась выслушать Ципору.
Ципора набрала воздуху в легкие.
– Я узнала, что Бат-Шева говорила с девочками о сексе. И во всех подробностях описывала свои прошлые приключения, и, представь себе, советовала заниматься сексом до замужества. Сказала, это сделает их свободнее.
Да, согласилась миссис Леви, хорошего мало, тут и возразить нечего. Зато теперь всем очевидно непристойное поведение Бат-Шевы в поездке, а значит и то, что ей нельзя преподавать в школе. Миссис Леви заверила Ципору, что шаги будут предприняты, и приступила к оповещению общественности.
После случившегося в поездке было бы по меньшей мере странно удивляться тому, что произошло неделей позже. Ципора Ньюбергер вышла с приема у своего аллерголога, дверь в дверь с «Макдональдсом», и, направляясь к машине, заглянула внутрь – ей было любопытно, как там все выглядит, она ни разу в жизни туда не заходила. Последней, кого она ожидала там увидеть, была Шира, которая, сидя у окна, поедала чизбургер.
Ципора остолбенела. Она пыталась убедить себя, что это просто кто-то очень похожий на Ширу. Но даже если это Шира, может, она просто пьет газировку – все равно, конечно, грех, но не страшный. Ципора вынула из сумочки очки и водрузила их на нос, чтобы разглядеть получше. Сомнений не оставалось: это точно была Шира, и она точно ела чизбургер. И то, что происходило это в «Макдональдсе», только усугубляло ситуацию. Бигмаки были для нас самой некошерной едой из всех возможных, наипервейшим пунктом Всевышнего в списке того, что нам не полагалось есть.
Немного оправившись от шока, Ципора заметила, что Шира была не одна: напротив нее за столиком сидел молодой человек. Ципора пригляделась получше, но это был неизвестный нам юноша. На пару лет постарше Ширы, со светло-русыми волосами и зелеными глазами. Даже Ципора не могла не признать, что он хорош собой, хоть и не на еврейский вкус. Но он уж точно был из нерелигиозных, может, даже и не еврей. Она понятия не имела, кто он такой.
Ципора решила постучать в окно, чтобы Шира знала, что ее поймали с поличным. Она представила, как Шира дернется, не дожевав, и лук, сыр, соус (или что там еще внутри) шмякнутся на стол. Но когда она уже было поднесла руку к стеклу, Шира посмотрела ей прямо в глаза и коротко махнула рукой. Ципора в ужасе от такой наглости отпрянула. Затем Шира потянулась к юноше, обняла его и поцеловала в губы. Это было уже чересчур. Ципора в жизни не видывала такой хуцпы[13]. Она отдернула руку от стекла и двинулась по улице, опустив голову. Дома она не могла придумать, как быть дальше. Ничего не сделать значило бы потакать подобному поведению, а Ципора была уверена, что в глазах Господа это все равно как если бы она сама собственной персоной съела чизбургер. Она попыталась представить, что ее дочь вот так переступила черту, оторвавшись от своего народа и от своего прошлого. Придется все рассказать Бекки, деваться некуда.
Она набрала Бекки и, вместо того чтобы постепенно подвести к причине своего звонка, начала без обиняков – Алло, Бекки? Ты сидишь? – И тут же выдала печальную новость: – Думаю, ты хотела бы знать, что я сегодня проходила мимо «Макдональдса» и увидела в нем Ширу, которая ела чизбургер.
На том конце провода повисла тишина. Каждый новый день Бекки думала, что вот теперь все зашло дальше некуда, и каждый день оказывалось, что может быть и хуже. Как будто ее дочь тонула, и Бекки беспомощно пыталась ухватить ее руками. Но это уже была последняя капля. Она накрутила телефонный провод на пальцы, стиснув трубку. Теперь все изменится, поклялась она; больше ей уже не позвонят с известиями об очередных выходках ее дочери.
– Спасибо, что рассказала, – произнесла Бекки и собралась положить трубку.
– Погоди, есть еще кое-что. Шира была не одна, а с мальчиком, и я его не знаю. Никогда его не видела, но было ощущение, что они очень… близки.
Ципоре не хватало духу сказать, что она видела, как Шира целует юношу. Она надеялась, Бекки сама догадается о том, что там происходило.
Бекки коротко поблагодарила Ципору и повесила трубку. Сначала она думала подождать мужа, чтобы вместе разобраться с Широй. Численный перевес немаловажен. Но Бекки знала, что он все спустит дочери. Даже в таком серьезном деле, как сейчас, он будет на ее стороне. Бекки разберется со всем сама, а мужу даже и говорить не будет. Он вечно пропадает на работе и не вправе так поздно возвращаться домой и притом вести себя, как будто он все решает.
Бекки поднялась на второй этаж и без стука вошла в комнату Ширы. Та валялась на кровати и на полной громкости слушала радио. Бекки выключила звук, и Шира посмотрела на нее.
– Что тебе надо? – спросила Шира.
Бекки, подобравшись, встала у двери.
– Я только что говорила с Ципорой Ньюбергер, которая видела, как ты сегодня с удовольствием отобедала в «Макдональдсе».
– И что?
– И что? – повторила Бекки.
– Да, и что, если эта вечно сующая нос в чужие дела сучка говорит, что где-то меня видела?
Бекки побагровела.
– Не смей так со мной разговаривать! Я этого больше не потерплю. Немедленно отвечай, с кем ты там была! Ципора говорит, что видела тебя с каким-то мальчишкой.
– Я не обязана ничего тебе рассказывать.
– Говори, с кем была, или крепко пожалеешь!
Шира молчала, не сводя глаз с матери.
– Послушай-ка, барышня. Пока ты живешь в этом доме, ты будешь соблюдать наши правила и будешь религиозной, как велим тебе мы.
Шира вскочила, щеки у нее горели так же, как у матери.
– Прекрасно! Если ты этого хочешь, я буду притворяться религиозной. Буду соответствовать, но над тем, что я думаю, ты не властна. Я в это напрочь не верю. Я даже в Бога не верю.
– Ты это говоришь, просто чтобы меня задеть.
– Можешь думать, что хочешь, но я здесь все вижу насквозь. И это одна сплошная фальшь. Это ни для кого из вас ничего не значит! Тебя и твоих подруг заботит только, что скажут люди.
О чем это она толкует?! Как смеет дочь так с ней разговаривать? Не успев опомниться, Бекки влепила Шире пощечину и выбежала вон из комнаты.
Еще через пару недель Хадассу Бернер и Илану Зальцман, хоть верьте, хоть нет, поймали за курением марихуаны. Это было совершенно невероятно, и, если бы не свидетель, мы бы никогда в такое не поверили.
– Я никак не ожидала кого-то увидеть, – докладывала Йохевед Абрахам. – На улице было холодно, я и сама вышла только чуть подышать. И вдруг почуяла странный горелый запах и испугалась, что, не дай бог, где-то в школе пожар. Я побежала на этот запах и обнаружила Хадассу и Илану. Спрашиваю, что происходит, они говорят: ничего, но меня так просто не проведешь. Они держали руки за спиной, и я велела показать, что там у них. Сначала я решила – сигареты, что само по себе безобразие. Но потом заметила, как Илана прячет маленький пакетик с чем-то непонятным…
Йохевед была потрясена. Когда она училась в старших классах, такого случиться просто не могло. Самым страшным нарушением было изредка пропустить урок, обычно это совпадало с распродажами в «Loehmann’s». Они с подругами слыхали о проблемах в обычных школах, но никого оттуда не знали. Вообще, Йохевед не помнила, чтобы она хоть раз за всю старшую школу заговорила с неевреем, если не считать, конечно, продавцов в магазинах. Уму непостижимо, как они раздобыли эту марихуану. Даже если бы Йохевед вздумалось попробовать наркотики, она бы знать не знала, где их взять.
Крепко ухватив девочек за руки, чтобы они не сбежали, Йохевед отвела их в учительскую. Она пыталась придумать, как повнушительнее их отчитать, но в голову ничего не приходило. Она была совершенно не готова к подобной ситуации и лишь надеялась, что ее молчание достаточно выразительно намекает на серьезность их проступка.
В учительской царила обычная суета: заболевшие дети дожидались, пока за ними приедут мамы, преподаватели жаловались, что им к уроку не распечатали материалы, двое рабочих возились с отоплением, которое каждую зиму выходило из строя. Дорин Шейнберг, школьный секретарь, руководила всем из-за своего стола. Несмотря на то что там были и директор, и два его помощника, все обращались только к Дорин. В прошлом году после размолвки с директором, рабби Фишманом, она уволилась и не работала целый месяц. Никто не понимал, где что лежит, ученики болтались по коридорам, даже учителя приходили и уходили, когда им вздумается. Такой нешуточный хаос грозил школе полным развалом, и рабби Фишман был вынужден отправиться домой к Дорин и умолять ее вернуться. Она еще никогда не чувствовала себя столь нужной, столь важной, как в первый день после возвращения. Наконец-то в Мемфисе осознали, кто тут власть.
– Мне нужно к рабби Фишману, – произнесла Йохевед голосом, который перекрыл гомон, стоявший в учительской, так что все, включая работяг, обернулись на нее.
– Простите, но он ближайшие несколько часов плотно занят, – ответила Дорин. – Он сейчас встречается с исполнительным комитетом Женской группы помощи, а затем ему предстоит уладить конфликт между двумя учителями дошкольных классов. – Она пробежалась по календарю. – Вы могли бы зайти завтра?
– Это срочно. Если вы не доложите, что мне нужно с ним переговорить, я пройду туда сама.
Обычно Дорин не потерпела бы, чтобы кто-то посмел указывать ей, что делать, особенно в таком тоне, но она питала особую симпатию к Йохевед, и к тому же та приходилась ей родственницей и по линии отца, и по линии матери.
– Присядьте, я посмотрю, что можно сделать, – сказала она.
Хадасса с Иланой не произнесли ни слова, и у Дорин закралось подозрение, что они натворили что-то серьезное. Она сунула голову в кабинет директора и беззвучно дала понять, что возникли проблемы.
Выслушав историю Йохевед, рабби Фишман впал в ярость. Вопя, что Илана и Хадасса позорят школу и всю общину, он позвонил их матерям и просил их немедленно приехать за дочерьми.
– Я тогда решила, что Илана заболела, – рассказывала потом Арлина Зальцман. – Если подумать, очень нетипично, чтобы звонил сам рабби Фишман. Но ничего другого мне в голову не пришло. Илана ведь хорошая девочка.
Рут Бернер была дома и занималась рекламой Ежегодного аукциона товаров и услуг, когда раздался звонок от рабби Фишмана. Рут решила, что произошла ошибка, что он, должно быть, спутал Хадассу с Широй Фельдман, с которой вечно были какие-то неприятности. Она отложила флаер, над которым трудилась, и отправилась в школу прояснить ситуацию.
Арлин и Рут столкнулись у входа и поначалу не подумали, что оказались тут по одной и той же причине. Обе зашли в учительскую и сообщили, что им нужно к директору.
– Он вас ждет. Мне пришлось ради этого отменить ему три встречи, – доложила Дорин и многозначительно на них посмотрела, давая понять, какое важное дело ожидает их за дверями кабинета.
Директор отстранил девочек от уроков на два дня и вынес предупреждение: такое больше не должно повториться; что могут о нас подумать, если девочек из нашей школы ловят с марихуаной? У нас особая репутация среди еврейских общин по всей стране, и мы этим гордимся, и гордимся вдвойне, учитывая, что, как нам говорят, ученики в старшей школе нью-йоркской ешивы до того неуправляемы, что их уже не отличить от ребят из обычной школы.
В довершение, как будто сказанного было мало, директор прибавил, что, если подобное повторится, он обратится в полицию. Рут и Арлин передернуло. Мысль о том, что их дорогие девочки замешаны в чем-то, чем занимается полиция, была невыносима. Это может погубить их будущее; кто захочет жениться на девушках с судимостью?
Возвращаясь домой с Хадассой, Рут Бернер все еще не могла поверить, что все это правда. Хадасса казалась такой милой и благоразумной, совсем не из тех подростков, что впутываются во что-то ужасное, вроде наркотиков. Каждый вечер она укладывала дочку в кровать и расспрашивала: как прошел ее день, о чем она думала, все ли в порядке в школе? И та всегда отвечала, что все хорошо.
Не выдержав молчания Хадассы, Рут резко остановилась перед дочерью и положила руки ей на плечи.
– Хадасса, о чем ты вообще думала?
Хадасса заплакала.
– Я не знаю. Илана все говорила, что хочет попробовать, а мне так надоело вечно быть паинькой, что я и согласилась.
Хадасса рассказала, как девочки на нее обозлились за то, что она слишком много выложила матери об их поездке. Она больше обычного чувствовала себя изгоем, и попробовать марихуану казалось единственной возможностью доказать, что она может быть такой же крутой, как все. От этих слов к ярости Рут примешалось чувство вины. Они привлекла к себе Хадассу и крепко обняла ее.
Арлина Зальцман не участвовала в бушевавших вокруг пересудах. Не подходила к телефону, трезвонившему без умолку. Она лишь позвонила мужу, сообщила ему о случившемся, и он рано вернулся с работы. Они сели на диван в гостиной и обнялись. Все, что, как им мнилось, они знали про свою дочь, теперь вызывало сомнения. Им больше не удастся читать газеты с прежним отрешенным интересом. Каждая статья, повествующая об устрашающем росте потребления наркотиков, передозировках и культуре вседозволенности, теперь была об Илане. Они стали частью огромной прослойки общества, с которой, как казалось, им не суждено было соприкоснуться, а теперь ее проблемы стали их проблемами.
В синагоге только и разговору было, что о происшествии. В нашей общине не случалось ничего столь возмутительного, и у нас появилось ощущение, будто мы уже и сами себя не знаем. Мы старались вести себя с Хадассой и Иланой как обычно. Но все же слишком пристально вглядывались в них, пытаясь отгадать по их лицам, что же на них нашло. Хадасса смотрела в ответ отсутствующим взглядом. Илана сидела с каменным лицом; когда миссис Леви пожелала ей хорошей субботы и хотела похлопать по руке, Илана сморщилась и отшатнулась.
– Вы видели? – Миссис Леви оглянулась вокруг. – Я знаю Илану с рождения, а тут можно подумать, что я ей совершенно чужая.
Разговаривали девочки только с Бат-Шевой. Миссис Леви с раздражением наблюдала, как Шира, Илана, Хадасса и еще несколько учениц сгрудились вокруг нее. Та даже руку положила Шире на плечо, чего Шира никому из нас бы ни за что не позволила.
– Мы просто попробовали, что это такое, – говорила Илана. – Подумаешь, ерунда!
– Не скажите, – ответила Бат-Шева. – По-моему, совсем не ерунда. И, готова поспорить, по-вашему – тоже.
Илана отвела глаза, Хадасса залилась румянцем.
– Ну в самом деле, Хадасса! Ты же не станешь делать вид, что курить марихуану – самое обычное твое времяпровождение? – заметила Бат-Шева.
– Нет, – признала Хадасса.
– Поверь, тебе не нужна марихуана. Но может, и хорошо, что ты попробовала, потому что теперь у нас появилась возможность разобрать эту ситуацию.
Мы не понимали, на что рассчитывала Бат-Шева, так открыто говоря о марихуане. Если уж на то пошло, девочки должны были говорить об этом с нами, родителями, но раз они отказывались, то и Бат-Шеве нечего брать на себя главную роль. Они все-таки наши дети, что бы там Бат-Шева себе ни думала.
Не желая искушать судьбу, Дорин Шейнберг запретила Нехаме гулять с Широй, Иланой и Хадассой. Так дочь избежит дурного влияния. Вдохновившись ее решением, Рэйчел Энн Беркович ужесточила час прихода домой для Авивы. Она всегда доверяла дочери, но теперь у нее закрались сомнения. Явно не без помощи Бат-Шевы Наоми Айзенберг дошла до того, что предложила пригласить консультанта по наркотикам для беседы с девочками. В этом была вся Наоми: взять трудную ситуацию и только усугубить ее, оповестив всех о том, что в школе имеется проблема. Мы-то все прекрасно понимали, что гораздо правильнее сохранить историю с марихуаной в тайне и, насколько возможно, спасти репутацию школы.
Нас неотвязно мучил один вопрос: почему? Что именно вызвало эту новую волну непослушания? Стоило нам отвернуться, как происходило что-то еще. В стенах нашей общины образовалась течь, и мы лихорадочно пытались заткнуть ее пальцами. Кто знает, кому первому это пришло в голову, чьи размышления про себя стали размышлениями вслух, едва слышным голосом, мимолетной мыслью. Но мы только о том и думали, что с Бат-Шевой в нашу общину вошло нечто новое и что она ведет наших детей куда-то не туда. Каждое новое происшествие становилось болезненным напоминанием, что Бат-Шева все же не одна из нас. Семена подозрения, носившиеся в наших головах, наконец проросли и пустили корни, и мы взглянули на Бат-Шеву заново открывшимися глазами.
13
Только мы принялись выискивать новые причины не доверять Бат-Шеве, как они стали обнаруживаться просто-таки повсюду. Словно она набросила полог-невидимку на все свои проступки, скрыв от нас, чему подвергала наших детей, и только теперь, отдернув покров, мы узрели, что же происходило на самом деле.
Мы покопались в собственной памяти. Хелен Шайовиц припомнила, что пару недель назад на Благотворительном обеде она сидела рядом с Бат-Шевой, и все обсуждали ужасную новость о сексуальном насилии, открывшемся в детском саду в центре города.
– Слава Всевышнему, мы можем не беспокоиться о таких вещах, с нашей-то религиозностью и вообще, – с облегчением выдохнула Хелен.
– Я бы не сказала, – заметила Бат-Шева. – Когда я жила в Нью-Йорке, то слышала об учителе ешивы, который совращал учеников. Все старались делать вид, будто это неправда, но в конце концов он сознался.
– Нет, не могу в это поверить.
После такого мрачного поворота было уже трудно наслаждаться обедом; даже пирог с пеканом, испеченный Бесси Киммель, не разрядил обстановку. Хелен и тогда разозлили слова Бат-Шевы, но теперь она отнеслась к ним с еще большим подозрением.
– Думаю, так она давала понять, что может творить что угодно, и мы ничего с этим не поделаем, – пояснила она.
Миссис Леви больше всего в словах Бат-Шевы задела ее бескомпромиссная прямота. Может, на севере и принято так говорить, но не здесь. Мы предпочитали более мягкий подход. Даже если в нашей общине и случались неприятности, мы понимали, что правильнее отмечать положительные стороны.
Заметив, что миссис Леви очень хотелось пообсуждать Бат-Шеву, Хелен решила рассказать, что она случайно услышала в старшей школе у мальчиков на той неделе. Хелен глянула на них во время обеда, на их мешковатые штаны, растрепанные волосы и небритые лица. Никогда ей не привыкнуть к тому, что вот это – ученики ешивы; на вид уж точно совсем не похожи.
– Мне кажется, я нравлюсь Бат-Шеве, – говорил Ави Дрезнер.
– Ага, как же! – засмеялись остальные.
– Нет, правда. Я заметил, как она на меня посмотрела, когда я на днях проходил мимо ее класса, – прям как будто она страшно рада меня видеть.
Вполне понятно, что мальчики смотрели на Бат-Шеву в таком ключе: у них непростой возраст, и такие, как Бат-Шева, несомненно, вызывают их интерес. Она была привлекательна и к тому же ничуть не скрывала, что у нее имеется вполне себе прошлое. Неудивительно, что у мальчиков возникают всякого рода фантазии. Смотрела она на кого-то или нет, но ясно одно: Бат-Шева оказывала дурное влияние и на мальчиков тоже. Слава богу, нам хватило ума отдать ей только классы девочек. Как знать, с чем бы нам сейчас пришлось столкнуться, если бы и мальчики общались с ней каждый день.
Раз уж разговор о Бат-Шеве не утихал, Бекки Фельдман тоже поведала, что ей довелось ненароком услышать. Она не сообразила, что Шира говорила по телефону с Иланой Зальцман, взяла трубку на кухне и поняла, что они обсуждают историю с марихуаной. Илана рассказывала, что поймала Бат-Шеву на слове, когда та предложила поговорить про марихуану, и Бат-Шева призналась, что тоже баловалась этим делом в старших классах и в колледже. Бекки была ничуть не удивлена, что Бат-Шева принимала наркотики, но не могла поверить, что она станет рассказывать об этом девочкам. Как же нам тогда учить чему-то наших детей, если Бат-Шева являет собой пример совершенно противоположного поведения?
Пришло время разузнать все, что только возможно, о прошлом Бат-Шевы, решила Бекки. Это единственный шанс предугадать, что же еще вздумают попробовать девочки. В конце концов, осталась же у нее подруга из колледжа, Сара Кляйн, которая жила по соседству с Карлебахской синагогой в Нью-Йорке, куда ходила Бат-Шева. Испытывая некоторую неловкость – все же они не общались много лет, – Бекки набрала номер. Сара, само собой, удивилась, но Бекки сразу объяснила причину своего звонка.
– Я интересуюсь только потому, что девочки так увлечены Бат-Шевой. Тут происходили всякие необычные вещи, и нам просто хотелось убедиться, что она та, за кого себя выдает.
– Имя вроде бы знакомое, но не уверена, что припоминаю откуда, – ответила Сара.
Все еврейские имена звучат знакомо, как будто мы в тот или иной момент перевстречали всех евреев в мире. Может, кого-то и не знали лично, но уж точно знали кого-то, кто знает кого-то не больше чем через пару рукопожатий. Стоило Бекки описать Бат-Шеву – ее длинные белокурые волосы, необычную манеру одеваться, темпераментное поведение, – как подруга тут же поняла, о ком речь.
– Может, ты что-то слыхала о ней и одном мужчине, – подсказала Бекки, надеясь расшевелить ее память.
– Да-да, вспомнила. Где-то через год после гибели ее мужа ходили разговоры о ней и одном человеке из синагоги. Никто точно не знал, что там между ними происходит, но они всегда были вместе и о чем-то увлеченно разговаривали. Но после случившегося нам было так жаль ее, что мы не придавали этому особого значения. Спустя несколько месяцев они перестали появляться вместе, а чуть позже Бат-Шева и вовсе пропала.
– Неужели? Что ты имеешь в виду?
– Бат-Шева перестала ходить в синагогу, и мы забеспокоились о ней. Никто точно не знал, не отошла ли она от религии. Она больше не посещала уроки у раввина, и один раз кто-то увидел ее в некошерном ресторане, но нельзя же сказать наверняка, что это была именно она. Может, этого и следовало ожидать после всего, что ей довелось пережить, но она говорила так искренне.
– Она отошла от религии? – не веря своим ушам, переспросила Бекки.
– Ну, так мы решили, а потом до нас дошли известия, что она переехала.
Бекки рассчитывала услышать что-то про роман Бат-Шевы, что, может, был еще какой-то мужчина или два, но даже в самых страшных фантазиях она и подумать не могла, что Бат-Шева перестала быть религиозной. Бекки припомнила нескольких знакомых, отошедших от религии: ее четвероюродный брат, приятельница из колледжа и, конечно, брат Хелен Шайовиц, Дэвид. Эти люди были для нее отщепенцами, выпавшими из мира, которому мы все принадлежали.
Когда Бекки рассказала нам об этом, картина наконец сложилась. Те несколько раз, когда Бат-Шева обмолвилась, как тяжело ей было оставаться религиозной после смерти Бенджамина, и, конечно, то, что она поведала Наоми о своем романе, – все это позволило нам дорисовать, что за жизнь она вела до приезда в Мемфис. Бат-Шева приняла гиюр, это так, но, очевидно, она не упомянула несколько важных моментов из того, что произошло потом. Она закрутила роман, оставила религию, бог знает к чему приобщила Аялу, и только теперь она снова начала пытаться быть религиозной. Она изображала, будто приход в религию стал для нее естественным шагом после того, как однажды в пятницу она случайно завернула в синагогу, но, похоже, все было не так. Ее очень даже мучили сомнения, и безупречной она тоже не была. Она, конечно, вернулась в иудаизм, но если уж отходила один раз, значит, это могло повториться снова. Теперь перед ней оставалась открытой дверь, которую уже никогда до конца не затворить, и за ней таились новые места, новые жизни, которые могли снова сманить ее.
И тогда мы задумались, что же это означает – ведь Бат-Шева казалась такой искренней в своей религиозности. Если бы она не слишком включалась, если бы исполняла все лишь формально, мы бы поняли, что она никогда не хотела быть настоящей иудейкой и сделала гиюр, просто чтобы выйти замуж. Но мы вспомнили, как нас тронула молитва Бат-Шевы, как мы поверили, что она всем сердцем произносит эти слова. Мы думали о том, с каким воодушевлением она строила сукку и как радовалась занятиям по Торе. Нам не верилось, что это было наигранно, но в то же время мы не представляли, что религию возможно принять и оставить. Люди либо религиозны, либо нет; никогда прежде мы и в мыслях не допускали некоего промежуточного состояния, никогда не рассматривали оттенки серого.
Ципора Ньюбергер понимала, насколько серьезна эта новость о прошлом Бат-Шевы. Не то чтобы она знала по собственному опыту, однако могла вообразить, что, если раз нарушить слово Всевышнего, дальше будет только проще. Если девочки об этом прослышали, они увидят, как просто отойти от религии: чуть здесь отступил, чуть – там, и вот ты уже нерелигиозен. Ципора твердо знала, что единственная возможность не допустить подобных нарушений – прививать безоговорочную готовность следовать всей Торе целиком, от и до. Она должна напомнить общине, что имеет значение только неукоснительное соблюдение законов, а не добрые намерения. Бат-Шева, может, и искренна, может, она верующая, и поет, и танцует, но если у нее были романы с женатыми мужчинами и она ходила по некошерным ресторанам, она никоим образом не религиозная еврейка. Ципора очень старалась подавать хороший пример, но, вероятно, ей стоит как-то более действенно доводить до всеобщего сознания мысль, что необходимо крайне добросовестно соблюдать законы. Быть может, всеми этими проблемами с девочками Всевышний говорит нам, что мы чересчур мягки и нетребовательны. Указав на это, Ципора будет несомненным образцом для подражания в общине. Станет своего рода предводителем воинства Господня, верной опорой и поддержкой Его изнуренному войску.
С такой картиной в голове Ципора решила собрать женщин на особое занятие. Она не в первый раз это устраивала. Время от времени Ципора проводила встречи на темы, которые считала важными: повторная лекция о законах скромности, о законах миквы, даже двойной урок по покрыванию головы. Но это занятие будет совсем другим. Здесь на кону будущее всей общины.
Как и перед каждым подобным уроком, она позвонила Мими, чтобы рассказать о своей идее. Ей всегда было спокойнее, когда Мими одобряла предстоящие занятия. Обычно Мими хвалила ее за активность, за то, что у других женщин появлялась возможность что-то изучить. И на этот раз Ципора ждала чего-то в том же духе, а может даже, дополнительную похвалу за то, что она действует так оперативно, чтобы искоренить растущие как снежный ком проблемы. Она сообщила Мими, что хочет провести занятие, касающееся недавних неприятностей с девочками. Она объяснит, что все происходящее имеет свои причины, что не бывает наказания без греха, и призовет всех присмотреться к тем областям, где могла быть проявлена недостаточная строгость в соблюдении законов. И если действительно есть женщины, которым есть в чем покаяться, это занятие станет для них хорошим стимулом. А также, добавила Ципора, она надеется, что вновь обретенная сознательность поможет нам справиться с силами, подталкивающими наших девочек к непослушанию.
Мими молчала. Она не произнесла слов похвалы, которых так ждала Ципора, но когда наконец заговорила, то первым делом отметила хорошее – так она делала всегда.
– Я рада, что ты хочешь устроить занятие. Всегда полезно подумать над тем, насколько мы щепетильны в соблюдении законов.
И, готовясь произнести то, что Ципоре явно не понравится, Мими понизила голос и постаралась как можно деликатнее изложить свою мысль:
– Но меня смущает, что это может закончиться назначением виноватых. Будет крайне пагубно для всей общины, если мы начнем указывать друг на друга пальцем.
– Никто не говорил о вине, – ответила Ципора. – Но мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как девочки становятся неуправляемы. Нужно постараться понять, что происходит.
– Ну конечно, нужно постараться понять, что происходит с девочками. Я тоже очень и очень за них переживаю. Но есть большая разница между работой над своими недостатками и разбором чужих.
Ципора попыталась найти компромисс с Мими: что, если она сосредоточит их внимание на собственных огрехах в соблюдении законов и обойдется без запланированного обсуждения общих точек, в которых общине явно недоставало твердости? Мими вздохнула и сказала, что главное – помнить: занятие должно быть для того, чтобы объединять нас, а не сеять раздор. Ципора сочла, что Мими дает ей зеленый свет, и приступила к обзвону, выясняя, можем ли мы собраться в среду вечером на часок или около того.
В порыве великодушия Ципора даже пригласила Бат-Шеву. Ведь и она может изменить свое отношение, почему нет? Исправить содеянное уже нельзя, это останется несмываемым пятном на ее репутации, но Ципора может помешать ей натворить что-то еще. К ее большому удивлению, Бат-Шева сказала, что с радостью придет, и Ципора довольно улыбнулась.
В назначенный вечер гостиную Ципоры загромоздили стулья. На журнальном столике стояли кувшин с холодным чаем и блюдца с печеньем. Но никаких обменов любезностями и последними новостями даже не намечалось. Мы прибыли ради важной цели, и это явно читалось в наших поджатых губах и чопорных позах. Прежде чем начать – было уже десять минут девятого, – Ципора окинула взором комнату и осталась довольна. Пришли даже те, кто обычно не посещал подобных мероприятий: Анна Вайнберг, в прошлом году забравшая трех своих детей из Академии Торы в обычную школу, сидела рядом с миссис Ганц, вообще редко выбиравшейся из дому. Даже Наоми Айзенберг, у которой вечно находились всякие нелепые отговорки, чтобы не прийти, ожидала начала.
– Я не вижу Бат-Шевы, а ты? – спросила миссис Леви у Хелен Шайовиц.
– Нет, а ведь я следила за дверью, – ответила Хелен.
То, что Бат-Шева может не явиться, накалило обстановку до предела. Ее отсутствие только укрепило бы нас в мысли, что она что-то замышляет и даже не утруждается скрывать свои проступки. Как знать, может, она снова решила, что больше не готова быть религиозной.
– Полагаю, нам не стоит удивляться, – вздохнула миссис Леви. – Именно в эту сторону все и двигалось.
Как обычно, Хелен могла только согласиться.
– Пожалуй, так и есть, – пробормотала она.
Мы теряли терпение, чувствуя, как наш серьезный настрой истаивает в духоте переполненной комнаты, когда наконец прибыла Бат-Шева. Она громко постучала в парадную дверь, не зная, что мы заходим через боковую, которая всегда открыта в такие вечера. Хелен стояла ближе других и потому кинулась в прихожую.
– Скорее, Бат-Шева, мы уже начинаем, – крикнула она, не в силах скрыть раздражение.
Когда Бат-Шева вошла в комнату, мы постарались улыбаться как обычно, быть вежливыми, невзирая на то, как сильно расстроены, – то есть всячески избегали явной конфронтации. Пусть лучше сама все поймет, прочтет по нашим ледяным глазам и натянутым улыбкам, как мы недовольны. И тогда уж ей решать, как загладить вину и остановить эту жуткую волну бунтарских настроений, которую она сама же и вызвала. Но Бат-Шева как будто и не замечала, что все не как всегда. Она улыбнулась нам, оглядывая комнату в поисках свободного стула. Мими махнула рукой, показывая, что рядом с ней есть место. Бат-Шева пролезла к ней и, садясь, нежно сжала ее руку. Потом обернулась и поздоровалась с Хелен Шайовиц и миссис Леви. Выбора у них не было, и они вежливо кивнули в ответ. Джослин Шанцер опустила глаза и сложила руки на коленях. Леанна Цукерман попыталась было помахать, но, окруженная такой толпой, решила, что поздоровается потом, один на один. Бат-Шева удивленно взглянула на нее, но Леанна ничего не сказала, и момент был упущен.
Ципора встала перед нами.
– Я устроила эту встречу, потому что мы теряем наших детей. Когда в одном месте случается столько проблем, мы обязаны пристальнее взглянуть на наши жизни и нашу общину. Боже меня сохрани усомниться в делах рук Господних. Но мы не беспомощны. Заповеди Всевышнего даны нам, чтоб показать верный путь в жизни. Если мы будем лучше работать над собой и твердо соблюдать мицвот, мы станем ближе к Богу.
Столько всего еще она хотела добавить: о важности борьбы с дурными влияниями, о необходимости находить источники мятежных настроений и искоренять их, о заповеди не молчать, если в твоем присутствии совершается грех, а ведь Десять заповедей гласят: «Не прелюбодействуй». Но присутствие Мими не позволяло Ципоре высказать то, что прямо указывало на Бат-Шеву. Каждый раз, как она собиралась что-то произнести, ей представлялось недовольное лицо Мими, и она осекалась.
Вместо этого она пересказала историю из Талмуда, которую ей специально подобрал муж. Четыреста кувшинов с вином, принадлежавших раву Хуне, вдруг прокисли. К нему пришли другие раввины и советовали обратить внимание на свое поведение, чтобы понять, почему это произошло. Он удивился и спросил: неужели они думают, что он согрешил? Раввины ответили, что не хотелось бы, конечно, тыкать пальцем, но до них дошли слухи, что он бывает скуповат. Услышав это, рав Хуна твердо решил исправиться. И тогда, говорят одни, уксус снова превратился в вино. Другие – что цена на уксус поднялась и сравнялась со стоимостью вина.
История была нам очень кстати. Если можно было поправить случившееся с равом Хуной, то и у нас есть надежда. Мы тоже сможем все наладить, и то, что прокисло, вновь станет сладким. Зачем опускать руки? Мы способны положить конец смуте и непорядкам.
Довольная гулом согласия, наполнившим комнату, Ципора раздала листы бумаги и остро наточенные желтые карандаши.
– Я бы хотела, чтобы каждая из вас написала одну мицву, над которой хочет поработать в следующие месяцы, – сказала она. – Необязательно кому-то показывать. Это будет между вами и Всевышним.
Ципора решила быть смелее и добавить еще кое-что, подспудно адресованное Бат-Шеве.
– Помните, что нет такого греха, для которого невозможна тшува.
Она не стала говорить, что все эти метания между религиозностью и нерелигиозностью уж точно требуют самого серьезного покаяния.
Мы внимательно обозрели свои жизни в поисках того, что более всего нуждается в исправлении. Мы не хотели слишком легкой мицвы, чтобы не казалось, будто мы не желаем делать над собой усилие. Но опасались, что, если написать что-то позначительнее, например, что надо более точно соблюдать законы шабата, получится, будто раньше мы этого не делали.
– Помоги, – прошептала Хелен, наклонившись к миссис Леви. – Не могу ничего придумать.
– Ш-ш, тебя Ципора услышит. Напиши хоть что-нибудь, неважно что.
У нас было ощущение, будто мы торгуемся с Богом, предлагаем наши добрые дела в качестве залога за души наших детей. Мы обещали более добросовестно отдавать положенную десятину от доходов на благотворительность, больше времени изучать Тору, старательнее соблюдать кашрут. Мы будем больше почитать родителей, молиться с большим чувством, накормим голодных, оденем неимущих. И благодаря всему этому мы спасем наших детей и нашу общину.
Джослин Шанцер отлично знала, что ей следовало написать. Баночки с креветочным салатом плясали перед ее мысленным взором, и она уже оплакивала голодные ночи, ждущие ее впереди. Но час настал. Она доест последнюю порцию, что лежит в морозилке, – и на этом всё, больше никаких салатов.
Для Ципоры Ньюбергер все было яснее ясного. Ей, уж конечно, не нужно трудиться над тем, чтобы более серьезно соблюдать шабат или кашрут. Насколько ей известно, она, может, даже все шестьсот тринадцать заповедей соблюдает. И, чувствуя, как гордость разливается по телу, она содрогнулась от отвращения. Внутренняя скромность значила никак не меньше внешней. Ей нужно быть смиреннее, нужно стать столь же скромной в своих мыслях, как и в одежде, уподобиться Моше Рабейну, самому преданному и самому неприхотливому слуге Всевышнего.
– Я напишу: «Никаких сплетен». Это всегда хорошо, – сказала Бесси Киммель.
– Я тоже, – решила Дорин Шейнберг. – Теперь надо быть повнимательнее, когда станем болтать по телефону.
Мы оборачивались, чтобы подсмотреть, что написала Бат-Шева. Но она неотрывно смотрела прямо перед собой, целиком уйдя в свои мысли. Мы подумали: быть может, она догадывается, что мы чувствуем, и поэтому так погрустнела. Нас кольнуло чувство вины, но мы постарались отмахнуться от него. Бат-Шева вышла из оцепенения и быстро написала что-то на своей бумажке. Мы не знали, что именно, но у нас было немало вариантов. Несомненно, она могла раскаяться в своем романе на стороне, в том, что отошла от религии. Или, если взять недавние прегрешения, она могла бы подумать о своей манере одеваться или о том, как неуважительно общается со школьными раввинами, шутя с ними, называя их по имени. И уж конечно, она могла бы раскаяться в неподобающих беседах, которые вела с девочками.
– Возьмите эти листки и смотрите на них каждый вечер, чтобы не забывать данное себе обещание, – сказала Ципора.
Пока мы складывали наши бумажки и убирали их в сумочки и карманы, в комнате стало как будто легче. Словно промчался наконец грозный шторм, и мы ощутили прилив оптимизма и покидали дом Ципоры, впервые за долгие недели преисполненные надежд. И именно тогда, по крайней мере в том, что касалось Бат-Шевы, дело приняло плохой оборот. Как заметила Хелен Шайовиц, Бат-Шева сложила свой листок бумаги и сунула в карман юбки. Миссис Леви клялась, что, когда Бат-Шева выходила из дома, увлеченная разговором с Мими, она выронила листок на пороге (то ли случайно, то ли нарочно – этого уж никто, даже миссис Леви, знать не мог). Миссис Леви как раз шла в нескольких шагах от Бат-Шевы и немедленно подняла бумажку, развернула и разгладила на ноге. Встав у лампочки над дверью, она обнаружила, что Бат-Шева не написала ни единого слова.
И кто скажет, как это понимать? Может, Бат-Шева не смогла ничего придумать. Может, побоялась доверить бумаге страшный грех. Может, по-прежнему считала, что можно делать вид, будто ее прошлое не имеет никакого отношения к ней сегодняшней. Или, может, она не верила в покаяние и насмехалась над нашими попытками стать лучше. Что бы там ни было, но это оставило неприятный осадок.
Мы никак не могли выкинуть из головы это происшествие и стали обсуждать, как лучше все уладить. Мы отговаривали дочерей от того, чтобы они проводили время с Бат-Шевой. «Разве ты не ходила к ней вчера вечером? Тебе не кажется, что правильнее больше времени бывать в компании сверстниц?» – спрашивали мы, когда они сообщали, что идут навестить Бат-Шеву. Если они упорствовали, мы жестко оговаривали, когда им вернуться: дотемна, чтобы успеть накрыть на стол к ужину, не больше чем через час после ухода.
Мы задумались и о том, что не следовало бы нашим дочерям и на уроках оставаться наедине с Бат-Шевой. Мы вдруг поняли, что совершенно не в курсе того, что там происходит. С Бат-Шевы станется, она может и рисование обнаженной натуры устроить. Мы воображали разговоры, которые они там вели, как свободно могли девочки высказывать все, что придет в голову, высмеивать школу, религию, может, даже нас. А что, если она в красках расписывала им свой, назовем его так, отпуск; что, если говорила, что тот год был остро необходимым освобождением от стольких правил и ограничений? Что, если советовала им последовать ее примеру?
Но, слава богу, была Йохевед Абрахам. У нее не было занятий во время урока рисования у девочек, и обычно она сидела в одиночестве в учительской, пила кофе чашку за чашкой и размышляла о своем печальном одиночестве. К счастью, учительская была дверь в дверь с классом рисования, а стены в школе были до неприличия тонкими. Когда мы изложили Йохевед суть проблемы, она была рада помочь. Она не видит причин, сказала Йохевед, почему бы ей не прислушаться к тому, о чем говорят Бат-Шева с девочками. Мы вздохнули с облегчением. Хоть кто-то ответственный приглядит за Бат-Шевой, пока мы не найдем более основательного выхода из положения.
Но как бы мы ни относились к Бат-Шеве, мы намеревались никоим образом не выдавать этого в общении с Аялой; грехи матери не должны переходить на дочь. Мы по-прежнему приглашали ее домой играть с нашими детьми, по-прежнему обнимали в синагоге и усаживали на колени. Миссис Леви следила, чтобы Аяла исправно получала печенье с шоколадной крошкой, которое она пекла специально для нее каждую пятницу. Раньше она сама заносила его, заходила в дом, болтала с Бат-Шевой, радуясь возможности увидеть, как Аяла открывает жестяную банку и разом проглатывает пару печений. Теперь миссис Леви уже не готова была на эти визиты, поэтому оставляла печенье у задней двери, приложив записку с пожеланиями хорошей субботы Аяле.
Заметила ли Бат-Шева эти перемены, мы не знали. Если и да, то нам она ничего не высказывала. Но выглядела немного удрученной – мы замечали это по просительному взгляду, которым она провожала нас, когда мы коротко, на ходу приветствовали ее. Она больше времени проводила одна – нас уже не приглашали посидеть с ней на заднем дворе, любуясь закатом, не звали попробовать новое вегетарианское блюдо, с которым она экспериментировала. Она была осторожна, словно понимала, что где-то по дороге переступила черту, только не была уверена, где именно та черта проходила. Но мы всегда встречали ее благодарный взгляд, когда делали что-то для Аялы, и нам казалось, что она таким образом говорит нам: что бы ни случилось между ею и нами, Аяла по-прежнему остается частью нашего мира.
Леанне Цукерман было невыносимо это напряжение. Она словно двойной агент в шпионских играх – не хотела ни чтобы кто-то прознал, что ей симпатична Бат-Шева, ни чтобы Бат-Шева прознала, что о ней говорят в общине. Но ее безумно тяготила эта двуличность, и Леанна решила, что будет открыто продолжать дружить с Бат-Шевой – хоть раз в жизни она не станет заботиться о том, что о ней говорят люди. Она не считала, что в Бат-Шеве корень всех проблем в общине, и ей было горько видеть, какой одинокой та казалась, с каким недоумением наблюдала за тем, как откровенно ее избегают.
Леанна пригласила Бат-Шеву пообедать вместе, и та немедленно согласилась; призналась, что совсем приуныла последнее время, и это ее очень приободрит. Бат-Шева не рассказала, что именно ее беспокоит, и Леанна задумалась, не заметила ли она, что за толки ходят вокруг. Как бы ни было неловко говорить на эту тему, но Леанна пообещала себе, что, если Бат-Шева спросит, почему люди глядят на нее с таким подозрением, она честно выложит, что о ней говорят.
В «Шик перекусе» было полно народу. В углу сидел Алвин Шайовиц, муж Хелен. Он сидел там уже больше часа, собственно, как и всегда по будням. Мы недоумевали, когда же он умудрялся работать. Рядом, еле втиснувшись за маленький столик, Бесси Киммель отмечала семидесятилетие в компании дочери и двух невесток. В противоположном углу три старшеклассницы коротали за обедом свою большую перемену.
Хотя Леанна не собиралась заговаривать о настроениях в общине, если Бат-Шева сама не спросит, теперь, сидя напротив, она не могла отделаться от этой мысли. Ей нужно понять, что думает Бат-Шева. Неважно, знает ли она, что о ней говорят, но у нее, несомненно, есть что сказать о ситуации с девочками.
– Так что ты думаешь о том, что происходит? – спросила Леанна.
– О чем ты?
– Ну, про старшеклассниц. Все так озадачены и считают, что надо что-то предпринять. – Леанна огляделась. – Не передавай никому, но, по-моему, ничего ужасного не случилось. Наркотики – другое дело, но в остальном – не знаю. Они же подростки, им необходимо экспериментировать. Мне уж точно было нужно в их возрасте.
Но Леанна ни с чем не экспериментировала. Ее слишком волновало, что о ней подумают. В колледже они с подружками были настоящими паиньками, никогда не гуляли допоздна, ни разу не переступили порог бара, никаких безумных вечеринок.
– Не знаю, – добавила Леанна. – Может, мне так кажется просто потому, что мои дети еще не учатся в старших классах.
– То, что делают девочки, даже сравнить нельзя с тем, что вытворяет большинство подростков, – ответила Бат-Шева. – В моей старшей школе три девочки забеременели; один мальчик застрелил отца, который годами издевался над ним; двое, сев за руль пьяными, погибли в автокатастрофе; еще двое умерли от передозировки.
– Но здесь такое происходить не должно, – сказала Леанна.
– Почему? Я как раз вижу, что везде происходит одно и то же, просто где-то об этом говорят, а где-то – молчат.
– Ты и правда считаешь, что подобное случается в религиозных общинах?
– Я просто говорю, что нам надо гордиться тем, какие у нас хорошие дети, а не доводить их до ручки, заставляя быть кем-то еще. Это уж точно не поможет им быть религиозными. Я понимаю, что не мне говорить, но иногда я думаю, что для девочек было бы гораздо лучше, если бы родители немного ослабили хватку и позволили им самим что-то для себя понять.
Леанна кивнула. Так приятно, когда говорят без обиняков.
– В их возрасте я так и чувствовала, – призналась Леанна. – Да и сейчас бывает.
Пока они разговаривали, в ресторан зашла миссис Леви. Она слышала почти все, и клокотавшая внутри ярость достигла апогея. Пора действовать. Она не будет устраивать сцену, просто мягко и деликатно выскажет свою точку зрения. А если не поможет, то еще будет момент для более решительной схватки.
– Привет, Леанна, привет, Бат-Шева! Как приятно вас видеть. Здесь столько народу, это, пожалуй, верный знак того, что дела идут хорошо.
Леанна хотела было подтвердить, что и правда было непривычно людно, но миссис Леви предупреждающе подняла руку.
– Очень важно поддерживать наши местные заведения, вы согласны? Я как раз думала, до чего же у нас хорошая община. И большинство из нас готовы на все, чтобы сохранить ее такой. И от наших детей мы ждем определенных вещей, и нам очень не понравится, если кто-то попытается вмешаться.
На этом миссис Леви пожелала Бат-Шеве и Леанне хорошего дня и двинулась дальше, останавливаясь у каждого столика, попутно сообщая, что суфле из брокколи сегодня как будто не такое свежее, как обычно, что Алвину Шайовицу следует побольше спать, он выглядит совсем измученным.
Леанна кипела от негодования на миссис Леви и всех, от имени кого она вещала. Но Бат-Шеву, казалась, это отчасти изумляло, отчасти забавляло. Может, она думала, что это просто манера миссис Леви. Если не прожить здесь достаточно, будет трудно разгадать, что имеют в виду люди. Когда Леанна только переехала в Мемфис, она далеко не сразу сообразила, почему близкие недовольны ее поведением – оказывается, она перед шабатом не обзванивала родственников Брюса, как было принято. Лишь после того, как несколько недель кряду свекровь оглашала их имена и многозначительно поглядывала на Леанну, та смекнула, что к чему. Но Бат-Шева другая: она была не из этого мира и не понимала здешней кухни.
– Бат-Шева, мне нужно тебе кое-что сказать. – Леанна опустила глаза на свою клетчатую юбку, на свои обгрызенные ногти и заусенцы. – Тебя много обсуждали, и все считают, что ты плохо влияешь на девочек, – прошептала она.
– Что?
– Это потому, что ты отличаешься от всех здесь. И своим прошлым, и тем, какая ты, – запинаясь, выговорила Леанна.
Бат-Шева была потрясена. Она уставилась на Леанну, пытаясь уложить в голове услышанное.
– Я не понимаю, – наконец произнесла она.
– Думаю, все решили, что девочки пустились в эксперименты, подражая тебе, и что, вероятно, ты их поощряешь.
Кровь прилила к щекам Бат-Шевы.
– Это просто смешно! Я помогла девочкам. Они приходят ко мне, доверяя то, что никогда не смогут рассказать родителям.
– Вот это, скорее всего, всех и тревожит. Разве ты не заметила, что все ведут себя немного необычно? – спросила Леанна.
– Пожалуй, они держались слегка отчужденно, но я решила, дело в какой-нибудь мелочи, на которую я не обратила внимания, и рано или поздно про нее позабудут. Мне и в голову не приходило, что это из-за девочек. Как давно это началось?
– С месяц, может, два. Когда с девочками перестали справляться, никто не понимал, что делать. И тогда заговорили о том, что после смерти Бенджамина у тебя случилась та связь, а потом ты перестала ходить в синагогу и… – Леанна взглянула на Бат-Шеву, надеясь, что та сама закончит то, что ей не хотелось произносить вслух.
– Поверить не могу, что люди это обсуждают. Те истории никак не касаются моих отношений с девочками. Это правда, что после смерти Бенджамина я отошла от религии, но дело было не в осознанном выборе, что я больше не хочу быть ортодоксальной еврейкой. У меня просто не было сил соблюдать все, что положено. Я с трудом вытягивала себя изо дня в день. В душе я всегда оставалась религиозной, мне лишь надо было вновь обрести решимость.
– По-моему, людям показалось, что ты намеренно скрываешь свое прошлое, что хочешь выдать себя за кого-то другого.
– Не то чтобы каждый имел право толковать о моем прошлом, но я тем не менее ничего не утаивала. Просто о каких-то вещах не рассказывала на каждом углу, потому что считала, что их могут неправильно воспринять, могут решить, что я и сейчас нерелигиозна.
Леанна знала, что именно это и произошло. Сначала по мелочи смущало то одно, то другое, а последняя новость укрепила подозрения, так что, когда девочки стали показывать характер, всех собак спустили на Бат-Шеву.
– Вряд ли кто-то здесь будет готов это признать, но у всех случаются периоды большей или меньшей связи с религией. Хотела бы я посмотреть, как бы вели себя люди, окажись они в моем положении, – сказала Бат-Шева.
– Ты права. Со стороны судить легко. Но почему-то никто об этом не вспоминает.
– После смерти Бенджамина я подумывала вернуться в маленький городок в Вирджинии, где выросла. Но я точно знала, что никогда не впишусь в ту жизнь. Мы с Аялой всегда будем белыми воронами, и о нас будут судачить. Может, я была наивна, но я надеялась, что смогу прижиться в такой общине, как эта, где вроде бы люди должны поступать друг с другом так, как того хотел Всевышний. Надеялась, что люди будут более чуткими и отзывчивыми. Похоже, я ошиблась.
– Бат-Шева, некоторые все же заодно с тобой, – сказала Леанна. – Я знаю, что ты очень многое дала девочкам. Да и в других вещах сделала немало. Ты как будто вдохнула в нас жизнь. Мне кажется, единственное, что ты можешь сделать, – это продолжать начатое, и со временем все станет на свои места.
– Ты правда так думаешь?
Леанна улыбнулась.
– Правда. Не сразу, но все наладится. Вот увидишь.
Пусть она и не была в этом уверена, но ей очень хотелось надеяться, что так и будет. Эта встреча лишний раз напомнила ей, что можно быть ортодоксальной и в то же время не такой, как все, что религия – вовсе не болванка, выдающая копии под копирку. Но чтобы встроиться в местную жизнь, требовалось совсем другое. Как убедилась Леанна, порой необходимо обтачивать острые углы, обретая более удобный размер, более послушную форму.
Они доедали в полном молчании. Что-то в Бат-Шеве переменилось, явно поубавилось энтузиазма. Ее словно поразило открытие, что, несмотря на наши законы и традиции, ведем мы себя друг с другом не лучше, чем обычные люди, далекие от религии. Леанна тоже невольно задумалась, что же это означает. Она не согласна с Бат-Шевой? Ей следовало убеждать подругу, что наша община действительно придерживается высоких моральных принципов? Или Бат-Шева права, чувствуя себя преданной? Леанна вдруг поняла, что мы ничем не лучше других. Мы похожи на обычный провинциальный городок с его провинциальными взглядами и провинциальными страхами.
14
Хотя мы были крайне недовольны дурным влиянием Бат-Шевы на наших девочек, у нас и в мыслях не было, что между ней и Йосефом происходит что-то непозволительное. Даже если бы она и хотела, мы и представить не могли, что Йосеф способен совершить что-то неподобающее. Они по-прежнему занимались вместе, иногда утром, иногда вечером – в зависимости от ее расписания в школе, и мы полагали, что на этом всё. Но нынче мы уже не были так наивны, и то, что поначалу по недосмотру могло казаться излишним дружелюбием, теперь крепко засело нам в голову и вызывало все больше беспокойства.
Йосеф изменился, хотя мы не могли толком уловить, в чем именно. Некоторые полагали, что он не совсем здоров. Он уже не был прежним доброжелательным и открытым Йосефом. Глаза не горят, походка понурая и лицо бледное, усталое, как будто он изо всех сил старается скрыть какую-то тайну. Но другие считали, что в его глазах пылала некая невиданная прежде страсть. Вся его фигура как будто обвисла, кости стали мягче, а кожа подвижнее. Удивительно, что мы смотрели на Йосефа и видели совершенно противоположные вещи, словно глядели на двух разных людей.
Он стал уходить из дома поздно вечером, когда родители уже спали. Садился в их машину, старый коричневый минивэн с деревянными панелями, и тихонько выезжал со двора. Всегда поворачивал направо, еще раз за угол и дальше – к дому Бат-Шевы. Там останавливался на пару секунд. Если у нее горел свет – обычно горел, она редко ложилась раньше полуночи, – он стоял подольше, не выключая мотора и фар. Потом ехал дальше по улице, резко давя на газ, пока не скрывался из виду. Мы не знали, куда он ездит так поздно; даже светофоры переходили на желтый мигающий режим в половине одиннадцатого. Все магазины были уже закрыты, в парке темно и безлюдно; представить, что Йосеф зайдет в бар, было невозможно. И раз мы не могли придумать, куда же он мог направиться, то воображали, что он бесцельно разъезжает по пустынным улицам.
Это беспокойство стало проявляться во всем, что бы Йосеф ни делал. Хотя он по-прежнему занимался с отцом, ему уже явно не было интересно. Талмуд он читал вслух потухшим голосом. Мужья рассказывали нам, что на утреннюю молитву он приходил с опозданием и едва мог разлепить глаза. Он больше не вызывался ходить с Мими за продуктами, да и по другим делам тоже.
Хорошо, что он хотя бы продолжал навещать Эдит Шапиро по субботам после обеда. И слава Богу: она с трудом переносила разочарования и всякий раз, когда чувствовала себя покинутой, еще больше уходила в воспоминания и заявляла, что раз уж ее муж умер, а четверо сыновей живут так далеко, ей самой жить совершенно незачем. Эдит, как и всех нас, очень беспокоило поведение Йосефа, и однажды, когда он сидел у нее в гостиной, она твердо вознамерилась разобраться, в чем тут дело.
Она начала с привычных вопросов, которые задавала каждую неделю. Отказаться от них было бы уже чересчур – Йосеф навещал ее годами, и в заведенном порядке их встреч была непреложность еврейского закона. Но на этот раз она внимательнее выслушивала его ответы, надеясь уловить что-то необычное.
– Как твоя учеба? – поинтересовалась Эдит, когда Йосеф расположился на диване с куском пирога.
– Все хорошо, – ответил он, и она отметила секундное замешательство, тень неуверенности.
– И ты хорошо проводишь время в Мемфисе?
– Конечно.
Вот тут она была абсолютно уверена, что он замялся, и по этим двум ответам она заключила: Йосефу прискучил Мемфис. Он устал от этого сонного города, где почти ничего не происходит. Ему опостылели одни и те же люди, с которыми нет новых тем для разговоров. Эдит печально вздохнула. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Недалек тот час, подумала она, когда Йосеф нас покинет.
Мы наблюдали за ним, пытаясь понять, верна ли теория Эдит. Как-то в конце февраля, когда Бат-Шева гуляла, Йосеф вышел и направился к ее дому. Занятие у них было только вечером, так что мы понятия не имели, что ему нужно. Может, хотел передать книгу, может, Мими попросила его что-нибудь забрать. Но вместо того чтобы постучаться и объяснить, зачем он пришел, Йосеф стоял на краю ее некошеной лужайки и подбрасывал ногой высохшую траву.
Бат-Шева, возвращаясь, свернула на свою улицу и увидела перед домом Йосефа. Она помахала ему рукой, и он покраснел от смущения. После того как Леанна Цукерман рассказала ей, что о ней говорят, Бат-Шева вела замкнутую жизнь. Она общалась только с Леанной и Наоми Айзенберг, признаваясь им, как ей тяжело. Хотя она намеревалась вести себя как считает нужным, ее занимало, что люди толкуют за ее спиной. Она была сдержанна, когда мы где-нибудь встречались, уже не приветствовала нас улыбкой, как раньше. А если и заговаривала, то очень осторожно, тщательно взвешивая каждое слово.
Но Йосефу Бат-Шева была рада; она сказала Леанне, что он один из немногих, кому она может доверять.
– Привет! – радостно выпалила она, словно Йосеф был способен хоть немного избавить ее от одиночества. – Как мило, что ты зашел.
– Я шел мимо, – начал он. – Я не думал задерживаться, но…
– Тебе не нужно повода, чтобы навестить меня. Я очень тебе рада.
Они двинулись по дорожке к дому, и у двери Йосеф замешкался, понимая, что заходить внутрь непозволительно. Насколько нам известно, они ни разу не оставались наедине за закрытыми дверями.
– Я подожду здесь, – сказал он и присел на качели на крыльце.
– Как угодно. Я сейчас, – ответила Бат-Шева.
На улице было тепло, особенно для конца февраля, но не так уж необычно для города, в котором погода менялась чуть не каждый день. Йосеф с удовольствием ждал снаружи, тихонько раскачиваясь. Бат-Шева вернулась босая и с убранными назад волосами. Она протянула Йосефу стакан холодного чая и села рядом. Йосеф отпил глоток, и она смотрела на него, покачивая в руке стакан так, что кубики льда позвякивали о стенки. Она положила ноги на деревянные перила. Мы были уверены, что у Йосефа какое-то конкретное дело, что-то, что не могло подождать еще пару часов. Но он не произнес ни слова, и им явно было очень даже хорошо раскачиваться на качелях в полном молчании.
– Каково это – так долго оставаться дома? – наконец спросила Бат-Шева.
– Нормально, наверное.
Бат-Шева рассмеялась.
– Звучит не очень-то весело.
– Немного скучно. У меня здесь нет друзей. Мне нравится заниматься с отцом и с тобой, но больше мне здесь делать нечего.
– Почему ты решил остаться?
Он отвел взгляд.
– Не знаю.
– Ты не из тех, кто что-то делает без серьезной причины. Уверена, ты все хорошенько обдумываешь, прежде чем принять решение. Не хочешь рассказать? Спорим, ты никому не говорил, что на самом деле происходит, и я вижу, что тебя это разъедает изнутри.
Йосеф огляделся, словно ожидая, что кто-то притаился за качелями или в кустах у дорожки и сейчас выскочит на него.
– Я просто не хотел возвращаться, и все, – сказал он.
– Ты хотел именно остаться в Мемфисе или же не хотел оставаться в ешиве?
– Не знаю, – резко ответил Йосеф.
– Хорошо. Ты не должен мне ничего рассказывать, если не хочешь, – мягко произнесла Бат-Шева и вздохнула.
Он посмотрела на нее. Она не улыбалась, и в голосе не было прежней легкости.
– Ты в порядке? – спросил он. – Ты и сама явно чем-то расстроена.
Бат-Шева покачала головой.
– Все идет не так, как я надеялась. Ты, наверное, слышал, люди говорят, что девочки отбились от рук по моей вине.
– Какая чушь! – Йосеф в изумлении помотал головой.
– Да. Я стараюсь, чтобы меня это не задевало, но не получается. Теперь вижу, что неверно представляла себе это место.
– Ты жалеешь, что переехала сюда?
– Не знаю. Я все еще надеюсь, что у меня здесь все сложится. И Аяле так нравится Мемфис. Может, этого довольно, чтобы здесь остаться. Я думала, что смогу построить здесь чудесный еврейский дом, и у нее будет все, чего не было у меня. Я воображала, как у нас тут появится много друзей и станет неважно, что у меня нет никого из близких…
Они сидели, уставившись на улицу прямо перед собой. Для нас это был райский вид, но вот что видели они, нам неизвестно. Нам была невыносима мысль, что кто-то может думать плохо о нашей общине, и нам хотелось распахнуть двери и кричать Йосефу, что ему нужно двигаться дальше, что времена учения с отцом давно позади. Бесси Киммель хотела умолять его не забывать, что он не просто кто-то там, он – наш Йосеф. У миссис Леви засорился туалет, и она прикидывала, не будет ли совсем неприлично попросить Йосефа помочь – что угодно, лишь бы увести его от Бат-Шевы.
Словно услышав наши безмолвные мольбы, Йосеф взглянул на часы.
– Мне пора.
– Опаздываешь к отцу? – она печально улыбнулась.
– Да. Он ждет меня.
– Было хорошо поговорить с тобой. У меня чувство, будто я знаю тебя давным-давно. Может, это потому, что ты похож на Бенджамина. Тебе это, наверное, уже говорили.
– Нет.
– У тебя тот же овал лица, та же улыбка, и сложен ты так же. Даже Аяла это заметила.
Он поднялся. Казалось, не встань он тогда, он бы не нашел в себе сил уйти. Он попрощался и двинулся прочь, то и дело оборачиваясь, пока Бат-Шева на качелях не скрылась из виду.
В синагоге раввин посматривал на часы и нервно оглядывался, ожидая, что сзади вот-вот подойдет Йосеф. На лице его поминутно сменялись тревога и раздражение. Он не находил ни единой причины, почему Йосеф мог опаздывать, – и уж точно не мог вообразить, что тот сидел и беседовал с Бат-Шевой.
Арлина Зальцман и Хелен Шайовиц убирали последние украшения после ханукального ужина; все эти месяцы никто не позаботился о том, чтобы их унести, и они пылились в дальнем углу парадного зала. В конце концов Арлина и Хелен решили взять дело в свои руки – все же они были сопредседательницами мероприятия. Унося груду пенопластовых волчков в золотых и серебряных блестках, они натолкнулись в фойе на раввина, поджидавшего Йосефа.
– Привет вам, рабби. Как поживаете? – поздоровалась Арлина.
– Вы не видели Йосефа? – спросил раввин, не утруждаясь обычными любезностями.
– Сегодня? – уточнила Хелен, потому что вообще-то она видела Йосефа накануне, он сидел один в святилище в полной темноте. И выглядел таким печальным, таким задумчивым. Но, пожалуй, лучше не говорить об этом раввину, на нем и так лица не было.
– Я думал, может, вы видели его, пока я сидел в кабинете, – ответил раввин.
– Сегодня я его не видела, – сказала Хелен, с трудом удерживая гору волчков. Все руки и платье у нее были в блестках, и, если волчок сейчас упадет на ее новые туфли, ей уже ни за что их не отмыть.
– И я не видела, – добавила Арлина. Если бы только она его встретила и могла сказать раввину, что он вот-вот явится. После всего, что она пережила с Иланой, Арлина близко к сердцу принимала чужую тревогу за детей. Она знала, что не бывает ничего страшнее.
– Простите, позвольте, я вам помогу, – опомнился раввин.
– Не волнуйтесь, рабби, мы прекрасно донесем это до машины. А вы встречайте сына, – сказала Арлина.
Раввин вернулся в кабинет и стал ждать дальше, и тут позвонила Ципора Ньюбергер с одним вопросом. Она ждала к ужину родителей и потому постаралась приготовить все пораньше днем. И случайно взяла не ту сковородку и приготовила грибы на сковороде для молочных продуктов. Она собиралась подать их к гамбургерам, поэтому ей нужно узнать: возможно ли это теперь? Когда Ципора объясняла, что никогда еще она так не ошибалась и ей ужасно стыдно, в дверь постучал Йосеф.
– Одну минуту, Ципора, – сказал раввин, кладя трубку на стол. – Войдите, – окликнул он, и по его голосу Ципора не поняла, знал он, что это Йосеф, или нет.
Йосеф осторожно отворил дверь, словно опасаясь, что из-за нее кто-то выпрыгнет.
– Привет, – тихо сказал он.
– Где ты был? – спросил раввин.
– Я был дома и потерял счет времени.
Раввин не подумал прикрыть трубку, поэтому Ципора слышала каждое слово.
– Прости, – сказал Йосеф голосом маленького ребенка, просящего прощения у разгневанного родителя.
– Иди повтори пока, что мы проходили вчера, – велел раввин, – я буду через несколько минут.
Раввин закончил разговор с Ципорой. Поскольку грибы были приготовлены на сковороде для молочных продуктов, она не могла подать их с гамбургерами. Но раз уж это была только сковорода, а не молочные продукты, можно съесть грибы сразу, а не ждать обычные шесть часов между мясным и молочным. Ципора повесила трубку, пытаясь придумать, что же ей теперь делать с этими грибами.
Йосеф отправился в бейт мидраш и, садясь за последний длинный стол, где они обычно занимались, помахал одинокому старику.
– Вы опоздали, молодой человек. Ваш отец очень беспокоился за вас, – сказал Майер Грин. Майер всегда был в синагоге, и хотя официально он там не работал, тем не менее всегда следил за всеми мелочами, которые требовали внимания: поменять лампочки, купить вина для кидуша, ровно сложить сидуры и Хумашим перед шабатом.
– Я ходил за покупками для матери, – сказал Йосеф.
Обычно Йосеф непременно беседовал о чем-нибудь с Майером, но на сей раз он отвел глаза и замолчал. Открыл Талмуд на случайной странице и сделал вид, что погрузился в чтение. Но его глаза блуждали, а на лице застыло то же страдальческое выражение, что во дворе у Бат-Шевы. Пожалуй, он выглядел несчастнее, чем когда-либо. Бат-Шева почти ничего и не сказала, но даже такой малости было довольно, чтобы выбить его из колеи.
– На чем мы остановились в прошлый раз? – спросил раввин, заходя в комнату.
Йосеф зашелестел страницами, ища нужный отрывок. Он начал читать, прекрасно справляясь с арамейским. Слова были похожи на иврит, но не настолько, чтобы мы хоть что-то понимали. Мы не изучали Талмуд – то был мир, предназначенный только для мужчин. Наши познания в этих священных текстах ограничивались обрывками, подслушанными в разговорах наших отцов, мужей, братьев и сыновей. И все равно это была наша связь с прошлым. Порой в наше время бывало трудно поверить, что Храм когда-то стоял, что Господь и правда являл себя людям, что раввинатские суды были высшей властью на земле Израиля. И что наши прославленные мудрецы сидели в вавилонских ешивах и рассуждали об устном законе, который передали им мужи из Великого Собрания, которые получили его от пророков, которые получили его старшин Израиля, которые получили его от Иисуса Навина, который получил его от Моисея, который получил его от Всевышнего на горе Синай.
Слушая, как Йосеф читает Талмуд, можно было представить, что эта цепочка никогда не прерывалась, что события, случавшиеся в истории, никогда не приводили к хаосу, к утрате традиции. Он точно переводил каждое слово, пояснял каждое мнение, каждое толкование. Его лицо разгладилось, мучительные перипетии прошедшего дня рассеялись; он снова был нашим прежним Йосефом. На лице раввина вновь играла гордая улыбка, и в такие минуты мы видели его любовь к сыну.
– Закончи перевод на этой странице, – сказал раввин.
Так они занимались несколько часов, без единого перерыва. Они с головой ушли в разговор с поколениями мудрецов из давних времен, затерялись в древних мирах, которые были нам недоступны.
– Очень хорошо, – произнес раввин, когда пробило шесть.
Они возвращались домой, продолжая возбужденно обсуждать то, что сейчас изучали, и бурно жестикулируя. Уже смеркалось, и, накрывая на стол к ужину, нарезая овощи для салата и помешивая в кипящих кастрюлях, мы смотрели, как они проходили мимо наших окон, подобно теням-близнецам.
15
Снег редко выпадал в Мемфисе. Годы подряд могло не случаться снегопадов. Но этот год был богат на крайности. Лето выдалось самым жарким на нашей памяти, а осенью листья окрасились в небывалые оттенки красного и желтого. Когда снежинки заплясали вокруг нас в середине марта, наполнив воздух неземной белизной, мы уже не удивлялись.
Йосеф вышел из дома за несколько часов до начала занятий с отцом в синагоге. Снег все падал и падал, и, должно быть, Йосефу окрестности тоже предстали в непривычном виде. Дома, лужайки и улицы были покрыты слоем еще не тронутого снега, и эти белоснежные поля раскинулись вокруг, как бескрайние голубые небеса. Йосеф первым оставил на них следы, протоптав одинокую тропинку от своего дома до Бат-Шевы.
Он подошел к ее двери и постучался. Она открыла, одетая только в белую футболку и спортивные штаны. Она заговорила, стоя на пороге, и белый снег шапкой ложился на темные волосы Йосефа. Он стряхнул его, устроив маленькую пургу. Бат-Шева засмеялась над его недоуменным выражением, и в следующую секунду он, пожав плечами, тоже смеялся вместе с ней. Она жестом пригласила его в дом, и он замялся в нерешительности. Она ждала, словно подначивая его зайти. И хотя он знал, что это неправильно, все же, глянув по сторонам, будто переходил дорогу, и снова пожав плечами, Йосеф вошел. Бат-Шева закрыла за ним дверь, и нам показалось, что нам дали пощечину.
Со всем, что происходило последнее время, мы только о том и думали – что Бат-Шева соблазнила Йосефа и втянула его в ужасную непозволительную связь. Мы пытались уговорить себя, что это невозможно. Она на десять лет его старше. А он религиозен, хоть на ее счет такой уверенности не было. Но эти доводы не слишком унимали нашу тревогу, мы просто не находили других объяснений тому, что они столько времени проводили вместе. Может, где-то еще подобное поведение и не вызвало бы беспокойства, но у нас одинокие молодые люди не дружили с одинокими женщинами старше себя; такое было не принято.
Бат-Шева с Йосефом оставались внутри около часа, и мы могли только воображать, что там происходило. Мы старались не думать об этом, но перед глазами проплывали картины того, как они лежат в объятиях друг друга на ее диване или в спальне, и ее легкомысленная футболка и его накрахмаленная белая рубашка валяются на полу. Мы хотели двинуться туда и освободить Йосефа, позвонить раввину и чужим голосом призвать его немедленно отправиться к Бат-Шеве. Но поскольку на самом деле мы ничего не могли поделать, мы просто наблюдали за ее домом в перерывах между попытками отвлечься на домашние заботы.
Вскоре после полудня Бат-Шеве, как и всем нам, позвонили: школа отменялась. Всего пары снегопадов довольно, чтобы парализовать Мемфис. На дорогах лежало добрых пять сантиметров снега, а машина для уборки была одна на весь город. Поговаривали о покупке новых, но вряд ли это было так уж нужно, учитывая, что последний раз снег шел пять лет назад. И тем не менее у школы был особый план на этот случай: когда дело касалось наших детей, излишняя осторожность никогда не мешает. При каждом классе состояли две мамочки, которые помогали во внеклассных поездках, проверяли вшей, заказывали кексы на праздник в честь конца учебного года и в маловероятных случаях снегопада следили за тем, чтобы дети благополучно добирались до дома.
В детском саду этим занимались Леанна Цукерман и Рена Рейнхардт, и, как только им сообщили про отмену уроков, они достали из шкафов высокие ботинки, доверху застегнули длинные шерстяные пальто и отправились в школу. Несмотря на имевшийся для экстренных случаев распорядок, там царил хаос, мамы-помощницы пытались дозвониться до всех родителей, а учителя пытались уследить, кого уже разобрали по домам. Чтобы не выдергивать нас на улицу, Рена сообщила, что проводит домой всех детей, живущих поблизости, а Леанна развезет тех, кто живет далеко, – не стоит нам лишний раз рисковать на скользких дорогах.
Когда Рена позвонила Бат-Шеве, голос той звучал вполне обычно, но, с другой стороны, вокруг стоял такой гвалт, что трудно было что-то расслышать. Рена собрала детей и повела их по домам, останавливаясь, чтобы стряхнуть снег с лица дочки или одернуть Моше Ньюбергера, который кидался в девочек снежками. Подходя к каждому дому, она придерживала всю группу и дожидалась, пока ребенок проберется по снегу до двери и войдет внутрь.
Дойдя до дома Бат-Шевы, Рена не отпустила Аялу одну, а двинулась вместе с ней по дорожке, держа за руку. Аяла была меньше других ребят, и Рена боялась, как бы она не упала. Рена уже давно не общалась с Бат-Шевой, но считала, что обязана оберегать Аялу.
Она позвонила в дверь, и, пока Бат-Шева шла открывать, Рена все больше напрягалась из-за предстоящего неловкого разговора. Она очень злилась на Бат-Шеву из-за ее романа, но Леанна Цукерман пересказала ей слова Бат-Шевы о том, как легко судить кого-то, не побывав в его шкуре. Рене это было близко и понятно – она уж точно не хотела, чтобы ее судили. И все же дружбы с Бат-Шевой не возобновляла – чувствовала себя слишком уязвимой, чтобы быть с ней связанной в глазах людей. Впереди маячил возможный развод, и Рена просто не могла дать лишний повод судачить о себе. Но когда Бат-Шева открыла дверь, решимость Рены держать дистанцию ослабла, и она вдруг поняла, до чего же ей не хватало их разговоров.
– Это ж надо, метель в Мемфисе! Но тебе, наверно, не привыкать, ты же жила на севере, – нервно начала Рена.
– Как у тебя дела, Рена? Я думала про тебя, – сказала Бат-Шева.
– Не знаю. Наверное, ничего. По крайней мере, так же.
– Ну, я-то по-прежнему здесь, если вдруг захочешь поговорить, – заметила Бат-Шева и посмотрела Рене прямо в глаза, словно давая понять, что знает, какие о ней ходят слухи, и что у истории есть и другая сторона.
Когда мы спросили Рену, не видела ли она случайно Йосефа дома у Бат-Шевы, она твердо сказала, что нет. Ей открывалась только гостиная и кусок кухни, и там никого не было. Но мы-то внимательно следили за домом и знали, что Йосеф так и не выходил. Чем бы они там ни занимались – а мы были абсолютно уверены, что знаем, чем именно, – он все еще находился в доме.
Три четверти часа спустя Йосеф, Бат-Шева и Аяла появились на пороге. Бат-Шева переоделась в бирюзовые лыжные штаны и серебряную лыжную куртку, которая казалась сделанной из фольги, – такая теплая одежда бывает только у тех, кто живет или раньше жил на севере. Наши дети к тому времени тоже высыпали на улицы и лепили снеговиков, кидались снежками, и их следы усеивали еще недавно безупречно белую гладь.
Укутав детей с ног до головы, заставив надеть третью пару носков и вторую фуфайку с длинным рукавом под свитер, мы разогревали суп на ужин и готовили горячий шоколад, чтобы накормить их, когда они вернутся домой замерзшие и уставшие.
Аяла не побежала к остальным детишкам. Наоборот, она прилепилась к Йосефу, взяла его за руку и смеялась.
– Смотри, Йосеф! – велела она ему и перекувыркнулась в снегу.
Йосеф похлопал, поднял Аялу на ноги и стряхнул снег с ее волос. Бат-Шева смотрела на них, и мы представляли, что она видит в Йосефе нового отца для Аялы. Втроем они сгребли в кучу снег и слепили его в шар. Покатили по земле, наблюдая, как он растет. Потом повторили все сначала, еще раз и еще, пока не получился самый настоящий снеговик. У Бат-Шевы явно был опыт в этом деле; наши дети, отродясь не видевшие столько снега, едва справлялись с одним шаром.
– Нашему снеговику чего-то не хватает, – заметил Йосеф. – Что скажешь, Аяла? Может, шапки?
Аяла рьяно закивала, и, когда Бат-Шева отвернулась, он сдернул с нее фиолетовую лыжную шапку и водрузил на снеговика.
– Идеально, – заявил он.
– Ты думаешь, тебе это сойдет с рук? – спросила Бат-Шева. – Аяла, иди-ка сюда.
Она наклонилась и что-то зашептала дочке на ухо. Аяла рассмеялась и скорчила рожицу Йосефу.
– Ну, берегись! – сказала она ему.
Они с Бат-Шевой слепили по снежку и запустили в Йосефа. Пойманный врасплох, он почти сразу стал белым с ног до головы. Он ринулся через двор, они следом. Аяла возбужденно визжала, и Бат-Шева тоже разошлась не на шутку.
Запыхавшись от беготни, они остановились и принялись хохотать. Йосеф сгреб пригоршню снега и уже собрался слепить снежок и кинуть в Бат-Шеву, но, подбежав ближе, остановился. Он стоял перед ней и легонечко осыпал ее волосы снегом. Она не пыталась увернуться, и белый снег смешивался с ее белокурыми волосами. Она потрясла головой, и снежинки разлетелись во все стороны. Бат-Шева и Йосеф стояли так близко, что почти касались друг друга. Снег повалил с утроенной силой, ветер тоже крепчал. Но эти двое словно приросли к земле; они не двигались, и в их лицах мы прочли столько чувства, такое напряжение, и смятение, и желание…
Когда Аяла подошла сзади, Бат-Шева повернулась к ней. Все трое, выдохшиеся и взмокшие, повалились в сугроб. И так и лежали, Аяла между Бат-Шевой и Йосефом. Она взяла их за руки своими облепленными снегом красными варежками, и все трое стали водить руками и ногами туда-сюда, рисуя на лужайке снежных ангелов.
Йосефу уже давно пора было быть у отца. Он поднялся, Аяла обняла его, обхватила за ноги, не давая уйти. Он тоже обнял ее, глядя поверх нее на Бат-Шеву. Наконец Бат-Шева отлепила руки Аялы от колен Йосефа и высвободила его. Он наклонился, поцеловал Аялу в шапочку на макушке и, как нам показалось, как бы нарочито между прочим махнув Бат-Шеве, двинулся вниз по улице.
С тех пор как Йосеф стал много времени проводить с Бат-Шевой, у нас почти не бывало шанса с ним пообщаться. Он уходил с кидуша до того, как мы успевали пожелать ему хорошей субботы. Если он брал трубку, когда мы звонили Мими, голос был холодный и резкий. Он никогда не смотрел нам в глаза, если мы случайно встречались. То, что происходило между ним и Бат-Шевой, отнимало его у нас, и нам отчаянно хотелось поговорить с ним, хоть как-то вразумить, вернуть того Йосефа, каким он был раньше.
Мы старались улучить любую возможность. Заходили в синагогу в надежде его там застать. Продумывали, что же ему сказать: что такое поведение ниже его достоинства, что ему следует жениться на приличной девушке и забыть Бат-Шеву. Но все разы, что мы так или иначе встречались, он был либо с Бат-Шевой, либо с кем-то из родителей, и мы не осмеливались говорить в их присутствии. Мы щадили Мими и раввина: если уж нам было так тяжело принять все это, каково же тогда им?
Довольно скоро мы поняли, что не можем уберечь Мими – она была слишком проницательна, чтобы не замечать перемен в собственном сыне. Спустя несколько дней после того, как снег растаял – погода была не по сезону теплая, – Мими в синагоге готовила бесплатную раздачу продуктов. Эту историю она затеяла уже несколько лет назад, озаботившись тем, что мы недостаточно участвуем в благотворительных делах города, в котором живем. В то утро она пыталась призвать кого-нибудь на помощь – позвонила миссис Леви, Ципоре Ньюбергер и Бекки Фельдман, – но все были так или иначе заняты, поэтому ей пришлось разбираться со всем самой.
У Эстер Абрамович, секретаря раввина, как раз наступил перерыв, и она увидела Мими, сидевшую в одиночестве в дальнем конце общего зала, в окружении консервов с овощами и фруктами, коробок пюре быстрого приготовления и риса. Решив, что рассылка мейлов может и подождать, Эстер уселась рядом и принялась помогать Мими сортировать продукты. Она сразу заметила, что Мими сама не своя: она всегда излучала такое благостное спокойствие, но теперь была явно чем-то удручена.
– Мими, у тебя все в порядке? – спросила Эстер.
– Да. Просто очень много всего свалилось.
– Не хочешь рассказать?
Эстер припомнила их долгие беседы последних лет. Она признавалась Мими, как тяжко быть одной в общине, где у всех есть семьи, как у нее на глазах подруги одна за другой выходили замуж, и ей все казалось, что она следующая, но этого так и не произошло. Она старела, и уже дети ее подруг играли свадьбы, а теперь и внуки. А Мими рассказывала ей о том, как тяжело было пережить четыре выкидыша подряд до того, как получился Йосеф, как с каждой беременностью она лелеяла надежду, что этот ребенок наконец выживет. И хотя боль утрат была невыносима, она все равно не теряла надежды.
Мими взглянула на Эстер, тоже вспомнив те разговоры.
– Я волнуюсь за Йосефа, – произнесла она.
Эстер как знала, что Мими это скажет. Не могла Мими не замечать того, что мы наблюдали уже месяц, а то и два.
– Он сам не свой, – призналась Мими. – Когда он приехал на лето, я даже не думала, что что-то не так. Он учился с отцом, занимался с Бат-Шевой. Все шло прекрасно. А когда он решил остаться дома, я встревожилась, но Йосеф уверял, что так будет для него лучше. Но в последнее время он сильно изменился. Не знаю, в чем дело – он стал таким печальным, словно пытается что-то побороть и не знает, что с этим делать.
Эстер хотела добавить кое-что: что Йосеф опаздывал на занятия с отцом, что его глаза блуждают по сторонам во время молитвы и что он слишком много времени проводит с Бат-Шевой.
– А что говорит раввин? – спросила Эстер.
Раввину положено было знать все ответы, и Эстер понадеялась, что, может быть, он понимает, что делать.
Мими вздохнула.
– Он ничего не замечает. Я пыталась с ним поговорить, но он видит только, что они так хорошо занимаются вместе, и Йосеф говорит, что все в порядке. Хотелось бы и мне так думать, но я точно знаю, что его что-то гнетет.
– А с Йосефом ты пыталась поговорить?
– Не так прямо. Дала понять, что я рядом, что он может все-все мне рассказать. Так раньше всегда было: если у него что-то случалось, он приходил с этим ко мне. Но теперь он отводит глаза, а я не хочу давить.
Эстер положила ладонь на руку Мими.
– Йосеф – особенный. С ним все будет в порядке.
Хотя Мими никак не упомянула Бат-Шеву, Эстер почуяла, что Мими тревожили ее отношения с Йосефом. Прежний Йосеф никогда бы не стал столько времени проводить с Бат-Шевой, не заботясь о том, как на это посмотрят в общине. Эстер видела, что эта тревога раздирала Мими – она никогда не относилась ни к кому с подозрением, во всех видела только лучшее. Но когда дело коснулось ее сына, это оказалось не так легко.
После встречи с Мими Эстер твердо вознамерилась поговорить с Йосефом. Она искала любую возможность. Спустя несколько дней она зашла в пустое святилище оставить распечатанные страницы речи раввина: он не читал с листа (за столько лет он выучил свои речи наизусть), но все же предпочитал иметь распечатки под рукой, на всякий случай. Там, посреди комнаты, в полном одиночестве сидел Йосеф. От неожиданности Эстер чуть не подпрыгнула.
– Боже правый! Ты меня до смерти напугал!
Йосеф вскочил, будто его застали за чем-то нехорошим.
– Простите. Я просто сидел и думал.
Эстер его понимала. Она тоже любила побыть в одиночестве в полной тишине святилища. Свет выключен, только нер тамид, неугасимый светильник, горит над ковчегом в знак вечного присутствия Всевышнего. Посреди всех этих пустых кресел у нее появлялось ощущение, будто она очутилась дома у Бога, когда все остальные гости уже разошлись.
– Посижу с тобой минутку, – сказала Эстер. – Надо перевести дух после такой встряски.
Она украдкой поглядывала на Йосефа. Он казался таким печальным, что больно было смотреть.
– Я не думала ничего говорить, – осторожно начала Эстер, – но раз уж мы здесь, все же скажу. Не хочу влезать не в свои дела, ты взрослый человек и сам все знаешь. Просто я очень переживаю за тебя.
Йосеф отпрянул. Взглядом он словно умолял оставить его в покое.
Эстер стало нестерпимо жаль его, но она не могла больше молчать.
– Я волнуюсь за тебя, Йосеф. Ты очень переменился. Тебе бы учиться в ешиве, но ты передумал. Ты как будто сам уже не знаешь, что тебе нужно.
– Я просто хотел учиться вместе с отцом, – ответил Йосеф.
– Учиться с отцом – это одно. Но вот проводить столько времени с Бат-Шевой тебе точно не стоило бы. Люди могут что-то не то подумать.
Йосеф опустил глаза.
– Мы просто друзья, – произнес он.
– Друзья, – повторила Эстер, но в глазах ее был вопрос.
Йосеф вспыхнул.
– Это вовсе не то, что думают люди. Она не такая.
Тут Эстер поняла, что Йосеф ничего не знает о прошлом Бат-Шевы. Разумеется, та не захотела сообщать отталкивающие подробности своей жизни, стараясь преподнести ему совсем иной образ.
– Послушай, Йосеф, я понимаю, ты можешь не поверить, но Бат-Шева совсем не такая, какой кажется. Теперь она как будто и искренняя, но несколько лет назад у нее была неподобающая связь, и похоже, что она даже оставляла религию.
Эстер собиралась продолжить, но Йосеф оборвал ее.
– Я все об этом знаю, и это никого не касается.
– Откуда ты знаешь? – опешила Эстер.
– Мы о многом говорим. Мы друзья. Бат-Шева не притворяется кем-то другим, но она пытается начать заново, и надо ей дать такую возможность, – сказал Йосеф.
Эстер никогда не видела Йосефа таким. В его голосе было столько отчаяния, глаза помутнели. Он был совершенно сражен любовью. Она вспомнила, как когда-то один мужчина смотрел на нее вот так. Много лет назад Эстер поехала одна в отпуск на Майами-бич и остановилась в кошерном отеле. В лобби она повстречала симпатичного вдовца, и у них оказалось столько тем для разговоров! Они гуляли по набережной, вместе обедали и ужинали, а когда пришло время уезжать, он попросил ее остаться. Но она отказалась; ей слишком страшно было бросить свою жизнь в Мемфисе.
Эстер хотела посоветовать Йосефу забыть о чувствах к Бат-Шеве и делать то, что правильно в долгой перспективе. Хотела повторить ему то, что не раз говорила себе самой: чувствам нельзя доверять – они возникают в один день, а на следующий уже испаряются. Что, если бы она уехала из Мемфиса, а с тем мужчиной ничего бы не сложилось? Что бы с ней стало? Она знала, что связь с Бат-Шевой не закончится ничем хорошим, и хотела уберечь Йосефа от этой боли.
– Йосеф, помни, ты – особенный. У тебя впереди блестящее будущее.
Но, произнося это, она ощутила нестерпимо горькую тоску по той неслучившейся жизни в Майами, и какая-то маленькая часть ее рвалась сказать Йосефу слушаться своего сердца, не упускать возможности, которая так его страшила.
На следующей неделе миссис Леви прибыла в синагогу, чтобы начать подготовку к Мемфисскому майскому конкурсу кошерного барбекю. В городе устраивали конкурс барбекю в первые майские выходные, и шеф-повара съезжались со всех концов света, чтобы зажарить сотни поросят. Миссис Леви годами наблюдала, как Мемфис из кожи вон лезет, чтобы как следует провести эти празднества, в которых мы из-за кашрута не могли принимать участия, и ей была невыносима мысль оказаться в стороне от большой жизни. И в один прекрасный день она вдруг поняла, что нет никаких причин нам самим не устроить отдельный конкурс с собственными знаменитыми судьями, лотереей и оригинальными киосками, придуманными каждой командой. С той лишь разницей, что вместо свинины наши команды – Старых мастеров, Магов Мемфиса и Прожженных умельцев – будут готовить брискет.
После всех неутешительных событий, обрушившихся на нашу общину, было непросто думать о чем-то еще, даже о конкурсе барбекю. Миссис Леви до сих пор не оправилась от известия, что Бат-Шева рассказала Йосефу о своей непристойной любовной связи; кто знает, что за мысли родились в его голове после такого? Но в то же время она была убеждена, что надо заставлять себя думать о хорошем, иначе плохое будет терзать и изводить тебя, и тогда не хватит сил делать дело. Так что, хоть до события было еще далеко, миссис Леви с головой ушла в подготовку, найдя утешение в бесспорном факте: независимо от того, что там происходит между Йосефом и Бат-Шевой, по крайней мере с конкурсом барбекю будет полный порядок.
Она решительно вошла в синагогу, громко стуча каблуками, твердо вознамерившись отбросить прочь все треволнения, выкинуть из головы Бат-Шеву с Йосефом и сосредоточиться на соусах для барбекю и новых рецептах гриля. Но по дороге в кабинет миссис Леви проходила мимо бет мидраша, где в тот момент занимались Бат-Шева и Йосеф. Она сразу заприметила, что сидят они чересчур близко друг к дружке. Еще немного, и Бат-Шева окажется у него на коленях! Негодование, которое она так старалась унять, нахлынуло с прежней силой. Фривольности даже дома у Бат-Шевы и то были непозволительны, но устраивать такое в синагоге – это уж слишком! Миссис Леви мучительно искала предлог, чтобы им помешать. Воображала, как ворвется в комнату, схватит Йосефа за шиворот и силой вытащит из синагоги, приказав Бат-Шеве держаться от него подальше, а то хуже будет. Как бы ни было приятно представить себе эту картину, миссис Леви знала, что не может себе такого позволить. Она же леди, в конце концов.
И тут, по счастью, она вспомнила, что в машине лежит форма для кекса, которую надо вернуть Мими. Она метнулась за ней и, вернувшись, притаилась за дверью в ожидании правильного момента.
– Тяжелее всего было сказать отцу, что я не хочу возвращаться в ешиву, – говорил Йосеф. – Я пришел к нему признаться, что, возможно, вообще не захочу туда возвращаться. Посмотрел на него и не смог. Вместо этого сказал, что хочу остаться дома, чтобы учиться вместе с ним. Я говорил это, и казалось, будто слова произносит кто-то другой.
– Значит, он не знает истинной причины?
– Нет. – Йосеф покачал головой. – У меня не хватило духу признаться.
– Ты правда думаешь, он бы не понял, если бы ты рассказал все как есть? Как-то ведь можно ему объяснить, что с тобой происходит.
– Ты не знаешь его так, как я. В детстве я вставал рано утром, чтобы пойти вместе с ним в синагогу. Перед сном я твердил себе: «Я проснусь в шесть тридцать, я проснусь в шесть тридцать». И проспал всего однажды. В то утро я вышел на кухню, когда он уже завтракал. Он не смотрел на меня. Сказал, что, видимо, сегодня я слишком устал для Всевышнего, а могу ли я представить, что произойдет, если в один прекрасный день Всевышний устанет заботится о нашем мире?
– Какой тяжкий груз для ребенка.
– То, что я появился на свет, было, по сути, чудом, и я всю жизнь старался оправдать их ожидания.
Мисси Леви не могла больше этого вынести; надо действовать, иначе она просто закричит. Кашлянув, она вышла из своего укрытия, и Йосеф с Бат-Шевой обернулись на нее.
– Простите, что тревожу, но хотела отдать вот это. Это для мамы, – сказала она Йосефу, показывая на форму. Бат-Шева не поднимала глаз, а Йосеф лишь коротко глянул на нее.
– Как поживаешь, Бат-Шева? – процедила миссис Леви, давая понять, что, хоть отношения и испорчены, вежливость никто не отменял.
– Хорошо, – тихо произнесла Бат-Шева.
– Рада это слышать, – сказала миссис Леви, положила форму на стол и без единого слова удалилась.
Она еще не успела отойти на достаточное расстояние, как они возобновили разговор.
– А мама? – спросила Бат-Шева. – Мне кажется, я могу доверить ей абсолютно все. Она так чутка к чужим переживаниям. Поговори с ней. Уверена, что она поймет.
– Она замечает, что что-то не так. По ее взгляду вижу: она ждет, когда я поделюсь с ней. Но я не уверен, что решусь.
Услышав это, миссис Леви подумала, что, если у Бат-Шевы остались хоть крупицы совести, она должна бы направиться прямиком к Мими и раввину и признаться в том, что соблазнила Йосефа. Это меньшее, что она могла сделать, и возможно, если бы она сказала всю правду, раввин что-нибудь бы и придумал. Он мог бы без лишнего шума устроить ее отъезд, а мы бы сделали вид, что ничего этого не случилось.
Спустя пару дней, зайдя к Кану за продуктами к шабату, миссис Леви встретила Мими. Других покупателей в магазине не было, и миссис Леви сочла, что само провидение свело их. В прошлом у них бывали расхождения, но пришла пора забыть о разногласиях. Она решительно двинулась к Мими, которая не замечала ее до тех пор, пока миссис Леви чуть ли не наступила ей на ноги.
– Как поживаешь? – спросила миссис Леви.
– Все прекрасно. А ты – все хорошо?
– У нас, слава богу, все в порядке.
Миссис Леви заглянула в корзину Мими: там лежали четыре халы, два пирога и столько куриц, что можно было накормить целый полк.
– Вижу, у вас ожидается много гостей, – заметила она.
– Не более, чем обычно. Бат-Шева с Аялой придут на ужин, а на обед мы позвали Цукерманов.
Миссис Леви поверить не могла, что Мими до сих пор принимает Бат-Шеву. Будто ее не волновало благополучие сына.
– Знаешь, Мими, – начала она. – Я тут думала о Йосефе. Мне кажется, с ним что-то не так.
Мими уткнулась в корзину, с притворным интересом изучая пироги и сырую курицу.
– Его нужно сейчас оставить в покое. Но с ним все будет хорошо.
Оставить в покое, фыркнула миссис Леви. Никогда она не понимала, что это, собственно, значит. Если на то пошло, покоя у Йосефа было с избытком. Потому-то вся эта история с Бат-Шевой и закрутилась.
– Мими, иногда можно переборщить с покоем, и в один прекрасный день окажется, что из детей получилось совсем не то, чего ты ожидала. – Миссис Леви старалась говорить как можно мягче. Она не хотела поставить в неловкое положение ни Йосефа, ни Мими; напротив, надеялась, что может помочь избежать куда большей неловкости в будущем.
– Или, бывает, на них так наседают с опекой, что они потом готовы на все, лишь бы из-под нее вырваться, – ответила Мими.
Миссис Леви едва не выронила из рук банку с фаршированной рыбой. Это уж слишком. Уж не намекает ли Мими, что ее методы воспитания не столь совершенны? Ну что же, тогда можно не миндальничать. К счастью, она предвидела подобное развитие событий и была готова парировать.
– Послушай, Мими. Я узнала, что Йосеф остался дома не для того, чтобы учиться с отцом. Он просто не хотел возвращаться в ешиву, и, судя по тому, как он говорил, не уверена, что он вообще туда собирается, – победно заявила миссис Леви.
Мими не привыкла, чтобы с ней так разговаривали, и едва не отпрянула от удивления. Миссис Леви в ожидании ответа склонилась еще ближе, и Мими крепче вцепилась в ручку корзины.
– Ты не думаешь, что я знаю собственного сына? – сказала Мими. – Я ведь не слепая, я и сама вижу, что происходит.
– Нет, ты явно не знаешь, что с ним происходит. Потому что если бы знала, то уж точно не звала бы Бат-Шеву на шабат. Ты бы делала все возможное, чтобы она держалась подальше от твоего сына. Из-за нее он и не хочет возвращаться в ешиву. Она пытается завлечь его в свои сети. Собирается отнять его у нас, и что ты будешь говорить, когда это произойдет?
Приличия были отброшены, и голос миссис Леви преисполнился драматического накала.
Мими была ошеломлена.
– Нет, этого не может быть.
– Может, Мими. И пора тебе посмотреть правде в лицо, пока еще не слишком поздно, – сказала миссис Леви.
Пусть Йосеф и сын Мими, но община у нас общая. Миссис Леви не станет сидеть сложа руки и наблюдать, как Бат-Шева разрушает ее. Нет, не бывать этому. Либо Мими подумает над ее словами и поймет, что она была права, а если нет – быть войне; вот так, коротко и ясно. Больше миссис Леви добавить было нечего, и, извинившись, она шумно удалилась.
Оставшись одна посреди магазина, Мими тяжело вздохнула. Мы всегда были уверены: она видит все, что происходит в общине, она всегда знает, что сказать и как поступить. Но сейчас она казалась такой же потерянной, как мы, а то и больше. Уверенность, что она всегда укажет нам правильную дорогу, пропала, и мы остались совсем одни.
16
Казалось, куда еще хуже, но тут Бат-Шева пригласила девочек к себе на сеуду по случаю Пурима. Пурим – праздник в честь избавления царицы Эстер, Мордехая и евреев, населявших Персию, от коварного Амана. В этот день мы радуемся: наряжаемся в карнавальные костюмы, рассылаем друзьям шалах манот – корзины с едой, устраиваем праздничные трапезы с пением и танцами и пьем столько, чтобы не отличить благословенного Мордехая от проклятого Амана. Но каким бы ни был праздник, мы ни за что не собирались отпускать наших девочек к Бат-Шеве.
– Категорически нет, – сказала Арлина Зальцман Илане. – Категорически нет.
– Ну пожалуйста, – канючила Илана. – Я совсем ненадолго.
– Прости, но мы с отцом так решили.
– Не понимаю. Ну что, по-вашему, там может случиться? Это же всего-навсего Пурим-сеуда!
Терпение было на исходе – они препирались уже полчаса, – и Арлина спросила: почему ей так важно пойти? Если уж это самая обычная сеуда, почему она так рвется именно к Бат-Шеве?
– Мне надоели наши сеуды. Вечно одно и то же. Просто сидим за столом, едим и ни о чем не разговариваем.
Неужто они так погрязли в заботах, что перестали стараться каждый праздник превращать во что-то особенное, задумалась Арлина. Неужели праздничные трапезы уже не отличались от самого обыкновенного ужина на неделе? И ее дочка уже доросла до того, чтобы подмечать такие вещи; она больше не думала, что как заведено у них в семье, так и правильно.
Арлина поцеловала Илану в лоб.
– Иди к Бат-Шеве, – сказала она, надеясь, что дочка все же будет помнить счастливые моменты их жизни и не даст плохому затмить все остальное.
Раз Арлина сдалась, Рут Бернер тоже решилась отпустить Хадассу. Дочь до сих пор была наказана после случая с марихуаной, и Рут не хотела, чтобы она стала совсем уж аутсайдером. Дорин Шейнберг, Джуди Сассберг и Рэйчел Энн Беркович тоже в конце концов согласились. Они устали от перепалок с дочерьми, устали от их надутых лиц и молчания. Они надеялись, что эта уступка даст им в руки дополнительный козырь, когда дело дойдет до более серьезных вопросов.
Приближался Пурим, и мы расстарались, как могли, чтобы Бат-Шеве не удалось испортить нам праздник. Помогали младшим с карнавальными костюмами. В прошлом году они уже побывали Царем Артаксерксом и Лягушонком Кермитом, до этого – царицей Эстер и Снупи. Теперь они хотели быть Человеком-Пауком, Дартом Вейдером, Реггеди Энн. Мы вырезали короны из картона и обклеивали их фольгой. Покупали тонны ткани для накидок супергероев, грим для белых клоунов и красную пряжу для париков. Вдобавок мы готовили шалах манот, составляли списки, кому хотим их отправить, пытались не забыть всех, кто присылал их нам в прошлом году. Мы всегда клали в шалах манот гоменташен, «Уши Амана», – треугольные печенья, напоминающие треугольную шапку Амана. Но у каждой имелся свой рецепт. Все дело в начинке. Мы клали сливу и мак, абрикосовый джем и шоколадную крошку. Рена Рейнхард придумала даже смешивать арахисовое масло с джемом, и нашим детям это очень понравилось.
Мы до дыр зачитывали поваренные книги, пытаясь найти, что бы еще такого положить в наши посылки. С каждым годом наши шалах манот становились всё затейливее, можно было только гадать, что же там окажется в следующий раз. Самую необычную шалах манот собрала несколько лет назад Бесси Киммель. В каждую коробку она положила по два настоящих нью-йоркских бейгла (их экспресс-почтой прислала невестка Двора), упаковку мягкого сыра и пакетики с копченым лососем. С этим могла посоперничать только Рут Бернер: в прошлом году Пурим выпал на пятницу, и она отправила всем домашнюю халу, кугель из лапши со шпинатом и морковный торт.
Еще предстояло озаботиться упаковкой – уже никто не рассылал шалах манот в обычных крафтовых пакетах. Мы использовали разноцветную пленку, узорчатые бумажные тарелки, самодельно украшенные пакеты и плетеные корзины. Миссис Леви накупила пасхальных корзин (убрав, само собой, наклейки с зайцами) и устлала их пасхальной травой, довольная тем, что два праздника приходились примерно на одно время. Ципора Ньюбергер начала заранее собирать зеленые пластиковые коробки из-под помидоров черри. Рэйчел Энн Беркович слоями выкладывала в стеклянные банки разноцветные конфеты, и у нее получились такие красивые шалах манот, даже жаль было их есть.
Накануне Пурима мы отправились в синагогу, чтобы настроиться на правильный лад. За день до этого был пост в память о страшной опасности, нависшей над евреями в Персии, и нас поразила столь резкая перемена – от печали и покаяния к неистовству и свободе. Мы старались расслабиться, отодвинуть тревоги подальше и вдохнуть радости этого единственного в году дня, когда нам заповедано быть беззаботными, когда все должно быть не таким, как обычно. Подобно тому как указ Амана об истреблении евреев обратился против него самого и он был повешен на той же виселице, которую готовил для Мордехая, мы отмечаем день, когда все встает с ног на голову.
Синагога была украшена в том же духе. На передних рядах, где обычно молились члены правления, кто-то рассадил мягкие игрушки в масках героев мультфильмов. От нер тамид разбегались бумажные гирлянды, а бима была покрыта красной скатертью в белый горошек. Даже раввин переоделся в гавайскую рубашку. Миссис Леви пришла в усыпанных стразами темных очках и подбила Хелен Шайовиц завязать волосы желтой лентой. Ципора Ньюбергер принесла с собой широкополую шляпу всех цветов радуги, чтобы, если хватит духу, надеть ее потом поверх парика. Из всех взрослых одна лишь Бат-Шева пришла в настоящем карнавальном костюме, и это неудивительно. Она оделась царицей Эстер, героиней пуримской истории. Волосы под короной из золотой бумаги она затейливо уложила в косы, а сама облачилась в длинное пурпурное платье, расшитое бисером и пайетками. На шее была повязана сверкающая серебром ткань, эффектно развевавшаяся при ходьбе.
И все же мы старались не думать о Бат-Шеве, а слушать, как читают Свиток Эстер. Артаксеркс, царь Персии, устроил пир в столице Шушан и приказал своей жене Вашти выйти к ним. Она отказалась, и захмелевший царь велел казнить ее. На следующий день он проснулся, преисполнясь сожалений о содеянном. Его визирь Аман посоветовал созвать девушек со всей страны и выбрать среди них новую царицу. И в конце концов Артаксеркс выбрал Эстер, не зная, что она еврейка. Когда позднее Мордехай, дядя Эстер, не склонился перед Аманом, тот в гневе решил истребить всех евреев Персии. Узнав об этом указе, Эстер явилась пред очи царя, открыла ему, что она еврейка, и просила за свой народ. Царь послушал ее, повесил Амана и назначил визирем Мордехая. Евреи Персии отомстили своим врагам, и все были веселы и счастливы.
Однако в этом году в Мемфисе мы увидели Шушан наших дней. Страшный указ был издан против нас, и только в нашей власти было его отменить. Как бы Бат-Шева ни воображала, что спасает наших дочерей, мы-то знали, что на самом деле мы и есть Эстер нашей истории, добродетельные и прекрасные, пытающиеся спасти общину, ради которой мы столько трудились. Всякий раз, как произносилось имя Амана, синагогу по традиции заполняли крики недовольства, шипение, шум трещоток, топот ног, даже звуки трубы. Так мы старались стереть память об Амане, показать, что можем одолеть любого врага, который задумает погубить нас, и теперь к этому примешивалась надежда, что нам удастся справиться со всеми невзгодами, выпавшими на нашу долю.
На следующее утро миссис Леви занесла свою шалах манот Наоми Айзенберг и поинтересовалась, как Наоми относится к тому, что ее дочь вечером собирается на сеуду к Бат-Шеве.
– Целиком за, – ответила Наоми. Она спрашивала Бат-Шеву, понимает ли та, отчего люди очень недовольны, что их дочери идут к ней. Бат-Шева покачала головой: она ничего не может с этим поделать. Девочки уже месяц жаловались, что раввины приглашают мальчиков на сеуду в Пурим и разрешают им пить сколько влезет, а девочкам вечно некуда пойти. Бат-Шева пообещала позвать их к себе и не может нарушить слово. Она понимает, что кто-то этому не рад, но она должна делать то, что считает правильным. Когда все наконец увидят, как много она делает для девочек, то, может быть, изменят свое мнение.
Наоми пересказала все это миссис Леви, и миссис Леви нисколько не удивилась. Она давно заметила, что Бат-Шева пытается вести себя как ни в чем не бывало, как будто можно продолжать в том же духе, не обращая внимания на общее недовольство. Но долго это не продлится, порешила миссис Леви. Рано или поздно мы положим конец ее штучкам. Миссис Леви всучила Наоми гостинцы и стремительно двинулась вниз по улице.
Арлина Зальцман пристроила свои шалах манот на заднем сиденье машины, и желтые пакеты съезжали на пол всякий раз, как она притормаживала. Сын Дэвид оставлял их у дверей, но она взяла машину, потому что пакетов было много и в руках всё не дотащить. Бекки Фельдман разносила свои подарки сама – Шира лишь презрительно расхохоталась, когда Бекки позвала ее с собой, – и как раз поравнялась с машиной Арлины.
– Какие планы на сеуду? – крикнула Бекки в приоткрытое окошко.
– Идем к моим родителям, – ответила Арлина. – Но без детей. Дэвид будет у Фишманов, а Илана собирается к Бат-Шеве.
– Шира тоже, – сказала Бекки. – И я совсем не рада. Но она такая мрачная последнее время, я побоялась запрещать, а то она совсем взбеленится.
Покончив с доставкой и вернувшись по домам, мы обнаружили у себя на ступеньках маленькие пакетики с гостинцами, на которых значились имена наших дочерей, а не всех семей, как мы привыкли. Девочки открыли карточки, но там не было никаких пожеланий, никакого «Счастливого Пурима!». Просто маленькая буква Б внизу, выписанная на манер бабочки. От того, что нас вот так вынесли за скобки, мы только острее почувствовали, что праздник получился не такой, как обычно. Как будто это наши дочери были взрослыми, со своими собственными друзьями, а мы – малыми детьми, которых еще рано звать в компанию.
Празднование шло полным ходом, и карнавальный дух наполнил нашу общину. Наш традиционно спокойный квартал будто раскрасили безумными, даже кричащими цветами, более сочными оттенками, более смелыми мазками. На лужайках здесь и там валялись конфетные фантики, завитки ленточек от шалах манот, обрывки ярко-розовой и оранжевой оберточной бумаги. Наши мужья раньше вернулись с работы и уже выпивали со своими друзьями – эта пуримская мицва неизменно соблюдалась со всей добросовестностью. Мы с трудом узнавали наших детей: мальчики переоделись в девочек, девочки – в мальчиков. Все в разноцветных париках и диких масках. Клоунский грим размазался, и аккуратно раскрашенные лица превратились в мешанину бело-красно-желто-синих разводов.
Когда пришел час сеуды, наши девочки заканчивали одеваться к Бат-Шеве. Она умудрилась уговорить их на карнавальные костюмы, хотя они еще с начала старшей школы забросили это дело. В день, когда можно вытворять все, что заблагорассудится, они вырядились панками с высокими начесами зеленого цвета в блестках. Они надели кожаные куртки и платья вырви-глаз и увешались гирляндами серебряных ожерелий. Они превратились в рок-звезд с густыми тенями на веках и алой помадой на губах. И мы ничего не могли возразить. Это был день, когда ни в чем не должно быть смысла.
Рэйчел Энн Беркович, чья Авива оделась хиппи, решила проводить ее до Бат-Шевы и посмотреть, кто во что нарядился. Чтобы не отставать, она тоже приоделась. На ней была ковбойская шляпа, которую иногда смеха ради носил муж, длинная джинсовая юбка, джинсовая рубашка и красно-белый клетчатый шарф.
Рэйчел Энн и Авива постучались, им открыла Бат-Шева в своем вчерашнем костюме царицы Эстер. Она обняла Авиву, но, увидев Рэйчел Энн, смущенно отстранилась.
– Не волнуйся, я не собираюсь задерживаться. Я знаю, что ты не имела в виду нас, стариков. Просто хотела полюбоваться на девочек, – сказала Рэйчел Энн.
Они вошли, и Рэйчел Энн осмотрелась вокруг. Бат-Шева преобразила весь дом. В столовой на покрытом серебряной бумажной скатертью столе сияла серебряная одноразовая посуда. Сверху было рассыпано конфетти, а каждый стаканчик и бокал украшен закрученными в спиральки ленточками. Это был стол, сервированный для настоящего пира, не уступающего торжествам Артаксеркса в Персии. Но больше Рэйчел Энн рассмотреть не удалось. Бат-Шева была очень приветлива, но вечеринка явно предназначалась для молодых. Даже в праздничном наряде Рэйчел Энн чувствовала себя не в своей тарелке. Она поцеловала на прощание дочь и отправилась домой, чтобы успеть все доделать к семейной сеуде.
Когда все девочки собрались, в доме у Бат-Шевы закипела жизнь. Не пришла только Шира Фельдман – ее несколько дней не было в школе, и, когда подружки позвонили справиться о ней, Бекки сказала, что Шира захворала. Но ее отсутствие было быстро забыто. Девочки знали о том, что происходит у нас с Бат-Шевой – мы от них ничего не скрывали, – и вечер у Бат-Шевы был их личной победой, подтверждением того, что они могут получить то, чего хотят. Наконец настал их черед: сколько лет они выслушивали рассказы мальчиков, как отлично те отрывались на сеудах у раввина, а теперь вот и у них будет собственная сеуда.
Началось все почти как у всех нас: Бат-Шева даже удосужилась приготовить нормальный ужин и явно очень гордилась собой, когда подавала его на стол. Она сделала морковный суп, и картофельный кугель, и пирожки с овощами. Единственными необычными блюдами были тофу с водкой и покрашенный зеленым красителем салат с пастой, который она со смехом выставила на стол, чтобы девочки еще пуще прониклись духом дня-перевертыша.
После ужина Бат-Шева запела пуримские песни, и девочки тоже подхватили, энергия била из них ключом. Потом Бат-Шева поднялась, чтобы пуститься в пляс. Она обернула накидку вокруг рук, и теперь серебристая ткань мерцала всякий раз, как она взмахивала ими. Она схватила Аялу и усадила себе на плечи. Девочки тоже повскакивали, каблуки громко стучали, голоса срывались. Посреди всего этого буйства кто-то включил рок-станцию на радио. Они уже праздновали не освобождение Богом евреев. Нет, они отплясывали под рок, празднуя бог знает что. Шира прибыла в самый разгар вечеринки, но едва ли перемолвилась с кем-то парой слов и даже не присоединилась к танцам девочек, которые выделывали такое, что мы и вообразить не могли: трясли бедрами, вихляли задом. Девочки плясали, пока у них в глазах не потемнело и все вокруг не превратилось в стремительное, едва различимое нечто. В полном изнеможении, с гудящими головами они рухнули на диван и на пол, переводя дух.
Мальчики не были приглашены к Бат-Шеве, во всяком случае, никто из девочек не признавался, что позвал их, но, когда танцы закончились, мальчики оказались во дворе перед домом. Девочки, заметив их, высыпали на улицу. Вскоре вечеринка переместилась на лужайку. Наши дети болтались по двору, сидели на крыльце, там и сям мелькали принесенные мальчиками бутылки пива. Девочки были так рады мальчикам, что Бат-Шева разрешила им продолжить отмечать в доме. Если они собираются гулять вместе на улице, значит, могут точно так же быть и внутри, добавила она с нервным смешком. Когда они гурьбой ввалились в дом, Бат-Шева выглядела растерянной: ее жилище было битком набито разгоряченными легкомысленными старшеклассниками. Но она явно не собиралась портить им праздник и всячески старалась шутить и смеяться вместе со всеми и смотреть сквозь пальцы на то, как они все развалились на диване и полу.
Было много версий того, что же случилось дальше. История, которой мы очень хотели верить, исходила от самых отпетых девочек, что само по себе не слишком успокаивало. К тому же в ней было слишком много явных нестыковок и противоречий. Они утверждали, что ничего не произошло. Да, мальчики пришли, да, они пили, да, было поздно, но ничего запредельного не случилось. Но более благонадежные девочки признались, что мальчики достали еще пива и передавали его по кругу. Девочки выпивали и пьянели. Один из мальчиков так набрался, что не мог отличить дня от ночи и принялся танцевать под все еще орущую музыку. Одна из девочек присоединилась к нему, и скоро уже целая смешанная компания мальчиков и девочек отплясывала посреди гостиной Бат-Шевы[14].
А мы тем временем сидели дома и недоумевали, куда запропастились наши дети. Наши мужья, напившись на своем Пуриме, отрубились, и мы были вынуждены справляться сами. Мы поглядывали из окон. В доме Бат-Шевы явно было больше народу, чем восемнадцать старшеклассниц, которые туда отправились. Но мы не были уверены и потому продолжали ждать, надеясь, что они вот-вот появятся. Мы дергались на каждый скрип, думая, что это наконец-то они, и каждый раз напрасно. Когда миновала полночь, а их все не было, Арлина Зальцман и Бекки Фельдман решили, что пора самим идти к Бат-Шеве. В округе все затихло, и все же Арлине и Бекки было не по себе выходить на улицу в такой поздний час. Лампы над входными дверями горели жутковатым желтым светом, и они опасались, что карнавальный персонаж набросится на них из-за дерева или кто-то в подпитии погонится за ними по улицам.
Когда Арлина с Бекки дошли до Бат-Шевы, веселье слегка угомонилось. Несколько мальчиков как будто потихоньку прокралось мимо, но так или иначе, когда Бат-Шева, на вид очень уставшая, открыла дверь, в доме были только девочки. Они лежали на диване, сидели на полу и увлеченно беседовали. По комнате было понятно, что здесь была безумная вечеринка. Журнальный столик задвинут в угол, подушки валяются на ковре. Конфетти, украшавшее скатерть, теперь оказалось на диване и в волосах у девочек. Тарелки разбросаны по всей комнате, а пустых стаканчиков куда больше, чем присутствующих девочек.
– Что здесь происходит? – воскликнула Бекки. – Вы вообще знаете, который час?
– Не знаю, дамы, кем вы себя возомнили, – сказала Арлина. – Но здесь вам не игры без правил.
Бекки и Арлина огляделись. Они ждали каких-то оправданий, что, мол, девочки потеряли счет времени, что как раз собирались уходить, что уже одевались, чтобы отправиться домой, но нет. Лишь жуткая вязкая тишина. И тут Бекки встрепенулась.
– А где Шира? – вскрикнула она.
Резкий нервный тон вырвал девочек из полузабытья, безумие прошедшего дня рассеивалось. Они заморгали, как будто только что пробудились, и осмотрелись вокруг.
– Она, скорее всего, пошла домой, – сказала Бат-Шева. – Я ее уже какое-то время не видела.
– Нет ее дома! Она наверняка все еще здесь, – настаивала Бекки.
В другое время Бекки, может быть, не так беспокоилась бы. Уже не раз случалось, что Шира говорила про одно место, а оказывалась в другом. Но их отношения в последние две недели были хуже некуда. Хотя Бекки и запретила дочери подавать документы куда-либо, кроме Стерна, Шира не послушалась. На неделе пришел первый положительный ответ – из Брауна (кто вообще знает про такую школу? Какая хорошая еврейская девочка станет там учиться?), и Шира была на седьмом небе от счастья. Но Бекки уже порядочно наслушалась о религиозных еврейских детях, которых в колледже заставляли читать Новый Завет и светских философов. А дальше пошло-поехало: они уже едят в некошерной столовой, поначалу просто салат, а потом и пиццу, а вскоре уже ходят на вечеринки по пятницам и на футбол в субботу днем и живут в смешанных общежитиях с общими ванными. К концу семестра религия выброшена в окошко. Бекки не допустит, чтобы это произошло с ее дочерью. Она в клочья изорвала письмо о приеме и заставила Ширу написать ответ, что она не сможет посещать занятия.
С тех пор Шира с ней не разговаривала. Она отказалась ходить в школу, не помогала готовить шалах манот и пропустила чтение Свитка Эстер. Целыми днями она валялась в кровати и смотрела телевизор. Как трудно ни было с Широй раньше, Бекки видела: что-то серьезно и, быть может, необратимо переменилось.
– Пожалуйста, скажите, где моя дочь, – умоляющим голосом произнесла Бекки.
Бат-Шева глянула на девочек, но и они, похоже, ничего не знали. Все по-прежнему молчали, и Бат-Шева повернулась к Илане. Они с Широй были лучшими подружками, и кому как не ей знать, где та прячется. Все воззрились на Илану, и она расплакалась.
– Я не знала, что предпринять. Она уже все решила. Я никак не могла уговорить ее остаться, – причитала она.
– Ты о чем? – не поняла Бат-Шева.
– Илана, если ты чего-то недоговариваешь, тебя ждут большие неприятности, – пригрозила мать.
Срывающимся голосом Илана рассказала, что произошло. Шира появилась на вечеринке позже всех и без костюма. Просто в серебряной маске в виде звезды. Она старалась вести себя, будто ей тоже весело, но Илана почувствовала: что-то не так. Когда Шира сняла маску, глаза у нее были красные и опухшие.
– Пойдем выйдем, – шепнула Шира. – Надо поговорить.
Встревожившись, Илана последовала за ней на улицу.
– Шира, что происходит? – спросила она.
– Я уезжаю, – сказала Шира. – Мы с Мэттом сваливаем отсюда.
Мэтт был нееврейским молодым человеком Ширы, его Ципора видела тогда в «Макдональдсе». Они познакомились в торговом центре и с тех пор тайно встречались. Мэтту был двадцать один год, и, по словам Ширы, они любили друг друга. Илана не знала, куда они отправились, только то, что они хотели быть вместе и это был единственный выход. Хотя Илана знала про Мэтта, она бы в жизни не подумала, что Шира выкинет что-то подобное. Они часами ныли друг дружке про школу, про родителей, про общину, и все же у Иланы не было идеи бежать от всего этого. Как бы ни было ей здесь душно, другой жизни она не знала.
– Ты уверена? Может, все-таки потерпишь еще хоть немножко? – взмолилась Илана. Она страшно перепугалась за подругу и надеялась, что ее еще можно остановить.
– Я больше не могу. Если сейчас не свалю, никогда отсюда не выберусь. Мэтт вот-вот заедет за мной. Вещи уже у него в машине.
Илана заплакала и, когда появился Мэтт, обняла Ширу на прощанье. Тут всегда непробиваемая Шира не сдержалась и, сев в машину, тоже расплакалась. Пока Мэтт выезжал с дорожки, она, обернувшись, махала Илане, которая провожала их взглядом до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом.
– Простите, – сказала Илана матери, Бекки и всем девочкам, не сводившим с нее глаз. Бат-Шева была потрясена не меньше других. Она побелела и явно не верила своим ушам. – Но я же не знала, что делать. Она сказала, что должна отсюда выбраться.
– В каком смысле? – в голосе Бекки зазвенели истерические нотки. – В каком смысле – уехала? И ты ее отпустила? Стояла тут – и отпустила?
Илана расплакалась еще горше, и гнев Бекки обрушился на Бат-Шеву.
– Как ты могла это допустить? Да что с тобой вообще? Ты этого для нас хотела?
Бат-Шева молчала, она словно оцепенела, и это только пуще разозлило Бекки. Она схватила Бат-Шеву за плечи и хотела хорошенько тряхануть ее, как будто эта непонятная женщина была каким-то призраком, тайно прокравшимся в ночи и похитившим ее дочь. И если крепко ее потрясти, еще сильнее и еще – может, получится отогнать этот непостижимый ужас и вернуть все назад. Но вместо этого Бекки отпустила Бат-Шеву и в изнеможении осела на пол.
На следующее утро мы проснулись и протерли глаза. Нам казалось, будто мы стали участниками какого-то кошмара и теперь, даже выйдя из дремотного забытья, не могли понять, что было взаправду, а что нет. Мы все ждали, что вот-вот услышим хорошие новости: Шира передумала и вернулась домой, ее бегство было просто частью праздничного безумия, минутным затмением, плодом нашего воображения.
Но этого не случилось. До нас постепенно доходило, что бегство Ширы не выдумка; и мы делали то, что всегда делаем в тяжелые времена: мы носили супы и жаркое к Фельдманам. Мы сидели с Бекки, вглядываясь в ее красные глаза и измученное лицо, и пытались подобрать хоть какие-то слова. Хелен Шайовиц болтала о том, что заметно потеплело и весна не за горами. Рена Рейнхард пробовала завести разговор о Песахе – как много всего нужно успеть подготовить. Но любая тема наталкивалась на глухое молчание. Впервые в жизни мы притихли. Мы совсем не находили нужных слов.
Фельдманы обратились в полицию, но, поскольку Шире исполнилось восемнадцать и она уехала по своей воле, там ничего не могли сделать. Бекки стала каждый вечер названивать Илане – узнавать, не звонила или не писала ли ей Шира. Но никто ничего о ней не слышал; она просто-напросто исчезла. Мы вспоминали истории про бегства, о которых читали, про то, как люди живут на улицах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, кормятся едой из помоек, побираются, творят вещи, о которых мы боялись говорить вслух. Мы слышали о таких случаях, но и помыслить не могли, что это коснется нас самих. И мы волновались за наших детей. Мы жили с ощущением, что они вот-вот тихонько ускользнут от нас; оказалось, что в сетке безопасности, натянутой под нами, зияют такие дыры, что дети с легкостью могут в них провалиться.
Мы пытались поговорить с нашими дочерьми. Мы присаживались на край кровати и спрашивали, что их тревожит. Мы хотели, чтобы они излили нам душу, признались, что совсем запутались и им нужны наша помощь и опыт, чтобы пережить непростой подростковый период. Мы хотели взять их на ручки и обхватить крепко-крепко, как в детстве. Но они отвечали, что не в настроении разговаривать. Макияж и модная одежда не могли обмануть нас – мы видели, что в них нет ни капли от искушенных взрослых, за которых они пытаются себя выдать. Мы целовали их в макушку и выходили из их комнат, отчаянно желая найти способ пробиться сквозь эту броню.
На той же неделе в продуктовом Хелен Шайовиц долго возилась у кассы. Она сдирала ценники с упаковок с хлопьями, отколупывала уголки этикеток. История с Широй совсем выбила ее из колеи.
– Кто бы мог подумать, что такое может случиться? – пробормотала она и тяжело вздохнула.
Рэйчел Энн Беркович стояла в очереди позади нее.
– Когда я отвела Авиву к Бат-Шеве, сразу поняла: что-то не так. Бат-Шева расстаралась и явно не хотела, чтобы я заходила, как будто я испорчу им все веселье.
В химчистке Наоми Айзенберг столкнулась с Рут Бернер, обе пришли сдать детские карнавальные костюмы, перепачканные после Пурима маком и шоколадом.
– Какой Пурим вышел, а? – заметила Рут.
– Я говорила утром с Бат-Шевой, она сама не своя, – ответила Наоми.
– Но Бат-Шева наверняка знала, что Шира что-то замышляет. Они ведь так сблизились.
– Она мне поклялась, что ни сном ни духом. Сказала, что была поражена не меньше нас. По-моему, ей даже тяжелее, чем нам. Она сегодня едва ходит, так ей плохо от всей этой истории.
– Но даже если ее прямой вины нет, уверена, что тут не обошлось без некоторого влияния на Ширу. Девочки без ума от Бат-Шевы, прикажи она – они бы и с крыши спрыгнули. И был период, когда она отходила от религии. Почему же и девочкам тогда не попробовать?
Спустя пару часов похожий разговор состоялся между Реной Рейнхард и Ципорой Ньюбергер.
– Я совсем не люблю это «я же тебе говорила», и тем не менее, – начала Ципора.
– Если ты была так уверена, что может произойти нечто подобное, почему ничего не предприняла? – поинтересовалась Рена.
– Я пыталась, но меня никто не слушал. Все считали, что я просто предвзята, но, видишь, в конце концов я оказалась права.
Толику удовлетворения от собственной правоты Ципора все же испытала, но в большей степени она чувствовала себя виноватой. Она не спала всю ночь, переживая, что не сделала всего, что могла, особенно после того как заметила Ширу в «Макдональдсе». Может, надо было взять да войти и заставить Ширу отправиться вместе домой.
Когда Леанна услышала про бегство Ширы, ей первым делом вспомнился их разговор с Бат-Шевой в «Шик перекусе». Значит, это есть цена свободы? – думала она. Она посмотрела на свою дочку Дину, которая читала книжку. Она была таким хорошим ребенком, послушным, милым и прилежным. Может, Бат-Шева права: чем больше ограничений, тем больше сопротивления. Ширу особенно донимали правилами, может, поэтому она и сбежала. Если же давать детям полную свободу, никогда не угадаешь, чем это закончится. Конечно, есть некая золотая середина, но как ее найти?
Миссис Леви пыталась отвлечься на домашние заботы. Она старалась уйти с головой в готовку, надеясь, что мерное жужжание миксера подействует умиротворяюще. Но все казалось таким пустым и бессмысленным. Что толку в домашних халах и яблочных пирогах, если не осталось детей, которые их съедят? Она пыталась спасти общину, но явно не преуспела. В ужасе от того, что, быть может, даже ей не по плечу эта битва, миссис Леви выключила миксер, отложила кулинарную лопатку, опустилась в кресло и принялась молиться. Она просила Всевышнего спасти общину, которую строила всю свою жизнь. После всего случившегося она чуть ли не кожей чувствовала, что наша община погружается на самое дно Миссисипи. То же, наверное, испытывали евреи, когда уничтожался Храм. Подобно мученикам, оплакивавшим объятый пламенем родной город, миссис Леви вдруг поняла, что готова жизнь положить на то, чтобы сохранить этот Южный Иерусалим.
Когда девочки вернулись в школу после праздника, там царила полная неразбериха. Большую часть времени они толклись в коридоре, вновь и вновь обсуждая, до чего невероятно это бегство Ширы. Учителя не понимали, что делать. Девочки были так подавлены, что ни у кого не хватало духу заставлять их штудировать математику или Хумаш.
Йохевед Абрахам сообразила, что пришел ее час, и решила вмешаться и проявить себя настоящим лидером. Девочки были по-прежнему страшно злы на нее из-за истории с марихуаной, когда она сдала Хадассу с Иланой, но теперь, когда над Бат-Шевой сгустились тучи, Йохевед могла реабилитироваться – могла стать их конфиденткой, новой крутой, молодой учительницей. Йохевед поговорила с директором, и он, пребывая в полной растерянности, разрешил ей поступать так, как она сочтет нужным.
Перво-наперво Йохевед переделала расписание уроков так, чтобы у девочек ближайшие несколько недель не было художественного класса.
Это объяснили тем, что девочки слишком загружены, чтобы еще и рисовать, и это отчасти было правдой. Им предстояло подготовить ужин с гамбургерами и хот-догами на вечер перед Песахом, когда наши кухни уже были кошерны для праздника и нельзя было иметь дома хамец[15]. Теперь они могли хорошенько обдумать меню, закупить продукты и следить за заказами столов, которые как раз посыпались один за другим. Но истинной причиной было то, что мы не могли позволить Бат-Шеве и дальше влиять на девочек. Любые достижения Йохевед были бы перебиты общением с ней.
Затем Йохевед собиралась придумать, как бы ей вызвать девочек на откровенность. Она вспомнила один фильм про подростка, совершившего самоубийство. Там директор школы на следующий день устроил собрание, чтобы все ученики могли поделиться своими сомнениями и тревогами. Йохевед представляла, как девочки откроются ей. Они изольют ей душу, пожалуются на то, как сошли с пути истинного; конечно, не обойдется без слез. Не в силах справиться с болью, девочки обратятся к ней за советом. Йохевед обнимет их, утешит, поможет подавить дурные наклонности, которым последнее время дали такую волю.
А когда это все произойдет, Йохевед сможет расспросить их о Шире и этом ее ужасном молодом человеке. Девочки будут так благодарны ей, что без утайки расскажут обо всем. И тогда Йохевед встретится с родителями и сообщит им все, что узнала. Ее не только полюбят девочки, она вдобавок станет героиней у женщин. И, может, тогда они наконец перестанут видеть в ней бедняжку Йохевед Абрахам, без пяти минут старую деву. Может, перестанут сводить ее с каждым подвернувшимся под руку мужчиной и хорошенько задумаются над качеством, а не количеством.
Все девочки были собраны в классе, парты расставлены в кружок, и Йохевед ждала, что сейчас-то они и начнут делиться самым сокровенным. Она принесла магнитофон с ненавязчивой еврейской музыкой, чтобы создать подходящее настроение. Про музыку она подумала, потому что это было очень в духе Бат-Шевы, и Йохевед смекнула, что правильнее будет заимствовать все, что только возможно. Но и с музыкой никто не спешил начать, и Йохевед сообразила, что именно ей как учителю и претенденту на роль конфидентки придется быть первой.
– То, что случилось с нашей общиной, не поддается описанию, – драматически произнесла она. – То, что содеяла Шира, затрагивает каждую из нас, и нам теперь надо справляться с последствиями ее поступка. Мы должны постараться извлечь уроки из этой ситуации, должны наконец осознать реальную опасность влияний извне. Мы должны признать, что нельзя доверять себе, когда речь идет о дурных наклонностях, которые таятся в каждой из нас, – сказала она, стараясь закончить поэффектнее.
Девочки молча глядели на нее.
– Какое вам дело до того, что Шира сбежала? Она же не была вашей подругой, – заметила Илана.
– Это ведь мы по ней скучаем, – добавила Ариэлла Сассберг.
Все разом заговорили о Шире, о том, что не представляют школы без нее. Они привыкли к ее чувству юмора, ее саркастичному отношению ко всему. Илана рассказывала, как они с Широй допоздна болтали по телефону, воображая, как у них все сложится в следующем году, когда они наконец уедут из Мемфиса. Ариэлла говорила: она не сомневалась, что Шира поступит во все колледжи, куда подавала документы, ведь она такая умная, она могла прочесть что-то очень замороченное и с ходу все понять. Девочки как будто даже и не замечали присутствия Йохевед. Они ни разу не спросили ее мнения или совета, как встать на путь исправления.
Пытаясь овладеть ситуацией, Йохевед громче включила музыку и потребовала, чтобы девочки рассказали ей все, что знают про Ширу и этого юношу. Но они лишь повторили то, что уже говорили своим матерям. Они знали, что Шира встречается с кем-то старше себя и не евреем. Они познакомились полгода назад, и он стал звонить ей, бросая трубку, если вдруг отвечала Бекки. Шира делала вид, что идет гулять с остальными девочками, и он ждал ее у боулинга или у кинотеатра, и дальше они уже уходили вместе. Иногда Мэтт гулял с ними, и девочки видели, как менялась при нем Шира. От ее вечного мрачного уныния не оставалось и следа, она делалась живой и игривой. Они помнили, Шира как-то сказала, что они с Мэттом мечтают уехать вдвоем, просто катить куда-нибудь без планов и целей, лишь бы не туда, где ей положено быть. Девочки молчали, потому что не хотели предавать Ширу. Несколько раз они порывались поделиться с кем-нибудь, может, с Бат-Шевой, но боялись, что навредят Шире.
Йохевед пристально посмотрела на них.
– Девочки, если вы знаете, где Шира, и не говорите нам, вы совершаете большой грех.
Аргумент не слишком-то подействовал. Девочки утверждали, что не знают. Говорили, что не верили, будто Шира и вправду уедет; не думали, что у нее хватит смелости это устроить. В их рассказах Йохевед уловила нотки удивления. Вместе с беспокойством в них звучала и некоторая зависть. Когда музыка доиграла до конца, а девочки так и не сообщили ничего полезного, Йохевед распустила собрание. Девочки выходили из класса несчастнее прежнего.
Хотя Бат-Шева больше не преподавала у старшеклассниц, у нее оставались занятия в начальной школе. К нашему величайшему возмущению, большинство девочек так и продолжало забегать к ней в класс, чтобы поговорить. Только немногих удалось убедить держаться от нее подальше. Бат-Шева чаще всего общалась с Иланой. Они делились своими тревогами за Ширу, надеждами, что она во всем разберется и возвратится домой. Илана сказала, что Шира ей так и не звонила, но обещала дать знать Бат-Шеве, если та вдруг проявится.
Бат-Шева еще позвонила Фельдманам и попыталась поговорить с Бекки. Но, услышав голос на том конце провода, Бекки бросила трубку. На каждый звонок она молилась, чтобы это была Шира, и всякий раз все внутри обрывалось от разочарования. Довольно того, что звонила не Шира, а уж Бат-Шева была последним человеком, которого хотела слышать Бекки.
На следующий день Бат-Шева постучалась к Фельдманам. Бекки слегка приоткрыла дверь и выглянула в щелку.
– Бекки, – сказала Бат-Шева, – я знаю, что для тебя это страшный сон, но нам нужно поговорить.
Бекки стала закрывать дверь. Неважно, как Бат-Шева собиралась оправдываться, Бекки знала, кто всему виной. Она видела, как Ширу восхищал вольный нрав Бат-Шевы, как она жаждала начать новую жизнь подобно ей. Даже если бы Бат-Шева не откровенничала с девочками, не приоткрыла им дверь в другой мир, самого ее присутствия в Мемфисе уже было бы достаточно.
Бат-Шева вставила руку.
– Я хочу, чтобы вы знали, что я делаю все возможное, – сказала она. – Я говорила с Иланой и надеюсь, она мне доверится и расскажет, если что-то станет известно. И я думаю, Шира обязательно в какой-то момент позвонит или ей, или мне.
Бекки и слышать не желала о попытках Бат-Шевы разыскать Ширу.
– Если бы не ты, Шира попросту была бы здесь, вот и все, – отрезала она.
– Я даже не подозревала, что она задумала. На вечеринке было столько народу, и я старалась уследить за тем, кто где и чем занят. Я не ожидала, что появятся мальчики, но девочки так хотели, чтобы они зашли, что я согласилась. Не думала, что это такая уж проблема. Может, не стоило позволять, но это не имеет ни малейшего отношения к бегству Ширы. Я спросила, как она, но она не желала разговаривать. Они с Иланой все время держались вместе, а потом Шира сообщила, что уходит, что ей велели рано быть дома. Я видела, что она чем-то расстроена, но она ни словом не намекнула, что думает о бегстве.
Бекки побагровела. Ярость клокотала у нее в горле.
– А с чего, по-твоему, она решилась на это?
– Не знаю. Но я точно знаю, что она чувствовала себя здесь, как в клетке. Я не говорю, что это как-то оправдывает ее поступок, но меня очень тревожило, что она была такой несчастной. Мне безумно жаль, что я не смогла помочь ей. Ужасно, что я не сделала большего.
– Помочь ей? Сделать больше? – взвизгнула Бекки. – Тебе, похоже, виднее, как растить детей? Ты бы что, хотела, чтобы она тоже пустилась во все тяжкие, как ты? Ты понятия не имеешь, как это тяжело. И к религии относишься не как мы. Ты ведешь себя так, будто можно побыть и уйти, если вздумается. А мы тут живем всю жизнь и не позволим, чтобы кто-то учил наших дочерей, что можно вот так запросто отказаться от всего, над чем мы так много трудились ради них!
Бат-Шева молчала, опустив глаза. Она уже и сама не знала, что сказать. Раньше ей казалось, она понимает, что нужно девочкам, но после бегства Ширы ей тоже пришлось усомниться в собственной правоте.
Бекки захлопнула дверь и снова забралась в постель, из которой не вылезала всю неделю. Она еще пока не до конца осознала случившееся. Все чувства притупились. Она раз за разом прокручивала в голове тот момент, когда сообразила, что произошло, ту самую секунду, когда поняла, что Шира сбежала. Она проигрывала самые разные сценарии, как можно было это предотвратить: если бы она только не отпустила Ширу на вечеринку, если бы только Бат-Шева не переехала сюда, если бы она и вовсе не приняла иудаизм.
С самого начала Бекки пыталась не допустить подобных ситуаций. Она чуяла, что назревает что-то плохое; она научилась считывать знаки. Бекки не желала признаться самой себе, но она так жестко вела себя с Широй, потому что отлично знала, как заманчиво бывает такое бунтарство. Подростком она была в точности как Шира. Тайком сбегала из дома по пятницам и гуляла с нееврейской компанией, тоже ела некошерную еду. После школы, когда все вокруг были уверены, что она не станет религиозной, в последней отчаянной попытке перековать дочь родители отправили ее в нью-йоркскую семинарию. И, ко всеобщему изумлению, это сработало. Бекки начала прозревать смысл в выполнении заповедей, обнаружила, что ей хочется соблюдать кашрут и шабат. После года в семинарии никто бы и не догадался, каким неуправляемым подростком она была. Бекки надеялась уберечь Ширу от тех же ошибок: зачем позволять дочери заходить чересчур далеко, чтобы она все равно вернулась несколько лет спустя? Но Шира зашла куда дальше, чем Бекки, и теперь невозможно предсказать, найдет ли она дорогу обратно.
Если бы подобное произошло в поколении родителей, они бы сидели шиву и произнесли кадиш, как если бы Шира умерла. Раньше Бекки не понимала, как такое возможно, но теперь поняла. Шива ставила некую точку, отчасти примиряла с болью, которая на самом деле никогда не стихнет. Бекки не собиралась сидеть шиву, но все же она могла показать, что значит для нее эта потеря. Из всех траурных ритуалов самым сильным ей казался тот, когда раздирали на груди одежду, – как образ раны, оставленной на сердце. Так она и сделает, решила Бекки. Совершая свой собственный личный ритуал, она разорвала блузку под воротом, там, где никто не мог этого видеть.
К субботе мы поняли, что настал час действовать. То, что происходило между Бат-Шевой и Йосефом, уже было невыносимо, но после побега Ширы мы осознали, что не будет конца хаосу, посеянному Бат-Шевой. Когда мужья, как обычно, улеглись днем подремать, а дети играли в свои игры, мы собрались у миссис Леви, ибо задача спасения общины легла на наши плечи.
– Должен же быть какой-то выход, – сказала миссис Леви. Она не сомневалась, что, сплотившись, мы сможем покончить с мятежными настроениями.
– Не знаю, кем там себя возомнила Бат-Шева, – вставила Ципора Ньюбергер, – но, когда я увидела, как Шира ест в «Макдональдсе», то сразу поняла, что надо принимать серьезные меры.
– Беспокоиться надо о Йосефе, – заметила Эдит Шапиро. – С Широй всегда были проблемы, а вот Йосеф – особенный.
– Может, Шира вернется. И может, Бат-Шева с Йосефом просто друзья, – предположила Хелен Шайовиц.
– Хелен, у тебя же не куриные мозги, – сказала миссис Леви. – Всем очевидно, что там нечто большее.
– Не знаю, – ответила Хелен. – Это было бы так гадко.
– Жизнь бывает гадкой, – заявила миссис Леви.
На диване миссис Ганц разговаривала сама с собой и со всеми, кто оказался рядом.
– Я не понимаю. Объяснит мне кто-нибудь, что, ради всего святого, мы тут обсуждаем?
– Тс-с, дорогая, – остановила ее Джослин Шанцер. – Мы говорим о том, почему бунтуют девочки.
– Ох, – вздохнула миссис Ганц. – Бунт. Это нехорошо.
– К сожалению, вынуждена сказать, что Бат-Шева должна отсюда уехать, – сообщила миссис Леви. – С ней тут ничего не получится. Надо придумать, как передать ей наше решение.
Если уедет Бат-Шева, то и Аяла вместе с ней, и миссис Леви была невыносима мысль, что она потеряет эту малышку, к которой так привязалась. Но она знала, что брала на себя этот риск, привязываясь к чужим детям или внукам. В конечном счете она ничего не решила в их жизни: за Аялу отвечала Бат-Шева, хотя как раз миссис Леви куда лучше знала, что́ хорошо для девочки. Но она достойно примет этот удар. Это будет ее личной жертвой ради сохранения общины.
– Мы не можем заставить Бат-Шеву переехать, – воскликнула Хелен. – С чего бы ей к нам прислушиваться, если она сама этого не захочет.
– Мы и не будем заставлять. Но есть способы так что-то кому-то предложить, что человек и сам поймет: лучшего решения не найти. – Хелен начинала раздражать миссис Леви. Ведь еще недавно та соглашалась со всем, что бы ни сказала миссис Леви, и она привыкла к неизменной поддержке. Но теперь Хелен стала много себе позволять. Надо с этим разобраться, когда разрешится история с Бат-Шевой.
– Мы не можем указывать Йосефу, как ему поступать, но должен же быть способ хотя бы ограничить ее общение с девочками, – заметила Джослин. – Так мы сможем локализовать проблему.
– Я могу до посинения втолковывать что-то Илане, но она все равно сделает как захочет, – сказала Арлина Зальцман.
– И Бат-Шева все еще преподает в школе, господи помилуй. Как мы можем оградить их, если она их учительница? – вопрошала Норель Беккер.
– Но кому, как не родителям, решать, кто будет учить их детей? – недоумевала Ципора Ньюбергер.
– Вот именно, – согласилась миссис Леви. – В самую точку, Ципора.
Миссис Леви и Ципора переглянулись: они одинаково смотрели на ситуацию. Уволить Бат-Шеву, и незамедлительно – единственный выход. До конца учебного года оставался месяц-другой, и на такой короткий срок найти замену урока совсем не проблема. Девочки могли бы лишний раз поизучать Хумаш или еврейский закон или просто самостоятельно позаниматься. А на следующий год можно придумать что-нибудь полезнее художеств. Миссис Леви представила себе пустой заколоченный класс рисования. Дурное влияние Бат-Шевы не распространится на всю школу. Ципора Ньюбергер воображала аварийную бригаду, которая летом изничтожит все следы пребывания Бат-Шевы. И потом комнату переделают для занятий по домашнему хозяйству, с новехонькой плитой, встроенной микроволновкой, сверкающей посудой, парой ультрасовременных швейных машинок, с поваренными книгами и интерьерными журналами на полках, где когда-то хранились краска и уголь.
Миссис Леви и Ципора повернулись к Рене Рейнхард. Она была президентом Женской группы помощи, и пора уже ей проявить себя в столь важный момент – для этого ее и выбирали. Если Группа откажется спонсировать художественную программу, у Бат-Шевы нет шансов остаться в школе.
– Что вы на меня смотрите? – Рена почти не следила за обсуждением. У нее было полно своих проблем и ни малейших сил вникать во что-то еще.
– Может, у Женской группы есть другие приоритеты помимо искусства, – подсказала миссис Леви. – Если ты понимаешь, о чем я.
– Не знаю. Не уверена, что хочу в этом участвовать.
Рена опустила то, что ей нравилась Бат-Шева, даже после всего, что приключилось. Она по-прежнему не общалась с ней так, как раньше, но все же чувствовала себя в долгу после того, как Бат-Шева поддерживала ее весь этот жуткий год. И потом, она сомневалась, так ли уж виновата Бат-Шева в бунтарских настроениях девочек. Если Рена чему и научилась в истории с мужем, так это тому, что все проблемы мира за пределами общины – разводы, наркотики и прочее – не исчезают только потому, что ты религиозен. Религия, вероятно, служит неким буфером, но рано или поздно эти вещи находят окольную дорогу.
– Никто тебя не просит о непосредственном личном участии, но Женская группа помощи имеет отношение ко всем нам, – заметила миссис Леви. Трижды побывав президентом, она знала, что говорила.
– И уж по крайней мере у нас должна быть возможность высказаться, – вставила Ципора.
Под прицелом их взглядов Рена не осмелилась ничего возразить.
– Хорошо, если вы все считаете, что нужно устроить собрание, думаю, я могу это организовать, – согласилась она, отлично зная, что еще очень об этом пожалеет.
Значит, решено: если мы хотим положить конец пагубному влиянию Бат-Шевы на девочек, придется ее уволить. Если она перестанет преподавать, у девочек не будет повода вечно отираться около нее. И тогда отъезд Бат-Шевы – лишь вопрос времени. Она сложит свои вещи в машину и уедет прочь из города, по той же дороге, по которой прикатила сюда много месяцев назад. И наша община наконец станет такой, как прежде.
Покончив с этим делом, мы перешли к другим вопросам. Песах приближался так стремительно, неужто мы успеем убраться? Мы обсудили, есть ли у кого новые рецепты. Нам надоело готовить одни и те же картофельные кугели и бисквиты. Хелен Шайовиц сообщила последние новости про свадьбу. Каждую неделю она держала нас в курсе событий, и теперь до главного торжества оставалось пятьдесят три дня. На прошедшей неделе загвоздка была в том, что Тамара вбила себе в голову, что хочет танцевать в белых кедах, а не в чудных, покрытых кружевом лодочках на высоком каблуке, которые выбрала для нее Хелен. Нет, Хелен этого не понять; да она бы скорее умерла, чем надела теннисные туфли на собственную свадьбу.
В тот вечер, когда в небе зажглись три звезды, наши мужья завершили шабат гавдалой, славя Всевышнего, отделившего святое от повседневного, свет от тьмы, седьмой день отдыха от шести дней творения. Перед нами горела плетеная свеча, озаряя путь в новую неделю. Мы вдыхали бесамим – корица и гвоздика должны были утешить нас в прощании с Субботой – и окунали свечу в вино, наблюдая, как голубое пламя потрескивает и гаснет. Шабат закончился, пора было приниматься за работу. Мы включили свет и взялись за телефоны.
У каждой было свое задание. Предстояло обзвонить директора школы, главу правления и всех членов исполнительного комитета Женской группы помощи, не участвовавших в нашей встрече. Трудно было в последнюю секунду согласовать удобный день собрания. Вечер понедельника был занят маджонгом, и эта традиция была старше самой Женской группы помощи. Четверги тоже не хороши: слишком много надо успеть к шабату. В конце концов, сверившись с бесчисленными расписаниями и толстенными ежедневниками, мы назначили собрание на вторник через две недели.
А до той поры наш мир застыл в полнейшей неопределенности. Все, что было для нас важно, висело на волоске над бездной, и мы могли лишь сидеть и смотреть, куда все качнется. Мир словно замер на те считанные секунды, когда солнце тает за горизонтом, когда уже не день, но еще и не ночь. И был в этих минутах даже некий покой, своего рода смирение, когда ничего другого не остается, как только ждать.
17
Собрание Женской группы помощи было назначено на неделю, что предшествовала Песаху, и мы носились как бешеные, убирая наши дома, составляя меню, приглашая гостей. На собрания времени совершенно не оставалось. Но откладывать было нельзя. В каждом углу, что мы отмывали, в каждом шкафу, что драили, мы видели Бат-Шеву, и, если она сама превратилась в хамец[16], нам было заповедано искать и уничтожать его.
От Бат-Шевы не скрывали, ради чего созывается собрание. Это было повсюду, вертелось на кончиках языков, слетало с губ, висело в самом воздухе. Она понимала, что мы будем обсуждать ее увольнение, по взглядам, что бросали на нее другие учителя. В них читалась смесь сочувствия и облегчения, что не ради них все это затевается. Она угадывала, в чем дело, по особым запискам, которые отправляли нам с детьми, напоминая всем матерям о дне и времени собрания. Мы только о нем и думали, беспрестанно обсуждали и уже почти ожидали объявления на первой полосе мемфисской «Commercial Appeal».
Как и в прошлом месяце, Бат-Шева находила утешение в общении с Йосефом. А мы-то надеялись, что она станет вдвойне осмотрительна, будет избегать всего, что может лишний раз подчеркнуть неблаговидность ее поступков. Но, очевидно, ее это ничуть не заботило, потому что мы увидели, как однажды вечером на закате она отправилась вместе с Йосефом на прогулку. Они шли в сторону парка Шелби Фармз в паре миль от нашего квартала, и небо вокруг розовело и окрашивалось багрянцем. Бат-Шева вышагивала сердито: ни плавной неторопливости, ни свободного взмаха рук.
Мы ждали, что она обратится к Мими, постарается привлечь ее на свою сторону. Но Мими как будто тоже избегала ее – не грубо, не явно, но она целиком ушла в свою жизнь между домом и синагогой. Мы все видели, каким тревожным взглядом она провожала Йосефа всякий раз, как он шел к Бат-Шеве. Замечали, как инстинктивно брала сына под руку, когда Бат-Шева подходила к ним на кидуше. Она тоже не была уже ни в чем уверена.
Всю неделю перед собранием Бат-Шева часами говорила по телефону с Леанной Цукерман и Наоми Айзенберг. Она сказала им, что просто не в силах поверить, что дошло до такого. Она думать не думала, что может случиться нечто подобное. Наоми и Леанна старались ее приободрить, обещали сделать все возможное, чтобы защитить ее. Бат-Шеву, разумеется, мы не звали. Какое уж тут собрание, если она станет слушать каждое наше слово? Учителей на заседания Женской группы помощи обычно тоже не приглашали (хотя строго это не соблюдалось), если обсуждались какие-то деликатные вопросы.
Мы пытались представить, каково это – оказаться объектом такого разбора. Как бы мы смотрели в глаза людям? Мы воображали, как запираемся дома, прячемся под одеяла, лица искажены гримасой стыда. Не такой была Бат-Шева. Она ходила с высоко поднятой головой. Преподавала с еще большим рвением, чем раньше. Она явно была настроена не тушеваться, не позволить предстоящему собранию сломить ее.
Но в ее глазах мы читали, какую боль ей все это причиняло. Она не отворачивалась, когда мы проходили мимо, а смотрела прямо на нас, и ее взгляд испрашивал объяснения, требовал, чтобы мы вспомнили то хорошее, что она успела сделать. Она пыталась переговорить с кем-то из нас. Сказала Рене Рейнхард, что ее судят несправедливо, и Рена залилась краской стыда, что все же поддалась и созвала это собрание. Бат-Шева пыталась убедить Рут Бернер, что никоим образом не виновата в бегстве Ширы, что, напротив, всячески старалась помочь ей. Но Рут не желала ее слушать. Она слишком сильно переживала за Хадассу, чтобы думать о чем-то еще. Бат-Шева даже попыталась поговорить с миссис Леви. Пришла к ней после синагоги и сказала, что хочет поговорить, что нужно прояснить некоторые вещи. Глядя ей прямо в глаза, миссис Леви сообщила, что теперь уже слишком поздно.
Настал вечер собрания, и мы отложили домашнюю работу, препоручив мужьям несложные дела, которые, мы полагали, были им по плечу: вытрясти хлебные крошки из тостера, проложить бумагой ящики для столового серебра, пролистать книги – на случай, если там застряло что-то из еды, перекочевавшей с кухни. Поразмыслив хорошенько, мы поняли, что мужчины тоже вполне могли бы участвовать в подготовке к Песаху; в конце концов, их тоже вывели из Египта.
Мы сняли фартуки и впервые за долгие дни вышли на улицу. Пока мы пребывали в состоянии оцепенения, погода начала меняться. Как раз к Песаху в Мемфис поспела весна. Даже по ночам, когда мы не могли видеть зацветающие на клумбах нарциссы и бело-розовые бутоны на ветках, ее приход ощущался в самом воздухе. Цепкая хватка зимы наконец разжалась. Небо уже не было таким темным, и вокруг даже пахло иначе, как будто в наших дворах разбрызгали флакон с духами.
Собрание проходило в школьной библиотеке, и, пока мы шли по коридору, на нас отовсюду смотрели рисунки младшеклассников, которые развесила на стенах Бат-Шева. Они, как и все в эти дни, были о Песахе. Бат-Шева предложила представить, какую работу они бы выполняли, если бы оказались рабами в Египте, и они напридумывали самого разного: строили бы пирамиды, заклинали змей, разносили воду и собирали сено.
– У Бат-Шевы, конечно, есть подход к детям, – отметила Бесси Киммель.
– Что есть, то есть, – согласилась миссис Леви, разглаживая шелковый платок, который она ради такого случая повязала на шею. На самом деле ей и самой нравились эти рисунки. Но нельзя забывать о главном. То, что Бат-Шева хорошо справляется с младшими детьми, еще не повод оставить ее в школе.
Миссис Леви взялась подвезти Бесси, она считала себя в ответе за то, чтобы пришло максимальное количество народу. Но в данном случае ей не стоило беспокоиться. Никто бы и не подумал пропустить такое.
В школьной библиотеке проходили все официальные собрания, и, хотя помещение было сплошь увешано постерами с героями мультфильмов, призывающими учеников читать книжки, но, когда здесь собиралась Женская группа помощи, сразу чувствовалось, что все серьезно. Официальный декор на месте. Знамя Группы сине-белых цветов школы с вкраплением розового – отметить и наше участие – вынесено. С портретов предыдущих президентов Группы, неизменно украшавших дальнюю стену библиотеки, стерта пыль, так что наши предшественницы взирали на нас во всем блеске. На столе гордо выставлена памятная табличка, врученная Женской группе помощи Городским советом Мемфиса по случаю тридцати лет верной и преданной службы.
Обычно зала библиотеки хватало для наших собраний, но сегодня он был заполнен под завязку. Мы заняли все углы, толпились у книжных полок, втиснулись на маленькие оранжевые стульчики, на которых дети слушали сказки. В этот вечер нас было столько, что можно было не волноваться, есть ли кворум, выйдет ли правильное соотношение между членами исполнительного комитета и рядовыми членами, пожизненными и новичками.
Было людно и жарко. Мы ерзали на стульях, обмахивались программками и тихонько переговаривались, предвкушая, что будет. Мы ощущали дыхание истории – души всех прежних членов Женской группы помощи радели за нас и вели к правильному мудрому решению. Мы пытались припомнить, уж не впервые ли за всю историю столь важное собрание было назначено так быстро и в такую горячую пору. Миссис Леви, служившая историком Женской группы помощи последние тридцать лет, сообщила, что заглянула в официальные хроники и обнаружила, что и правда впервые – еще ни разу не бывало собрания так близко к Песаху, а с 1972 года, когда учителя физики поймали за самовластным преподаванием курса сексуального воспитания, не созывалось собрания, требующего увольнения учителя посреди учебного года.
Без пяти минут семь мы уже изнемогали. Пора наконец, давно пора разобраться с этим вопросом. Но Рена Рейнхард, президент Женской группы помощи, не торопилась. Она уединилась в женской уборной, стараясь собраться и войти в роль председателя столь напряженного мероприятия.
Накануне Рена долго и мучительно обдумывала, как вести эту встречу.
– Мне кажется, – говорила она, – моя задача – оставаться объективной. Я не должна указывать, кому и как голосовать. Мне лишь нужно проследить, чтобы каждое мнение было услышано.
– Ты все сделаешь замечательно, я точно знаю, – ответила ее мать.
(Хотя до сих пор, слава богу, не было случая, чтобы кто-то усомнился в компетенции Рены, но мать, разумеется, беспристрастной не назовешь.)
– Что ты наденешь? Лично я считаю, тебе нужен костюм. Может, тот, темно-синий?
Рена послушалась мать и, как всегда, правильно сделала. Образцовый президент, от и до. Ни за что не догадаться, что за этим безупречным фасадом кроется столько несчастья. Когда библиотека не могла больше вместить ни души, а зал грозил вот-вот взорваться от едва сдерживаемого нетерпения, Рена торжественно вошла в дверь. Она встала у стола, расправила плечи, пригладила волосы и откашлялась. Шепот и шелест бумаг тотчас же прекратились. Воцарилась полнейшая тишина, какой не бывало на наших собраниях.
– У нас в повестке много важных вопросов, а дни сейчас горячие, так что начнем, – сказала Рена.
И собрание Женской группы помощи было официально открыто.
Повинуясь деловому чутью, без сомнения унаследованному от отца (владельца исключительно успешной компании по производству бумажных пакетов), Рена оставила вопрос с Бат-Шевой напоследок. Сначала был зачитан протокол прошлого собрания, оглашены результаты программы по сбору макулатуры. Затем следовало обсудить день сладостей, а также планы замены школьной вывески.
– Покончили бы они уже со всем этим, – пробормотала Хелен Шайовиц.
– Эти вопросы важны ничуть не меньше, – отрезала миссис Леви. Ей тоже не терпелось приступить к делу Бат-Шевы, но нельзя было упустить повод осадить Хелен.
– О да, конечно. Я не это имела в виду, – произнесла Хелен, смутившись, что ее недовольное замечание было услышано. Ну почему она вечно все говорит некстати?
– Не знаю, как вам, а мне сегодня еще три шкафа и буфет отмывать, – сказала Ципора Ньюбергер, глядя на часы.
– Мы все в курсе проблем, касающихся художественной программы и ее преподавателя. – Рена выдержала паузу, наслаждаясь всеобщим вниманием: только в такие минуты она чувствовала, что имеет какую-то власть. – Мы, конечно же, хотим отметить, что высоко ценим то, как много сил Бат-Шева вложила в эту работу. Мы все знаем, как самоотверженно она трудилась и, несомненно, сделала гораздо больше, чем было предусмотрено.
Рена снова умолкла, дав нам время покивать и пробормотать что-то в знак согласия. Ей было важно, чтобы все учителя, независимо от того, насколько удачно прошел их год, получили в конце свою порцию благодарности. Собственно, это была ее идея – отмечать День признательности учителю, в который вручали именные кружки и устраивали для всех чудесный завтрак.
– Отметив это, давайте перейдем к вопросу, следует ли Бат-Шеве продолжать преподавание, учитывая возникшие проблемы.
Рена просила нас быть вежливыми, говорить по очереди и выказывать выступающим такое же уважение, какого мы ожидаем по отношению к себе. Затем она предоставила слово всем желающим, но первые секунды царила мертвая тишина. А потом разом взметнулся лес рук. Каждый мечтал высказаться, надеясь, что, если только его выслушают, мы сможем разобраться в сложившейся ситуации.
Первой по праву старшинства, как бывший президент Группы, поднялась миссис Леви.
– Я принимаю участие в жизни школы уже много лет, некоторых из вас тогда еще даже на свете не было, – начала она. – И, когда дело касается такой проблемы, как эта, полагаю, я более объемно вижу всю картину.
Она откашлялась, надеясь, что все прозвучало как надо.
– Лично я не имею ничего против Бат-Шевы. Но иногда мы хотим для наших детей чего-то вполне определенного, а кто-то другой – совершенно противоположного. Нам повезло принадлежать общине, история которой насчитывает немало поколений. И порой это означает, что нужно бороться за сохранение сложившегося уклада. Бат-Шева познакомила наших детей с идеями и ценностями, которые мы не разделяем. Это может быть опасно и сбить их с толку, поэтому нужно остановить это, пока не поздно.
Море рук тянулись вверх, когда она закончила, но Рена дала слово Хелен Шайовиц, своей троюродной сестре, проигравшей на выборах, – ничего не попишешь, семья есть семья.
– Бат-Шева – очень хороший человек, но речь не об этом. Не уверена, что мне так уж по душе, как близко к себе она подпустила девочек. Они крайне восприимчивы, и, возможно, им было бы полезнее больше времени проводить с кем-то вроде Йохевед Абрахам. Вряд ли найдутся те, кто скажут о ней что-то дурное.
Хелен видела, что их отношения с миссис Леви в последнее время явно разладились, и надеялась, что, соглашаясь с ней, сможет вернуть себе ее расположение.
Рослин Абрахам, мать Йохевед, одобрительно закивала. Наконец-то кто-то высказал здравую мысль. Ее Йохевед – чудесная молодая женщина; довольно того, что она не замужем; не хватало еще, чтобы ею пренебрегали в собственной общине.
– Может, дать Бат-Шеве еще один шанс, – предложила Джослин Шанцер, когда наконец получила слово. – Уверена, она не хотела ничего плохого. Мы могли бы объяснить ей, что нам нужно. Она бы сказала девочкам, что вовсе не имела в виду, что надо копаться в своем отношении к религии. И тогда, может, они поймут, что пора им угомониться. Все образуется, и получится сделать вид, что ничего этого не было.
– Что сделано, то сделано, – отрезала Эдит Шапиро. – Сказанного не воротишь.
– Мы ведь на самом деле ничего не знаем о Бат-Шеве. Просто в один прекрасный день она явилась откуда ни возьмись, – спохватилась Рэйчел Энн Беркович.
– Но у нас есть ответственность перед ней. Она же еврейка, в конце концов, тут уж ничего не попишешь, – заметила Норель Беккер.
– По-моему, она милая, – сообщила миссис Ганц всем и никому.
Наоми Айзенберг, сидевшая в задних рядах, поднялась, не дожидаясь, пока Рена обратит на нее внимание.
– Девочки любят Бат-Шеву, и я никогда не видела их такими счастливыми.
Наоми всматривалась в обратившиеся к ней лица: согласен ли с ней хоть кто-то? Пожалуй, нет. Как и всегда, впрочем. Но она была так зла, что ей все равно.
– Моя дочь Кайла утверждает, что Бат-Шева – единственная учительница, с которой можно поговорить. Обычно ее попросту игнорируют, потому что она у нас тихоня; остальные учителя ее вообще толком не замечают. Но Бат-Шева отнеслась к ней с особенным вниманием. Именно из-за ее благотворного влияния Кайла разговорилась и стала гораздо увереннее в себе.
– Ее сеуда на Пурим – тоже сплошь благотворное влияние! – саркастически выкрикнула Ципора Ньюбергер. – Может, ты этого хочешь для своей дочери, но я для своей – уж точно нет.
Ципора не могла взять в толк, как некоторые мамы умудрялись быть такими тюхтями. Это же не вопрос любви-нелюбви к конкретному учителю. Может, кто-то вроде Наоми Айзенберг поднял бы ее на смех, но у Ципоры было ощущение, что благополучие ее детей целиком зависело от исхода этого собрания.
Наоми снова поднялась, в ней клокотала годами копившаяся злость.
– Мне сейчас стыдно за то, что я из Мемфиса. Все эти разговоры о том, какая мы гостеприимная община, какая особенная – к чему они, если мы так зашоренно воспринимаем любого, кто хоть чем-то отличается от нас?
Это было уже слишком, и миссис Леви вскочила на ноги. Довольно она терпела Наоми Айзенберг. Вечно мутит воду, клевещет на общину. Она вспомнила, как Наоми отговорила ту семью переезжать в Мемфис, наболтав про нас столько гадостей. Тогда миссис Леви смолчала, но теперь уж не станет.
– Ты что о себе возомнила? – воскликнула она. – Если тебе здесь всё не по нраву, так и уезжай, никто не держит. Собственно, предлагаю всерьез об этом подумать. Но я прожила здесь всю свою жизнь и не позволю тебе оскорблять нашу общину. Мы слишком много хорошего для тебя сделали, чтобы ты вот такое рассказывала направо и налево!
Миссис Леви прямо-таки трясло – она чуть не оступилась, возвращаясь на свое место. Да она, между прочим, вообще едва в обморок не упала.
– Но что такого совершила Бат-Шева? – поинтересовалась Леанна Цукерман. – Это же всё слухи и домыслы. Кто-то может назвать хоть что-то конкретное, в чем она провинилась? Есть ли хоть что-то, что мы действительно знаем наверняка?
– Если тебе плевать, религиозна ли твоя дочь, мне нечего сказать. Но посмотри, что случилось с Широй Фельдман. Хочешь, чтобы и твоя дочь так закончила? – Ципора решила, что можно уже не сдерживаться: когда на кону нечто столь важное, в ход идет любое оружие.
Рена видела, что теряет контроль над ситуацией.
– Дамы, прошу вас! Настоятельно призываю вас к тишине, если мы хотим продолжать, – как можно внушительнее произнесла она.
Но было уже поздно. Стоило упомянуть Ширу, как все пошло вразнос. Джослин говорила, до чего неловко обсуждать на людях подобные вещи, как это несвойственно ни нам, ни Женской группе. А Арлина Зальцман шептала Рут Бернер, как им повезло, что не их дочерей назвали, по крайней мере пока, хотя они не сомневались, что Илана и Хадасса – следующие на очереди. Наоми Айзенберг во всеуслышание интересовалась, можно ли отменить пожизненное членство в Женской группе помощи, а Леанна Цукерман воспользовалась дыхательными практиками, которые изучила для собственного успокоения в стрессовых ситуациях. Бекки Фельдман просто была багрового цвета. Казалось, ее прямо сейчас вырвет. Будь она в состоянии, дотянулась бы до Ципоры и влепила бы ей пощечину.
И вот уже Рэйчел Энн Беркович говорила, как нехорошо, что Бат-Шева не попыталась остановить Ширу, а Этель Цукерман жаловалась, как дурно повлияла Бат-Шева на ее невестку Леанну, а Ципора Ньюбергер напоминала всем, кто готов был ее слушать, что Бат-Шева по-прежнему ходит в микву, хотя это совершенно недопустимо, а Хелен Шайовиц старалась умаслить миссис Леви, рассказывая ей, какую прекрасную речь та произнесла, четкую, убедительную и в то же время благопристойную, а Норель Беккер пыталась выяснить, знаем ли мы еще кого-то, кто завел бы роман на стороне, а Эдит Шапиро делилась воспоминаниями о том, каким чудным мальчиком был Йосеф и как важно сделать все возможное, чтобы его спасти, а…
– Тихо! – гаркнула Рена и постучала серебряным молоточком. Он понадобился впервые за всю историю Женской группы помощи.
Мы замолчали. Задышали ровнее. Попытались усмирить чувства, клокотавшие внутри. Напомнили себе, что находимся на собрании Женской группы помощи, чтобы освященная традицией история этой организации вернула нас в привычное благовоспитанное русло.
Воспользовавшись затишьем, миссис Леви снова поднялась со своего места. Она видела, что собрание трещит по швам, и поняла, что настал ее черед вмешаться. Хотя много лет прошло со времен ее президентства, люди до сих пор говорили, что ей не было равных в умении провести собрание. Вот почему ее даже избрали на рекордный третий срок.
– Вы позволите? – спросила она, оглядывая зал.
Мы кивнули; вне всяких сомнений, это был звездный час миссис Леви.
– Послушай, Бекки, – продолжила она. – Я совсем не хочу ставить тебя в неловкое положение, но мы здесь собрались именно ради того, чтобы с другими девочками не приключилось то же, что с Широй. Есть вероятность, что мы не сможем вернуть домой твою дочь, но мы обязаны уберечь остальных детей.
Бекки опустила голову. Она все еще не в силах была смотреть нам в глаза, но миссис Леви, несомненно, выразилась куда деликатнее Ципоры. Бекки старалась думать, что Шира была жертвой, принесенной во имя общины, и только эта потеря может спасти других детей. Но ей не стало ни капли легче; ей хотелось одного – чтобы Шира вернулась домой, целая и невредимая.
– Я была готова стать подругой Бат-Шеве, – выкрикнула Арлина Зальцман. – Мне она сразу понравилась. Но для меня важнее всего моя дочь, и кто, кроме меня, защитит ее?
– Даже если Бат-Шева не совершила ничего дурного, девочкам вредно иметь такую учительницу. Она создает иллюзию, что можно делать, что заблагорассудится, и не считаться с общепринятыми нормами, – сказала Рэйчел Энн Беркович.
– Я почти потеряла сон – так переживаю за Хадассу. Я совершенно не узнаю ее, – сказала Рут Бернер.
– У меня то же самое, – сказала Джуди Сассберг. – Речь о наших собственных детях. Для меня нет никого важнее Ариэллы, и я сделаю все возможное, чтобы у нее все было хорошо.
Мы задумались о наших детях и внуках. Зачем тогда вся тысячелетняя история евреев, если все закончится тем, что наши девочки станут сбегать с нееврейскими юношами? При мысли, что все может закончиться на поколении наших детей, мы ощутили, будто мы этим вечером, на этом собрании, вершим историю.
И тогда мы подумали о Йосефе. Вспомнили, сколько же времени они с Бат-Шевой провели вместе. Как бы ни хотелось нам думать о нем только лучшее, было трудно отделаться от неприятного чувства. Мы могли лишь надеяться, что увольнение Бат-Шевы повлияет и на него тоже. Мы не упоминали его напрямую – не хотели обсуждать в присутствии Мими. И тем не менее подспудно Йосеф присутствовал в каждой произнесенной сегодня речи.
Мы все обернулись на Мими. Она сидела в дальнем углу зала. Нелегкие хозяйственные заботы последних недель не прошли бесследно, и Мими выглядела совершенно измученной и усталой. Обычно, когда начинались какие-то споры, мы все так или иначе высказывались, а потом Мими тихонько поднимала руку. Она с теплотой оглядывала нас и говорила, что думает по этому поводу, и все немедленно становилось ясным и понятным. Бесконечные перепалки, раздражение, которое мы испытывали друг к другу, – все это растворялось под сенью ее мудрости. Мы взглянули на часы. Если сейчас проголосовать, еще останется время на один шкаф. Но Мими пока не сказала своего слова, а до этого разойтись мы не могли.
Мы ждали, когда она поднимет руку, и пытались представить, что же она скажет. Миссис Леви покачивала головой от нетерпения. Вот оно, думала она. Сейчас Мими скажет, что нам следует избавиться от Бат-Шевы ради наших детей, включая и ее собственного; должна же она опомниться в какой-то момент. Миссис Леви гадала, сыграл ли в этом роль их разговор с Мими, помогла ли ее прямота вернуть Мими к реальности.
Леанна Цукерман была твердо намерена голосовать за Бат-Шеву и лишь надеялась, что будет в этом не одинока. Она видела, что Мими подружилась с Бат-Шевой не только по доброте душевной, а потому что та была ей действительно небезразлична. Они с Бат-Шевой похожим образом чувствовали и воспринимали вещи; Леанне было одинаково хорошо с обеими. Конечно же, Мими скажет, что Бат-Шева благотворно повлияла на девочек.
Хелен Шайвиц казалось, что ее разрывает пополам. Она собиралась голосовать с миссис Леви против Бат-Шевы. Ей и в голову не приходило поступить иначе. Но что, если Мими поддержит Бат-Шеву? Впервые в жизни Хелен не сможет послушаться одновременно и миссис Леви, и Мими.
Мы сидели, кусая ногти, ерзали и ждали, когда Мими уже наконец поднимется. Но она сидела с опущенной головой, уставясь на свои колени. Она не собиралась ничего говорить. Она так сблизилась с Бат-Шевой, она подружилась с ней, устроила ей работу в школе, защищала, когда мы все мучились подозрениями. Но теперь, когда во все это оказался втянутым ее сын, теперь, когда она и сама уже не знала, что происходит между ним и Бат-Шевой, привычная ясность покинула ее, и она не знала, что сказать.
Раз уж Мими предпочла отделаться молчанием, Ципора Ньюбергер предложила приступить к голосованию. Оно было тайным – несколько женщин заранее позвонили Рене и попросили об этом. Во имя справедливости, демократии и соблюдения прав личности Рена согласилась. Мы развернулись так, чтобы иметь свое маленькое пространство, куда никто не мог заглянуть и увидеть, что мы пишем, и на клочках бумаги, приготовленных Реной, отдали свои голоса.
Рена собрала бумажки и расправила их. Мы напряженно ждали, пока она подсчитывала голоса. Она пересчитала раз, потом другой. И наконец, удовлетворившись, подняла глаза и объявила, что победили голоса против Бат-Шевы. Никто не был удивлен. А вот удивительным было то, что голоса за и против распределились почти поровну. Мы огляделись вокруг, пытаясь определить, кто как проголосовал. Но все сидели молча. Мы вдруг поняли, что уже не знаем, что у кого на уме. Среди нас произошел раскол, и каждая часть обладала столь же сильным голосом, как когда-то мы как единое целое. Пораженные этой мыслью, мы взглянули друг на друга словно в первый раз, и это было так жутко, будто смотришь на себя в зеркало и в отражении видишь совершеннейшего незнакомца.
18
После этого собрание свернулось довольно быстро и, по правде говоря, немного неловко. Мы стояли в коридоре, думая подойти к Мими, и тут вдруг поняли, что совсем не знаем, что сказать. Стараясь не встречаться с нами взглядом, Мими прошла мимо и направилась в сторону дома. Прежде чем зайти, она обернулась и посмотрела вокруг. Что она увидела, гадали мы: ту ли общину, к которой и сама принадлежала, или что-то еще – разрозненную группу людей, которые себя же и выпороли?
Мы были уверены, что о случившемся Бат-Шеве доложит Мими. Она была ближе всех Бат-Шеве, и новость об увольнении из ее уст прозвучала бы все же не так резко и горько; если бы нам довелось получить плохую весть, мы предпочли бы услышать ее от Мими. Но она пошла прямиком домой, все с тем же растерянным выражением на лице.
Наоми Айзенберг и Леанна Цукерман переглянулись: значит, бремя сообщить последние новости Бат-Шеве легло на них. Они не перемолвились ни словом, пока шли к ее дому. Не было смысла заново перемалывать случившееся или обдумывать, что делать дальше; не существовало приятного способа известить человека, что его уволили. Они тихонько постучали, и Бат-Шева тотчас открыла. На ней было белое шелковое платье, и рукава свободно падали вниз, создавая ощущение, что она вот-вот упорхнет прочь. Леанна и Наоми обняли ее, свет лампы над крыльцом выхватил их всех из темноты, и казалось, что кроме них ничего больше нет на всей сумеречной улице. По их лицам Бат-Шева, наверное, уже все поняла, она пригласила их зайти, и голос ее был печален.
Они сели на диван, и Наоми взяла Бат-Шеву за руку.
– Мы бы хотели принести другие новости, но люди решили, что лучше, если ты больше не будешь преподавать рисование.
– Ну вот и все, – горько произнесла Бат-Шева.
– Не хватило совсем чуть-чуть, правда! – попыталась утешить Леанна. – Очень много людей поддержали тебя, но некоторые были так настойчивы, и…
Бат-Шева покачала головой.
– Не рассказывайте. Не хочу знать, кто что обо мне говорил.
Леанне больно было видеть Бат-Шеву такой поникшей, напрочь лишенной желания быть частью общины. Она мысленно вернулась к ее первым дням здесь и почувствовала, что Бат-Шева думает о том же, о первой встрече с этим ладно устроенным мирком, таким дружным и сплоченным, что казалось, здесь каждого примут и обогреют. Леанне так хотелось, чтобы это все еще было возможно; ей была нестерпима мысль, что Бат-Шева покинет Мемфис, а с ней исчезнут и ее энергия и изобретательность.
– Бат-Шева, ты столько прекрасного успела сделать, большинству такое и близко не по силам, – сказала Леанна. – Не позволяй, чтобы эта ситуация обесценила все, чего ты добилась.
– Ты должна знать, что у тебя здесь по-прежнему много друзей. Понимаю, что это ничего не изменит, но мы с тобой, – добавила Наоми. – Все еще наладится. Я правда в это верю.
– Все время думаю, что не должно было так получиться, – сказала Бат-Шева. – В начале все шло так хорошо, да и потом я старалась верить, что, конечно, потребуется время, но скоро я все же стану частью этой общины.
– Ты уже решила, что будешь делать? – спросила Наоми, не представляя, что Бат-Шева может захотеть остаться.
– Пока не знаю. Но несмотря на все случившееся, я чувствую, что это уже наш дом, и не так-то просто опять сняться и уехать. Я даже не понимаю, куда податься.
Ни Наоми, ни Леанна не знали, что сказать. Хотя они обе высказались в поддержку Бат-Шевы и голосовали за нее, им было не по себе. Как будто они все равно отвечали за решение, принятое на собрании; они столько лет жили в общине, что не могли так просто отделить себя от нее.
Когда Наоми и Леанна стали уходить, Бат-Шева крепко пожала им руки и попрощалась, но не пошла провожать. Она свернулась калачиком на кушетке и закрыла лицо руками. Леанна и Наоми закрыли за собой дверь, оставив Бат-Шеву наедине с ее горем, и отправились домой каждая к своему собственному.
Пока Наоми и Леанна были у Бат-Шевы, мы тоже разошлись по домам. Мы не испытывали ни малейшего облегчения, которое обычно приходит, когда решение наконец принято. Напротив, нас подтачивало ощущение, что ничто уже не было таким простым и ясным, как раньше. Дома мы, хоть и усталые, надеялись все же еще немного прибраться перед сном. Но там нас ждали наши дочери.
– Мы не могли позволить, чтобы и дальше так продолжалось, – втолковывала Авиве Рэйчел Энн Беркович. – Это не выпад лично против Бат-Шевы, но вещи совершенно вышли из-под контроля.
– Вот когда у тебя будут собственные дети, тогда посмотрим, тогда ты поймешь, почему мы так поступили, – сказала Хадассе Рут Бернер.
– Ты не осознаёшь, насколько опасно то, что происходит, ты судишь изнутри, – увещевала Илану Арлина Зальцман.
– Ты не понимаешь! – кричала Илана. – Бат-Шева помогала Шире. Она была единственным человеком, кому Шира доверяла. Единственной, с кем она могла поговорить по душам.
– Я понимаю, что тебе нравится Бат-Шева, но иногда родители должны делать так, как будет лучше их детям.
Илана покачала головой.
– Тебе кажется, ты в курсе нашей школьной жизни, но мы ненавидели школу задолго до появления Бат-Шевы. Может, тебе не хотелось этого замечать, но это не означает, что такого не было.
– Илана, ты просто не понимаешь.
– Нет, мам, это ты не понимаешь. То, что случилось в поездке, и марихуана, и бегство Ширы – ни в чем этом Бат-Шева не виновата. А виновата ты и твои подруги. Вы все считаете, что вам виднее, вы лучше знаете, но как вы думаете, почему Шира сбежала? Она не могла больше выносить, что все вечно ее обсуждают и рассказывают ей, как жить. Лучше бы я с ней уехала! – Тут Илана расплакалась и бросилась звонить подружкам.
Оставшись одна – муж уже спал, дочь с ней не разговаривала, – Арлина выглянула в окно. В кухнях домов по всей улице горел свет, и Арлина знала, что на каждой из них сейчас ведется похожий разговор. Арлина попыталась утешиться мыслью, что она принадлежит этой общине, что у нее есть подруги во всех этих домах, но ничего не вышло. Она чувствовала себя как никогда одинокой.
– Не знаю, как быть, – сказала Арлина Рут Бернер на следующее утро, когда позвонила узнать рецепт трехслойного шоколадного торта из мацы. – Илана засела в своей комнате. Час назад я к ней постучала, она заорала, чтобы я уходила прочь.
– Мы это сделали для их же пользы, – ответила Рут. – Они должны это уяснить.
– Я так и сказала Илане. Но она и слушать не желает. У меня будет полон дом гостей, а тут Илана не выходит из комнаты.
– Все образуется. Хадасса тоже попыталась такое провернуть, но я зашла к ней в комнату и сказала, что на ней – проложить бумагой ящики в буфете. Попрепирались немного, и она сдалась. Теперь вроде в порядке.
– Надеюсь, это сработает, иначе не представляю, что еще предпринять. Последнее, что мне сейчас нужно, – это детские истерики, – сказала Арлина и перечислила всё, что ей еще надо было успеть: два жарких, индейку, картофельный кугель и, конечно же, шоколадный торт из мацы.
Пока мы заканчивали с уборкой, в головах вертелись слова наших дочерей, мешая сосредоточиться на мытье полов и столешниц. Мы видели, с каким презрением они на нас смотрят, какое раздражение кипит внутри. Хотели бы мы думать, что дело в собрании Женской группы помощи, но чем больше мы об этом размышляли, тем яснее становилось, что это выражение появилось на их лицах гораздо раньше. Трудно сказать, когда мы заметили его впервые, но оно сделалось уже столь привычным, что мы перестали его замечать.
Еще неприятнее было от того, что наше решение явно никак не отразилось на отношениях Бат-Шевы и Йосефа. Не то чтобы мы ожидали, что Женская группа помощи на них как-то повлияет, но полагали, Бат-Шева поймет намек и уже не будет проводить с ним так много времени. Пусть нас она игнорирует, но мы надеялись, Йосеф все же образумится и вслед за нами поймет наконец, сколько от нее вреда.
Прошлым вечером Бат-Шеву и Йосефа видели на берегу Миссисипи. Норель и Майкл Беккер отмечали шестнадцатилетие свадьбы и отправились в отель «Пибоди» на коктейль. Они чудесно провели время. Конечно, они не могли там поужинать – ресторан не кошерный, – но выпили по бокальчику в красивом лобби, прямо у фонтана, где плавают знаменитые гостиничные утки (пару лет назад они даже побывали в известном на весь мир шоу «Сегодня вечером», вот какие они знаменитые!). На обратном пути Беккеры решили поехать вдоль реки, чтобы насладиться видом моста и панорамой Мемфиса по одну сторону и Западного Мемфиса, что в штате Арканзас, по другую. Мимо парка Джефферсон Дэвис они докатили до моста, протянувшегося над рекой буквой «М» – и хотя официально она означала Миссисипи, в глубине души мы считали, что это от Мемфиса.
Из окна машины они увидели Йосефа с Бат-Шевой, которые прогуливались вдоль реки. Оба выглядели удрученными, плечи поникли, идут медленно. Йосеф указал на какую-то далекую звезду, и они, запрокинув головы, смотрели на нее, словно мечтая перенестись в иные края. Потом присели на траву у воды. Норель с Майклом наблюдали за ними еще минут десять, но им пора было возвращаться домой, чтобы отпустить няню.
На следующий день Хелен Шайовиц встретила Йосефа с Бат-Шевой на детской площадке, за школой. Они сидели на облупившейся деревянной скамейке и смотрели, как Аяла крутится на брусьях.
– Мне кажется, наше общение тут не меньшую роль играет, чем история с девочками, – сказал Йосеф.
– Кто ж его знает? – ответила Бат-Шева. – Но не сомневаюсь, что, и не будь мы друзьями, они бы нашли из-за чего попереживать. Людям необходимо какое-то объяснение бегству Ширы, и вместо того чтобы взглянуть на самих себя, они смотрят на меня.
– Я должен был это предвидеть. Я же прожил здесь всю жизнь и знаю, как тут все устроено. – Йосеф покачал головой, злясь на себя и на общину.
– Только не вздумай из-за этой истории менять свое отношение к здешней жизни. Ты здесь вырос. Это твой дом. Я – другое дело. У меня есть некоторая дистанция.
– Но как это может не повлиять? Я всегда считал, что нет лучшего места на земле. Даже представить не мог, что буду жить где-то еще. Где бы я ни оказывался, мне говорили, что наслышаны, какой Мемфис особенный, и я гордился, что я отсюда. А теперь как будто впервые по-настоящему вижу, что такое эта община, и поверить не могу, что умудрялся не видеть этого раньше.
– Не надо так, Йосеф. В этой общине все же много хорошего, да и очень непросто по-новому смотреть на привычные вещи.
– Ты же смогла.
– И что из этого вышло? – сказала Бат-Шева и рассмеялась. – Все нормально. Ты сам во всем разберешься, и у нас с Аялой тоже все будет в порядке.
Бат-Шева взглянула на дочку. Аяла балансировала на брусьях, ее фигурка была четко прорисована на фоне безупречно-голубого неба. За несколько месяцев Аяла заметно подросла и уже не выглядела так, будто ее вот-вот сдунет порывом ветра.
– Посмотри-ка на нее, – сказала Бат-Шева. – Никогда не видела ее такой счастливой. Она здесь так изменилась.
И это правда. Хоть Бат-Шева здесь и не прижилась, у Аялы все складывалось лучше некуда. Трудно было вообразить, что где-то она может быть еще счастливее. Хелен брела к дому, и обрывки этого разговора не выходили у нее из головы. Ей хотелось подойти и объяснить Бат-Шеве и Йосефу, почему мы так поступили. Но когда она попыталась представить, как же это сказать, поняла вдруг, что не находит нужных слов. Раньше все звучало ясно и убедительно, но не теперь. И впервые она ощутила, будто что-то шевельнулось в груди, почти как простуда, только где-то очень глубоко внутри. Придя домой, она выпила две таблетки аспирина и противоаллергенное, но ничего не помогло. Это странное беспокойство свербило весь день, какая-то боль, которую она не могла ни назвать, ни объяснить.
Мы старались отключиться от этих двух встреч. Пуще прежнего погрузились в подготовку к Песаху, еще усерднее драили полы и шкафы, еще прилежнее стирали пыль, еще ревностнее орудовали шваброй. Члены наших семей, жившие не в Мемфисе, ожидались домой на праздник, и мы пытались утешить себя перспективой скорой встречи. Мы вспоминали наши прежние Песахи, когда все было хорошо и славно, когда главной радостью были обновки к Песаху и кто что в какой день наденет. В те времена мы с нетерпением ждали праздника, предвкушали, как испробуем новые рецепты, сделаем фрикадельки из мацы и домашнюю фаршированную рыбу, натрем блюдо для седера, превратим хрен в горький марор. Но в этом году мы так измучались и устали, что чувствовали себя рабами, какими были наши предки до того, как Господь вывел их из Египта.
Наконец мы покончили с уборкой, убедились, что не осталось ни крошки хамец в доме, на книжных страницах, в детских игрушках, в карманах пальто, между диванными подушками, за кроватями, в машинах, в почтовых ящиках, гаражах и ванных. Теперь пришло время готовить. Мы доставали нашу посуду для Песаха из сервантов, с чердаков и из шкафов, где она хранилась с прошлого года. Покончив с одним рецептом, мы не могли передохнуть – надо было доставать ингредиенты для следующего блюда. Мы делали всё, что можно состряпать без муки и прочего хамец; пекли пироги из мацовой муки и готовили картошку во всех мыслимых видах – фри, пюре, вареную и фаршированную. Самые отчаянные пекли бейглы, булочки и пончики, хотя они все на вкус были почти одинаковы – мацовую муку трудно перебить.
В вечер первого седера, когда наши семьи отправились в синагогу, мы выдохнули с облегчением. Для миссис Леви пасхальные седеры были важнейшей составляющей еврейства. Даже если сложить вместе каждодневные обряды, субботние трапезы и занятия, которые она когда-либо посещала, все равно им не перевесить важности этих двух вечеров. Только в это время все ее дети и внуки собирались вместе, и со своего места во главе стола она любила озирать их всех разом. Ей казалось, что именно это должен был испытывать Всевышний в ночь, когда выводил евреев из Египта, и оглядывал сверху море людей, и видел народ, который назвал Своим.
Хотелось бы Леанне Цукерман разделять подобный энтузиазм. Когда-то она так ждала эти седеры. Но с тех пор как вышла замуж, перестала им радоваться. Свекор монотонно бубнил текст, переводя дыхание, лишь когда кто-то из сыновей порывался что-то сказать. Все эти годы Леанна почти не принимала участия в седерах. Но пообещала себе, что в следующий раз они с Брюсом устроят собственный седер. Они проведут его вместе, и она обязательно даст каждому слово. Может даже, они смогут придумать что-то особенное, что-то в духе Бат-Шевы.
После помолвки дочери, когда свадьбу назначили всего через пару недель после Песаха, Хелен Шайовиц уже знала, что в этот раз праздник пройдет по сокращенной программе. Слишком многое нужно успеть к торжеству, чтобы отвлекаться на что-то еще. Даже когда она старалась сосредоточиться на подготовке к Песаху, в голове роились мысли о свадьбе. Наливая красное вино в харосет, она думала о том, что нужно еще раз напомнить поставщику, что под хупой будет только белое вино, ни в коем случае не красное, чтобы не закапать свадебное платье. Расстилая новенькую белую скатерть, вспоминала о белых перчатках, которые отказались надевать подружки невесты, хотя Хелен переговорила с каждой из них лично и так просила!
Бесси Киммель считала вечер первого седера своим личным триумфом. Все было готово, и она испытывала величайшее удовлетворение от того, что так замечательно все устроила. Дома идеальная чистота, а в холодильнике еды хватит всей семье по меньшей мере на три Песаха. В последние два дня она накрыла стол: разложила карточки с именами и поставила блюдо для седера. Она ни в чем не схалтурила, она безо всяких возмущений выполнила все, что должна была, она не жаловалась мужу и подругам. Она сделала больше положенного минимума – она выполнила заповеди Всевышнего с любовью.
У Ципоры Ньюбергер не было сил думать. Она лишь надеялась не уснуть. В ее доме седеры продолжались дольше, чем у кого бы то ни было. В синагоге всегда соревновались, чей был самым долгим, и время здесь говорило о том, у кого самая большая и дружная семья, самые начитанные дети, самая вкусная еда и самые ученые разговоры. Ципора неизменно удостаивалась победы в этом состязании – в прошлом году они закончили аж в три утра. Но она так устала, что уже не получала удовольствия, и поймала себя на мысли, что мечтает о коротеньких седерах вроде тех, что высмеивал ее муж. При четырех детях младше семи она решила, что больше не станет устраивать Песах. Она потребует, чтобы они уехали во Флориду, или Нью-Йорк, или Арубу, или Сан-Хуан – в любое место, где есть кошерные в Песах отели. Никаких уборок дома, никакой готовки. Вот это и будет подлинный исход к освобождению и спасению.
Для Бекки Фельдман это едва ли был праздник. Она никого не ждала, кроме старшей дочери Леи, которая училась в Стерне. Лея была образцовым подростком. После собственных историй Бекки поверить не могла, что у нее растет такой ангел; она все ждала, что генетика возьмет свое. Но это произошло только с Широй. Бекки наблюдала за Леей, вовсю помогавшей с приготовлениями, и вдруг поняла, что в чем-то узнает себя в Шире куда больше, чем в Лее, и впервые ощутила острый укол вины. Она не просто не смогла уберечь дочь от тех же ошибок, что совершила в юности, но, быть может, и сама же довела до них Ширу. Бекки через силу заставила себя сделать блюдо для седера. В дом уже пришел Песах, но Бекки знала, что праздновать в этом году не будет.
Наши раздумья были прерваны шумным возвращением из синагоги мужей, детей и внуков, готовых приступать к трапезе. Мы наполнили первый из четырех бокалов вина и открыли агады. Когда седер начат, пути обратно уже нет: омовение рук, макание петрушки в соленую воду как напоминание о пролитых нашими предками слезах, рассказ о том, как мы были рабами в Египте, и о руке Всевышнего, которая вывела нас оттуда. Десять казней, горький марор и харосет, яблоки, орехи и вино как напоминание о растворе, которым мы склеивали кирпичи в Египте.
Под конец седера мы наполняли бокалы вином за пророка Элиягу. Согласно традиции, он не умер, его вознесли на небо в колеснице, и время от времени он возвращается на землю. Надо сказать, кто-то из нас даже полагал, что мы его встречали. Миссис Леви любила рассказывать историю о том, как давным-давно дала зятю уговорить себя сплавиться на каноэ по Спринг-ривер в Арканзасе. И она со своим одиннадцатилетним сыном отбилась от остальных. Она гребла часы напролет, и конца этому не было видно, и миссис Леви почти совсем отчаялась и смирилась со смертью. И тогда вдруг на моторной лодке подплыл старик с лицом в морщинах и длинной белой бородой и сказал, что они почти на месте, что конец уже за следующим поворотом. И этих слов было довольно, чтобы она смогла догрести до берега. Оглянувшись, она обнаружила, что старик исчез. Только выбравшись на землю и хорошенько обсохнув, она поняла, кто был этот таинственный человек.
Но в первый вечер Песаха мы знали, где найти Элиягу. Он заглядывает на каждый седер на свете и везде отпивает по глотку вина в знак того, что и правда был здесь. Открывая наши двери для Элиягу, мы всматривались в темные улицы, вокруг стояла тишина, только легкий ветерок задувал в открытые двери. Мы теснее прижимались друг к дружке, чтобы сохранить тепло.
Наши седеры закончились как всегда: половина семьи спала прямо за столом, последние песни допевали лишь немногие бодрствующие. Мы допели, пожелали друг другу традиционное «На будущий год – в Иерусалиме», убрали посуду и крошки мацы, оставив залитые вином скатерти на потом. В ту ночь мы хорошо спали, зная, что защищены, как ни в одну другую ночь года. С тех пор как поразил в ту ночь Господь всех египетских первенцев и обошел дома иудеев, все последующие поколения евреев спят в эту ночь в безопасности.
После собрания Женской группы помощи мы мало пересекались с Бат-Шевой. Наоми пригласила ее на первый седер, но она отказалась, сославшись на то, что ей лучше побыть одной, пока она не обдумала все хорошенько. Мы пытались представить себе седер на двоих, когда огромные семьи не теснятся за длинным столом, когда нет карточек с именами и громкого пения. Мы думали о Бат-Шеве и Аяле, об их одиноких голосах на фоне всех наших голосов, сливающихся воедино.
В первый день Песаха мы увидели Бат-Шеву в синагоге. Они с Аялой пришли рано и уже сидели на своих местах в первом ряду. Мы попробовали сделать вид, что не заметили их, ведь наши родственники из других городов заняли все обычно пустующие места. Но Бат-Шева не потрудилась сделать вид, что не видит нас. Мы привыкли видеть ее печальной, но сегодня все было иначе. Она явно была зла. Она больше не искала в наших глазах понимания. Она оставила эти попытки и теперь, завидя нас, крепче стиснула зубы и одарила нас взглядом, ясно говорившим, что она чувствует себя преданной.
И все же в воздухе ощущался дух праздника. Мы оделись во все новое специально для Песаха и впервые вышли в соломенных шляпах – приятный переход после темной шерсти долгой зимой. Наши дочери тоже были в новых нарядах, самые младшие – в белых пасхальных шляпках с розовыми и нежно-голубыми лентами, которые продавались вместе с платьями. Мы не считали, что в этом есть что-то предосудительное, мы предпочитали думать, что это шляпки для Песаха.
Во время кидуша мы понемногу угощались специальным кошерным печеньем и здоровались с гостями друг друга, приветствуя всех дома, в Мемфисе. Миссис Леви, окруженная своим семейством, наслаждалась тем, что все они сейчас дома, там, где им и положено быть. Она была занята только ими и в последние пару дней совсем позабыла о Бат-Шеве. Она подумывала, как там Аяла, но со всеми этими внуками, приехавшими к ней на неделю, у нее не оставалось эмоциональных ресурсов на кого-то еще.
Бат-Шева с Аялой стояли с краю в полном одиночестве. В каком-то смысле это походило на их первый шабат, когда мы еще не были знакомы. Но, заприметив миссис Леви, Аяла ринулась к ней. Миссис Леви опешила от неожиданности, но обняла ее, не желая обидеть бедное дитя: Аяла ведь, само собой, не понимала, что происходит. Все это время Бат-Шева радовалась тому, что миссис Леви принимает участие в Аяле, но теперь она заметно напряглась, когда увидела миссис Леви, обнимающую ее дочь. Миссис Леви решила не обращать внимания на Бат-Шеву и продолжила беседу с Аялой.
– Как твой Песах, золотце? – спросила она.
– Хорошо, – ответила Аяла.
– Ты должна зайти на неделе и отведать макарони, которые я купила. Ты давно меня не навещала.
Это было уже слишком: Бат-Шеве лишний раз напомнили, что она никогда не сможет влиться в здешнюю жизнь, как это удалось Аяле. Бат-Шева подошла к ним.
– Идем, Аяла, нам пора домой, – сказала она.
Миссис Леви отпустила Аялу, и та в смущении подняла глаза на мать. От этого зрелища у миссис Леви в груди заклокотала ярость и осела где-то поближе к изжоге, мучившей ее с самого утра после обильных порций мацы и виноградного сока накануне вечером. Аяла могла бы быть как любая из нас здесь. Она могла бы стать милой ортодоксальной девушкой, если бы только ей дали такой шанс. Почему она должна прожить изгоем только потому, что им была ее мать? Миссис Леви беспокоило, что злость Бат-Шевы передастся Аяле и девочка вырастет с мыслью, что ей здесь не место, да и в любой другой подобной общине тоже.
Чувствуя поддержку всей семьи и друзей вокруг, миссис Леви решила не молчать.
– Бат-Шева, я знаю, что много чего произошло, и понимаю, что тебе это наверняка неприятно. Но пока ты здесь, нет никаких причин ограждать Аялу от общины. Будет очень жаль, если ты будешь препятствовать этому, – произнесла миссис Леви.
Бат-Шева резко вдохнула, побагровев от ярости.
– А я? Видимо, мне следует сложить вещички и убраться, раз уж меня официально признали парией?
Ее злость потрясла миссис Леви. Она не ожидала отпора, уж точно не на публике и уж точно не в праздник и не перед всем своим семейством. Но, может, Бат-Шева права, и пора уже объясниться – на публике ли, в праздник ли, при семье или нет. Все эти месяцы миссис Леви сдерживалась как могла, старалась быть деликатной и благовоспитанной. Она подозревала, что наступит момент, когда это будет излишним, и вот он пришел.
– Если так уж хочется знать, именно этого мы и хотим. Мы сыты по горло всеми этими проблемами. До твоего появления ничего подобного здесь не было, – сказала миссис Леви.
– Я понимаю, вы недовольны тем, что происходило в общине, только это не значит, что все это по моей вине, – ответила Бат-Шева.
– Что ж, пусть Господь рассудит, верно?
Бат-Шева рассмеялась.
– Лучшая мысль из всего, что я слышала за последнее время.
Миссис Леви не собиралась терпеть насмешки.
– Если бы не ты, Бат-Шева, старшеклассницы вели бы себя подобающе, Шира была бы дома, а Йосеф не болтался бы здесь с тобой вместо того, чтобы учиться со своим отцом.
– Это почему же? Потому что негоже бороться с собственными сомнениями и недоумениями? Негоже в этой общине быть несчастливым по каким-то своим причинам? Если есть проблема, конечно, зерно посеяно мною, так?
Бат-Шева говорила громко, почти переходя на крик. Она гневно вскинула руки и обвела нас, робко стоящих вокруг, взглядом. Мы попробовали делать вид, что ничего не происходит, но трудно было скрыть, с каким жадным вниманием мы вбирали каждое слово. То, что говорила Бат-Шева, было обращено ко всем нам.
– Да как ты смеешь? – не выдержала миссис Леви. – Мы очень религиозная община. Мы так воспитаны. В этом вся наша жизнь. Все, чего мы хотели, – чтобы наши дети тоже остались в религии. Разве это так много? Мы никого не желали обидеть, не собирались перегибать палку. Но не для того мы всю жизнь столько трудились, чтобы ты заявилась и все разрушила. Мы не станем это терпеть, Бат-Шева! Просто не станем!
Пронзительный голос миссис Леви сорвался на крик.
Мы сдвинулись ближе, сомкнувшись вокруг них. Но никто не пытался вмешаться. Мы поверить не могли, что такое происходит. Нас поразила не просто непристойность открытого столкновения. Нас потрясло сказанное миссис Леви, хотя многие из нас и сами прибегали к тем же аргументам. Но, услышав их со стороны, мы ужаснулись. Неужели мы и вправду так думали? Неужели вот так звучали наши слова?
– Вы не можете силой удержать здесь ваших детей. Не можете заставить быть религиозными. Так это не работает, – сказала Бат-Шева.
И тут миссис Леви заметила, как ее собственные дети смотрят на нее. Она думала, они будут гордиться ею, восхищаться тем, как много она готова сделать ради спасения общины. Но, обернувшись к ним за поддержкой, миссис Леви увидела, что они совершенно оглушены. Ребекка бросала на нее свирепые взгляды, Рафаэль гневно качал головой, а Анна Бет, она же Хана-Бейла, явно сгорала от стыда – это выражение на ее лице миссис Леви отлично помнила по подростковым временам. Даже внуки глядели на нее, разинув рты. И наконец до миссис Леви дошло: все эти практические соображения, по которым ее дети разъехались по разным городам, были просто поводом. А правда в том, что они не желали жить с ней, жить в Мемфисе. Ее собственные дети огляделись вокруг, и им не понравилось то, что они увидели. Миссис Леви не могла этого вынести.
– Это так и работает. Должно работать, иначе все наши жизни были потрачены впустую! – выкрикнула миссис Леви.
В отчаянии она ударила кулаком по столу, попав по тарелке с печеньем. Та грохнулась на пол и разбилась, осколки белого фарфора перемешались с крошками у ее ног. Аяла, все еще стоявшая между Бат-Шевой и миссис Леви, горько расплакалась. Они прекратили кричать друг на друга, Бат-Шева подхватила Аялу и прижала к себе. Миссис Леви молчала, вперившись в кашу под ногами. Никто к ней не подошел, ни сын, ни дочери, ни внуки, ни даже Ирвинг, или Хелен Шайовиц, или Бесси Киммель, или кто-то из племянниц и племянников, или родственников, или старинных друзей. Она стояла там в полном одиночестве.
Пока миссис Леви приходила в себя после схватки с Бат-Шевой, Хелен Шайовиц столкнулась с той в парке, где они с Аялой устроили себе пикник с бутербродами из мацы с мягким сыром и джемом. Хелен была со своей сестрой и зятем, двумя сыновьями, их женами и детьми. В голове все еще звучала перепалка в синагоге, когда она увидела, как Аяла распевает песенку, выученную в школе. Бат-Шева хлопала ей в такт и светилась от гордости за дочь. Хелен стало страшно жаль случившегося – она с трудом пыталась припомнить, что же такого ужасного совершила эта женщина. Хелен знала, что, подойди она к ним, миссис Леви ее не простит – в тяжелые времена она как никогда рассчитывала на поддержку подруги. Но Хелен едва не расплакалась оттого, что Бат-Шева и Аяла были здесь совсем одни, и решила последовать зову сердца.
– Привет, Бат-Шева, привет, Аяла! Вот увидела, как вы тут поете, захотелось поздороваться и пожелать хорошей Пасхи.
Бат-Шева явно удивилась, что Хелен подошла к ним, но, даже если ее это и рассердило, виду она не подала.
– А вы со всем вашим семейством. Наверное, это чудесно, – произнесла Бат-Шева.
В ее голосе слышалась тоска, и Хелен вдруг сообразила, что у Бат-Шевы никогда не будет всего того, что сама она принимала как должное, никогда не будет большой семьи из теток, дядей и кузенов с кузинами, которых она сможет созвать на праздники и по другим радостным поводам. Хелен стало очень жаль Бат-Шеву, и она поняла, почему ей было так важно подружиться с девочками.
– Почему бы вам не присоединиться к нам? Мы взяли с собой целый большой обед, и Аяла сможет поиграть с моими внуками. Будет весело, что скажете? – предложила Хелен.
Бат-Шева начала было отнекиваться, что им, мол, и вдвоем хорошо, но Хелен не желала слушать.
– Я даже приготовила специальные бейглы на Песах. Готова поспорить, вы таких не пробовали.
Помогая Бат-Шеве с Аялой собрать вещи, Хелен кое-что поняла. Ей стало ясно, что за смутное чувство мучило ее последние недели. Впервые в жизни она взглянула на себя со стороны, и увиденное ей совсем не понравилось: это была женщина, которая всегда шла следом за толпой, которая никогда не думала своей головой. Всю жизнь она выдавала чужие мнения за свои.
Когда она вернулась домой, телефон уже звонил. Хелен сняла трубку и услышала миссис Леви, тараторившую бог знает что. Больше она не могла это выносить. Хелен стало противно перемалывать одно и то же, обсуждать, кто какую ерунду выдал за последние полчаса. Она извинилась и прервала разговор, мечтая о чем-то большем и важном.
Несмотря на эти происшествия, праздник шел своим чередом – суматошная смена трапез, сна и служб в синагоге. Восемь дней мы только этим и были заняты и к концу уже так наелись и напились, что едва могли ходить. Когда Песах закончился, мы убрали специальную посуду и попытались ощутить прилив новой жизни. В городе распускались бело-розовые магнолии, на наших лужайках набухали кусты азалии. Мы сдвинули зимние рамы, распахнули сетчатые двери и выползли на веранды, надеясь, что наши жизни снова войдут в привычную колею.
Следующие семь недель были мостом, соединяющим Песах и Шавуот. В Песах мы вышли из Египта, в Шавуот мы получили Тору на горе Синай. За время между ними рабы превратились в народ, готовый встретить своего Бога. Во времена Храма все семь недель совершались приношения омера. Позднее ученики рабби Акивы стали умирать в эти дни – вспыхнула эпидемия, губившая их за то, что не выказывали друг другу уважения, что не любили ближних, как самих себя.
И все эти годы спустя мы по-прежнему ведем отсчет сорока девяти дней: сегодня первый день омера, сегодня – второй, десятый… Помня об учениках рабби Акивы, мы не слушаем живую музыку, не устраиваем свадеб, не стрижемся, воздерживаемся от радости и веселья. В Лаг ба-омер, тридцать третий день отсчета, ученики перестали умирать, и мы тоже выдыхаем с облегчением и празднуем этот день – передышку в череде бедствий и наказаний.
На Лаг ба-омер дочь Хелен Шайовиц, Тамара, выходила замуж, и все мы вызвались помочь. Мы принимали у себя гостей из других городов, готовили субботние трапезы, показывали гостям Мемфис и собирали подарочные корзины с расписанием, домашней снедью и местными сувенирами. Гости были поражены – что за чудесная община, такая дружная, такая сердечная, такая по-южному гостеприимная!
Свадьба проходила в отеле «Пибоди», с кошерным столом, и это было самое роскошное празднество из всех, на которых нам довелось побывать. Хелен просто превзошла себя. Вместо того чтобы начать с обычных коктейлей, она устроила полноценный шведский стол, как это принято в Нью-Йорке. На отдельных досках нарезали мясо, курицу и индейку, прямо на месте жарили китайские овощи, не говоря уже о бесконечных блюдах с копченым лососем, ломтиками печенки и сырыми овощами. Украшения из цветов были под стать всему этому изобилию: хупу из кованого железа пышно увивали розы, тюльпаны и лилии – такое буйство, наверное, царило в Эдемском саду. Танцы удались на славу, ноги у нас потом болели еще не один день. Музыкальная группа из семи человек прилетела из Нью-Йорка, и даже они не видывали таких плясок.
Неделю спустя дочь Бесси Киммель, Адина, родила чудесного мальчика. Это был первый внук и весьма громкое событие. Наверняка, конечно, не скажешь, но многие из нас сошлись на том, что ребенок получился вылитая Бесси. У него были такое же круглое личико, пухлые щечки и маленький лоб. Брит милу совершили на заднем дворе Киммелей зябким весенним днем. После обрезания состоялось празднество. Нежно-голубые воздушные шары, поднимавшиеся из центра столов, были тон в тон с салфетками и скатертями. Разносились закуски: картошка в слоеном тесте, книши со шпинатом, жареные овощи, тонкие ломтики копченого лосося на крохотных бейглах с мягким сыром и фрукты на шпажках. Мы ели, преисполненные сознанием того, что среди нас появился на свет младенец, новый сын Дома Израилева.
19
Мы проснулись ранним утром несколько дней спустя, и наши дома снова наполнила привычная суета. Первым загорелся свет у Рейнхардов, затем у Ньюбергеров и Цукерманов. Еще через полчаса, когда у Наоми Айзенберг уже дважды прозвонили все будильники в доме, зажегся свет и у нее. И тут же с шумом потекла вода из кранов, засвистели чайники, посыпались детские вопросы: где мои ботинки, где мой ранец?
Только в доме Мими было тихо. Свет в кухне горел, но Мими не распахнула шторы, как обычно. Раввин не шагал в синагогу на утреннюю молитву. Йосеф не выскакивал впопыхах, стараясь нагнать отца. В синагоге наши мужья ждали начала молитвы. Никто не мог припомнить случая, чтобы раввин так и не появился. Но спустя пятнадцать, а потом и двадцать минут они поняли, что раввин и Йосеф уже не придут, и неохотно начали без них.
Мы занялись нашими обычными делами, надеясь и молясь, чтобы ничего не случилось. От каждого звонка мы подскакивали, боясь услышать дурную весть, возможно, об отце Мими в Бирмингеме или сестре раввина в Новом Орлеане – последние годы им очень нездоровилось. Мы бы в любом случае забеспокоились, но в те дни были особенно на взводе: мы так держались за идею, что все наконец вернулось в нормальную колею, и уж никак не хотели, чтоб что-то этому помешало.
Раввин появился ближе к полудню. Он медленно спустился по подъездной дорожке, и стоило ему поравняться с нашими домами, как мы поняли, что стряслось что-то ужасное. Он заметно постарел – вот именно так. Его темные с проседью волосы почти побелели, а уголки рта тревожно опустились. Войдя в синагогу, он направился прямиком в кабинет и закрыл за собой дверь. Не остановился поздороваться со своим секретарем Эстер Абрамович. Не передал письма, которые ей нужно было напечатать, не попросил соединить его с кем-то из нас по телефону.
Что-то стряслось, и мы хотели знать, что же. Мы позвонили ему домой, надеясь, что Мими ответит и успокоит нас, рассказав, что раввин поздно встал, что она и Йосеф совсем простыли. Но как это мило с нашей стороны позвонить и справиться, добавила бы она, и чудесно, что всегда можно рассчитывать на нашу заботу. Мы бы принесли целительного куриного бульона, и все встало бы на свои места. Но никто не ответил на наши звонки, раздававшиеся в доме, который, мы знали, не был пуст. Миссис Леви постучала в дверь, но ей не открыли. Чуть позже зашла Хелен Шайовиц, и, хотя ей показалось, что кто-то украдкой выглянул из-за шторы, ей тоже не ответили. День тянулся мучительно медленно; мы считали часы, и так и сяк стараясь унять растущую тревогу. Но ничего не помогало, и нам оставалось только ждать.
Ужасный день клонился к закату, и Эстер Абрамович была вне себя. Что-то было неладно, она нутром чуяла. Все решили, что после Песаха жизнь вернулась в привычное русло и этот странный год наконец остался позади. Но Эстер не могла избавиться от свербящего беспокойства. Накануне ночью она проснулась от испуга, чувствуя, что что-то стряслось с Йосефом. Она едва удержалась от того, чтобы позвонить им в четыре утра. Но другой такой ночи она бы не вынесла, особенно теперь, когда была явная причина для беспокойства. Она решительно направилась к дому Мими.
– Мими, это я, Эстер, – крикнула она, барабаня в дверь. – Можно войти? Пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить.
Она толкнула дверь, думая, что та не заперта, но безрезультатно. Эстер не намеревалась уходить, не переговорив с Мими. Если понадобится, она готова была ждать всю ночь.
– Пожалуйста, Мими, пусти меня, – снова крикнула она.
Она все стучала и просила, и наконец Мими открыла. Ее каштановые волосы были не покрыты; у нее не было сил натянуть шапочку или шарф. Ее глаза покраснели, под ними легли темные круги. Эстер схватила Мими за руки. Держа их, она впервые заметила, до чего они тонкие и нежные, как у ребенка.
– Мими, ради бога, что происходит? – воскликнула Эстер.
Мими смотрела куда-то поверх Эстер, на улицу позади.
– Йосеф уехал, – произнесла она.
– Уехал? – Эстер помотала головой. – Нет. Не может быть.
– Может.
– Когда? Почему?
– Он покинул Мемфис сегодня утром, – сказала Мими и захлопнула дверь. Эстер так и стояла в слезах, не понимая, что же делать.
Узнать, что Йосеф исчез, – все равно что узнать о смерти. Кто-то плакал, кто-то кричал, а кто-то не произнес ни слова. Мы не могли поверить, что потеряли еще и Йосефа. Пытались придумать какие-то объяснения. Гадали – а вдруг, ну вот вдруг он просто вернулся в ешиву? Хотя нам бы его не хватало, но мы бы утешались мыслью, что он идет по верному пути, который через несколько лет приведет его обратно к нам. Мы хватались за эту надежду, убеждали себя, что, возможно, это тоже знак того, что наша община снова стала прежней. Но понимали, что возвращение в ешиву маловероятно. Будь оно так, раввин и Мими не стали бы расстраиваться. Да и до летних каникул оставались считанные недели, не было смысла ради них возвращаться. И мы бы загодя узнали о таком решении. Мы бы устроили ему прощальную вечеринку, осыпали подарками в дорогу.
С тяжестью в сердце мы поняли, что наверняка Йосеф сбежал вместе с Бат-Шевой. Другого объяснения быть не могло. Мы представляли, как они едут прочь из Мемфиса с Аялой на заднем сидении и багажом на крыше машины. Они тихонько выехали под покровом ночи, чтобы никто их не заметил. Может, они поженятся, может, и нет, но, как бы то ни было, Йосефа мы больше не увидим.
Последние недели мы думали о Бат-Шеве куда реже, чем раньше. Мы надеялись, что, если задвинем мысли о ней куда подальше, она со временем просто исчезнет, и наш старый добрый Мемфис вернется к нам. И вот снова мы не могли выкинуть ее из головы. Мы смотрели на ее дом. Окна закрыты, шторы задернуты, никаких признаков жизни внутри. Дверь гаража тоже опущена, и непонятно, на месте ли машина. Никто из нас весь день не видел ни Бат-Шеву, ни Аялу; вроде и не было причин их искать, и все же это был еще один недобрый знак.
Хотя наши дети уже вернулись из школы, а мужья были на пути с работы, мы не могли оторваться от окон, напряженно ожидая подтверждения тому, что Бат-Шева и Йосеф сбежали вместе. Чем дольше не показывалась Бат-Шева, тем больше крепла наша уверенность. Несмотря на все наши усилия не допустить этого, Бат-Шева все же ухитрилась увести у нас Йосефа. В квартале еще не бывало так тихо и недвижно, как тем вечером. Сгущались сумерки, зажигались фонари, и тени от деревьев и почтовых ящиков, перечеркнувшие наши лужайки, казались зловещими, они словно насмехались над нами за то, что мы не смогли спасти Йосефа.
Когда мы почти утратили надежду, что произойдет что-нибудь новое, в дверях дома показалась Мими. Мы подумали было броситься к ней, закидать вопросами, поделиться нашей печалью и сомнениями. Но по выражению ее лица поняли, что не стоит. Ее всегдашняя открытость и улыбка, ее добрые карие глаза – все это исчезло, лицо казалось пустым и непроницаемым.
Мими шла мимо наших домов, не глядя на освещенные окна и нас за ними. Мы все еще надеялись, что она остановится, что расскажет, что же происходит. Но она миновала дом за домом, не замедляя шага, и, когда поравнялась с домом Бат-Шевы, мы решили, что туда она и направлялась. Возможно, хотела сама убедиться в том, что Бат-Шева тоже сбежала, возможно, только так могла принять случившееся. У подъездной дорожки она замерла и посмотрела на дом, но потом продолжила путь.
Она двинулась прямиком к синагоге. Хотя было поздно, задняя дверь оставалась открытой для мужчин, пришедших на маарив в бет мидраше. Эстер Абрамович тоже не уходила и сидела у себя в кабинете. После разговора с Мими она просто не могла вернуться в свой пустой дом. Работа в синагоге была всей ее жизнью, и она решила занять себя делами. Мими зашла и сразу направилась в святилище. Отворила двойные двери; внутри было темно, только слабо горел светильник над ковчегом, отбрасывая тени на пурпурный ковер и серебристые стены. В последние месяцы Йосеф проводил здесь много времени в раздумьях, и Мими, быть может, надеялась обнаружить какие-то следы того, что он чувствовал, какой-то обрывок мысли, затерявшийся под креслом.
На Мими нахлынули воспоминания стольких ушедших лет: как она стояла в синагоге, беременная Йосефом, молясь о том, чтобы у ребенка все получилось в жизни; она с маленьким Йосефом на коленях слушает речь раввина. И потом бар мицва Йосефа, и он стоит перед всеми и громким звучным голосом поет отрывок из Торы; вот он вернулся из ешивы, и встретился с ней взглядом, и улыбнулся из-за перегородки в синагоге.
Глаза Мими привыкли к темноте, и, оглядевшись, она поняла, что не одна здесь. В дальнем конце комнаты в кресле угадывался чей-то силуэт. Мими спустилась по ступенькам, в смутной надежде, что это Йосеф. Но, приблизившись, увидела, что это вовсе не он. Мими узнала длинные белокурые волосы, наклон головы, длинный струящийся шарф.
Бат-Шева услышала шаги и вскочила. Две женщины молча смотрели друг на друга.
– Мими, мне так жаль, – наконец вымолвила Бат-Шева.
На ее лице тоже были следы слез. Она попыталась обнять Мими, но та отстранилась.
– Ты знаешь, что Йосеф уехал, – сказала она, то ли спрашивая, то ли утверждая.
– Да, – ответила Бат-Шева.
Мими столько держала горе в себе, что теперь, оказавшись лицом к лицу с Бат-Шевой, была больше не в силах сдерживаться. Срывающимся голосом она поведала, как прошлым вечером, когда они с раввином уже собирались спать, зашел Йосеф и сказал, что он совсем потерялся. Сказал, что не знает, хочет ли возвращаться в ешиву, хочет ли становиться раввином. Сказал, что не уверен, что хочет быть религиозным. Он усомнился в том, чего, как привык считать, он хотел; ему не давало покоя, что он никогда не продумывал ничего сам, никогда не доходил самостоятельно до того, чего хочет и кто он такой. И единственная возможность переменить это – уехать из Мемфиса. Сказал, что здесь он не в состоянии трезво мыслить, здесь слишком большое давление и слишком многого от него ждут.
Он решил пожить с друзьями в Нью-Йорке, пока не поймет, что делать дальше: может, поступит в колледж, может, отправится на работу, может, надумает путешествовать, он ничего еще точно не знает. Раввин был потрясен – он не сознавал, что с Йосефом что-то не так. Но Мими давно это видела и теперь наконец поняла, откуда беспокойство и тоска, которые она читала на лице Йосефа все последние месяцы. Раввин пытался уговорить его остаться, он не мог поверить, что сын не будет здесь раввином, что, возможно, даже отойдет от религии. Но Мими знала, что, как бы им ни хотелось удержать его, они должны были его отпустить.
Бат-Шева кивала, слушая Мими; она уже давно знала, что мучило Йосефа.
– Так и есть, Мими. Он понимал, что должен уехать, – произнесла она.
– Но мне нужно знать почему.
– Он сказал, что уже давно думал об этом, но в нынешнем году стало еще хуже. Когда мы только начали заниматься, ему казалось, что все совершенно ясно и понятно. Но через какое-то время он сказал, что недоволен своими ответами.
– Но почему он не доверился мне? – спросила Мими.
– Он хотел, но боялся. Он пробовал объяснить отцу, когда сказал, что решил пропустить год в ешиве, но не хватило духу расстроить вас обоих. В конце прошлого года он очень устал и думал, что перерыв на лето – как раз то, что нужно. Но и спустя несколько месяцев не появилось желания вернуться. Ему было необходимо разобраться в себе, но, когда люди принялись обсуждать его, он не смог этого вынести, – ответила Бат-Шева и покачала головой. – Мими, поверь, я бы мечтала, чтобы он остался. Но мы обе знаем, что так для него лучше.
Мими почуяла боль в голосе Бат-Шевы. Было ясно, что ей тоже будет очень не хватать Йосефа. Она вспомнила долгие разговоры Бат-Шевы с Йосефом на веранде и то, каким усталым, каким подавленным он казался. Как бы ей хотелось не верить, но ведь все остальные ничуть не сомневались, что у этих двоих непристойная связь.
– Прошу тебя, мне нужно знать, что было между вами, – произнесла она.
Бат-Шева удивленно взглянула на Мими – она не ожидала, что та станет доверять слухам.
– Нет, Мими, между нами этого не было.
– Тогда что было?
– Не буду обманывать, что никогда не думала об этом. Думала. Йосеф был мне очень близок. К тому же он единственный здесь понимал меня. А я была единственной, с кем он мог выговориться, и потому наша дружба была особенной. Но мы ничего не предпринимали. Я приехала сюда начать все заново. Я понимала, что мы не можем быть вместе. Я бы никогда не поступила так по отношению к тебе, или к нему, или даже к себе. Мими, пожалуйста, поверь мне. Меня больше не трогает, кто что обо мне здесь думает, но ты должна мне верить. Если бы я могла, непременно рассказала бы тебе, что Йосеф хочет уехать, но я пообещала, что буду молчать, что он сам решит, как поступить, когда будет готов.
Мими посмотрела на Бат-Шеву. Она вспомнила о том, как они были близки все эти месяцы, как она приняла решение не прислушиваться ко всем россказням, ходившим вокруг Бат-Шевы. Она снова ощутила прежние доверие и понимание и расплакалась.
– Я так тревожилась за Йосефа, что уже не знала, что и думать. Так боялась, что, может, все правы и у вас с Йосефом связь, и поэтому он такой потерянный и не хочет возвращаться в ешиву. – Мими с мольбой посмотрела на Бат-Шеву. – Прости меня.
Бат-Шева прижала к себе Мими, и так они и стояли, обнявшись, перед ковчегом, раскачиваясь взад-вперед.
Многие из нас все еще винили Бат-Шеву в отъезде Йосефа, когда услышали об этом разговоре между ней и Мими. Мы не хотели расставаться с идеей, что у Бат-Шевы с Йосефом были отношения и в этом корень всех наших несчастий, но обнаружили, что все труднее верить в эту версию событий. Может, присутствие Бат-Шевы и сыграло какую-то роль в его решении, может, нет, но так или иначе мы поняли, что все гораздо сложнее. Мы вспомнили Йосефа, то, каким печальным он выглядел, как избегал общения с нами, и увидели, что все сказанное – правда. Он оставил нас, потому что уже не понимал, чего он хочет, потому что не понимал, кто он сам.
Мы даже поймали себя на том, что уже были бы не прочь, если бы у Бат-Шевы и Йосефа и в самом деле были отношения. Тогда все объяснилось бы куда проще. Мы бы убедили себя, что подобных историй можно избежать, если еще надежнее укрепить границу между полами. Это стало бы единичным эпизодом, чем-то, что вряд ли повторится, если только мы проявим бдительность. Но теперь получалось, что все вызывает сомнение. Дело было не столько в самом отъезде, сколько в том, что он отверг нашу общину и то, во что мы верили. Уезжая вот так, Йосеф ясно говорил, что не хочет иметь с нами ничего общего.
Мы не могли думать ни о ком, кроме Йосефа. Мы все надеялись увидеть его, выглянуть в окно, когда он идет мимо, достать из ящика газету, когда он забирает свою. Или встретить его в синагоге, в школе или магазине, словно ничего не изменилось. Но мы его не видели, и зрение играло с нами злые шутки: каждого молодого человека, любого одетого в темные брюки и белую рубашку мы принимали за Йосефа.
Мы пытались представить, что он испытывал, чувствуя себя чужаком в городе, который распахнул ему свои объятия. Пытались представить, что смотрим на общину, которую так нежно любили, и видим лишь узкий мирок, которому недостает широкого взгляда на жизнь вокруг. Мы считали, что пущенные здесь корни питают и поддерживают нас, но теперь пытались представить, как они перекручиваются друг вокруг друга тугими, удушающими узлами.
И пытались представить, что начинаем сомневаться в идеях и убеждениях, которые сформировали нашу жизнь. Напоминали себе, что когда-то у нас тоже был выбор, хотим ли мы стать религиозными, что он есть и сейчас, даже если обычно мы об этом не задумывались. И тотчас нахлынули все сомнения, что, бывало, мучили нас в разные годы, и мы подумали, как иногда тяжело оставаться религиозными, каким недоступным бывает наш Бог, какое это одинокое дело – всегда быть не таким как все. Мы воображали, как Йосеф спит допоздна без утренней молитвы, не носит кипу. Как нарушает шабат и ест все, что заблагорассудится. Но этот человек в наших фантазиях уже не был Йосефом. Выпав из нашего мира, он словно перестал существовать. Пусть даже мы никогда не верили, что Шира Фельдман может зайти так далеко, но она всегда была бунтаркой. А Йосеф был лучшим и умнейшим из нас. Он не просто должен был вернуться, он должен был стать нашим предводителем. Если уж он смог покинуть Мемфис и бросить все, во что мы верили, сможет и любой из наших детей.
– Может, он еще вернется, – в отчаянии сказала Хелен Шайовиц. Если бы только она очнулась раньше, может, она бы смогла повести общину в правильную сторону, может, помогла бы сделать ее той особенной и дружной, какой община была в ее мыслях. Она вспомнила услышанную как-то историю: одна женщина распускала слухи о своих соседях, но потом пожалела о своих словах. Она отправилась к раввину и спросила: как ей вернуть сказанное обратно? Он велел взять набитую перьями подушку, отнести ее на самый высокий холм и разорвать так, чтобы перья разлетелись во все стороны. А потом, добавил раввин, пусть придет к нему снова и он скажет, что делать дальше. Она все исполнила, и, когда вернулась, раввин сказал пойти на улицу и собрать все перья. Но это же невозможно, вскричала она. Они же разлетелись по всей деревне! Он взглянул на нее и улыбнулся. То же произошло и с твоими словами, ответил он. Хелен видела себя этой женщиной, которая тщетно пытается собрать все перья, сорвавшиеся когда-то с ее губ.
– Брось, Хелен, – сказала миссис Леви. Ее взгляд был холоден, в голосе звенел лед. – Даже тебе было бы странно в это верить. Пора уже раскрыть глаза и увидеть, что происходит на самом деле. Не забывай, я с самого начала знала, что все обернется не лучшим образом.
И то верно, не лучшим. И даже гораздо худшим, чем ожидала миссис Леви. По ее мнению, Мемфис в штате Теннесси был уже не тот. До нынешнего года миссис Леви полагала, что община будет и дальше жить, как прежде. В этом и есть смысл традиции: все поколения связаны столь крепкими узами, что возможно построить нечто долговечное для детей, внуков и будущих поколений. От того, что все это могло быть утрачено, миссис Леви чувствовала себя слабее и незначительнее.
– Ты всегда говоришь, что все обернется не лучшим образом, – взорвалась Хелен, не желая больше принимать слова миссис Леви за истину в последней инстанции. Много лет она только это и делала, но теперь раздражение выплеснулось наружу; пора не бояться высказывать свое мнение. – Ты никогда не задумывалась, а не из-за тебя ли в том числе все это произошло?
Миссис Леви вздохнула. Хелен понятия не имеет, о чем говорит; никогда не понимала и не поймет. Если бы не миссис Леви, Хелен и сейчас была бы неизвестно кем.
– По крайней мере, я активно участвую в жизни общины и делаю многое, чтобы помочь. Чего нельзя сказать о тебе, – отрезала она, официально положив конец тридцатидевятилетней дружбе.
– Никто мне не верил, – говорила Ципора Ньюбергер себе и всем, кто готов был ее выслушать. – Я с самого начала знала, что нельзя доверять Бат-Шеве.
Хотя между Бат-Шевой и Йосефом не было ничего неподобающего, сам факт их дружбы доказывал, что есть некоторые границы, которые нельзя переступать. Ципора всегда знала, что опасно быть чересчур открытой: стоит только впустить разные посторонние мысли, и неизвестно, куда они тебя заведут. Может, теперь-то все наконец поймут, что, коли ступил на скользкую дорожку, сойти с нее уже не получится. Но Ципора больше не будет в ответе за то, чтобы достучаться до всех, чтобы все сами это увидели. Единственным спасением будет затвориться как можно крепче, выстроить ковчег для своей семьи, который убережет их в потопе трудных времен, ожидающих впереди.
Леанна Цукерман радовалась, что Йосеф уехал, и не боялась говорить об этом вслух. Ей было жаль того, что мы потеряли, но не его самого. Она надеялась, что когда-нибудь Йосеф найдет дорогу обратно, что он во всем разберется и не утратит того, что ему действительно важно. Но пока ей хотелось лишь, чтобы он обрел свое счастье, чтобы ушел с миром и вернулся с миром, куда бы ни привел его этот путь.
Для Бекки Фельдман отъезд Йосефа отодвинулся на задний план. В то утро наконец позвонила Шира. Бекки заплакала, едва услышав ее голос, и стала умолять дочь вернуться – никаких наказаний, никаких допросов. Шира тоже расплакалась и рассказала, что они с Мэттом в Калифорнии, что они последние недели путешествуют на машине, стараясь думать об этом времени, как об отпуске от реальной жизни. Она не согласилась вернуться, по крайней мере пока, но обещала позвонить через пару дней, и впервые у Бекки появилась надежда.
Вместо того чтобы поучаствовать во всех этих разговорах, Рена Рейнхард осталась дома. Она наконец приняла решение. В тот вечер она подошла к кабинету мужа, постучала в дверь и сообщила, что хочет развода. Он был поражен – никак не думал, что она когда-нибудь на это отважится. Когда раньше Рена рисовала себе этот момент, всегда представляла себя в слезах. Но, к своему удивлению, она вовсе не заплакала, она была спокойна и выдержанна. Она не переживала из-за того, что скажут в общине, ее больше не волновало, станет ли она предметом пересудов. Ей только хотелось обрести новую жизнь.
Наоми Айзенберг думала о том, как увидела Йосефа с Бат-Шевой в вечер накануне его отъезда. Наоми с мужем решили пройтись. Было больше одиннадцати, и Бат-Шева с Йосефом стояли на улице, в мягком свете фонаря. Они разговаривали, и оба выглядели очень печальными – наверное, прощались. Йосеф дернулся, когда заметил Айзенбергов, и отступил на шаг от Бат-Шевы. Пройдя мимо, Наоми ощутила родство с Бат-Шевой, а теперь и с Йосефом. Вместе они образовывали негласную общину изгоев, живших за пределами той, всеми признанной. Они с мужем шли все дальше, и Наоми, оглядевшись вокруг, повернулась к мужу и сказала, чтобы он соглашался на работу в Атланте. От сознания близости отъезда у нее шоры спали с глаз, и Наоми вдруг ясно увидела, что Мемфис никогда не был ей родным. Он никогда не был ей настоящим домом, пусть даже она и прожила в нем всю свою жизнь.
Мы воображали сцену отъезда Йосефа снова и снова, будто это кино, которое показывают на огромном экране над нашими лужайками. Он долгими месяцами вынашивал это. Чем дольше они занимались с Бат-Шевой, тем отчетливее он слышал пустоту в собственном голосе, когда отвечал на ее вопросы, тем яснее сознавал, что нет в нем той уверенности, о которой заявлял. И когда занимался с отцом, уже не чувствовал связи с традицией, как прежде.
Он все надеялся, что эти сомнения рассеются и больше не о чем будет волноваться. Но становилось только хуже, и вопросы о том, верит ли он в ту жизнь, которой живет, съедали его, превращая в измученного, замкнувшегося в себе Йосефа, которого мы уже привыкли видеть последние месяцы.
Но он все равно не был уверен, что сможет вырваться, – совсем не просто пересмотреть всю свою жизнь и, более того, что-то с ней сделать. Когда он начал строить планы, обзванивать нью-йоркских друзей, узнавая, можно ли у них остановиться на какое-то время, бронировать билеты на самолет, он все еще не был уверен, что не дрогнет. Но он снова мысленно перебирал все, что произошло, и мечтал оказаться где-то, где не будет чувствовать, как ему в спину дышит толпа людей.
Мы досочинили рассказ Наоми о прощании Бат-Шевы и Йосефа в свете фонаря и уже чуть ли не слышали, как они говорят о том, что было между ними. Как у них были чувства друг к другу, но они их сдержали. И как Йосефу нужно отправиться в путь, чтобы узнать, чего он по-настоящему хочет. Бат-Шеве было невыносимо видеть, что он уезжает, она говорила ему, что не может представить жизни в Мемфисе без него. И все же она останется здесь; все будет не так, как она рисовала в мечтах – легко и гладко стать частью общины, – но и так сгодится, по крайней мере пока. И как знать, добавила она с улыбкой, быть может, их пути еще пересекутся, ведь неизвестно, что таит в себе будущее. Йосеф безумно хотел обнять ее на прощание и, прежде чем уйти, прижал ее к себе и зарылся лицом в ее длинные волосы.
И мы видели, как Йосеф возвращался домой, утирая слезы после прощания с Бат-Шевой. Мы воображали, как он, должно быть, наконец собрался с духом и рассказал родителям, что у него на душе; долгие месяцы он держал это в себе, и пришла пора признаться, что он остался дома, потому что не был счастлив в ешиве; думал немного отдохнуть от того мира, а теперь уже не был уверен, готов ли вообще в него вернуться. Вопросы сыпались один за другим, словно он потянул за ниточку в свитере, и тот полностью распустился. Реакция отца была предсказуема. Он был потрясен, он ни о чем не подозревал. То, что отец так мало понимал про сына, что тому было так легко скрывать свои сомнения, только все усугубляло. Йосеф разрывался на части, оказавшись перед выбором сохранить верность отцу или себе. Но мать понимала, и она его отпустила. Она поцеловала его в лоб и сказала, что, раз он этого хочет, они примут его решение. Но он должен помнить, что они любят его и, если понадобится, всегда будут рядом.
На следующее утро, когда пришло время отправляться в путь, он закинул сумку на плечо и вышел в дверь. Затворяя ее за собой, он увидел в щелку кусочек маминой кухни. Он замер и постарался вобрать каждую мелочь, мечтая, чтобы можно было собрать воспоминания так же, как он собрал свои вещи. Он захлопнул дверь и вышел в раннее-раннее утро, время, когда кажется, что все на свете возможно.
Мы никогда не рисовали себе, как он куда-то приезжает. Дорога, уводящая его, делалась все длиннее, любой неподвижный отрезок земли превращался в мираж, так что Йосеф всегда лишь удалялся от нас. И пусть даже мы могли в мельчайших подробностях вообразить, как он уезжал, могли заполнить все пустоты между моментом, когда последний раз видели его, и часом, когда узнали о его исчезновении, но мы не могли дорисовать себе то, что происходило у него в голове весь этот год. Мы полагали, что видим его насквозь, но поняли, что не видели ровным счетом ничего; в его карих глазах мы видели только то, что хотелось нам самим.
Отсутствие Йосефа породило пустоту в сердце нашего квартала, словно посреди ночи вереница бульдозеров вырыла зияющую яму. И с каждым днем она делалась все больше, подступая все ближе к фундаменту наших домов, которые сгрудились вокруг, зависнув у самого края. Следующие дни ни у кого не было сил ни говорить, ни думать о стремительно приближавшемся празднике Шавуот. Нам все напоминало о Йосефе. И наши дети тоже. Глядя на них, мы угадывали в их лицах его черты.
20
Шавуот знаменует дарование Торы на горе Синай – центральное событие в нашей истории, – но ему всегда не уделяется должного внимания. Сукки не строят, дома не убирают, меноры не зажигают. Только едят блинчики и чизкейки – вот и все обычаи.
Мы с трудом справлялись с подготовкой к празднику. Все давалось непомерными усилиями; мы едва умудрялись заставить себя выполнить самый минимум и, вместо того чтобы чувствовать наше единство, ощущали полное одиночество. Мы реже виделись. Стены наших домов стали толще, крепче и непроницаемее, мы замкнулись на собственной жизни и жизни своих семей.
В первый вечер праздника есть традиция всю ночь учить Тору, чтобы снова принять слово Всевышнего в годовщину ее дарования. Но мы этого не делали. Это касалось мужчин; и кто-то ведь должен был подать им завтрак на следующее утро. Но в этом году Мими объявила, что проведет занятие для женщин. Мы почти не говорили с ней после отъезда Йосефа. Миссис Леви как-то видела их на улице с Бат-Шевой, обе почти одного роста, обе стройно сложены, так что со спины их можно было принять за сестер. Но с нами Мими почти не общалась. Она ни в коем случае не была невежлива, непременно здоровалась при встрече – и все же явно отдалилась от нас.
Без Мими мы были потеряны, толпа без предводителя и дороги, как евреи в пустыне, бесцельно блуждающие в поисках недостижимого прибежища. Мы очень обрадовались, услышав про занятие с Мими, мы надеялись, это знак того, что она возвращается к нам. Мы хотели бы вернуть все, как было прежде. Но как бы нам ни хотелось, мы понимали, что уже слишком поздно. Столько всего произошло за последний год, что нелепо было притворяться, будто община заживет прежней жизнью.
В синагоге весь бейт мидраш был занят нашими мужьями и сыновьями. Они изучали Тору в парах, прерываясь только на чашку кофе с печеньем, которые накрыли для них на столе женщины из общины, чтобы все могли заниматься до поздней ночи. Мими собирала нас в маленькой комнатке сбоку, и мы все расселись и ждали начала.
Бат-Шева тоже пришла и устроилась в первом ряду. Мы видели ее в эти дни, но никто так и не заговорил с ней; а что тут скажешь? Аяла спала, свернувшись у нее на коленях. По сторонам от Бат-Шевы сидели Леанна Цукерман и Наоми Айзенберг и несколько девочек-старшеклассниц, чуть дальше – Илана, Хадасса и Нехама. Бат-Шева оглядывала комнату без всякой злости или неловкости. Она вообще смотрела поверх нас. С Леанной, Наоми и девочками она создала отдельную общину, маленькую, но свою.
Мими стояла перед нами. Лицо горело решимостью; она больше не выглядела нежной и ранимой. Она подготовила урок по книге Руфи, которую читают в синагоге на второй день праздника. Мы хорошо знали эту историю, но редко над ней задумывались; ей не отводилось такого внимания, как Моисееву Пятикнижию.
Мими начала с пересказа истории: во времена правления судей на Землю Израиля обрушился голод, и Элимелех и Наоми отправились в землю Моавитскую, где их сыновья женились на моавитянках Руфи и Орфе. Они жили в согласии до самой смерти Элимелеха, но вскоре нежданно умерли и оба сына. И женщины, оставшись одни, отправились обратно. В пути Наоми умоляла своих невесток вернуться в свою землю, к своему народу. И Орфа попрощалась и пустилась домой. Но Руфь не бросила свою свекровь. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, – сказала она. – Твой народ будет моим народом». Когда добрались они до Израиля, город пришел в движение: это ли Наоми, что жила в достатке, возвращается с пустыми руками? И что это за моавитянка вместе с нею? И Наоми закричала, что пришла ни с чем, что испытала несчастья и горести.
Каждое утро Руфь ходила на поля богачей и собирала за жнецами колоски. Однажды хозяин поля Вооз заметил ее и отправил домой с корзиной еды. Увидев это, возрадовалась Наоми, потому что Вооз был дальним родственником Элимелеха и, быть может, он исполнит свой религиозный долг и женится на Руфи. С наступлением ночи Наоми велела Руфи пойти к Воозу, и она сделала, как сказала Наоми. Она легла в ногах Вооза, и он проснулся в испуге. «Это я, Руфь, – сказала она, – пришла к моему избавителю». Вооз и Руфь поженились, и родился у них сын, и в глазах людей это было хорошо. И сына звали Овид, который родил Иессея, который родил Давида, царя Израиля.
Мими напомнила нам, что династия царей Израиля восходит к Руфи. Хотя сначала все относились к ней с недоверием, потому что она была моавитянкой, но Господь вознаградил ее за праведность, сделав прародительницей царей Израилевых; и значение имели ее личные заслуги, а не ее прошлое. Мы слушали Мими и видели, как она смотрит на нас, и события прошедшего года становились частью этой книги. Мы увидели себя в героях, которыми не хотели быть, и желали лишь, чтобы можно было исправить сказанное и содеянное нами. Мы старались не встречаться друг с другом глазами. Все, что казалось таким ясным, вдруг утратило резкость; линза была повернута под неверным углом, и теперь все впереди и позади нас стало мутным и размытым.
После занятия Мими мы попрощались с мужьями и сыновьями и направились домой. Мы давно не бывали на улице в столь поздний час. Нас удивила прохлада, резкая, пронизывающая, лишенная влажности, уже ощущавшейся днем, в преддверии лета.
Мы взглянули на часы. Почти полночь. Мы вспомнили кое-что, о чем не думали с самого детства. Каждый год в эту ночь, ровно в двенадцать, небеса разверзаются, и на миг людям открывается царство небесное. В это короткое мгновение заново проигрывается сцена дарования Торы, чтобы все евреи всех поколений могли быть свидетелями завета между Всевышним и Его народом.
Мы все были там: миссис Леви, Хелен Шайовиц, Леанна Цукерман и Рена Рейнхард, Наоми Айзенберг, Ципора Ньюбергер, Джослин Шанцер и Бекки Фельдман, Арлина Зальцман, Бесси Киммель, Эдит Шапиро, Эстер Абрамович, Йохевед Абрахам, Норель Беккер и Рэйчел Энн Беркович – все мы ждали, когда откроются небеса, чтобы Всевышний и его царство были явлены нам.
Наши дочери шли позади, болтая и смеясь, голоса звучали громко и бойко; они привыкли ложиться поздно. До нас доносились обрывки их разговоров о планах на лето и предвкушении следующего года, когда они наконец-то уедут отсюда подальше. Бат-Шева тоже вышла из синагоги и шагала позади нас вместе с Мими. Она несла на руках спящую Аялу. Мы остановились, и они тоже, с недоумением глядя, чего же мы ждем.
Мы задрали головы и воззрились на небо, надеясь что-то увидеть. Мы так хотели докричаться до Всевышнего, просить его вернуть нас в былые времена, когда город еще был чист и полон возможностей. Но ничего не увидели мы там, наверху. И хотя не ждали всерьез, все же ощутили разочарование. Может, это всего лишь сказка, придуманная, чтобы не дать детям уснуть допоздна.
Только мы махнули рукой и собрались идти, как небо озарилось, словно от вспыхнувшей молнии. Мы смотрели вверх, надеясь увидеть гору Синай посреди пустыни, души всех евреев, стоящих у подножия, как единый народ с одним сердцем, замерший в ожидании сошествия Господа. Мы ждали столбов огня и дыма, пения труб, а потом и полной тишины, в которой эхом отзывались слова Десяти заповедей. Но вместо всего этого мы увидели лишь самих себя.
Был Мемфис на высоком крутом берегу и река Миссисипи, вьющаяся вокруг. Наши дома стояли ровными рядами, внутри горел свет, будто мы были внутри и жили своей жизнью. Были наша синагога и школа, ресторан и кошерная лавка, и другие магазины, в которые мы ходили. Все выглядело в точности так, как обычно, разве что на фоне бесконечной россыпи звезд казалось меньше и незначительнее.
В небе над нами была череда рук: наши предки держались друг за друга, наши бабки, прабабки и так до самих Сары, Ревекки, Рахили и Лии. Мы были частью этой вереницы женщин, были связаны с ними своей повседневной жизнью, шабатами, которые мы готовили, праздниками, которые отмечали, домами, которые создавали. Даже Бат-Шева была там, держась за руку Мими. Но когда мы смотрели по другую сторону этой длинной вереницы, наши дочери были где-то вдалеке, кто-то ближе, кто-то нет, и когда мы тянулись, насколько хватало рук, у нас едва лишь получалось коснуться их.
Не успели мы хорошенько подумать и разглядеть друг друга, как видение исчезло. Мы продолжали всматриваться в небо, надеясь, что нам дадут ответ, укажут путь. Но небеса оставались недвижимы, и мы наблюдали лишь дымку ночных облаков, и серебристый лик луны, и черноту уходящего в бесконечность неба. Мы опустили взор и отправились по домам. Было поздно, и мы устали. Мы уже не доверяли своим глазам.
Очень много людей помогали мне с написанием этого романа
Я хочу поблагодарить моих учителей Школы искусств Колумбийского университета, и особенно Ребекку Голдштейн и Бинни Киршенбаум за их мудрость и поощрение.
Я очень благодарна моему редактору Джил Бьялоски, которая безмерно поддерживала меня и давала бесценные редакторские советы. Николь Араги была настоящим благословением, став моим агентом. Я видела, какие чудеса она творит, сначала в качестве ее стажера, а потом и клиента.
Хочу поблагодарить Дэвида Вольфа за чтение многочисленных черновиков и неизменно честную и глубокую критику.
Мои родители, Линни и Дэвид Мирвис, поддерживали меня в каждом шаге на этом пути. Я благодарна моему отцу за его проницательные советы и за то, что научил меня не отступать, и моей матери за то, что привила мне любовь к историям и поделилась со мной своими. Я также хочу поблагодарить мою сестру Шони Мирвис за чуткость, глубокое понимание предмета и за то, что она всегда рядом; моего брата Симми Мирвиса и невестку Элишеву Каган за моральную поддержку и ценнейшие советы; и мою бабушку Дотти Кац за консультации по вопросам южного диалекта.
И я особенно признательна моему мужу Аллану Гальперу за его бесконечную поддержку и любовь, за острый редакторский глаз, за его предложения, которые дали дорогу новым идеям. Я всегда буду благодарна ему за то, что позволил дамам из кружка «Мы» прожить с нами все эти три года.
