Красная глобализация. Политическая экономия холодной войны от Сталина до Хрущева бесплатное чтение
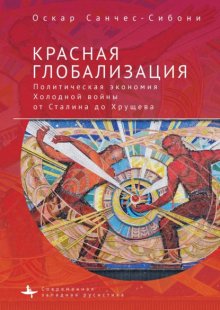
Oscar Sanchez-Sibony
Red Globalization
The Political Economy of the Soviet Cold War from Stalin to Khrushchev
Cambridge University Press
2014
Перевод с английского Константина Фомина
© Oscar Sanchez-Sibony, 2014
© Cambridge University Press, 2014
© К. В. Фомин, перевод с английского, 2021
© Academic Studies Press, 2021
© Оформление и макет. ООО «Библиороссика», 2022
Слова благодарности
Благодарю Вас, Шейла. Вы не были впечатлены мои изначальным видением книги и ограничились лишь напоминанием о мотивациях, которые двигали мной при поступлении в Чикагский университет и о которых я забыл по мере погружения в исследовательскую область. Однако туман рассеялся; новая идея для книги была поддержана Вами. И когда распахнулись ворота архивов Министерства иностранных дел, Вы одобрили наскоро скорректированный план работы. Вы продемонстрировали веру в мои силы и интересы, и диссертация, которая легла в основу этой книги, во многом обязана сочетанию постоянства и гибкости, сделавшему Вас одним из лучших консультантов в этой области. Позже, во время предпринятой с целью превращения диссертации в монографию поездки в Москву, Вы порекомендовали мне несколько прекрасных источников, которые помогли мне в работе над этой книгой. Ее содержание, пожалуй, вышло за пределы привычного Вам исследовательского поля. Я несу персональную ответственность за невзвешенные утверждения, идущий вразрез с вашим научным этосом воинственный тон и ошибки. Но то, что эта книга может оказаться полезна нашим коллегам и обычным читателям, это по большей части заслуга Вашего руководства. Благодарю Вас.
Перед моими товарищами из чикагской группы я тоже в большом долгу. В течение многих лет мы обсуждали работы друг друга в университетских аудиториях и барах, во время прогулок и еды. Дать друг другу конструктивные советы по улучшению работы мы могли не всегда, но, я полагаю, сам обмен идеями помогал нам поддерживать постоянный интеллектуальный тонус. Обсуждение бесконечного числа вопросов, касающихся советской действительности, отдавалось эхом в моем мозгу, находя выход в аргументах, выражениях, риторических приемах, которые я демонстрирую в книге. Конечно, моя интуиция не является определяющим фактором, способствовавшим появлению книги. Стейси Мэнли, Андрей Шляхтер, Кен Ро, Майкл Уэстрен, Энди Янко, Кечин Ся, Ми Накачи, Бен Зайчек, Эд Кон, Дженнифер Амос, Алан Баренберг, Джулия Фейн, Рэйчел Эпплбаум, Джули Башкина, Лия Голдман, Флора Робертс и Натали Бельски, ваши сильные стороны – трудовая этика, интерес к истории и опыту Советского Союза, навыки архивной экспертизы – стали примером, подражать которому я стремился; спасибо вам всем за дружескую атмосферу в Чикаго. Я особенно благодарен судьбе за то, что мне довелось встретиться с одним из многих талантливых студентов Чикагского университета – Эндрю Слойном. Эндрю, не так давно я перечитал Ваше первое письмо. Вы отправили мне свои комментарии по поводу какой-то главы, возможно первой, моей диссертации. Сейчас я уже не могу вспомнить о том, как они мной были восприняты – вероятно, показались мне неуместными и несколько эксцентричными. По мере повторного прочтения письма мое смущение росло. Многие из основных аргументов книги, над которыми велась усиленная работа, присутствовали в Вашем электронном письме в явной или зачаточной форме. В работе над книгой я каким-то подсознательным образом стремился к представленному в первом письме видению главы, вероятно, потому, что ему было придано большее значение по сравнению с множеством сортов пива и электронных писем, которыми мы позже делились и обменивались.
В Чикаго мне довелось познакомиться с еще тремя людьми, которые по сей день продолжают определять мою академическую идентичность и след общения с которыми можно обнаружить в этой книге. Покойный Ричард Хелли часто склонялся к идеям, которых я не разделял, но он был выдающимся учителем. Он был грубым, иногда прибегающим к провокациям человеком, чьи похвалы были столь же неохотными, сколь и воодушевляющими. Ричард Хелли был образцом для подражания – идеальным коллегой, на которого я по сей день хочу походить. Рональд Суни – последний из изучающей российско-советскую историю замечательной чикагской команды, кого я не упомянул. Рон, с Вашими способностями к оценке и улучшению аргументации сложно соперничать, но одно только наблюдение за Вашей работой на семинарах в Чикаго и во время частных консультаций уже много значило для моего интеллектуального развития. Не менее значимыми были советы Брюса Камингса. Брюс, я помню Ваши комментарии, непринужденные и вместе с тем всегда обоснованные. Возможная интеллектуальная ценность этой книги во многом обязана моему знакомству с Вашими идеями. При повторном прочтении Ваших работ я испытываю удовольствие, которое не могу до конца объяснить себе самому. Эта книга, конечно, не дотягивает до стандартов, предъявляемых Вами к хорошему письму, но я принял Ваш символ веры, и то литературное удовольствие, которое она может принести, объясняется тем, что я следовал Вашему примеру.
Брюс Камингс – специалист в области международной политэкономии (МПЭ); характерной чертой этого направления является общий подход к пониманию власти и международных отношений, практически не оспариваемый политологами, но необоснованно трактуемый консервативным крылом историков, занимающихся холодной войной, как марксистский «ревизионизм» и «экономический детерминизм». Если Брюс бросил семена, Омар, брат мой, ты провел меня через заросли МПЭ. Твоя помощь в вычитке, критике и улучшении работы неоценима. Как и наша сестра Оливия, ты направлял меня с незапамятных времен и продолжаешь это делать. Без твоего участия не было бы никакого нового плана книги, который могла бы поддержать Шейла Фицпатрик, или продолжения, в которое она могла бы поверить; эта книга, возможно, не была бы написана, если бы не ты, или она могла бы быть чем-то совсем другим, и, безусловно, менее интересным.
Не только моя собственная семья или чикагские друзья и коллеги оказывали мне моральную и интеллектуальную поддержку. От Элизабет Макгвайр я мог получить и то и другое. В моменты пика интеллектуального одиночества Вы, как по волшебству, появлялись, чтобы организовывать аудиторию в десять тысяч человек или дать стимулирующую критическую оценку. В последний раз Вы совершили чудо, предоставив рецензию на диссертацию (за которую я также благодарю редакторов соответствующего веб-сайта) как раз в тот момент, когда я предпринял последний рывок к завершению книги. Благодарю Вас за это. Бен Лоринг, Бриджид О’Киф, Бен Сойер, Келли Колар и другие время от времени обсуждали со мной связанные с советской действительностью и не только вопросы уже после защиты диссертации – чтобы убедиться, насколько я далеко ушел, – ив этом состояло обнадеживающее продолжение. Стив Мэддокс, Кристиан Тайхманн, Джош Сэнборн, Джесси Феррис, Арч Гетти, Шон Гиллори, Майя Хабер, Грег Квеберг, Алекс Оберлендер, Кристоф Гамб и многие другие, кто собирался в Москве каждую пятницу вечером в тот период, когда я проводил там критически важную часть исследования для этой книги, благодарю вас за компанию и общение.
В ходе работы над книгой я пользовался финансовой и инфраструктурной поддержкой со стороны множества институций. Стипендия Фулбрайта – Хейса и неожиданно выигранная стипендия Международного совета по научным исследованиям и обменам (IREX) позволили мне работать над первоначальным вариантом диссертации. В итоге получился текст, сильно отошедший от изначального замысла, который я представил стипендиальным комиссиям, за что не переставал чувствовать себя отчасти виноватым, особенно с учетом того, что новая тема, которую раскрывает эта книга, никогда не находила того же восторженного отклика, что и предыдущая, посвященная советско-кубинским отношениям. Вернувшись в Чикаго, я выиграл стипендию попечителей Чикагского университета, позволившую мне написать большую часть диссертации. Сотрудники Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ) и Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), а также работники Библиотеки Ламонта Гарвардского университета и Джун Фаррис, работающая в библиотеке Чикагского университета, всегда оказывали мне квалифицированную помощь. И хоть ни одно учреждение не считало эту тему достойной дополнительной поддержки, моя работа в конце концов была отмечена премией Такера – Коэна Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES); я всегда буду благодарен комиссии 2010 года, особенно ее председателю Льюису Сигельбауму, за моральную поддержку и оказанное мне доверие. Некоторое время спустя, находясь в чудесной Польше, я переработал первоначальный вариант книги. Выражаю благодарность Анджею Камински и Джиму Коллинзу за приглашение на конференцию «Восстановление забытой истории: образ Восточной и Центральной Европы в англосаксонских учебниках», сотрудникам Университета Лазарского – за безупречную организацию и урок гостеприимства, а также Дарье Наленч и Анджею Новаку – за то, что нашли в своем плотном графике время для вычитки и критики первоначального варианта книги. В 2011 году на обратном пути в Москву я познакомился с сотрудником Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), которому я также многим обязан. Деньги на упомянутую поездку были предоставлены щедрым Университетом Макао. Я должен особенно поблагодарить его сотрудника Тима Симпсона за неоценимую помощь в своевременном получении средств.
Кай, тебе никогда особо не нравилась эта книга, не так ли? К тому времени, когда у тебя появится мысль прочитать ее, изложенные в ней идеи устареют. Вне зависимости от своей полезности она запомнится, если вообще запомнится, тем, что в ней было упущено или сделано не так. Кай, работа над этой книгой отдалила меня от тебя, и другие проекты в будущем сделают то же самое. Они также не позволят проводить с твоим братом Лукой (еще не рожденным, но собирающимся появиться на свет до выхода этой книги) столько времени, сколько я бы хотел проводить. Кай, не сердись. Я должен проложить путь, и эта книга его начало. Я не знаю, к чему приведет инициированная ей дискуссия, Кай, но на данный момент она является частью проекта по освещению остающихся в тени сюжетов, который позволил бы вам жить в более безопасном мире. Твоя мама также хочет, чтобы ты проявил благоразумие. Она пожертвовала больше, чем кто-либо другой, внося свой вклад, и этот проект, наряду с другими, в такой же степени ее, как и мой. Кай, не сердись. Я надеюсь, что однажды ты тоже присоединишься к обсуждению. Его формы многочисленны и разнообразны, и ты сможешь выбрать свою. До того дня мы с твоей мамой будем разговаривать с тобой и Лукой, а также со многими тысячами, вместе с которыми мы прокладываем дорогу. Спасибо тебе за это.
Введение
Лоренцо путешествовал налегке. Этот знакомый с крайней нуждой молодой человек был выслан из Испании во Францию и ехал в идущем на Восток поезде, взяв с собой несколько рубашек, легкую куртку, присланную матерью из Испании резиновую обувь, а также самую ценную для него вещь – вырезку из газеты Le Monde, бережно хранившуюся в кармане. Было начало 1963 года, в Европу пришли холода. Упомянутый молодой человек, которому еще не исполнилось двадцати лет, был представителем испанской коммунистической студенческой организации (по-испански FUDE), не являясь при этом студентом. Конечно, он получил образование, изучая книги Карла Маркса, однако учебным заведением для него стало исправительное учреждение для политических преступников. Освоение марксизма у Лоренцо проходило в условиях постоянного психологического давления. Он попал в тюрьму как антифранкист, а вышел из нее и отправился в изгнание убежденным коммунистом. Его путь лежал через железный занавес в Варшаву – место проведения собрания Международного союза студентов. Сотни представителей этого союза со всей Европы должны были встретиться с министром иностранных дел Польши в Дворце культуры и науки, в мозолящем глаза здании, вызывающем ассоциации со старой Варшавской цитаделью, символизировавшей власть России над Польшей 100 лет назад. План Лоренцо состоял в том, чтобы достать вырезку из газеты Le Monde прямо на встрече.
Коммунистический блок его разочаровал. Пересекая границу с Восточным Берлином, еще совсем недавно обнесенную длинной стеной, Лоренцо отметил множество пулеметов, занимающих пространство вокруг станции. Его польская попутчица, пожилая учительница французского языка, возвращающаяся домой, после пересечения границы примолкла. По прибытии в Варшаву она обратилась к Лоренцо вновь. Попутчица порекомендовала ему не менять французские франки у официального лица в поезде. «Он вор, – пояснила она, – ты можешь получить на улице в четыре раза больше злотых». Лоренцо посчитал ее реакционеркой и буржуазной особой, но тем не менее поменял в поезде лишь небольшую часть своего скудного богатства, а затем обнаружил, что его попутчица была совершенно права.
В варшавском студенческом общежитии Лоренцо познакомился с дежурной, которая не стеснялась во время обхода этажей входить в комнаты, где местные студентки общались с иностранцами. Он заметил, что в коммунистической Польше почти столько же церквей, сколько и во франкистской Испании, и их посещало большее количество прихожан. Если бы человеку будущего суждено было родиться в этих условиях, то в его образе можно бы было уловить черты типичного самодовольного божьего человека, так хорошо известного Лоренцо по своему испанскому прошлому, – того, кто преподавал в католических школах, видел в образовании проклятие и распределял столь многих одноклассников Лоренцо по комнатам, закрытым для любой дежурной.
Более теплый прием, который скорее соответствовал бы сложившемуся у него образу коммунистического блока, мог бы успокоить испанского коммуниста и заставить держать себя в руках во время встречи с польским министром иностранных дел. Но этого не произошло, и Лоренцо чувствовал себя увереннее, чем когда-либо. Он был обязан продемонстрировать статью из газеты Le Monde — свое неопровержимое доказательство – и потребовать ответов. О чем была эта статья? Она была посвящена ничем не примечательной истории торговли. В течение года Польша продавала уголь Испании. В конце концов, твердая валюта, как Лоренцо уже убедился сам, очень ценится в коммунистическом блоке. Казалось, в газетной информации нет ничего компрометирующего: речь шла о привычном коммерческом обмене, выгодоприобретателем которого являлись коммунистические чиновники. Но для Лоренцо и его товарищей, находящихся в изгнании, действия Коммунистической партии Польши были актом вопиющего предательства.
Центром антифранкистской агитации в Испании были угольные шахты северного региона Астурия. Весной 1962 года шахтеры этого горного района с сильно пересеченной местностью устроили массовую забастовку, и высланные из страны испанские коммунисты их всячески поддерживали. Лоренцо и его товарищи вынуждены были предпринимать тайные поездки в Испанию, рискуя попасть в тюрьму, если не хуже. Забастовки непокорных и отважных астурийцев вызвали волну протестных настроений по всей стране. Эта волна в конце концов расшатала режим и заложила фундамент новой Испании, в которой рабочие получили право на создание собственных организаций и проведение забастовок. Не будет большим преувеличением сказать, что угольные забастовки 1962 года возвестили о конце сформировавшейся в межвоенную эпоху франкистской Испании, и этот год стал годом зарождения в Испании общественного движения, которое завершилось после смерти Франко в 1975 году формированием нового европейского социал-демократического режима; во всем этом не было никакой заслуги Польской коммунистической партии.
В Дворце культуры и науки Лоренцо дождался конца выступления министра и взял слово. Сначала тяжелый ком, подступивший к горлу, не позволил ему говорить. Преодолев волнение и энергично размахивая придававшей ему силы вырезкой из газеты, испанский коммунист изложил суть статьи. Он хотел узнать причины, по которым польские коммунисты противодействовали самой важной попытке борьбы за социализм в Испании с тех пор, как в 1939 году предыдущая была подавлена. Ошеломленный таким неожиданным поворотом дела, министр пробормотал что-то о дружбе народов и быстро сменил тему. Министр, конечно, поступил в полном соответствии с занимаемым им во властной иерархии статусом, и его комментарии в значительной степени соответствовали политике Кремля и всего коммунистического блока.
Лоренцо успокоился уже в Париже. Спустя небольшой промежуток времени он вышел из Коммунистической партии и вернулся в Испанию, едва избежав участи многих своих товарищей, которые, рискуя сгореть от американского напалма дотла, продолжали бороться против правых диктатур в Латинской Америке. Однако между сменявшими друг друга американскими администрациями, убивавшими друзей Лоренцо в их убежищах в джунглях, и самим Лоренцо имелось любопытное сходство: у них было схожее представление о Советском Союзе и коммунистическом блоке. Правительство США, Лоренцо и большинство ученых видели в советском блоке идущий за высокими стенами эксперимент, отдельный мир, который встречался с остальным миром в основном в пространстве идей. И в этом качестве, действуя за пределами своих границ, он мыслился неизменно идеологичным, ставящим свою мессианскую миссию выше грубых финансовых проблем – над идеологическими интересами могли время от времени преобладать только политические соображения безопасности и выигрыша в великих геополитических играх. Таким образом, сторонники и противники коммунизма разделяли одно и то же, имевшее мало отношения к реальной политике и даже риторике чиновников коммунистических режимов представление о коммунистическом блоке. Торговля как способ достижения мира и смягчения напряженности времен холодной войны казалась Лоренцо – и фактически была – ужасным предательством. Указанные выше соображения звучали для Лоренцо, правительства США и нескольких поколений западных ученых циничным оправданием, непременно скрывающим что-то более разрушительное.
В этой книге утверждается прямо противоположное. Польский министр апеллировал к истории торговой политики СССР и Советской империи после Второй мировой войны[1]. Западные люди, относящиеся к разным частям политического спектра, разделяли представление о строго биполярном характере послевоенного международного порядка. Эта убеждение является важной составляющей западноевропейского и североамериканского нарратива, позволяющего западным людям понять самих себя и мир вокруг них, – только такое распределение глобальной власти могло объяснить вполне реальное разделение Европы. Неотъемлемой частью конструкции биполярности является представление об СССР как об автаркии. Эта часто непроговариваемая, но фундаментальная предпосылка любого анализа Советского Союза позволила создать две различные, но связанные между собой идеологические конструкции. С одной стороны, автаркия лежала в основе предложенного советологами нарратива анти-либеральной по своей сути страны, являющейся результатом чисто идеологического предприятия (это объясняет использование термина «советский эксперимент»). В основании тоталитарной парадигмы, определившей образ СССР в западных академических кругах и обществах в целом, лежало как раз такое представление об автаркии: только полное отделение от мира могло увести страну так далеко от более естественного либерального курса, который служит нормативным ориентиром для исторического развития[2]. Однако идею автаркии с энтузиазмом подхватили также и представители левой части политического спектра: восприятие Советского Союза как эксперимента подкрепило их убежденность в том, что именно там происходят процессы, не запятнанные коммерциализированным эксплуататорским капитализмом западных обществ. В смежной области исследований холодной войны понятие автаркии помогло ученым построить нарратив, который требовал четкого разграничения двух лагерей. Власти США, прежде всего Государственный департамент, действовали исходя из этого требования и оправдывали им внешнеполитический курс Америки, часто опираясь на невежество, расистские установки и цинизм (см. Гватемала около 1954 года). В исследованиях холодной войны указанные допущения не подвергаются критическому анализу; биполярность по-прежнему остается названием игры, а автаркия – ее по большей части непризнанной основой.
Проблема заключается в том, что тезис о Советском Союзе как автаркии ложен. Он не подтверждается статистическими данными. Он неверен с точки зрения четкой логики политического целеполагания советского руководства. Используя для анализа внешней торговли не представленные в ее официальной статистике и конвертированные по официальному курсу в рубли, а используемые внутри страны цены на товары внешней торговли, экономист В. Тремль подсчитал, что доля внешней торговли в национальном доходе увеличилась в 1960–1975 годы с 12 до 21 % и уже в 1980 году составляла примерно 27 % (см. рис. 1). Другими словами, Советский Союз был автаркией уровня Японии, которая два десятилетия спустя, следуя тем же самым путем, перешла от практически полного соответствия упомянутому статусу в начале 1950-х годов к более глобализированной экономике[3].
СССР послевоенной эпохи был гораздо более зависим от мировой экономической конъюнктуры, чем другие вписанные в глобальную капиталистическую систему крупные страны – такие, как США, Бразилия, Индия, а к концу 1970-х годов даже Япония. Но наводящие на размышления цифры Тремля не были приняты во внимание – эти данные не могли быть интегрированы в существующие метанарративы «советского эксперимента».
Рис. 1. Доля торговли в национальной экономике Источник: [Тремлъ 1983: 35].
Исследователи, за редким исключением, игнорировали опубликованную более сорока лет назад работу Майкла Дохана, в основе которой лежал тезис о быстром росте советских экономических отношений в 1960-70-е годы [Dohan 1969]. Ее автор утверждал, что автаркия 1930-х годов была не политическим выбором, а результатом Великой депрессии. Книга, которую читатель держит перед собой, призвана развить идеи, заложенные в блестящем исследовании американского ученого. То, что советская экономика во все времена ее истории была в значительной степени встроена в глобальные экономические структуры, является фактом. Была ли это система золотого стандарта, Бреттон-Вудская система или пост-Бреттон-Вудская квазисистема, которая структурировала международные экономические и политические отношения, Советский Союз был по большей части задействован в тенденциях и злоключениях глобального финансового и коммерческого обмена – а то и в глобальном финансовом и коммерческом управлении, в котором доминировали гораздо более богатые страны Западной Европы и США.
Отчасти права была только одна группа ученых: экономические советологи. Действительно, экспорт продукции страны был большой проблемой для советской системы. Капитаны советской индустрии не хотели в нем участвовать. Причины этого еще до конца не изучены, но для того, чтобы ответить на вопрос почему, вероятно, необходимо исследовать проблемы, с которыми столкнулся бы руководитель (всегда мужчина), чье предприятие было бы выбрано для экспортных поставок. Подобная неприязнь к экспорту принуждала Кремль реквизировать продукцию и выводить ее с промышленного черного рынка (еще одна чрезвычайно важная область советской экономической жизни, о которой мы мало знаем). Поскольку промышленный черный рынок помогал красным менеджерам справляться с давлением плана, экспорта следовало избегать любой ценой. Но, конечно, это только половина истории советской торговли. Другая половина – это импорт, которого Советский Союз жаждал, вероятно, больше, чем другие, более либеральные страны. Это было частью хорошо известного феномена советской экономической системы: предприятия накапливали ресурсы, а затем требовали еще, чтобы, как уже говорилось, уменьшить давление требований Госплана[4]. Но там, где система находилась в противоречии с миром за пределами советских границ, у Кремля таких противоречий не было. Результат направленной на интеграцию сознательной политики советского руководства очевиден: советская экономика, бывшая поначалу автаркией, затем глобализировалась примерно в той же степени и примерно в течение того же промежутка времени, что и экономики других стран.
Если советская торговля осуществлялась вне рамок свободного глобального рынка, это происходило не потому, что, как принято считать, политические интересы в большей степени определяли поведение советского руководства, чем коммерческие. Политика, безусловно, вмешивалась в советскую торговлю, но чаще всего в форме ограничений, накладываемых американским правительством через такие институты, как Координационный комитет (CoCom) по многостороннему экспортному контролю в промышленно развитом мире, или через скрытые и явные угрозы коммерческому благополучию неиндустриальных стран. Именно стремление к снятию этих созданных американцами ограничений определило действия советского руководства в области торговли в течение первых двух десятилетий торговой экспансии СССР. Это важный момент, который необходимо понять и усвоить в процессе анализа советской внешней политики. В посвященной холодной войне литературе слишком много внимания уделялось краткосрочным политическим решениям, принимаемым во время горячих фаз этой войны, а не уровню понимания советской элитой – часто близкого к полному – политических и экономических реалий, которые ограничивали их действия и определяли долгосрочную политику.
В этой книге предпринята попытка реконструировать мировую финансовую и коммерческую систему, определившую границы советской внешней политики. Но ее цель не сводится лишь к демонстрации того, что историки холодной войны называют «экономическим аспектом» холодной войны, или доказательству того, что экономика каким-то образом превосходит политику. Скорее, автор разделяет точку зрения о том, что экономическое развитие ограничивает и делает возможной определенную политику – во всяком случае, в той же мере, в какой политика ограничивает и делает возможной разработку определенного экономического курса. Взаимодействие первого и второго породило мировоззрение и ложные представления политиков, часто подводимые историками холодной войны под категорию «идеология». Эта категория отсылала к доктринальным текстам и негибкому мышлению, признаваемому в качестве характеристики советского человека, но редко приписываемому невинным американцам за рубежом. Все вышеуказанное не противоречит тому, что некоторые идеи в Советском Союзе были совершенно автономными и довольно неизменными. Например, советские политики явно предпочитали импорт товаров производственного назначения (станки, корабли, кабели и т. д.) импорту потребительских товаров, которые промышленно развитые страны часто пытались продавать в Советском Союзе. Причина, по которой это происходило, не имеет ничего общего с предпочтениями, сформированными экономическими стимулами и конъюнктурой, и, вероятно, связана с представлениями об эксплуатации, привилегиях и нецелесообразных тратах, порожденными способами мышления, сложившимися задолго до прихода большевиков к власти. Можно было бы назвать это представление марксистским, объяснить его возникновение работой кремлевской идеологии, но такое предположение нужно согласовать с тем фактом, что слишком многие немарксисты во всем мире это представление разделяли. Подобные же вещи можно утверждать и в отношении идей (например, планирования), которые обычно рассматривались как свидетельство приверженности Кремля бестелесной и абсолютной «марксистской идеологии».
В этой книге исследуется внутренняя логика и реальная практика советской экономической политики и то, как она менялась с течением времени вместе с мировой экономикой. Отправной точкой книги стали недвусмысленные и широко встречающиеся свидетельства – во внутренней переписке, хранящейся в архивах, в публичных выступлениях и во всех советских публикациях по этому вопросу – того, что автаркия не была желаемым состоянием для кого-либо в Советском Союзе. Советское руководство действительно осознавало ограниченную техническую базу страны и превосходство западной экономической мощи. Литература, посвященная холодной войне, демонстрирующая установки сотрудников Госдепартамента США, постоянно искажает эти две фундаментальные характеристики дискурса советского руководства. Вопреки свидетельствам, многие историки отстаивали тезис об эквивалентности интересов Запада и Востока. Холодная война в этой биполярной конструкции трактовалась как направленная на расширение своего лагеря игра, в которой выигрыш одного всегда равняется проигрышу другого. Но факт заключается в том, что советские экономические интересы имеют мало общего со стремлением к победе в конкурентной борьбе на выбывание, как это представляется большинству историков (воспроизводство такого видения ситуации – заслуга не только исторического, но и советского идеационного дискурса). Скорее, фактические экономические отношения страны в значительной степени характеризовалась соглашением и сотрудничеством с Западом и поиском элементарного доступа к рынкам глобального Юга.
Для понимания этой коммерческой политики необходимо сначала осознать, в какой степени советские успехи в области физики (запуск спутника и разработка ядерного оружия) и экономический рост в 1950-х годах маскировали относительную экономическую недоразвитость. Этот момент игнорируется в большинстве исторических монографий о холодной войне. Показательно, что те немногие историки, которые признают советскую экономическую реальность, вместе с тем отвергают идею о том, что распределение материальных ресурсов в значительной степени влияет на распределение глобальной власти. В «Кембриджской истории холодной войны», например, историк О. А. Уэстад пишет:
Хотя возможности СССР превосходили возможности Великобритании и Франции, но не Соединенных Штатов, милитаризация советской экономики и ее общества сделали его грозным противником в международных делах. В первую очередь, Советский Союз являлся второй сверхдержавой вследствие своей оппозиционной идеологии: он был единственной великой державой, которая на протяжении всей холодной войны решительно противостояла целям США и отказывалась интегрироваться в мировую капиталистическую экономику. Поступая таким образом, он играл главную роль в международных делах, что со временем дорого обходилось его развитию [Westad 2010: П][5].
Поразителен тот факт, что об экономике забывают, когда дело доходит до оценки советской глобальной мощи. Конечно, У Б. Ладен доказывает правоту тезиса Уэстада о скрытом потенциале простого акта противостояния. Замыкая логический круг, Уэстад выдвигает тезис о наличии советской автаркии (отказ СССР «от интеграции в глобальную капиталистическую экономику»). Но представление о ее существовании ошибочно[6]. Не нужно ли историкам, пишущим о холодной войне, примириться с реальностью советской экономической отсталости, чтобы выдвигать взвешенные суждения о соперничестве «сверхдержав»?[7]
Немало страниц этой книги посвящено экономической вовлеченности Советского Союза в дела глобального Юга. Однако автор полагает, что реальной целью советских коммерческих и экономических устремлений была Западная Европа (и в некоторой степени Япония). В свидетельствующих о холодной войне источниках наблюдается смещение фокуса внимания к глобальному Югу[8]. Это смещение обосновывается следующим аргументом: с возведением Берлинской стены (этого великого символа советской автаркии) холодная война в Европе остановилась, после чего советская и американская энергия были перенаправлены на юг[9]. В действительности холодная война в Европе продолжалась, особенно в коммерческой и финансовой сферах. Но поскольку в погоне за химерой идеологии историки холодной войны перестали признавать важность торговли и финансов, они посчитали необходимым переключить внимание с Европы после возведения там Берлинской стены на глобальный Юг. Кроме того, представляется проблематичным сохранение нарратива холодной войны о биполярном противостоянии в европейском контексте, в котором советская власть демонстрирует готовность к поиску компромисса и желает достижения минимальной степени интеграции. В данном случае европейский контекст действительно более важен, чем контекст глобального Юга, и исключение его из господствующего нарратива о холодной войне после начала 1960-х годов затушевывает испытываемую американским истеблишментом неприязнь к советским экономическим интересам в Западной Европе, которые определяли политику СССР в целом[10].
В этой книге также пересматриваются с точки зрения материальных ресурсов, которыми обладает каждая страна, отношения Восток – Юг. По поводу двух моделей развития, предложенных третьему миру (выбор в пользу одной из моделей определяет принадлежность к лагерю), сегодня проливается немало чернил. Но реальность продемонстрировала несостоятельность этого тезиса. В контексте стран глобального Юга нельзя говорить об абсолютно свободном выборе. Выбор делался в рамках развивающейся структуры ограничений и возможностей, определяющейся глобальным либеральным экономическим порядком и международной политикой, в которой по преимуществу доминировали Соединенные Штаты, европейские империи и сильные государства, когда-то входившие в состав этих империй. Естественно, что Советский Союз, как страна со средним уровнем дохода, был подчинен тем же процессам.
Повествуя о советской торговле, автор отказывается от широко разделяемой, но не подтверждаемой фактами идее. Речь идет о транслируемой историками истории о советских агентах, которые в переходный период между правлением И. В. Сталина и Н. С. Хрущева «разъезжали» по странам третьего мира с целью завязать отношения[11]. Эти действия рассматриваются как проявления совершенно новой политики, которая радикально отличает Хрущева от его более осторожного предшественника. Выбранный язык описания создает особые проблемы. Используя его, историки увековечивают расистские и гендерные стереотипы, которое транслируют работники Государственного департамента. Жители стран третьего мира представлены этими стереотипами как лишенные амбициозности и инициативности люди, причем обе эти, по преимуществу «мужские», характеристики рассматриваются как естественно присущие тем, кто относится к одному из двух лагерей холодной войны. Однако советские архивные материалы говорят о другом. Советское руководство, как правило, ждало, пока инициативу проявят другие: имеющие отношение к делу документы сложно интерпретировать иначе как реакцию на запросы (исходящие от богатых бизнесменов или лидеров стран третьего мира) извне, и существует лишь небольшое количество документов, свидетельствующих об обратном[12]. Кроме того, эта история о новом руководстве, отправляющем после смерти Сталина своих агентов по всему миру, заслоняет собой явную преемственность, наблюдающуюся в советской торговой политике, ключевой фигурой которой как во время, так и после правления Сталина был высокопоставленный чиновник А. И. Микоян. Конечно, нельзя отрицать того, что с середины 1950-х годов – с момента прихода к власти Хрущева – советская внешняя политика в целом стала намного более активной. Однако эта возросшая активность скорее являлась результатом радикальных изменений, вызванных деколонизацией, чем следствием сознательного изменения внешнеполитического курса в Кремле. Хотя эта книга посвящена по преимуществу Советскому Союзу, в ней также затрагивается тема поведения лидеров стран глобального Юга. Автор полагает, что новые лидеры глобального Юга не были безынициативными, слабыми и беззащитными людьми, ищущими идеологического руководства у динамичных белых мужчин. Они – по факту каждый из них – были амбициозными людьми, которые использовали Советский Союз в своих интересах, чтобы занять наиболее выгодную позицию в иерархическом мировом порядке, карающем за неповиновение диктату Запада. Причина сходства их мировоззрений кроется не в советском руководстве или осуществляемой СССР подрывной деятельности, а в общих экономических и политических обстоятельствах, в которых они действовали.
В этой книге не рассматриваются три важных момента коммерческой истории СССР: торговля в рамках коммунистического блока, недолгий, но важный экономический обмен с КНР после победы Мао над войсками генералиссимуса Ч. Кайши, торговля военной продукцией. Первые две темы уже неплохо освещены, хотя, конечно, большая работа над ними еще предстоит. Проведение исследования советской военной торговли не представляется возможным ввиду отсутствия доступа к архивным документам в Москве[13]. Однако непонятно, может ли изучение любого из этих трех моментов привести к пересмотру структуры советской международной политэкономии, представленной в этой книге. Экономическая и технологическая помощь, оказанная СССР КНР, пожалуй, не имела далекоидущих последствий по сравнению с более поздними советскими программами помощи – даже если она в значительной степени повлияла на траекторию развития Китая. А экономический обмен внутри коммунистического блока сами участники называли «обменом неэффективностью»[14]. Несмотря на то что внутриблоковая торговля составляла львиную долю советского торгового объема, ее доля не только непрерывно снижалась с середины 1950-х годов, но почти наверняка была завышена в советской статистике по отношению к доле торговли за твердую валюту. Даже если сделанные в этой книге выводы потребуют пересмотра в свете новых исследований, посвященных трем вышеупомянутым моментам коммерческой истории СССР, даже если появятся новые работы, в которых будет более полно, чем в этой книге, раскрыта тема советских двусторонних экономических обменов с конкретными странами, она послужит своему делу – включению в дискуссии по вопросам советской истории, советской внешней политики, холодной войны и всеобщей истории XX века экономического измерения.
Дискуссия относительно размера советской экономики
Прежде чем продолжить повествование о советской глобализации, я хотел бы кратко остановиться на дискуссии относительно размеров советской экономики. Прояснение вопросов, относящихся к данной дискуссии, подготовит читателя к тому, с чем ему придется столкнуться по мере прочтения книги. Дискуссия об относительных размерах советской экономики еще не закрыта. Произвольность внутренних цен и неизмеримость отличительных особенностей советской системы (повсеместного дефицита, систематического искажения информации о производстве и т. д.) заставляет нас задуматься о возможности получения адекватного знания о состоянии экономики. Вполне вероятно, в течение неопределенно долгого времени будет сохраняться широкий спектр мнений. Как выразил эту мысль историк экономики М. Харрисон,
не существует единственной объективной истины, ожидающей, пока ее обнаружат под поверхностью лжи. Советский ВНП – это не скрытая цифра, которую необходимо открыть, а совокупность предположений и гипотез о многомерной реальности, которую нельзя свести конкретному числу [Harrison 1996: 4].
Первая попытка исследования советского национального дохода была предпринята британским экономистом Колином Кларком, первопроходцем использования валового национального продукта (ВНП) в качестве инструмента анализа национальных экономик. Первая работа Кларка по советской экономике появилась в 1939 году, и она была вынуждена основываться на очень скудных данных [Clark 1939]. Главной проблемой для исследователя оказались цены: перед ним встал вопрос, как можно осуществить сравнительную оценку экономики с неконвертируемой валютой и командной системой, в которой цены устанавливаются не в соответствии со спросом и предложением, и, следовательно, не измеряется относительный дефицит. Должны браться за основу цены в рублях или экономисту необходимо найти для соответствующих европейских товаров цены в долларах и создать систему счетов, аналогичных счетам в рыночной экономике? Кларк выбрал второе. Хотя к более полной статистической информации у него не было доступа, он тем не менее смог получить различные наборы данных для ограниченного набора продуктов. Вопреки более позднему анализу Кларк пришел к выводу, что с 1928 года до Второй мировой войны советский национальный доход вырос менее чем на 50 % при годовом уровне в 3,1 % [Clark 1957: 247].
Глубокий скептицизм Кларка по отношению к советской статистике разделял Н. Ясный, бывший меньшевик-эмигрант, чья работа по советской экономике впервые выдвинула на передний план экономическую катастрофу советского сельского хозяйства. Ясный также отмечал неадекватность общедоступных статистических данных, отражающих уровень жизни в Советском Союзе: хотя полученный им показатель темпов роста советской экономики вдвое превышал показатель Кларка, все же он был намного ниже официальных советских цифр. В то время как Центральное статистическое управление (ЦСУ) пришло к выводу о пятикратном увеличении советского реального национального продукта в период с 1928 по 1940 год, Ясный утверждал, что имело место почти двукратное увеличение [Jasny 1961: 444][15].
Наиболее солидная и длительная аналитическая работа по созданию адекватной картины советских национальных экономических балансов велась в рамках проекта А. Бергсона. Последний привлек к проводимому под эгидой «Rand Corporation» исследованию ряд ученых[16]. Возглавляемая им исследовательская группа разработала проект советского национального дохода и продукта (СНДП). Бергсон в большей, чем его предшественники, степени доверял советским статистическим публикациям, утверждая, что если бы советское руководство «рисовало» цифры, то не пошло бы на все, чтобы скрыть определенные данные (например, касающиеся расходов на оборону). Более того, захваченные во время Второй мировой войны архивные документы свидетельствовали о соответствии между опубликованными и секретными данными. Отсюда вытекает несовпадение экономических оценок ученых, относящихся к школе Бергсона, и оценок их предшественников. Бергсон и его коллеги подвергли особой критике работы Ясного за их ненаучность и политическую предвзятость автора по отношению к СССР. Ясный вскоре осознал, что американские журналы для него закрыты и единственный журнал, в котором он может быть опубликован – это «Советские исследования» («Soviet Studies») при университете в Глазго. Идея об адекватности советской статистики настолько укоренилась в американских университетах, что этого ученого редко приглашали на проводимые там конференции и симпозиумы и он не мог найти для своей работы финансирование[17]. Полученные Бергсоном цифры оказались более внушительными, чем цифры каждого из его предшественников, но разброс представленных им выводов предвещал методологические проблемы. Используя рублевые цены 1928 года, Бергсон пришел к выводу, что за девять лет показатель ВНП Советского Союза утроился. Однако аналогичные расчеты с базовыми ценами 1937 года дали иной результат: за тот же период времени ВНП вырос лишь на 60 % [Bergson 1961: 128, 153]. Позднее это расхождение было объяснено эффектом Гершенкрона – изменением значения показателя экономического роста в зависимости от выбранного базового периода[18]. Так или иначе, именно работа Бергсона и его коллег будет определять методологический стандарт будущих исследований, посвященных советскому национальному доходу.
Крайне важно, что именно Центральное разведывательное управление (ЦРУ) следовало заложенной Бергсоном традиции работы с советскими данными и преобразовало их в статистические системы советских национальных экономических балансов, наиболее полных по сравнению с делавшимися до этого. Вслед за Бергсоном ЦРУ агрегировало официальные ряды физического объема продукции в отраслевые, секторальные и ВНП индексы, а затем взвешивало их с поправкой на факторные цены: без косвенного налогообложения. Полученный показатель экономического роста был меньше официального, но ненамного; ЦРУ использовало большую часть данных ЦСУ СССР. Издаваемые ежегодно статистические справочники ЦРУ стали в западной науке самыми влиятельными справочниками по советской экономике. Естественно, учитывая их исходную базу и методологию, выводы агентства вызвали тревогу у американских политиков. СССР, согласно статистике ЦРУ, был второй по величине экономикой в мире: к 1965 году он уже более чем в три раза превышал британскую экономику [CIA 1975: 29]. В 1965 году ВНП СССР составил 49 % от аналогичного показателя США, а в 1974 году вырос до 57 %. Это соотношение сохранялось примерно до середины 1980-х годов [CIA 1991: 34].
Британские экономисты никогда не разделяли позитивистского отношения к советской статистике своих американских коллег и даже не видели смысла в сравнении показателей ВНП США и СССР, ввиду того что концепция ВНП – это западная концепция, разработанная для анализа стран с рыночной экономикой [Nove 1977: 353–365]. Цифры, подсчитанные ЦРУ, никогда не принимались на веру и критиковались в этой области исследования, но струйка критики стала потоком только после того, как британские экономисты привлекли внимание западных ученых к скептицизму советских экономистов по отношению к официальной статистике СССР. Последовавшие за этим дискуссии сосредоточились в основном вокруг двух тем: надежность советской статистики и разыгрывавшийся в основном на страницах журнала «Советские исследования» спор о советских инвестициях и скрытой инфляции.
А. Ноув был первопроходцем в деле наведения мостов. Опираясь на исследования В. П. Красовского и В. К. Фальцмана, он утверждал, что, вопреки полученным ЦСУ и ЦРУ цифрам, свидетельствующим о росте капиталовложений, их фактический объем в конце 1970-х – начале 1980-х годов, вероятнее всего, снижался [Nove 1981]. Статистические данные были ошибочными, поскольку они скрывали значительный уровень инфляции, которая возникла из-за растущего несоответствия между ростом цены на данный продукт и его реальными потребительскими характеристиками, которые часто оставались неизменными. Другими словами, более высокие цены, которые улучшали показатели успеха предприятия, слишком часто шли в паре с фиктивным повышением качества. Это, вкупе с систематическим завышением результатов, характерным для советской системы, заставляло сомневаться в статистике ЦСУ СССР и ЦРУ. Цены на капиталоемкую и быстро устаревающую технологическую продукцию, как правило, в большей степени завышались и фальсифицировались, чем цены на более массовые товары.
В работах П. Уайлса и Ф. Хэнсона вопрос скрытого роста цен и завышенных советских индексов капиталовложений получил свое развитие. Уайлс утверждал, что экономические статистики должны скорее измерять полезность, чем выпуск товаров, а Хэнсон вовлек в орбиту дискуссии работы Г. И. Ханина и К. К. Вальтуха [Wiles 1982; Hanson 1984][19]. Еще один получивший советское образование эмигрант и экономист, Игорь Бирман, высказал предположение, что экономический рост СССР уже в конце 1970-х – начале 1980-х был отрицательным, а не двухпроцентным, как полагали сотрудники ЦРУ[20]. Он никогда не предпринимал попытки проведения всеобъемлющего исследования советского ВНП, но критически относился к оценкам ЦРУ и утверждал – вопреки широко распространенному в Соединенных Штатах мнению, – что советская экономика на протяжении 1980-х годов находилась на грани краха [Birman 1988]. Эта позиция не позволила ему снискать признания. Так обозначился конфликт между выводами, сделанными из сложных, но методологически проблематичных статистических представлений о Советском Союзе, и живой реальностью советской экономики. Призрак Ясного продолжал бросать вызов Бергсону и его наследию.
Дальше всех в деле пересмотра в сторону понижения статистических показателей ЦСУ и ЦРУ продвинулся экономист Григорий Ханин. Его резкая критика официальной советской статистики сделала его в Советском Союзе изгоем. Григорий Ханин испытывал трудности, связанные с публикацией своих работ и трудоустройством. Однако в 1987 году, в период гласности, он при содействии журналиста В. И. Селюнина опубликовал в журнале «Новый мир», который не являлся специализированным журналом по экономике, свою знаменитую среди экономистов статью «Лукавая цифра»[21]. Ханин привел весомые соображения в пользу статистического анализа, соответствующего действительности. В своем обзоре западной экономической советологии он, критикуя школу Бергсона, утверждал:
…нигде я не смог найти подтверждения тому, что ученые этой школы [школы Бергсона] читали советскую прессу, сатирические публикации о советской действительности, журнал «Крокодил», книги писателей-эмигрантов и т. д., именно ту литературу, в которой можно найти более или менее правдивое описание советской действительности [Ханин 1993: 92].
Низкое качество и незначительный ассортимент продуктов, острый товарный дефицит, вызванный искусственной ценовой стабильностью, свидетельствовали о том, что уровень жизни в СССР значительно отличался от уровня жизни в западных странах, что бы ни показывала статистика. Ханин предпринял попытку, возможно изначально обреченную на провал, количественной оценки окружающей его повседневной реальности.
Считая официальные агрегированные статистические данные чистейшим обманом, Ханин рассчитал набор альтернативных статистических данных, основанных на цифрах, которые, по его мнению, в меньшей степени, чем агрегированные показатели, используемые ЦРУ и ЦСУ, были подвержены искажению[22]. Он утверждал, что данные по типовой продукции, как правило, являются более надежными, потому что менеджерам и бюрократам, занимающимся ее производством, было труднее заявлять о несуществующем улучшении качества и ассортимента. Поэтому он сверялся с советскими таблицами затрат на выпуск продукции, чтобы измерить среди прочего рост потребления сырья и электроэнергии. Он подсчитал, что с 1928 года и до распада Советского Союза советская экономика выросла примерно в семь раз, а не в 90 раз, как утверждали сотрудники Госкомстата СССР. Советская экономика к концу 1980-х годов составляла от 8 до 20 % экономики США – в зависимости от того, какой размер советской экономики в 1928 году мы берем в качестве исходного. Ханин оспаривал точку зрения сотрудников ЦРУ, в соответствии с которой экономика Советского Союза в 1980-х годах превышала размеры экономики Великобритании в три раза, как это представлялось ЦРУ В лучшем случае она соответствовала последней. Между прочим, картина советской экономики, представленная Ханиным, соответствовала оценкам Федеральной резервной системы, несмотря на тревожные цифры, поступающие из города Лэнгли, расположенного на другом берегу реки Потомак. Когда А. Гринспен прибыл в Россию в 1990 году с целью оказания помощи в предотвращении возможного финансового кризиса, он считал ВНП СССР «примерно равным ВВП Великобритании, т. е. около одной шестой общеевропейского ВВП» [Гринспен 2010].
Расчеты и выводы Ханина были благожелательно восприняты западным академическим истеблишментом, но это не означало, что они обладали безусловным авторитетом[23]. На первый план вышли уже другие расчеты советского национального дохода, которые позволили пересмотреть не соответствующие действительности цифры ЦРУ в сторону уменьшения. У ученых появилась возможность выбора методики расчета в соответствии с их системой релевантностей[24]. Важно учитывать еще один нюанс, связанный с оценкой советского национального дохода. А. Ослунд утверждал, что после краха советской экономики по крайней мере пятая часть спада советского производства должна была быть отнесена на счет полной бесполезности последнего. Другими словами, когда производство, наконец, стало удовлетворять реальный спрос, большая часть его продукции оказалась невостребованной; падение производства этой бесполезной продукции, рассчитываемое статистически как внезапное и реальное сокращение советской экономики, по мнению исследователя, следует рассматривать как желательное развитие, как прекращение расточительного производства. «Экономическое развитие России, – заключил Ослунд, – остается на том же уровне, что и в советское время: примерно на уровне Бразилии» [Aslund 2001: 20][25].
Даже если нет возможности расчета единственно верного показателя ВНП, для раскрытия авторского тезиса оправдано обращение к британской и российской критике американской экономической советологии. В дальнейшем мы покажем, что развивать международное экономическое сотрудничество советскому руководству мешали по преимуществу проблемы качества и ассортимента. Продукция советского производства представляла для богатых стран малый интерес, а импортировавшие советское промышленное оборудование и технологические товары бедные страны были вынуждены считаться с их крайне неудовлетворительным качеством. Несмотря на проблемы с твердой валютой, поразившие большую часть стран глобального Юга и побудившие их наладить с Советским Союзом бартерную торговлю, импорт советских товаров на протяжении всей холодной войны оставался вторым по оптимальности вариантом решения проблемы экономического развития. Вопреки ожиданиям советского руководства, в индустриально развитых государствах промышленными товарами СССР, особенно капиталоемкими, продажа которых свидетельствовала бы в пользу больших технологических успехов, достигнутых советской экономической системой, была занята лишь малая доля рынка. Более того, изменение структуры внешней торговли Советского Союза с богатыми, индустриально развитыми государствами было более характерно для страны со средним уровнем дохода, постепенно переключающейся на производство одного типа товара и приближающейся к бедным странам – экспортерам сырья. Если в 1955 году промышленные товары составляли 28 % советского экспорта в Западную Европу, то в 1983 году – 6 %[26]. В середине 1980-х годов примерно три четверти экспорта СССР в индустриально развитые государства составляли нефть, природный газ и золото.
Обратная сторона медали – импорт в Советский Союз западных промышленных товаров. Как было отмечено Владимиром Тремлем, в 1970-е годы наблюдалось увеличение значения торговли для советской экономики: если измерять во внутренних ценах, она составляла более одной пятой национального дохода [Treml 1980]. Большая часть этого роста пришлась на импорт, который увеличился с 7 % национального дохода в 1960 году до почти 15 % в 1976 году[27]. Этот более быстрый темп роста импорта в номинальном выражении был результатом изменения структуры торговли. Советское руководство стало больше полагаться на экспорт топлива, которое, особенно после резкого роста мировых цен в 1973 году, имело на внутреннем рынке меньшую стоимость; в то же время оно увеличило импорт машин из западных стран: показатель вырос с 17 % от общего импорта машин в 1970 году до почти 40 % семь лет спустя [Treml 1980:190]. СССР отнюдь не являлся банановой республикой, но его растущая зависимость от экспорта сырья для финансирования импорта большого количества западных промышленных товаров была столь же очевидна, сколь и тенденция к увеличению экономических ограничений. Вышеупомянутые особенности советской экономики позволяют отличить ее от экономики таких промышленных «тяжеловесов», как Япония и Германия.
Достижению целей настоящего исследования неоднозначные и, возможно, ненаучные наблюдения Гринспена и Ханина способствуют больше, чем систематические и вызывающие – у американцев – тревогу статистические сборники ЦРУ Причины этого будут раскрыты далее. Под «рублем» в книге, как правило, будет подразумеваться инвалютный рубль, хотя из архивных материалов это не всегда сразу понятно. Речь идет о денежной единице, в которую по установленному советским правительством произвольному обменному курсу конвертировалась иностранная валюта[28]. В таком контексте оценка стоимостного объема экспорта затруднена, за исключением случаев, когда экспортная продукция покупалась за твердую валюту. Однако коммерческие отношения со странами третьего мира редко основывались на твердой валюте – в этом случае имели место бартерные обмены. Именно здесь проблема качества, скрытая статистической методологий ЦСУ, становятся политически значимой.
В связи с этим показательна судьба восьми советских самолетов Ил-18, проданных Гане в начале 1960-х годов. Советская делегация в Гане удостоверилась в справедливости претензий ганских официальных лиц, связанных с тем, что из восьми самолетов, проданных этой стране, только четыре работали исправно, но их средний налет составил 15 часов в месяц. Для сравнения: единственный самолет Бристоль «Британия» в парке страны налетал 113 часов в месяц, и его обслуживание обходилось правительству в меньшую сумму[29]. Казалось бы, стоимость одного британского самолета – при прочих равных характеристиках – была почти вдвое больше, чем у восьми советских самолетов. Однако подобные расчеты историка не имеют большого значения, поскольку торговые партнеры СССР сами определяли ценность продолжения экономических отношений с Советским Союзом, часто отворачиваясь от советских рынков и возвращаясь к мировым. Другими словами, сравнительная отсталость сдерживала СССР политически и экономически таким образом, который не был описан в литературе времен холодной войны.
На основании того, что сектор внешней торговли стал и оставался одним из наиболее быстрорастущих секторов советской послевоенной экономики, можно утверждать, что руководство в целом преуспело в стимулировании внешней торговли страны. Однако этот успех был весьма ограничен. Согласно архивным свидетельствам, на отношения СССР с Западом и Югом накладывались серьезные экономические ограничения. Этому описанию в большей степени соответствуют не расчеты ЦРУ, а предположения Ханина и поверхностные наблюдения Гринспена. Объем внешнеэкономических связей Советского Союза соответствовал размерам страны и уровню экономического развития. Осознание советским руководством ограничений и связанное с этим осознанием ощущение фрустрации, задокументированные в этой книге, должны помочь определить точное место Советского Союза в мировой экономике XX века и пересмотреть способность этой страны к распространению своей власти в сторону уменьшения этой способности, что до сих пор не предпринималось в литературе по международной истории. Послевоенное возвращение Советского Союза на мировую арену произошло на фоне зарождающейся экономической глобализации и стало возможным благодаря ей. Это книга о СССР в контексте спада, а затем подъема великого процесса глобализации XX века.
Часть I
Изоляция
Глава 1
Депрессивный сталинизм
В своей вышедшей в 1994 году книге «Великая трансформация» К. Поланьи обратился к теме международного фундамента капитализма и объяснил, как разрушение одного из его столпов – золотого стандарта – привело к появлению сил экономического национализма, подорвавших изнутри европейский политический порядок. Ученый рассматривал большевизм как одну из этих радикальных сил, но в то же время в небольшом отрывке, посвященном России, назвал эту страну особым случаем. Поланьи выделял две русские революции (позже эту точку зрения будут разделять многие историки): первая, произошедшая в 1917 году, «воплотила традиционные западноевропейские идеалы, а вторая стала частью совершенно нового процесса 30-х гг.» [Поланьи 2002: 267]. И если первая, согласно К. Поланьи, была внутрироссийским событием, то вторая «составляла часть процесса всеобщей трансформации» [Поланьи 2002: 267]. Прекращение функционирования золотого стандарта ощущалось по всему миру, приводя к схожим во многих отношениях результатам:
К 1924 г. о «военном коммунизме» уже забыли, Россия восстановила свободный внутренний рынок зерна, сохраняя при этом государственный контроль над внешней торговлей и ключевыми отраслями промышленности. Теперь она упорно стремилась увеличить свою внешнюю торговлю, зависевшую преимущественно от экспорта хлеба, леса, мехов и других сырьевых материалов, цены на которые резко упали в ходе аграрной депрессии, предшествовавшей общему кризису в торговле. Неспособность России развивать экспортную торговлю на выгодных условиях ограничивала ее возможности в импорте машин и оборудования, а следовательно, и в создании национальной промышленности; это, в свою очередь, неблагоприятно повлияло на условия товарообмена между городом и деревней (т. н. «ножницы»), обостряя вражду крестьянства к власти городских рабочих. Таким образом, дезинтеграция мировой экономики усилила давление на паллиативные меры решения аграрного вопроса в России и ускорила создание колхозов. В том же направлении действовала и неспособность традиционной европейской политической системы обеспечить безопасность отдельных государств, ибо она стимулировала потребность в вооружениях, увеличивая тяготы мучительной индустриализации. Отсутствие системы политического равновесия образца XIX в., равно как и неспособность мирового рынка поглотить русскую сельскохозяйственную продукцию, вынудило Россию вступить на путь экономической самодостаточности. Социализм в отдельной стране был порожден неспособностью рыночной экономики обеспечить экономические связи между всеми странами; то, что казалось русской автаркией, было лишь кончиной капиталистического интернационализма [Поланьи 2002: 268].
Более поздние объяснения советской автаркии будут предполагать целенаправленную попытку реализации стратегии импор-тозамещения, которая быстро увенчалась успехом[30]. На первый взгляд, это вполне логичный вывод. Объем советской торговли в период первой пятилетки быстро увеличивался, чтобы потом резко упасть. Изначальный импорт западных технологий привел к повышению производительности и общему экономическому росту, а уже во второй половине 1930-х годов импортозамещение было лейтмотивом советской пропаганды. Но подобное рассуждение, однако, не принимает во внимание быстро меняющиеся мировые тенденции, которые Поланьи и исследователи международной политической экономии рассматривали как определяющие для последующих десятилетий.
Анализ Поланьи предвосхищает более поздние исследования советской экономики. В 1920-х годах мир переживал механизацию и модернизацию сельского хозяйства [Frieden 2006:167–168]. Хотя механизация сама по себе не увеличивала урожайность, она повышала производительность труда, снижая потребность в рабочей силе в деревне, увеличивая городское население и содействуя заселению плодородных пахотных равнин Аргентины, Австралии и других регионов, куда направилась новая волна эмиграции. Развитие транспортной инфраструктуры позволило включить эти новые, более урожайные регионы, производящие зерно, в мировой рынок. Общим итогом стало падение мировых цен на зерно и сворачивание европейского сельскохозяйственного сектора, нуждающегося теперь в защите и субсидиях от своих правительств. Как отметил Ч. Киндлбергер, именно страны – экспортеры зерна, в том числе Советский Союз, первыми ощутили леденящую хватку того, что впоследствии переросло в Великую депрессию.
В Советском Союзе колебание цен на зерно было обусловлено двумя факторами. В то время как рост в СССР внутреннего спроса привел к увеличению цен, с целью экспорта зерна на выгодных условиях советское руководство было вынуждено удерживать низкие цены, что становилось все более затруднительным в контексте падения цен мировых [Dohan 1969: 342–345][31]. Таким образом, официальные закупочные цены колебались под влиянием двух противоречащих друг другу устремлений – получать прибыль от экспорта и стимулировать сбыт зерна. Крестьянство, в свою очередь, использовало зерно для увеличения поголовья скота и стремилось выйти на более прибыльный рынок мяса и других продуктов животного происхождения, цены на котором в основном определялись внутренним рынком и резко росли из-за возросшего спроса.
В результате успеха новой экономической политики (НЭП), увеличившей совокупный спрос, выросли также цены на промышленные товары. Сознательное решение советского правительства сдержать этот рост цен привело к дефициту, так называемому товарному голоду – иными словами, к инфляции [Davies 1980: 38–41]. Реакция крестьянства на плачевную ситуацию в области торговли не заставила себя ждать: отказываясь от обмена зерна на изготовленные в городах промышленные товары и предметы потребления, оно уходило с рынка и в ожидании более благоприятных времен хранило зерно либо скармливало его скоту. Р. К. Аллен пришел к выводу о значительной эластичности рынка сельскохозяйственной продукции до окончания НЭПа. Повышение уровня цен на сельскохозяйственную продукцию на 10 % стимулировало семипроцентный рост объемов торговли[32]; улучшение условий торговли в сельской местности могло бы увеличить объем продаж зерна в городе [Allen 1997][33]. В советском руководстве многие разделяли эту точку зрения. Однако нужно учитывать то, что в то же время внутренние рынки зерна были не единственной постоянно отдаляющейся целью: приходилось вести конкурентную борьбу на мировых рынках, которые мало согласовывались с советскими планами индустриализации в конце 1920-х годов.
В дореволюционные времена, когда золотой стандарт поддерживал мировую экономическую интеграцию и рост, российская экономика могла привлекать иностранные кредиты для стимулирования роста промышленного сектора даже в условиях неустойчивого, но в целом растущего экспорта сельскохозяйственной продукции, который обеспечивал большую часть необходимых иностранных инвестиций и технологического трансфера, преобразовавшего российскую промышленность. Ситуация кардинально поменялась в период правительственной дискуссии об индустриализации второй половины 1920-х годов. Положительное сальдо внешней торговли было необходимо для рывка в промышленном инвестировании, который советское правительство задумывало осуществить после общего восстановления экономики. Государству в 1926/1927 отчетном году едва удавалось экспортировать пятую часть того, что экспортировалось в царской России, а в следующем году объем экспорта не превысил даже 1/10 [Wheatcroft 1991: 99]. Политика изменилась, в 1927/1928 отчетном году экспорт впервые подчинялся экспортному контролю безотносительно получения коммерческой прибыли [Dohan 1969:482–483]. Когда мировая экономика начинала скатываться в пропасть 1930-х годов, в СССР рыночные механизмы сменялись командно-административными.
Ленинское наследие: золотой стандарт
Ни один другой сегмент российской экономики не пострадал от большевистской революции и Гражданской войны так сильно, как сегмент внешней торговли. Как писал Майкл Дохан,
вся инфраструктура царской внешней торговли, включая квалифицированный персонал, торговые соглашения, тарифную и торговую политику, обменные курсы, финансовые институты и функционирующую рыночную систему, была разрушена. Таким образом, возобновление внешней торговли зависело не только от физического производства экспортной продукции и распределения импортируемой продукции, но и от восстановления всей структуры внешней торговли [Dohan 1991: 217].
Ситуация осложнялась относительной нехваткой экспертов в области внешней торговли, подавляющее большинство которых в царские времена составляли иностранцы. Другими словами, большевики не могли поступить так, как они поступили в сфере промышленного производства, – пригласить буржуазных экспертов (см. рис. 2) [Quigley 1972: 467].
Захватив власть, большевики получили под свое начало преимущественно аграрную систему, которая имеет больше схожих черт с развивающимися незападными, а не с европейскими экономиками, которые так часто служили мерилом оценки российского прогресса. Доходы на душу населения, экономическая структура и демография России – все указывало на это [Аллен 2013: 22–25]. Доход на душу населения был выше уровня Индии и Китая, но значительно уступал показателям беднейших стран европейской средиземноморской и скандинавской периферии [Аллен 2013: 14][34]. Несмотря на то что в течение последних двух десятилетий царского правления темпы промышленного роста были сопоставимыми с его темпами в европейских странах, российская экономика оставалась по преимуществу аграрной: три четверти ее населения занимались сельским хозяйством – это превышало показатели большей части стран Южной Америки и соответствовало состоянию дел в большей части азиатских стран. При этом темпы роста населения и рождаемости были сопоставимы с показателями Индии, что позволяет нам выдвинуть предположение: если бы не война, голод, сталинские репрессии и быстрый экономический рост, Россия вполне могла бы попасть в мальтузианскую ловушку, в которой оказались Индия, Индонезия, Филиппины и Бразилия [Аллен 2013: 156–178].
Рис. 2. Восстановление экономики во время НЭПа (1913 год – 100 %)[35]
Источник: [Dohan 1969: 177].
Несмотря на индустриальные амбиции, основой дореволюционной экономики России оставалось сельское хозяйство. В 1885 году, перед началом периода российского экономического бума, сельское хозяйство составляло около 59 % валового внутреннего продукта (ВВП); в 1913 году – 51 %. За тот же период доля промышленности выросла с 6,6 до 14,9 %, а доля транспорта – с 2,3 до 5,8 %. Как писал Аллен, «экономика России развивалась по пути модернизации. Однако путь этот был непростым» [Аллен 2013:38]. Другими словами, значительный ежегодный рост ВВП, составивший за тот же период времени 3,3 %, почти наполовину были обеспечен ростом в сельскохозяйственном секторе.
Последний тезис имеет особое значение, так как рост сельского хозяйства России в значительной степени был следствием ее интеграции в мировую экономику[36]. Сеть железных дорог все больше опутывала российскую глубинку, позволяя сельским жителям продавать свое зерно на мировых рынках, широкий доступ к которым был открыт конвертируемостью рубля, обеспеченного золотом. Рост цен на большую часть сельскохозяйственной продукции, и особенно на пшеницу (так называемый пшеничный бум первой эры глобализации), улучшил условия торговли в сельской местности и стимулировал освоение таких столь непохожих друг на друга стран, как Канада, Австралия и Аргентина. Это, в свою очередь, способствовало повышению производительности сельского хозяйства в большей части стран мира, включая Россию [Frieden 2006: 68–72].
Поэтому неудивительно, что до Первой мировой войны более трех четвертей российского экспорта приходилось на сельскохозяйственную продукцию: одно только зерно составляло 50 % от общего объема экспорта, а основными направлениями оставшейся четверти экспорта были древесина и нефть. Внешняя торговля России была классическим примером обмена, основанного на принципе сравнительных преимуществ, поскольку она импортировала промышленные материалы (шерстяное волокно, бумагу, каучук и свинец), на которые приходилось 42 % общего импорта; доля промышленных товаров составляла 22 %; доля продуктов питания, в частности чая и сельди, – 20 %; доля промышленного оборудования – 15 % [Davies 1991: 326][37]. Россия, однако, нуждалась в поддержании положительного торгового баланса, поскольку должна была обслуживать все более обременительной долг, с которого финансировался такой важный элемент ее промышленности и связи, как железные дороги [Lewis 1994: 200][38]. Но несмотря на то, что импорт составлял в среднем около 75 % экспорта, дефицит платежного баланса России все еще оставался значительным. Основным торговым партнером России была Германия, на долю которой приходилось 30 % ее экспорта и почти 50 % импорта. В то же время в Великобританию отправлялось 18 % экспортной продукции, а доля британской продукции в общем импорте составляла менее 13 %. Нидерланды покупали 12 % экспортируемых из России товаров и поставляли менее 1,5 % импортируемых[39]. То есть Россия продавала свое зерно и лес в Великобританию и Нидерланды, чтобы покупать промышленные материалы и потребительские товары из Германии. Золотой стандарт лежал в основе этого обмена.
Война предсказуемо обрушила платежный баланс России [Gatrell 2005: 132–153][40]. Страна начала импортировать большое количество материалов, необходимых для ведения войны, в то время как экспорт практически прекратился; продукция была перенаправлена на военные нужды, а транспортные связи страдали от постоянных перебоев, имевших разрушительные последствия [Dohan 1969: 154–157][41]. Решающий удар нанесла большевистская революция: политика молодого правительства вызвала блокаду со стороны основных торговых партнеров России, которые еще не были в состоянии войны с ней. Новое революционное правительство продолжило курс на постепенную монополизацию внешней торговли, проводимый царским и Временным правительствами во время войны в жизнь посредством расширения существующей системы импортных и экспортных лицензий. Царское Министерство торговли и промышленности осуществляло политику в контексте экономической мобилизации, призванной обеспечить военные потребности и усилить государственный контроль. Этот процесс набирал обороты, о чем свидетельствовали создание специальных советов в мае 1915 года и эффективное секвестирование Путиловской компании [Gatrell 2005: 108–127][42]. По мере роста спроса на колчедан и другие материалы для военной промышленности государство перешло от контроля с помощью лицензий к прямому участию во внешней торговле с целью гарантировать получение этих материалов и исключить необходимые для внутренних нужд страны товары из экспорта. Предвосхищая создание Народного комиссариата внешней торговли, в мае 1916 года царское правительство обязало экспортеров вносить свои валютные поступления на счета Министерства финансов [Baykov 1946: 5–6].
Начавшиеся в царской России процессы продолжились после революции и достигли своей кульминации в правительственном декрете об аннулировании государственных займов в январе 1918 года (это означало отключение от финансовой сети, к которой принадлежал предыдущий режим) и окончательной национализации внешней торговли в апреле того же года. Помимо идеологических причин, отказ от выплаты царского долга имел прагматические резоны: в контексте враждебно настроенного окружения получение новых иностранных кредитов представлялось маловероятным, а выплата процентов быстро бы истощила запасы молодого революционного государства [Lewis 1994: 201–202]. Национализация внешней торговли была в определенном отношении практическим решением проблемы соблюдения условий Брест-Литовского мирного договора, подписанного месяцем ранее. В соответствии с этим договором советское правительство не могло повышать тарифные ставки на немецкие товары и экспортные пошлины на лесную и горнодобывающую продукцию, в которой нуждались немцы. Так или иначе, именно мир с Германией в итоге повлек за собой блокаду, в следующем году эмбарго было ужесточено, а российские активы за рубежом арестованы [Dohan 1969: 218].
Блокада ознаменовала конец технологического трансфера, который был основным фактором индустриализации России. Рыночный механизм, лежавший в основе внешней торговли царской России, и выстроенная вокруг него система кредитования и коммуникации были разрушены войной. Несмотря на восстановление внешнеэкономических связей после снятия блокады в 1920 году и подписание торгового договора с Великобританией в следующем году, большевистское правительство так и не смогло восстановить приток иностранных технологий, которые служили одним из столпов дореволюционного процесса индустриализации. Необходимо отметить, что оно предпринимало попытки, которые, однако, не принесли успеха. Внешнеэкономические отношения периода НЭПа все больше соответствовали царской модели; коммерческая рентабельность должна была стать главным ориентиром для экспорта, даже если большевики пытались содействовать технологическому трансферу путем предоставления концессий иностранцам. Но даже на пике своего развития, во вторую половину периода НЭПа, концессии давали не более 0,5 % от общего объема производства [Davies 1989: 33][43]
