Философская теология: вариации, моменты, экспромты бесплатное чтение
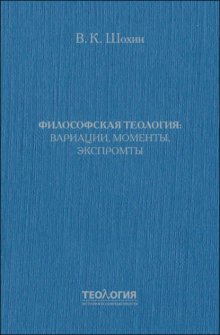
© В. К. Шохин, 2022
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2022
Предисловие
Философскую теологию можно определить аналитически (в кантовском смысле) как исследование теологических предметов прежде всего средствами философского дискурса. При этом реальное соподчинение того, что определяется существительным и прилагательным, может рассматриваться по-разному: философскую теологию можно считать и философской дисциплиной с определенной специализацией, и дисциплиной теологической с определенным методом. История же вещей почти всегда закономерно опережает историю идентифицирующих их понятий, и философия никак не отличается здесь от прочих сфер человеческой мысли.
Слово «онтология» появилось (XVII век) несоизмеримо позже, чем начали всерьез размышлять о сущем, «эстетика» (XVIII век) – чем стали рассуждать о прекрасном, а «эпистемология» (XIX век) по крайней мере на два с половиной тысячелетия запоздала в сравнении с начальным теоретизированием о познании. Философские исследования теологической проблематики шли к своей терминологизации тем же неспешным шагом. Первым философом, который начал решать вопрос о количестве и качестве божественного первоначала в полемике с не склонными к рефлексии традиционалистами, был, скорее всего, великий Ксенофан из Колофона (даты его жизни решаются сейчас разместить ок. 570 – после 478 до н. э.[1]), а первые строительные материалы для интересующего нас понятия начали завозить на строительную площадку где-то около трех столетий после его акмэ. Стоики, начиная с третьего схоларха Хрисиппа (ок. 278–205 гг. до н. э.), эпикурейцы, скептики именно с этого времени начали делить богов и, соответственно, тео-логию (как учение о них), на три части, одну из них – мифотворческую – предоставив поэтам и драматургам (начиная с Гомера и Эсхила), другую отдав чиновникам полиса, следившим за правильностью календаря и обрядовых процедур, а третью отложив для философов, которые занимались преимущественно аллегорическим истолкованием сакральных персонажей и приписываемых им деяний («теология философов»[2]). Римские же энциклопедисты Квинт Муций Сцевола (140–82 до н. э.) и особенно Марк Теренций Варрон (116–27 до н. э.) сделали это обобщение религиозной действительности в параметрах мифа, закона и умозрения[3] всеобщим достоянием[4].
Но путь от «теологии для философов» до «философской теологии» оказался долог. Только в комментарии Фомы Аквинского к трактату Боэция «О Троице» (1257/1258) он был впервые пройден неуверенными шагами, в результате которых выяснилось, что «философская теология (theologia philosophica) трактует об отделенном второго рода как о [своих] предметах, а об отдаленном первого типа как о началах предмета. А теология Священного Писания (theologia sacrae Scripturae) трактует о [своих] предметах как об отделенном второго рода, хотя в ней трактуется также и о том, что пребывает в материи и движении – насколько это требуется для пролития света на божественные вещи»[5]. Понятно, что такие субтильные различения не могли обеспечить ясного представления о том, как теология, исходящая из разума, должна соотноситься с той, что исходит из Откровения, и вполне понятно поэтому, что «философская теология» Фомы ушла в историю вместе с ее создателем (хотя и оказалась в числе тех стимулов, которые со временем привели к гораздо более функциональному разграничению theologia naturalis theologia revelata[6]).
Проходит более 550 лет, и то же понятие в виде die philosophische Theologie становится одной из трех теологических дисциплин в «Кратком изложении теологии, составленном для вводных лекций» (1811). Тот раздел богословия, который соответствует философской теологии, ответственен за изложение самой сущности христианства (два других раздела – теология историческая и практическая – над ней надстраиваются), в соответствии с которой оно образует определенный образ веры (Glaubensweise), но также и определенную форму общины; сама же философская теология призвана выполнять две функции – апологетическую и полемическую[7]. Но и шлейермахеровская философская теология не пережила своего автора: даже его ближайшие последователи в состав богословских дисциплин ее не включали. Дело скорее всего было в том, что она была «слишком философской», слишком индивидуально-авторской для адаптации к церковно-богословскому учительству, для которого философ ее предназначал.
Становление философской теологии не только как самоосознающей, но и как уже «самопродолжающейся» области дискурса начинается только в ХХ в. Вехой становится издание первой монографии (в двух томах) под названием «Философская теология» (1928–1930) английского теолога Фридерика Теннанта, которая была посвящена трем традиционным топосам классической метафизики Нового времени – душе, миру и Богу[8]. На нее начали ссылаться, ее помнят и в настоящее время. Однако само словосочетание могло бы снова уйти в историю, если бы его не «раскрутили» четверть века спустя. Этим оно обязано было (тут в который раз оказалась в действии гегелевская «хитрость мирового разума») тогда начинавшим только «набирать обороты» атеисту Энтони Флю (ставшему под конец жизни теистом) и марксисту Аласдеру Макинтайру (ставшему лет через тридцать добрым католиком), которые издали сборник статей «Новые эссе по философской теологии» (1955). Существенно важно, что составители, по их собственному признанию, избрали само словосочетание философская теология, ссылаясь не на Теннанта, а на гораздо более заметную фигуру Пауля Тиллиха (и сопоставив его с такими добротными аналогами, как «философская этика» и «философская эстетика»)[9]. Это было преимущественно философское предприятие.
А десятилетие спустя шотландский англиканин Джон Маккуорри в фундаментальном труде «Принципы христианской теологии» (1966) поставил акцент уже на теологическом содержании этой дисциплины, включив ее в качестве первого раздела в состав систематической теологии. Еще два десятилетия спустя некоторые перворазрядные аналитики начинают обобщать свои прежние размышления о вере, этике и теистической метафизике в качестве предметов данной области изысканий, о чем свидетельствуют, например, авторские сборники статей американских философов Роберта Адамса «Добродетель веры и другие эссе по философской теологии» (1987) и Уильяма Олстона[10] «Божественная природа и человеческий язык: эссе по философской теологии» (1989). Окончательно же это словосочетание и, главное, соответствующая область познания начали восприниматься в качестве уже принятых (во всяком случае в аналитической традиции) совсем недавно – на рубеже ХХ – XXI вв., а в настоящее время периодически выпускаются антологии и авторские собрания статей, в которых публикуются аналитические философы первого ряда, занимающиеся теологической проблематикой[11].
«Средний куррикулум» включает прежде всего то, что можно было бы назвать разделом теологических пролегоменов, в который включаются разнообразные аспекты рациональности религиозных верований (только на этих правах в некоторых случаях включаются и обоснования существования Бога, которые, как без всякого основания считается, должны составлять специальную область философии религии[12]), а также проблемы «религиозного языка» – обсуждение того, в какой мере он может передавать знания о «божественных вещах»[13]. Следующий блок – дискуссии о природе Откровения и богодухновенности Писания, к которым в ряде антологий добавляется обсуждение вызовов источникам теистического авторитета со стороны библейской критики. Традиционная и большая тема естественной теологии, входящая в круг тем философской теологии, это рефлексия над природой Бога-в-себе – божественных атрибутов, которые я бы разделил на метафизические (простота, необходимость, всеприсутствие, вечность) и собственно теистические (всемогущество, всезнание и всеблагость). Следующий естественно-теологический предметный раздел составляет осмысление Бога-в-мире, и сюда входят Провидение, существование зла и теодицея, а также посмертная участь конечных разумных существ. Догматический же раздел складывается из обсуждения доктрин Триединства, Боговоплощения, Искупления, Воскресения Христова и учения о воскрешении людей. Дивергенция мнений и дискуссии по всем перечисленным топосам наилучшим образом отражают применение аналитического метода к теологической проблематике. Этот формат является единым для философской теологии с другими брендами аналитической рациональной теологии, к которым относятся философия религии, естественная теология и отчасти фундаментальная теология. Предметную специфику философской теологии следует видеть в том, что в ней редуцируются обоснования существования Бога и «центрируются» христианские догматы.
В России обсуждаемое понятие также стало недавно входить в обиход, вначале в виде одного из разделов философии религии, а в настоящее время в качестве независимой от нее дисциплины[14]. При этом предпринимаются и попытки обозначения места философской теологии и в общем пространстве теологических дисциплин[15].
Данное понятие, однако, стало входить в этот обиход недавно только номинально, тогда как фактически проблематика философской теологии обсуждалась очень активно во второй половине XIX – начале ХХ вв. в нескольких форматах отечественного духовно-академического образования – прежде всего в виде основного богословия и умозрительного. Некоторые же темы современной аналитической теологии, такие, как догмат об искуплении, стали предметом самой горячей полемики, которая не завершилась и в период изгнания русской богословской мысли за границу[16]. Ничего подобного этому живому и квалифицированному интересу к «умозрительным проблемам»[17] мы не видим в настоящее время, хотя после освобождения от диктатуры государственного атеизма прошло уже более трех десятилетий. Религиозный книжный рынок монополизирован издательствами, публикующими популярную и популистскую литературу, а студенты и аспиранты высших богословских образовательных учреждений избирают для своих квалификационных работ и диссертаций какие угодно предметы кроме «тем верующего разума», предпочитая изложение (как правило, без актуализации) положений исторических авторитетов. Заказа на то, что свт. Филарет Московский называл «богословие рассуждает», в Церкви нет, есть скорее на «богословие пересказывает». Правда, спрос, как всегда, сообразуется и с предложением. На занятия рациональной теологией нет и запрета, и сколько автор этих строк ни пытался выяснить у студентов богословских институций, чем объясняется такое безразличие к этой области знаний, он, как правило, ответа не получал, а когда в редких случаях получал, то ответ состоял в том, что занятия этими материями являются интеллектуально затратными. Нежелание идти на эти затраты нередко оправдывается и очень своеобразными представлениями о благочестии. Между тем подобно тому, как душа человеческая выявляет себя не только в воли и чувстве, но, кажется, еще и в разуме, рассмотрение последнего как того, что надо преимущественно смирять и сдерживать, а если и использовать, то в основном для преодоления ересей (а такой взгляд отнюдь не является маргинальным), ведет к аномалии и в Церкви, у которой должны работать разные потребности и дары, ею получаемые. Поэтому проект реабилитации рациональной теологии, который автором этой книги мыслится через критическое освоение современной зарубежной философско-теологической мысли в контексте продолжения отечественных традиций, мог бы идти в определенном смысле и под таким слоганом, как «Вперед к синодальному периоду!»[18]
В заключение есть смысл в идентификации жанра этой книги. Я бы не назвал ее монографией в строгом смысле, поскольку она является преимущественно собранием тех статей и критических эссе, которые публиковались наряду с двумя монографиями – «Философская теология: дизайнерские фасеты» (2016) и «Философская теология: канон и вариативность» (2018). В примечаниях к каждому материалу указываются его исходные выходные данные. Два эссе («Назад к Декарту: некоторые правила для руководства теологического ума» и «Философская теология как практическая дисциплина») публикуются впервые, как, разумеется, и это предисловие, но также и завершающий текст «Философская теология как практическая дисциплина», тогда как «Концепции Искупления в аналитической теологии и некоторые неучтенные метафоры» представлены здесь в вариативном виде в сравнении с журнальной версией[19]. Некоторые из них представляют собой краткие конспективные размышления («моменты»), а некоторые – дискуссии «по поводу» («экспромты»). В книге сохраняются сквозные темы (отсюда и первое слово из ее подзаголовка – «вариации»), каковыми являются прежде всего акцентировка прав и уточнение компетенций индивидуального разума в религии, трехуровневая стратификация компетенций разума в «божественных вещах», история самой философской теологии и ее «межевание» с «соседями» (прежде всего с философией религии, однако и с другими разновидностями рациональной теологии), предметная структура философской теологии в англо-американских антологиях и вопросы к ней, но также и тема религиозного инклюзивизма, критика деидентификации христианской теологии, которая началась полстолетия назад под лозунгом «аджорнаменто», а также очень сильная квази-религиозная составляющая атеизма. Разумеется, если бы здесь были представлены главы монографии, эти повторящиеся вариации были бы устранены. Однако фиксированные разделы книги, перекрестные ссылки в одних текстах издания на другие (выделяются в примечаниях полужирным шрифтом) и унификация ссылок библиографических во всех текстах вместе с объединенной для всех них библиографией наряду с определенным «аджорнаменто» текстов при подготовке данной книги не могут не убедить читателя в том, что он держит перед собой не сборник статей, а монографическое издание. Подзаголовок книги отражает не только то, что в ней объединяются сочинения малых жанров, но и убежденность автора в том, что философская теология является не разделом догматической или систематической теологии (хотя ее ресурсы всегда использовались в обеих), а философским искусством, реализуемым в размышлениях о «божественных вещах» (см. прим. 13). Пушкинский Моцарт был прав в том, что «из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия», а значит и философия как любовь к мудрости также имеет мелодический характер. А о том, что философская теология не столько наука, сколько искусство, свидетельствует уже то, что основные теистические утверждения не являются доказательствами в собственном смысле, но демонстрируют искусство обоснования и убеждения (что, на всякий случай, никак не менее значительно).
Методологика
Философская теология и основное богословие[20]
Дефицит рациональности в религии обнаруживается у нас на нескольких и, казалось бы, совсем разнопорядковых уровнях, но на деле, если вдуматься, речь идет, по сути, об одной аберрации, притом серьезной. Если взять уровень рациональной теологии, то нельзя не обратить внимание на то, что при очень хорошей напитанности нашего книжного рынка новейшей переводной атеистической и антихристианской литературой[21] переводы литературы альтернативной, которая носила бы признаки картезианских добродетелей «ясности и отчетливости», являются совершенным раритетом[22]. Правда, есть надежда, что их в обозримом будущем станет несколько больше[23], но в сравнительном разрезе это почти ничто в сопоставлении с тем массивом серьезных апологетических сочинений, которые переводились в России в дореволюционный, синодальный период. Однако переводная литература, даже очень хорошая, не может заменить собственной мысли. Пользуясь теми же аналогиями, можно вспомнить о том, что в тот же самый период вслед за переводами и параллельно с ними создавалась также собственная рационально-теологическая литература и даже начала складываться московская духовно-академическая «школа верующего разума», тогда как за четверть века после эпохи государственного атеизма ничего сопоставимого сложиться не смогло. Правда, некоторые параллели с позапрошлым веком есть: борьба с «протестантским креационизмом» во имя «православного эволюционизма»[24] отчасти напоминает казанское «обличительное богословие», но задачи современного контровертивного обоснования теизма здесь никак не решаются.
Рациональность, однако, востребована не только на «линиях обороны», но еще больше на «внутренней территории» Церкви. А здесь можно без труда диагностировать тот очень глубокий по корням недуг, который И. Кант в статье «Что такое просвещение» (1784) очень точно обозначил как несовершеннолетие по собственной вине (verschuldigte Unmündigkeit). Оно заключается в том, что человек, имеющий возможность пользоваться собственным разумом, добровольно от этого дара отказывается ради удобства безответственности по лености и малодушию (Faulheit und Feigheit), охотно предоставляя себя в распоряжение «опекуна» (Vormünder) и давая ему возможность замещать своим разумом и совестью его собственные. При этом работает необходимая обратная связь: опекаемому комфортно предоставлять свое основное достояние опекуну, а тому, в свою очередь, – распоряжаться этим достоянием[25]. Данный недуг тесно связан с другим перекосом: если священник Александр Ельчанинов в свое время очень удачно заметил, что из трисоставного организма религии Ренан и Толстой оставили одну мораль, то у нас однозначной доминантой является ее обрядовая составляющая. Очень многих это устраивает (и пасомых и пастырей), поскольку выполнять «многопудовые» внешние предписания, конечно, трудоемко, но все же гораздо сподручнее, чем нести бремя евангельских заповедей и богопознания. Фактическое редуцирование «когнитивного ингредиента» в системе приоритетов верующего определяет, в свою очередь, и конъюнктуру церковного книжного рынка, поставщики и заказчики которого, как создается впечатление, заботливо оберегают потребителя от литературы, могущей напрягать его интеллект, нередко опираясь на то удобное для них предположение, что главная христианская добродетель – «простота». Отсюда абсолютное преобладание на рынке нарративной и акафистной (как в буквальном, так и в фактическом смысле) литературы, а также практической (в смысле «ритуаловедческой») за счет «умозрительной», которая представлена преимущественно переизданиями, а чаще (в коммерческих видах) выборками из сочинений древних отцов (иногда в современной орфографии, а нередко и в дореформенной), а также перепечатками философов той же синодальной академической традиции.
Задача, однако, состоит не в том только, чтобы их перепечатывать (это сравнительно нетрудно[26]), но чтобы продолжать их дело после очень длительного «прерыва» и в условиях современных вызовов. Для этого следует пойти их же путем. Они также, опираясь на современную им западную, преимущественно «континентальную» теологическую литературу, не копировали ее, но создавали на основе уже апробированных достижений собственные рационально-теологические схемы и курсы. И это было вполне естественно: рациональная теология по природе своей интерконфессиональна (поскольку интерконфессиональна и сама философия, если это, конечно, реальная философия, а не лубочная), интеркультурна, хотя ее исходные презумпции не могут не определяться и конфессиональной принадлежностью ее носителей. Точно так же будет естественно обратиться и в настоящее время к той рационально-теологической традиции, которая не была прервана (в отличие от нашей – в 1919 г.), но отличается от «континентальных» дискурсов указанными выше картезианскими добродетелями «ясности и отчетливости», а затем выяснить ее «границы применимости» и возможности учета и инкорпорации исторических отечественных достижений в новую для нашей страны теологическую программу.
Философская теология: основные параметры
Философская теология (ФТ) есть явление действительно новое в российском «ноэтическом пространстве». Не в том смысле, что сочетание соответствующих существительного и прилагательного неизвестно в отечественной историографии (в последнее время оно становится даже относительно популярным[27]), а в том, что у нас отсутствуют собственные философско-теологические исследования. В определении объема понятия ФТ могут быть весьма значительные «разночтения», и это определение объема зависит от позиции того, кто им занимается.
Во-первых, ее можно было бы идентифицировать как одну из разновидностей уже упоминавшейся рациональной теологии (theologia rationis / rationalis), которая, из соображений эпистемологического порядка (речь идет о соотношениях источников познания), опирающегося на очень давнюю преемственность в христианском осмыслении богопознания, может считаться понятийной оппозицией теологии богооткровенной (theologia revelata). Различие между ними, с моей точки зрения, состоит в самом общем виде в том, что первая теология исходит из рациональности в контексте Традиции, тогда как вторая исходит из Традиции, опираясь на рациональность. Это методологическое различие определяет и различия предметные: начинать с рациональности можно там, где познаваемое не является изначально сверхразумным, а там, где оно является именно таковым (область христианских догматов), исходным источником знания может быть только Откровение, тогда как рациональность здесь может самое большее показать, что соответствующие истины являются именно сверхразумными, а не противоразумными. Границы этих двух теологий были намечены еще у Тертуллиана, четко сформулированы Фомой Аквинским и окончательно «подтверждены» во второй схоластике.
Во-вторых, можно было бы уточнить место ФТ среди некоторых других разновидностей рациональной теологии. Наиболее важным представляется уточнение ее корреляции с естественной теологией (ЕТ), поскольку в современной англо-американской литературе, которая наиболее активно работает с обоими терминами, они рассматриваются обычно в качестве почти синонимов. Определенные основания для такой синонимизации имеются: сам термин theologia philosophica, впервые введенный Фомой Аквинским в комментарии к трактату Боэция «О Троице» (1257–1258) и противопоставляемый theologia sacrae scripturae, означал у него науку, в которой Бог познается средствами естественного разума. А это и есть значение чуть позднее освоенного термина theologia naturalis, который соответствует тому, что в его же «Сумме против язычников» охватывает область познания истин, постижимых и теми, кто направляется лишь естественным светом разума (I. 3). В обеих теологиях решаются обе задачи – и апологетическая, и конструктивная, т. е. защита теистических позиций от попыток их философского разрушения и попытка расширения и уточнения горизонта богопознания из философских ресурсов. Общей является и основная проблематика: как и ЕТ, ФТ сосредоточена прежде всего на обоснованиях существования Бога, Его основных предикатов (всеведение, всемогущество, всеблагость), атрибутов (вневременность, неизменность, вездесущесть и др.), природе Провидения, теме происхождения и объема зла в богосозданном мире, соотношения богопознания и науки. В каждом из этих пунктов рациональное обоснование теистических верований осуществляется в полемике с антитеистическими позициями (которые позицией строго атеистической не исчерпываются).
Однако ЕТ и ФТ в качестве «самоосознающих» дисциплин знания идентифицируют себя далеко не одновременно. Об этом свидетельствуют хотя бы две даты. Трактат под названием «Естественная теология» был создан около 1330 г. скотистом Николаем Бонетусом (напечатан в 1505 г.)[28]. Первая же монография под названием «Философская теология» была издана в 1928–1930 гг. английским теологом Ф. Р. Теннантом[29]. С тех пор ФТ и является специфическим доменом англо-американской философии. Такой разрыв случайным быть не мог и означает, что вторая дисциплина знания была призвана в чем-то компенсировать то, чего не было в первой.
Одной из особенностей аналитической философии является то, что она очень тщательно занимается конкретными проблемами, но значительно меньше уделяет внимания методологии (чем существенно отличается от «континентальной философии», в которой конфигурация прямо противоположная). Одним из счастливых исключений можно считать Скота Мак-Дональда (Корнелльский университет, США), согласно которому, тогда как ЕТ выполняет функции «оправдательные» или «обосновательные» (justificatory), помимо нее может быть и теология, осуществляющая задачи «проясняющие» (clarifactory) по отношению к «божественным материям», но не обязательно исходящая из их истинности[30]. А это позволяет ему считать, что ЕТ и «проясняющая теология» образуют два вида единого рода ФТ. Она и определяется Мак-Дональдом как «начинание, нужное для понимания божественных материй и использующее техники и методы человеческого разума, прежде всего те, которые были разработаны в философии»[31]. То, что теология (даже философская) может рассматривать базовые верования своей традиции и вполне извне, представляется мне проблематичным, поскольку в таком случае она теряет, на мой взгляд, свои родовые признаки (в качестве теологии). Однако само двуединство функций обосновывания и прояснения в связи с ФТ является весьма конструктивным. В то же время весьма показательно, что Мак-Дональд не указывает при этом ни на одного «проясняющего теолога» или «философского теолога»: его демаркация была удачной схемой a priori.
Я же сам предложил три пункта различий между ЕТ и ФТ уже хотя бы частично и a posteriori – исходя из текстов самих аналитических «рациональных теологов». А именно, я счел возможным допустить, что, в отличие от ЕТ, которая занимается разработкой обоснований верований (прежде всего в существование Бога) и нейтрализацией возражений против них, может существовать область теологического знания, сосредоточенная помимо этого и на критическом анализе самих этих обоснований (а не только возражений на них), и ее можно было бы обозначить в качестве ФТ. Повод дает для этого труд хотя бы только что упомянутого фактического «инаугуратора» ФТ Теннанта, который, например, не только излагает космологическое доказательство существования Бога, но и уточняет, к какого рода доказательствам оно относится – к дедуктивному или к индуктивному. Классический же пример – логико-эпистемологическое исследование А. Плантингой знаменитого обоснования существования Бога у Ансельма, цель которого не работа с ним, а выявление его «теоретических возможностей» в статье «Онтологический аргумент» (1974). Далее, если естественная теология (theologia naturalis) как коррелят уже упомянутой теологии откровения (theologia revelata) составляет в строгом смысле, ввиду самой четкости границ между ними, специфическое достояние только христианства (приведенные термины относятся к числу коррелятивных – не намного менее, чем «жар» и «холод», «правое» и «левое», «верх» и «низ» и т. д.), то ФТ можно было бы обозначить как интеркультурный философский дискурс. Примером может служить вышедшее и на русском языке «Оксфордское руководство по философской теологии» (2009), составители которого (Т. Флинт и М. Рей) после рассмотрения «проблем христианской философской теологии» завершают издание разделом «нехристианской философской теологии», в которую они включают обоснования теизма в исламе, иудаизме и конфуцианстве[32]. Причины, по которым они предпочли в качестве третьей из этих традиций китайскую, а не индийскую, не совсем для меня прозрачны. Уддйотакара (VII в.), Джаянта Бхатта (IX в.), Вачаспати Мишра (IX–X вв.), Удаяна (Х – XI в.), другие философы-брахманисты (жившие и до, и после перечисленных) не только аргументировали существование Божества-Ишвары, обосновывали его атрибуты (бестелесность, неизменность, всеведение и т. д.), но и предлагали даже версии теодицеи в полемике с буддистами и другими оппонентами, и хотя мы не встречаем в Индии самого соответствия понятию «теология», а индийский теизм отличен от классического теизма, индийские дискуссии начинают последнее время учитываться в англо-американской философско-теологической литературе. Третье различие я связывал с тем, что за последние три десятилетия все большее количество христианских философов (особенно после публикации другой работы уже упоминавшегося А. Плантинги «Совет христианским философам», 1984) не ограничиваются философским обоснованием теизма (хотя он и остается еще в центре их внимания – см. выше), но пытаются работать и с тем, что всегда составляло исконное достояние теологии откровения (см. выше), а именно с догматами Св. Троицы, Боговоплощения, Искупления, Воскресения, а также с Евхаристией и молитвой, пытаясь осуществлять их философскую реконструкцию. И весьма показательно, что если в только что упомянутое «Оксфордское руководство по философской теологии» они включаются, то, скажем, в почти одновременно вышедшем с ним и никак не менее солидном «Блэкуэлловском гиде по естественной теологии» (2009) они полностью опущены. Потому, если бы этот тренд «христианской философии» был бы также включен в домен современной ФТ, мы бы получили еще одну важную демаркацию (независимо от того, как данный тренд оценивать)[33].
В итоге получается, что ЕТ и ФТ можно во всех отношениях рассматривать как концентрические круги. При этом второй представляет собой круг больший, в который первый может быть вписан в качестве его своеобразной «локальной проекции».
Сказанное касалось, так сказать, родовых признаков ФТ, которые по определению должны предполагать видовые особенности. В случае с православной ФТ (а я думаю, это словосочетание вряд ли кого-либо должно смутить, во всяком случае не тех, кто давно знает, что «богословие» произошло от θεολογία) этими особенностями могут быть для начала по крайней мере две. Она не может быть чем-то вроде «интеллектуальной игры в связи с Богом» и не может исходить из познаваемости природы Бога-в-себе, тогда как для немалого числа англоамериканских «христианских философов» и то и другое является не только допустимым, но и самоочевидным.
Основное богословие: вехи и события
Обратим прежде всего внимание на институциональный аспект – историю пребывания основного богословия (ОБ) в предметных куррикулумах российских духовных академий синодального периода.
Предмет ОБ, как правило, прямо называвшийся Апологетикой, появился у нас невероятно рано, но потом периодически вводился и выводился из состава академических кафедр в течение всего синодального периода – нередко по ходу многократных реформ академического устава и перемещений преподавателей. Впервые он был введен в академическую программу, скорее всего в Казанской духовной академии, в 1856 г., когда ОБ вместе с «обличительным богословием» было выделено в отдельную кафедру из догматики[34]. Первым преподавателем курса был И. М. Добротворский (до 1858 г.), вторым – иеромонах Хрисанф (Ретивцев) (до 1865 г.), третьим – протоиерей Николай Рождественский, но после его перемещения в Санкт-Петербург (1869) ОБ вновь влилось в догматику[35]. В Санкт-Петербургской академии ОБ как-то читалось в составе «Введения в богословие» до устава 1869 г. С этим уставом оно выделилось в отдельную кафедру, по которой соответствующий курс протоиерей Николай Рождественский читал до своей кончины в 1882 г. В следующем году его читал вначале священник Василий Рождественский, годом позже – иеромонах Михаил (Грибановский)[36], но есть все основания считать, что после устава 1884 г. кафедры ОБ могло уже не быть, а иеромонах Михаил (Грибановский) стал читать «Введение в круг богословских наук»[37]. Что касается Московской духовной академии, то там в течение XIX в. ОБ не преподавалось: после 1869 г. потому, что Д. Ф. Голубинский основал кафедру естественнонаучной апологетики (которая в определенной мере замещала общий апологетический курс), а до 1869 г. вследствие, вероятно, того, что благодаря очень высокому авторитету Ф. А. Голубинского и его ученика В. Д. Кудрявцева-Платонова, читавших курс метафизики (в рамках этого курса Голубинский читал и свое «умозрительное богословие») еще один «общий предмет» считался излишним[38]. Правда, духовно-академические издатели сочинений Кудрявцева-Платонова позднее представили его произведения в ключе тематического плана ОБ[39], однако и к 1891 г. (год его кончины) ОБ «не пробилось». С 1893 г. С. С. Глаголев читал введение в богословские науки, и только после устава 1910–1912 гг. он читал этот курс, переименованный в «ОБ» (до закрытия академии в 1919 г.)[40].
Отмечая, что ОБ появилось у нас невероятно рано, имею в виду, что введение этого предмета, само название которого было калькой с немецко-католической Fundamentaltheologie, было синхронно началам его институциализации в самой Европе. Все, что предшествовало хронологически нашему ОБ, сводилось к трактату Антонио Вальсецци (Antonio Valsecci) «Об основаниях религии и об истоках нечестия» (1765), «Обоснованию католической теологии» Фридриха Бреннера (1837) и сочинению Иоганна-Себастиана фон Дрея, которое, по мнению такого авторитетного историка фундаментальной теологии, как Г. Вагнер, сыграло очень важную роль в становлении данной дисциплины – трехтомной «Апологетика как научное доказательство божественности христианства и его явления» (1838–1847). Первое же сочинение, содержавшее в своем подзаголовке Fundamentaltheologie, принадлежало Иоганну Непомуку Эйрлиху, который занял первую кафедру с этим названием (в Праге) в том же 1856 г. и начал обрабатывать свой курс, который три года спустя вышел под длинным названием «Руководство для лекций по всеобщему введению в теологическую науку и теорию религии и откровения как первая часть фундаментальной теологии» (1859)[41]. Причина «запуска» нашего ОБ синхронно с Германией – в общеизвестной российской рецептивности и «реактивности», но причиной ее инсталлирования именно в Казани, вероятно, помимо общей активности правящего Казанского архиерея архиепископа Григория (Постникова), было открытие им в 1854–1855 гг. в академии специальных миссионерских отделений, ориентированных на полемический диалог с расколом и иноверием (отсюда и «обличительное богословие»), а ОБ всегда мыслилось прежде всего как систематизация апологетики[42].
Причина же неустойчивого положения ОБ в системе богословских дисциплин лежала, по-видимому, в его «междисциплинарности», которая не всегда убеждала синодальных чиновников, что речь идет об отдельной богословской программе. В самом деле, основной составляющей курса (как мы увидим ниже) было апологетическое религиоведение, которое я бы идентифицировал как религиологию[43]. Поскольку же апологетика рассматривалась как дискурс, фундирующий христианскую религию в целом, ОБ виделось как пропедевтика к конкретным богословским дисциплинам. При инкорпорировании в религиологию и рациональной теологии оно включало и теистическую метафизику. Наконец, обосновывая истинность и богодухновенность христианского вероучения, она занималась и христианскими догматами. А это давало основание трактовать ее по ведомству и «философии религии» (этот немецкий термин был достаточно употребляем), и введения в круг богословских дисциплин (ср.: немецкая «энциклопедия теологических наук»), и метафизики, и догматики. Отсюда и периодические перемещения ОБ на другие кафедры.
Текст лекций иеромонаха Хрисанфа до нас не дошел, но, по сведениям П. В. Знаменского, его первая часть включала учения о бытии Божьем и бессмертии души, а также о происхождении религии и Божественном откровении, вторая – историю древних языческих религий, религии богооткровенной, ислама и иудаизма[44]. Таким образом, основное место в его курсе ОБ занимала религиология, основанная на историческом (тогда он назывался «генетическим») методе, который был разработан им же в лекциях по истории религий[45]. В период же своего ректорства в Санкт-Петербургской духовной семинарии и председательства в Учебном комитете Св. Синода (1869–1874), архимандрит Хрисанф составил программу по ОБ для семинарий. Поскольку ей очень подробно следовал (по его же признанию) епископ Августин (Гуляницкий)[46], издавший вскоре первый соответствующий нормативный курс (см. ниже), то можно быть уверенным в том, что данный курс предполагал четыре основные части, соответствующие по своей архитектонике немецким католическим курсам фундаментальной теологии, которые архимандрит Хрисанф хорошо знал. В первой предполагался христианский взгляд на феномен религии и ее происхождение – в контексте критики натуралистических, «пантеистических» и прочих теорий религии (в которых она трактовалась преимущественно как производное от других, «более базовых» факторов человеческого бытия), во второй – рассмотрение нехристианских религий (язычество, иудаизм, ислам), в третьей – христианство как единственно истинная и богодухновенная религия, в четвертой – православие как единственно истинная форма христианства. Связь с теорией религии и теорией откровения, за которыми следовало обоснование полноты истины в одной из конфессий у Эйрлиха (см. выше), здесь очевидна. Из «умозрительного богословия» (которое прямо соответствовало ЕТ), скорее всего, брался только небольшой, хотя и базовый элемент – доказательства бытия Божия (включая критику их опровержений), – который, судя по тексту архимандрита Августина, размещался в первом разделе «О религии вообще», после критики нехристианских теорий религии. В итоге ОБ мыслилось в начальном виде как нечто вроде «полной апологетики» – в отношении религии как таковой, затем христианства и, наконец, православия.
До появления первого стандартного учебника по ОБ (для Виленской семинарии) архимандрита Августина (см. выше) была опубликована популярная версия соответствующей тематики – в виде «апологетических публичных лекций» под названием «Об основных истинах христианской веры» (1874). Автором был ординарный профессор богословия в Московском университете протоиерей Николай Сергиевский, много потрудившийся над переводами западных апологетических изданий. Здесь же он обращается к широкой публике. В предисловии к лекциям настойчиво акцентируется их ближайшая связь с ОБ, выражаемая и лексически. Лектор уведомляет читателя, что предлагает ему только «основные истины христианства» (а не все церковные догматы), защищает в христианстве то, «что в нем дано как основоположное», с признанием чего «само собою оправдывается и все созданное и созидаемое на этом основании»[47]; что нынешние противники веры (в отличие от древних еретиков, которые все же стояли на почве христианства) «отрицают основные истины основных фактов христианства и самые эти факты» (божественность Иисуса Христа, богоподобие человека, его грехопадение, необходимость искупления, спасения и, следовательно, также Церкви)[48]. Последовательность тем лекций: дохристианское язычество, в своем падении свидетельствующее о божественном происхождении христианства; ветхозаветное иудейство, свидетельствующее о том же; божественное приуготовление христианства и его первые действия в мире; бытие и существо Бога; миротворение; начальное состояние и падение человечества; искупление его; Церковь; последние судьбы человека и мира (завершается всеобщим воскресением и «преображением живущего»). Таким образом, ОБ в изложении протоиерея Николая Сергиевского предстает синкретом апологетической религиологии, ЕТ и догматики. Второй из этих компонентов представлен основными «доказательствами» бытия Божия (в последовательности: онтологическое, нравственное, космологическое и телеологическое), которые мыслятся в их единстве как «целостное доказательство» и характеризуются сами по себе как «демонстративные доводы»[49].
В первом стандартном курсе для семинарий архимандрита Августина «Руководство к основному богословию» (1876) были четко расписаны все формальные параметры дисциплины. Задача ОБ есть изложение учения о христианстве как единой истинной религии и доказательство «основной богословской истины» – о том, что оно есть религия богооткровенная, которая в этом своем качестве сохраняется в целости и неповрежденности Православной Церковью. «Характер» этой дисциплины определяется тем, что все прочие богословские дисциплины опираются на нее, принимая наличие Откровения как истину уже данную, в то время как она «ставит и решает вопрос о самом откровении». Метод ее в том, что она излагает свое содержание «на основании разума и вообще научных данных», но прежде всего в том, что она, действуя перед лицом антирелигиозных и антихристианских направлений мысли, работает в режиме апологетики[50]. Архимандрит Августин впервые попытался разобраться и с названиями своей дисциплины и с ее «синонимами», что имело немалое методологическое значение. Ее собственное название (fundamentalis) объясняется тем, что она «полагает самый первый, самый основной камень для построения всех прочих наук христианских». Будучи и общим введением во все эти науки, пропедевтикой к ним, она может быть названа и общим (generalis) богословием. Почему ее можно называть и апологетикой, видно из вышесказанного. Можно ее также считать «философией религии и христианства», потому что она должна защищать религию с помощью научных, прежде всего философских, «исследований и приемов». Не отказывается архимандрит Августин считать ее и «богословской энциклопедией», потому что она излагает общий взгляд на христианство, лежащий в основе прочих дисциплин[51].
Четыре последовательных тематических блока у архимандрита Августина, по его свидетельству, лишь с малыми изменениями воспроизводившими программу архимандрита Хрисанфа, нам уже известны (см. выше).
Отдел I «О религии и откровении вообще» распределяется по двум обозначенным подразделам. В первый включаются на совершенно равных основаниях темы (1) происхождения и сущности религии, (2) бытия Бога как личного и бесконечного духа, (3) духовности и бессмертия человека. В (1) на основании положений о «всеобщности религии» и ее несводимости к другим «устремлениям человека» подвергаются критике все редукционистские концепции религии: кантовское уравнение (религия = нравственность), шиллеровско-гетевско-шлейермахеровское (религия = эстетическое чувство), гегелевское (религия = философия), а также материалистическое, позитивистское и фейербаховское понимание. В (2) выстраиваются основные доказательства бытия Божия в последовательности: онтологическое, космологическое, телеологическое (с различением физико-телеологического и этико-телеологического), нравственное (кантовское); учитываются и критикуются кантовские опровержения их (отдельно критикуется и само кантовское), а также пантеистические (идеалистические) и материалистические возражения против идеи личностного Бога. В (3) приводятся три доказательства бессмертия души (метафизическое, телеологическое и нравственное) и совершается, как нечто самоочевидное, возврат к теме религии как (в соответствии с традиционным определением Лактанция) союза Бога и человека. В подразделе об откровении различаются «откровение в широком смысле» и откровение сверхъестественное, сопровождаемое критикой деизма и обоснованием истинности чудес и пророчеств. В отделе II рассматриваются язычество (религии Китая, Индии, Персии, Египта и греко-римского мира), которое оценивается не как нормальное явление, поддающееся естественно-историческому обоснованию, а затем «новоиудейство» и ислам. В отделе III различаются внутренние и внешние признаки богооткровенности христианства (на основании Ветхого и Нового Заветов), а также рационалистические теории происхождения христианства (деистическая, «идеально-пантеистическая», левогегельянская, ренановская, фейербаховская), которые опровергаются наряду с «мнимыми несогласиями научных показаний о природе с библейскими воззрениями». В отделе IV православие противопоставляется инославию – наиболее подробно католичеству.
В методологически первостепенном вопросе о возможности говорить о «доказательствах» бытия Божия архимандрит Августин занимал амбивалентную позицию, видимо, раздваиваясь между критической точкой зрения протоиерея Феодора Голубинского[52] и задачами внедрения в сознание семинаристов «несомненных истин». Его не устраивает скепсис в отношении «доказательств», который исходит и от позиции Ф. Якоби (доказывать – значит выводить что-либо из причин и условий его бытия, а потому они применимы лишь к конечным вещам) и от сторонников критики их у Канта (пока нет доказательств, вполне удовлетворительных). В первой позиции он возражает, что в доказательствах «мы показываем не то, откуда или почему существует Бог, а лишь то, откуда и почему мы можем знать, что Он существует»[53]; во второй – что критикой Канта доказано только то, что доказательства бытия Божия не имеют той же точности и очевидности, как доказательства в математике и в естественных науках[54].
Следующей вехой в становлении ОБ, и притом весьма значительной, стал монументальный курс 1881/1882 г., читанный в Санкт-Петербургской духовной академии профессором протоиереем Николаем Рождественским (см. выше). Опираясь на схему, разработанную архимандритами Хрисанфом и Августином, он смог и серьезно тематизировать методологические вопросы, и подробно систематизировать входящие в данную дисциплину предметные составляющие.
Следуя за архимандритом Августином в том, что предмет ОБ составляют «основные истины христианской веры», а значение его в том, что оно образует фундамент для всех прочих богословских дисциплин, протоиерей Николай Рождественский значительно четче выделяет в нем «истины, на которых зиждется религия вообще» (иными словами, теизм как таковой) – истина бытия Божия, действительность сверхчувственного мира и личного бессмертия человека и истины, «составляющие специфическое достояние христианства», – о его божественном происхождении, богооткровенном достоинстве его учения, богочеловеческой природе его Основателя и значении основанной Им Церкви для религиозно-нравственной жизни человечества[55]. Задача ОБ – систематическое изложение оснований христианства и демонстрация несостоятельности их отрицания в антирелигиозных и антицерковных учениях. Метод его изложения – «преимущественно положительный», раскрытие позитивных истин христианства, наряду с защитой их от оппонентов. Протоиерей Николай Рождественский, однако, подчеркивает, что последняя не должна составлять основной цели данной богословской дисциплины, поскольку в противном случае она распадется на полемические фрагменты. Здесь же он призывает к большой осторожности в пользовании новейшими философскими и научными концепциями (чем немало злоупотребляют западные богословы)[56].
Как и архимандрит Августин, протоиерей Николай Рождественский осмысляет термины, обозначающие ОБ и близкие к нему области, но делает это уже не на семинарском, а на академическом уровне. Прежде всего он отмечает сравнительную новизну самой католической дисциплины Fundamentaltheologie, которая представлена изданиями Эйрлиха (см. выше), а также послесоборными работами: «Руководство по фундаментальной теологии как основание церковной теологии, составленное под углом зрения философии религии» Й. Шпринцля (1876) и «Учебник по фундаментальной теологии» Ф. Гёттингера (1879). При этом он не без иронии отмечает, что в этих руководствах решается задача защиты не столько христианства как такового, сколько ватиканской конфессиональной доктрины: первый из этих трудов представляет собой философски аргументированный катехизис, третий – апологию новейших догматов, прежде всего о папской непогрешимости[57]. Соответствующая современная литература, прекрасно протоиереем Николаем Рождественским изученная, предлагает критерии для различения апологии и апологетики: первая должна руководствоваться «задачами момента», вторая может претендовать на строительство системы защиты христианства по самым различным пунктам. Однако практика показывает, что труды под названием «Апология» решают те же «систематические задачи», что и сочинения жанра «Апологетика», а также, что последние постоянно меняют адрес своей аргументации: если до середины текущего столетия они были обращены преимущественно против библейской критики, то начиная с 1860-х гг. – против материалистического и натуралистического мирообъяснения.
Естественное богословие равнозначно для него рациональному богословию на том основании, что в соответствующих ему «системах» делаются попытки выведения религиозных истин из начал разума, и образцом его он считает метафизическую систему Х. Вольфа. Расцвет «естественного богословия» приходился на XVIII – начало XIX вв., после чего его задачи суживаются до задач естественнонаучной апологетики, примерами чего могут служить сочинения Г. Ульрици «Бог и природа» или «Бог и природа» К. Фламариона. Следующие близкие понятия – умозрительное богословие и философская догматика. Немецкие авторы соответствующих работ ставят перед собой задачи философского раскрытия религиозных истин, притом в одних случаях раскрываются истины общерелигиозные, в других – истины христианской веры. Хотя в основном эти темы разрабатывают католические богословы, у протестантов соответствующие труды обозначаются как «основная догматика». Ее темы – происхождение и сущность религии, откровение, сущность христианства и т. д. – более всего приближаются к ОБ[58]. Таковы системы Х.-Г. Вейсе и И.-П. Ланге. Протоиерей Николай Рождественский поддерживает это направление и выдвигает возражения против его критиков: то, что догматы суть предметы одной только веры, а не и умозрения, опровергается опытом их раскрытия у древних отцов; то, что философия ничего не принимает на веру, также неверно (даже математика принимает недоказываемые аксиомы); то, что философия скорее может поколебать веру в догматы, чем укрепить ее, неверно из того, что она может содействовать сознательной вере, а не слепой. Большее основание имеет то возражение, что «философская догматика» претендует на уже занятое место – «положительной догматики». Однако автор находит и здесь контраргумент: «…разница между догматическим богословием и философской догматикой состоит в том, что в системах положительных догматик… философские соображения приводятся иногда в пояснение догматов, главным образом имеют в виду решения тех или других возражений или недоумений относительно догматов; философские догматики представляют, напротив, целые системы специально философского раскрытия догматических истин»[59]. К этой философской догматике в России он относит «Лекции по умозрительному богословию» протоиерея Ф. Голубинского (см. выше), отмечая, правда, что тот раскрыл только одну ее часть – учение о Боге. Наконец, протоиерей Николай Рождественский сближает с ОБ и «общее богословие» (theologia generalis). Оно соответствует введениям в богословские дисциплины и вместе с тем должно содержать представления о религии как таковой, об откровении и сущности христианства[60].
Сам же курс протоиерея Николая Рождественского, помимо детального введения в «Историю христианской апологетики, или основного богословия» (от начала христианства до современности)[61], содержал две части – о религии как таковой и о христианстве. Структура его в значительной степени следует последовательности тем у архимандрита Августина, который, в свою очередь, следовал «стандарту» программы архимандрита Хрисанфа (см. выше). В части I размещались два отдела – о «религии с субъективной стороны» и об «основных истинах религии». В отделе 1 обсуждались сущность религии (с обращением к этимологии самого термина); ее отношение к другим сторонам человеческой жизни; ее происхождение – с критикой редукционистских теорий от античных до шлейермахеровской и фейербаховской; изначальность и всеобщность религии в человеческом роде; аргументы в пользу начального монотеизма и соображения о причинах появления многобожия (наряду с обзором его архаических форм). В отделе 2 – истина о бытии Божьем, с рассуждениями о характере ее доказательств и изложением их самих (в последовательности: космологическое, телеологическое онтологическое, нравственное); учение о личном Боге (теизм в сопоставлении с деизмом, пантеизмом и, зачем-то, материализмом); учение о бессмертии души и рациональных оснований для веры в него. В части II был представлен обстоятельный критико-сравнительный обзор «естественных религий» (от религий Китая до греко-римской включительно), учение о богооткровенности христианства, а затем религия ветхозаветная и новозаветная.
Протоиерей Николай Рождественский более всех своих предшественников углубился в задачу уяснения научного статуса доказательств существования Бога, пытаясь опровергнуть три основных, по его классификации, возражения против их «доказательности»[62]. Мнение о том, что они именно как доказательства по существу невозможны, опровергается тем, что кантовско-шлейермахеровская их критика основывается на неадекватном представлении о самом бытии Божием; что убежденность в том, будто доказательство есть выведение низшего из высшего, основывается на ограниченном понимании самого доказательства[63]; что далеко не все доказательства должны иметь признаки «математической очевидности», поскольку помимо математических доказательств имеют место логические, т. н. демонстративные и индуктивные[64], и именно вторые вполне применимы, когда речь идет о доказательствах бытия Божия. Протоиерей Николай Рождественский также подробнее всех своих предшественников рассматривает проблему классификации этих доказательств, которую он предваряет обоснованием самой их множественности и сожалением о том, что обычно очень мало углубляются в саму их природу (здесь он полностью солидаризируется с Лейбницем). Сам же он предлагает сократить их четырехчастную схему[65] до двухчастной – распределить их на те, что приводят к познанию Бога из внешнего мира и из внутренней духовной жизни человека[66].
Последовавшие за фундаментальным трудом протоиерея Николая Рождественского курсы ОБ были, как правило, ориентированы на общую четырехэтапную схему раскрытия «основных истин» православного религиоведения, выписанную уже в программе архимандритов Хрисанфа и Августина (см. выше), но с учетом аудитории и личных предпочтений их авторов. При этом «естественно-теологический материал» – в виде преимущественно обоснований бытия Божия и бессмертия человеческой души – включался, как правило, в первый сегмент религиоведения, в учение о «религии вообще». Единодушны составители этих курсов были также в том, что «оснóвное» содержание ОБ осуществляется апологетическим методом (а потому и не разделяли ОБ и «Апологетику»), но иногда разнились в стиле раскрытия материала и в расстановке методологических акцентов. В хронологической последовательности эти авторские акценты выглядели приблизительно следующим образом.
В «Лекциях основного богословия» (1883) священника Василия Рождественского ОБ позиционировалось не только как обоснование права на существование прочих богословских дисциплин, но и как предполагающее уже изучение и некоторых из них (в первую очередь догматики и экзегетики), а также как дисциплина, опосредующая связь между «строго богословскими науками» и «гражданскими, или светскими»[67]. В «вопросе о доказательствах» он занимал позицию, противоположную той, на которой стоял его предшественник и однофамилец и очень близкую к мнению прот. Ф. Голубинского: они не могут называться доказательствами в строгом смысле (demonstrationes), в которых следствия выводятся из «высших начал или аксиом», но служат реальным пособием к «прояснению и раскрытию лежащей в глубине нашего духа идеи о божестве», и без них нельзя обойтись при защите истины бытия Божия от сомневающихся в ней и отвергающих ее[68].
Магистр Санкт-Петербургской академии и профессор богословия в Военно-медицинской академии и Лесном институте протоиерей Дмитрий Тихомиров в оказавшемся весьма востребованном «Курсе основного богословия» (первое издание, но уже посмертное – 1887) делил, как и протоиерей В. Рождественский, религиозные истины, обосновываемые в этой дисциплине, на общерелигиозные – истины бытия Божьего и присутствия бессмертного духа в человеке, и специфически христианские – истины божественности происхождения и Основателя этой религии, а также богооткровенности Его учения[69]. Метод ОБ – философский и научно-критический: в отличие от догматического и нравственного богословия, оно не может опираться при своих исследованиях на Писание и Предание, поскольку ему как раз и следует «утвердить достоинство того и другого источника». Приемы и средства, которыми должен пользоваться апологет (а для его подготовки и преподается данная дисциплина), это несомненные данные исторических и естественных наук, а также «строгое умозаключение и индукция»[70]. «Доказательность» доказательств бытия Божия он не проблематизировал, но насчитал основных три – космологическое, телеологическое и психологическое (подразумевая здесь и идею Бесконечного Существа, и голос совести[71]).
Сравнительно недавно репрентированное пособие по ОБ и догматике профессора Харьковского университета протоиерея В. Добротворского (1895) примечательно разве тем, что он просто опустил «естественно-теологический» сегмент в своем курсе. Возможно, это означало, что он усомнился в плодотворности смешения фактически двух различных областей знания – религиологии и теологии, но это только догадка. Задача ОБ, по его мнению, в том, чтобы служить введением в основную богословскую дисциплину – догматику; ее предмет составляет религия вообще и отдельные религии, метод – апологетика[72]. А вот почему тот же сегмент был устранен в популярном учебнике преподавателя Вифанской семинарии И. П. Николина «Курс основного богословия, или Апологетика» (1-е изд. 1904 г.), уже вполне понятно. Ведь, с точки зрения автора, религиозные и, в частности, христианские истины представляют собой только «данные нравственного опыта», а истинность их измеряется истинностью не логической, рассудочной, а одной лишь «истинностью непосредственного нравственного сознания»[73].
Зато в книге известнейшего апологета (позднее новомученика) профессора Московской духовной академии С. С. Глаголева «Пособие к изучению основного богословия» (1912), предназначенной для женских богословских курсов, оказалась опущенной вся религиология. Бóльшая часть издания была посвящена вере, богопознанию и теистической метафизике (происхождение мира, свобода воли, зло и провидение, бессмертие души, вечность), завершающая – христианским учениям об Иисусе Христе и Церкви. ОБ не может ставить перед собой задачи пробуждения веры – добродетели, приобретаемой свободными усилиями души при воздействии на нее благодати, но лишь «задачу только возбудить желание иметь такую веру»[74]. Глаголев писал о возможности «научного обоснования истин веры»[75] и не ставил под вопрос «доказательность доказательств». Но он же оговаривался, что человек обретает Его не путем «логических анализов», но только путем нравственного самосовершенствования, а доказательства бытия Бога могут и должны быть стимулом для прохождения этого пути[76]. Поэтому он не занимался их классификацией, обращая внимание аудитории прежде всего на их богатство и разнообразие. Включал он в них Паскалево «доказательство от пари», но также (впервые, вероятно, по крайней мере из русских авторов) обращал внимание и на «доказательство от атеизма» Б. Франклина. Речь идет о том, что когда французские энциклопедисты воспели его изобретения в области электричества в оде, где он уподоблялся титанам, отнявшим перуны у Зевса, он заявил, что до того ему были известны все основные доказательства бытия Божия, а теперь он может установить новое – от ненависти: ненавидеть можно только то, в существование чего веришь, а ненависть к Богу, которой дышали эти атеисты, свидетельствовала в пользу их веры в Его существование[77].
Хотя киевскому профессору протоиерею Павлу Светлову принадлежала большая заслуга в деле систематизации литературы по апологетике, его собственный «Курс апологетического богословия» (1912) яркостью не впечатляет. Он состоял из двух частей – изложения исторических основ христианства и систематического изложения христианского вероучения «в главнейших его основаниях». Связь с ОБ очевидна, но пропущена базовая тема «о религии вообще» и истории религий.
«Естественно-теологические» темы (Бог, вселенная, происхождение зла) включены в начало второй части, которая завершается «откровением истины», «откровением любви» и «откровением силы» во Христе Иисусе. Апологетика, по его мнению, должна выстраиваться поэтапно: начинать с «гносеологии или учения о познании в применении к религии», продолжать обоснованием «внешнего превосходства» христианства над другими религиями и завершать обоснованием его «внутренних превосходств»[78].
Новых «методологических прорывов» в ОБ после синодального периода до сих пор, кажется, не обнаружилось. Уже сам порядок изложения материала в многократно издаваемом учебнике А. И. Осипова заметно уступает в «когерентности» дореволюционным курсам, на которые он опирается[79]. Логичнее выстроено введение в ОБ архиепископа Михаила (Мудьюгина), хотя туда также введены темы, которые вряд ли относятся до предмета ОБ[80]. Значительно лучше была составлена «Апологетика» протоиерея Василия Зеньковского (1957), где рассматривались в продуманной последовательности «христианство и наука», «христианство в истории» и «христианство как церковь». Протоиерей Василий Зеньковский также гораздо больше, чем А. И. Осипов, привлекает данные науки своего времени (а не давно прошедшего). Однако он даже не думал входить в методологические вопросы или в установление корреляций между апологетикой и смежными дисциплинами, как то делали синодальные авторы, начиная с архимандрита Августина (см. выше). В этом, а также в игнорировании самого понятия «ОБ» хорошо чувствуется дистанцирование русского зарубежья от «синодальной схоластики».
Пересекающиеся окружности
Возвращаясь из исторического экскурса в историю синодального ОБ к конструированным родовым признакам ФТ, можно уверенно констатировать, что значительные пересечения у них несомненно есть. Прежде всего, в том общем сегменте обоих дискурсов, который связан с рациональным обоснованием теизма – в виде обоснований сосуществования веры и знания, существования Бога, Его атрибутов и действий, допущения зла в мире и бессмертия человеческой души. В обоих случаях это обоснование осуществляется в полемическом, апологетическом формате. Элементы эпистемологической критичности также обнаруживаются в ОБ во внимании и даже дискуссиях на предмет «доказательности доказательств» (которым по этой причине нами было уделено специальное внимание). Признак внедрения на территорию богооткровенной теологии еще более очевидным образом в ОБ присутствует – в самой базовой структуре всех рассмотренных курсов этой дисциплины. Отсутствует только момент компаративистский – учет интеркультурного опыта богопознания. Но он и в современной ФТ, как мы убедились, начинает эксплицироваться фактически не ранее, чем в XXI в. Поэтому, пользуясь нехитрыми графическими аналогиями, можно сказать, что, если соотношение ФТ и ЕТ может быть представлено в виде концентрических кругов, то соотношение ФТ с ОБ – в виде перекрещивающихся.
Различия, однако, также немалые. Прежде всего, это невозможный для аутентичной ФТ синкрет тематик – пропедевтической, религиологической (о термине см. выше), метафизической и догматической, – невозможный именно потому, что классическая философская рациональность обязана прежде всего заботиться упорядочиванием знаний, а смешение религиоведения и теологии этому предназначению прямо противоречит. Между тем для ОБ указанный синкрет (который, вероятно, вызывал сомнения и у духовно-академических законодателей – см. выше) был и в настоящее время должен оставаться в целом естественным, поскольку и потребность «вводить» богословские дисциплины чем-то вроде «общего богословия» и апологетические задачи (не забудем, что для ОБ они основные), решаемые и на почве сопоставления религий, и философской обороны основных истин теизма и самой догматики, для духовной школы являются вполне органическими. Другое различие – коммуникативного порядка. Духовно-академическое ОБ рассчитано на обеспечение пастыря, катехизатора и миссионера определенной суммой готовых общебогословских и апологетических знаний (желательно и навыков), которые можно в готовом же виде применять по назначению. А ФТ решает «диалогические задачи» вовлечения и «внешних», и «невнешних» в совместное исследование, и должна исходить не из того, что она имеет уже совершенно готовые ответы на все возражения «неверных» и «сомневающихся», а из того, что она призвана вместе с ними сопоставлять все pro et contra по поводу конкретных топосов путем «взвешивания аргументов», и именно предполагает прилагательное в словосочетании «ФТ». Разумеется, она должна делать это, опираясь и на накопленные уже результаты своей традиции и отчасти даже и других (см. выше), но это никаким образом не освобождает ее от самостоятельной рефлексии, ибо без нее прилагательное в словосочетании «ФТ» опять-таки окажется устраненным. А вот существительное в том же словосочетании указывает на то, что ФТ должна решать задачи духовно-практические – философской «нейтрализации» одних, обращения других и просвещения третьих, а потому ее основным форматом должно быть диалектическое искусство (в платоновском смысле – не в гегелевском).
Принимая в качестве перспективного двуединство исследовательских функций христианской ФТ в виде «обосновательной» и «прояснительной» (см. выше), можно предположить, что они должны распределяться (без жесткой демаркации) в соответствии с тем, что традиционно и правильно разделялось как познание естественное и предполагающее также иные источники знания. В первой позиции речь идет о формате апологетическом, во второй – о герменевтическом. Что такое апология теистических верований, известно очень хорошо, а что такое плодотворная философская герменевтика для христианской теологии, само нуждается в «прояснении». Предположительно, что она должна быть связана не столько с рационализацией сверхразумных по своей природе христианских догматов, сколько с современным философским истолкованием самой богооткровенности текстов Писания, основных стратегий их экзегезы (за которыми также стоят определенные философские программы и «антипрограммы»), выявлением в «бесконечности» их смыслов тех, которые могут быть определяющими и для предметов современных философско-теологических дискуссий, а также с рационально-экспертными функциями по отношению к различным топосам Предания, которые вряд ли в настоящее время могут истолковываться в старосхоластических схемах, вроде consensus partum.
На обоих этих путях для отечественной ФТ было бы перспективным пользоваться ресурсами отечественных теологических дисциплин, к которым, помимо ОБ, относится в равной, если не в большей еще степени, и московская теистическая метафизика протоиерея Ф. А. Голубинского, В. Д. Курявцева-Платонова и С. С. Глаголева, впитавшая и лучшие для ее эпохи достижения европейской рациональной теологии. Обоснования существования Бога, бессмертия души (вместе с обсуждениями самого качества обоснования) и богодухновенности самого Писания относятся к ним в первую очередь. При этом ФТ имеет все права и даже (ввиду ее критической природы, поскольку она философская) обязанности не только их принимать, но и от них отталкиваться. Но очень важно принятие для ФТ и самого феномена религии и религиозного опыта в качестве отправного пункта для теологической рефлексии, которое восходит в конечном счете к «школе» архимандрита Хрисанфа (Ретивцева) и находит наиболее основательное осмысление у протоиерея Николая Рождественского.
А вот каким образом может быть более подробно прочерчена карта компетенций и топосов современной отечественной ФТ, должно составить предмет уже дальнейших публикаций.
Назад к Декарту: некоторые правила для руководства теологического ума
При всем своем расхождении с аналитическими философами в вопросе о соотношении философской теологии с философией религии, которые, по моему убеждению, не могут мыслиться ни как синонимы, ни как общее и частное, ни как разные методы при единой предметности[81], я склонен считать, что их базовые установки по отношению к самим задачам философии в целом, и, в частности, к конкретным областям ее применения (а к таковым относится теология) являются здравыми и перспективными. Основное, чего здесь не хватает и что нашло отражение в только что приведенном невнимании к различению дискурсов, это серьезного внимания к методологическим вопросам. Не вдаваясь в подробностях в отдельную и очень большую тему соотношения двух основных философских формаций современности – аналитической философии и т. н. континентальной[82], их структурное различие можно было бы кратко записать как ориентирование в первом случае на конкретные результаты философской практики[83], и во втором – на сам ее процесс. Из этого, казалось бы, естественным образом можно было бы заключить, что если бы аналитический «проблемоцентризм» можно было дополнить континентальным «методоцентризмом», то мы бы получили, если можно так выразиться, оптимальный вектор.
Рассуждение о методе
Этому, однако, препятствует само понимание и, главное, способ реализации метода во второй из этих больших традиций. Ведь с точки зрения общезначимой рациональности метод есть не цель в себе, а средство – программа достижения определенных, в данном случае когнитивных, результатов, тогда как в теоретически наиболее нагруженных направлениях континентальной философии дело обстоит совсем не так. Например, если взять в качестве парадигмальной «методологической философии» знаменитый труд Э. Гуссерля «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913) – а это ничего не мешает нам сделать, – мы убедимся в том, что феноменологический метод есть введение в сам феноменологический метод, который является вполне самодовлеющим и не приводит никого из находящегося «вне стен» к решению ни одной конкретной философской проблемы кроме проблемы самого метода. Решается здесь другая задача – посвящение способного попасть «в стены» в определенный, специфический философский язык, очень похожий на кантовский, но отличный и от него вследствие того, что тот был также телеологичным, а не самодостаточным. С какого времени «методоцентризм» стал в немецкой, а затем и во французской философии самодовлеющим – отдельный и очень большой вопрос. Интересен и другой вопрос – каким образом он начал трансформироваться и в «стилецентризм», составляющий сущность т. н. постметафизической философии (кульминирующей в «письме» Ж. Дерриды). Однако здесь для нас важен только тот момент, что и теологии, если, конечно, считать и ее теоретической практикой, «методоцентризм» не может оказать реальной поддержки.
Типичным примером самоцельного системостроительства может служить знаменитый «Метод в теологии» (1973) канадского католика Бернарда Лонергана, который применил свой «обобщенный эмпирический метод» (generalized empirical method – GEM) ко всем познавательным областям, предложив и теологии как гуманитарной дисциплине (с некоторыми окошками в трансцендентное) что-то вроде средства повысить немного ее статус на фоне первенствующих «моделей» математики и естественных наук. Первая часть его труда посвящена трем стадиям мировой культуры – в виде традиционной, классицистической и современной, вторая – введению теологии в систему гуманитарных дисциплин. И этот труд по философии культуры стал значительным событием интеллектуальной жизни, однако его название многих ввело в заблуждение, вследствие отсутствия в нем чего-либо специфически теологического. Правда, определенные связи с теологией здесь есть: восемь функциональных специализаций (functional specialities) скоординироованы с четырьмя уровнями трансцендентальности – в восходящем порядке – «бытием эмпирическим», «бытием интеллектуальным», «бытием разумным» и «бытием ответственным», которые, в свою очередь, коррелируют с трансцеденталиями истины, блага и реальности. Речь, однако, идет не о теологии как таковой, а скорее о культурологической философии теологии.
Что же касается тех специализаций, то они разделяются вначале формально[84], а затем выписываются «материально» как 1) обращенные к прошлому: исследование (research) – работа с литературными прежде всего первоисточниками и принципами источниковедения, истолкование (interpretation) – исследование того, что хотели сказать изучаемые авторы, история (history) – принцип историзма в применении к догматам и доктринам, диалектика (dialectics) – критика ошибок в самом применение историзма и реконструкция реально-исторических паттернов знания, морали и святости[85], и 2) обращенные к будущему: фундирование (foundations) – выяснение того, что означает истинное обращение (conversion) для знаний, морали и святости субъекта, наряду с экспозицией основных теологических категорий, доктрины (doctrines) – изучение истин и ценностей «обратившихся», наряду с «производством» символов веры, катехизисов и житий, систематика (systematics) – организация истин и ценностей в когерентное целое, обеспеченное «основоположениями» и коммуникации (communications) – распространение изменений, генерированных этими истинами и ценностями и адаптация их к медийным средствам и ментальностям индивидов и конгрегаций[86].
Если у Гегеля все делилось на триады, то здесь доминирует четная нумерология 4+4. Для этого потребовалось и деление на ретро- и перспективу. И в самом деле, принцип симметрии соблюден очень хорошо, а потому и архитектура этого трансцендентально-гуманитарного проекта нередко называется «прорывной». Но для применения этой симметричной системы «специализаций» в собственно теологической практике, в том числе философско-теологической, возможности не просматриваются, так как сама схематизация является целью. Ну а с тем, что и теолог должен работать с первоисточниками и «намерениями авторов», как историк или литературовед, кто же может поспорить?
Реальная методология теологического знания (а не общегуманитарного) уже очень давно рассматривалась в той традиции, к которой принадлежал Лонерган. Достаточно привести самый первый, вводный трактат («О науке теологии») в «Сумме теологии» Альберта Великого (1270-е). Здесь ставятся вопросы-параграфы: является ли теология наукой? что она есть по определению? каков ее предмет? каков ее предмет согласно основным мнениям? является ли она наукой единой или множественной, а если единой, то через какое единство? является ли она наукой практической или теоретической? и является ли она наукой всеобщей или частной?[87] О соотношении (и границах) теологии с другими дисциплинами, а также о возможности считать ее строгой наукой (доказательной) и о ее корреляции с Откровением писали все основные средневековые «доктора», среди которых можно назвать, из самых знаменитых, Александра Гэльского, Фому Аквинского, Бонавентуру, притом не только в «суммах», но и в более компактных произведениях. Схоластики «Золотого века» опирались на авторитетных предшественников, среди которых выделяется блж. Августин, посттридентская методология – на схоластическую.
Однако современная философская теология, явившаяся на свет не только после Кантовой критики традиционной метафизики, но и после Ницшевой «смерти бога», не может использовать машину времени, например, осмыслять себя через силлогистические заключения, беспокоясь о том, каковы ее субстанция и акциденции или о том, через какие именно единства и множественности она является единой или множественной. Поэтому у нас значительно больше резона поскрести по тощим, но современным «аналитическим сусекам», а то, что там не найдем, отчасти восполнить из несколько более ранних и собственных скромных запасов. Вопросы, которыми мы бы ограничились, также достаточно скромные. Один из них: какие «богопознавательные ресурсы» находятся в распоряжении философской теологии и как они соотносятся друг с другом? Другой: в какой мере она может пользоваться тем из них, который является для нее профильным?
Треугольник Морриса
Заслуга постановки первого вопроса принадлежит, в частности, креативному «философскому теологу» Томасу Моррису как автору главы «Понятие Бога» в его сборнике статей по философской теологии «Наша идея Бога» (1991). Правда, он не предлагает четкой последовательности познавательных шагов в рациональном исследовании, как то сделал великий Декарт в своих «Правилах для руководства ума» (1620-е)[88], но достаточно четко выстраивает приоритеты того, из чего должен исходить теологический разум, решая свои задачи.
Многие христианские теологи (преимущественно протестантские) считают, как он верно констатирует, что свидетельств Писания вполне достаточно для достижения нами знаний обо всем, что касается Бога, и он называет этот простой подход «чисто библейской теологией» (purely biblical theology). В принципе, он правилен, но при этом не учитывается, что Библия предлагает иногда и несовместимые друг с другом характеристики Божества[89]. Поэтому он должен быть дополнен другими методами. Прежде всего теологией креационизма (creation theology), в которую заложена идея о том, что Бог является «конечным творцом любой реальности, отличной от Него Самого»[90]. У нее два основных достоинства: укорененность в том же Писании (которое постоянно свидетельствует о Боге как о Творце мира) и значительная эвристичность, основанная на возможности открытия многообразных причинно-следственных отношений в мире. Но его следует считать «фрустрально неполным». Мы можем, конечно, исходя из того, что Бог является творцом всего, что от Него отлично, прийти к заключению, что Он обладает могуществом и знанием, но каков объем того и другого? На это теология креационизма одна не может дать ответ. Таковой скорее можно найти в третьем методе – связанном с осмыслением Бога как Совершенного Существа (Perfect Being theology), которое мы имеем в «Прослогионе» Ансельма Кентерберийского и идею которого можно было бы записать как «Бог есть Существо с максимальном великим возможным набором совозможных свойств, составляющих величие», с учетом того, что данные свойства суть те, которые обеспечивают их обладателю «внутреннюю благость» (intrinsic goodness)[91].
Таким образом, эта третья теология восполняет вторую, так как в том случае речь шла о взаимоотношениях Божества с внешними для Него вещами, а здесь – о Нем Самом. Моррис отдает предпочтение именно ансельмианской теологии. И он выстраивает метафизическую прогрессию божественных свойств, которые из нее следуют в четком порядке. А именно, Бог предстает как
сознательный деятель;
сознательный и свободный деятель;
всецело благосклонный сознательный деятель;
всецело благосклонный сознательный деятель со значительным знанием;
всецело благосклонный сознательный деятель со значительными знанием и силой;
всецело благосклонный сознательный деятель с неограниченными знанием и силой, являющийся творческим источником всего прочего;
всецело благосклонный сознательный деятель с неограниченными знанием и силой, являющийся необходимо сущим и онтологически независимым творческим источником всего прочего[92].
Что же касается преимуществ данного теологического метода, то он позволяет правильно интерпретировать и библейские тексты, например, во всех случаях, когда говорится о божественной «руке» или «устах», мы твердо можем считать, что имеем дело с метафорами, так как Совершенному Существу больше подобает не иметь, чем иметь телесные органы[93].
В целом же все три метода представляются Моррису чем-то вроде треугольника, каждая сторона которого поддерживает другие. Хотя он, кажется, не оставлял читателя в сомнениях относительно того, какой теологический метод следует предпочесть, он, видимо, всё же насторожился в связи с тем, что при их равенстве некоторые оказываются у него «равнее». Поэтому в завершающей части главы он настаивает на том, что «теология творения» и «теология Совершенного Существа» являются взаимодополнительными (см. приведенную схему прогрессии божественных свойств, в которой свойство быть «всеблагосклонным Творцом» следует из всех предыдущих), и в то же время обе основываются на свидетельствах Писания, или, как это формулирует Моррис, «собирают из разных слоев библейского мышления», а потому и утверждения их подлежат «контролю Откровения». Пример дает Николас Уолтерсторф, правомерно, по мнению автора, указывающий на то, что под влиянием античных, прежде всего стоических понятий мы мыслим Совершенное Существо всецело бес(при)страстным (impassible), в то время как библейский портрет Бога написан иными красками[94].
К этой схеме можно предъявить претензию за серьезную неточность. Речь идет, конечно, не об отдельных теологиях, а о приоритетах при рассмотрении и взвешивании тех или иных теологических предложений. Но идея поддерживающих друг друга сторон «треугольника» представляется несомненно верной и для христианской философской теологии конструктивной.
Что же касается поддерживающих друг друга сторонах «треугольника», то нетрудно показать обоснованность этой конструкции, особенно для христианской философской теологии. Ведь если мы вынесем за скобки свидетельства Писания, то у нас будет уже деистическая, а не христианская теология – основывающаяся на Откровении, а потому и христианская философская теология не сможет быть «видом» своего «рода». Ну а если мы ограничимся только этими свидетельствами, перегруженными во многих случаях специфическими ограничениями выражающего их языка (и стоящей за ним ментальности), который, по верному замечанию Кальвина, во многих случаях должен был не только «пригибаться» к человеческому пониманию, но и «лепетать» вместе с ним, то у нас будет уже хоть и теология, но никак не философская, а потому она не сможет быть искомым «видом» соответствующего «рода». Важно и то, для чего могла бы быть использована данная схема более конкретно (что не договорил сам Моррис) – а именно для экспертизы теологических утверждений, что соответствует рационально понимаемому методу – как средству (а не самоцели) решения определенных, в данном случае верификационных, задач. И совершенно очевидно, что те из них, которые «проходят тест» по всем трем соответствиям – и концепции личностного Абсолюта (а таково содержание ансельмовского понятия Божества), и креационизма, и свидетельств Откровения (которое только с протестантской точки зрения ограничивается Писанием), могут быть наиболее приемлемыми для современного теистического сознания, а те, которые его проходят не по всем трем «индикаторам», могут считаться таковыми в меньшей степени. При этом Морриса можно было бы поправить в том смысле, что ансельмовская идея Всесовершенного Существа – и в этом ее непреходящая значимость – организована гораздо больше апофатически, чем катафатически. Бог для Ансельма – «то, больше чего ничего нельзя помыслить» (qui nihil majus cogitari possit)[95], а не «сознательный, независимый деятель», к которому могут быть приращены дальнейшие свойства. Поэтому и оценивать слишком антропоморфические и пассионарные свидетельства о Боге и Его повелениях в некоторых текстах Ветхого Завета следует исходя из того, соответствуют ли они тому субъекту, «больше которого ничего нельзя помыслить», или нет. А если разуму покажется, что эти свидетельства соответствуют ему не всегда одинаково[96], ему не надо спешить винить в этом только себя, но можно подумать, чем может быть вызвано такое несоответствие, и подумать также об идее стратифицированной богодухновенности в разных библейских текстах[97]. Разум, раз и навсегда отказывающийся от такой задачи, отказывается отчасти и от своего происхождения по образу и подобию Божьему, которое утверждается в самом Писании, и уж точно проходит мимо рекомендации Самого Бога исследовать писания (Ин 5:39).
От треугольника к четырехугольнику
Но тот же принцип взаимодополнительности может – а я думаю, что и должен – быть заложен не только в теологическую экспертизу суждений о «божественных вещах» (Дж. Эдвардс), но и в более широкий контекст рассмотрения источников богопознания. Ничего существенно нового в постановке (и решении) этого вопроса нет и быть не может, так как еще ранние апологеты настаивали на взаимодополнительности того, что познается через «разумение» и «научение»[98], позднейшие схоласты на идее гармонии теологии рациональной и богооткровенной, а основатель самой дисциплины «философия религии» австрийский иезуит Зигмунд фон Шторхенау сравнил свет естественного разума с глазом, а свет Откровения с телескопом. Последнее сравнение представляется весьма точным: с помощью телескопа можно увидеть то, что никогда не увидит невооруженный глаз, но без глаза невозможно пользоваться самим телескопом[99].
Но уточнения и здесь, как и везде, никогда излишними быть не могут. И «телескоп», и «глаз» нуждаются в дальнейшем раздвоении. «Телескоп» разделим на откровения от Писания и от Предания не только потому, что так их делить привычно и удобно, но и потому что каждое из них может фундировать другое и, собственно говоря, это и делает. Писание в определенном смысле можно трактовать как записанное Предание, а Церковь – как сообщество, интерпретирующее Писание в течение всей истории. А «глаз» – на индивидуальный рациональный дискурс и на индивидуальный религиозный опыт, которые также находятся в отношении взаимодополнительности. Человек не может длительное время духовно воспринимать то, чему противоречит его разуму, но и разум сдаст свои позиции без хотя бы минимальной личной удостоверенности в том, что он принимает.
Этот четырехугольник источников познания «божественных вещей» совсем было показался автору этих строк его личным открытием, пока он убедился еще раз в том, что и в философии, и в теологии речь идет в подавляющем большинстве случаев лишь о «переоткрытиях». А именно, доктор Альберт Оутлер в статье, посвященной теологической методологии основателя методизма Джона Уэсли (1703–1791), сформулировал идею «уэслианского четырехугольника» (the quadrilateral), а именно, что «мы можем видеть у Уэсли выдающийся теологический метод, при котором Писание является исключительной нормой… хотя и никогда в качестве замены или коррекции он имел обычай обращаться [также] к «начальной церкви» и к христианской традиции в целом как к компетентному дополнительному свидетельству о значении того или иного писания… Но Писание и традиция не были бы достаточны без хорошего ведомства (в положительном или отрицательном смысле) критического разума. Потому он настаивал на том, что логическая когерентность является правомочным судьей в любом состязании взаимопротивоположных утверждений и аргументов. Но и этого недостаточно. Он знал лично, что именно живой опыт убежденности в том, что грехи кого-то прощены, скрепляет дело. Так, мы можем видеть у Уэсли отличительный теологический метод, при котором Писание является исключительной нормой, но скоординированной с традицией, разумом и христианским опытом как динамическими и интерактивными пособиями для истолкования Слова Божьего в Писании»[100]. Этот «четырехугольник Уэсли» вызывает дискуссию в современной методистской среде по той причине, что многие либералы релятивизируют центральность Писания (потому и сам Уотлер не один раз задумался о том, правильно ли он сделал, что открыл его), но для нас интереснее, что он сам появился не из ничего. Тот же историк методизма показывает, что «уэслианский четырехугольник» восходит к «треугольникам» более ранних протестантских богословов. К триединству Писания, традиции и разума у англиканина Ричарда Хукера (в «Законах церковной политики», 1594), который в полемике с пуританами отстаивал взгляд, что одно Писание недостаточно для богопознания. Епископы Джон Брамхолл и Симон Патрик также ввели «христианскую древность» (Christian Antiquity) в качестве эквивалента «традиции», равно как и Томас Тенисон (который был архиепископом Кентерберийским, когда родился Уэсли) определял протестантский теологический метод как соединение всех этих трех составляющих в опровержение антитринитариев-социниан, которые придерживались «теплохладного библейского рационализма»[101]. Гениальность Уэсли состояла, по мнению Уотлера, во введении «четвертого угла» – христианского религиозного опыта.
Но о близком к этому писал позднее и основатель систематического богословия в России митрополит Макарий (Булгаков), который в своем «Введении в православное богословие» (1848), первоначально замысленном им как «Энциклопедия богословских наук», видел четыре «пути» в богопознании, прежде всего в обоснованиях существования Бога в виде «мирового предания и исторической веры», «собственного опыта познания внешнего мира», «внутреннего опыта и самоуглубления» и «благочестивой жизни», притом последний путь мыслился им как наилучший[102]. Хотя многие критики митрополита уличали его в подражании инославным пособиям, прежде всего католическим (которые он и сам рекомендовал), в наиболее изученных им трудах Генриха Клее[103] мы признания разума и опыта в качестве отдельных источников богопознания не находим[104]. В положительном уважении к разуму митрополит Макарий выгодно отличается от некоторых своих влиятельных современников из соотечественников, которые рассматривали его, разум, как нечто вроде змеиного яда, полезного только «при надлежащем употреблении» (в качестве средства систематизации истин, в несобранном виде содержащихся в Писании и Предании), который должен быть «пленен в послушание веры» как «только служебное орудие» богословской науки – в противоречии с их же доктринальным признанием того, что он не может противоречить Откровению как имеющий общее с ним божественное происхождение[105].
Приведенные классификации источников богопознания в целом успешны и отвечают сути вещей. Может быть, только за исключением протестантского видения Писания и Традиции в соотношении «цель» – «средство» у методистов и введения митрополитом Макарием в число их благочестивой жизни (притом, как лучшего «пути»), поскольку этот пункт мало прибавляет к остальным[106].
В них соблюдается все тот же принцип взаимодополнительности, так как различаются источники соборные (Писание и Предание) и индивидуальные (разум и опыт). Религиозное сознание (если оно сознательное) требует и того, и другого. Снова пойдем «путем отрицаний». Без первых двух источников познания «божественных вещей» мы имеем дело с «приватными религиями», которые и религиями не являются, поскольку религия (в отличие от философии) как таковая предполагает соборное богопочитание (как бы ни осуществлялась эта соборность), а не только личное, и никто кроме некоторых философов Просвещения и иенских романтиков в этом не сомневался[107]. Без двух последних мы имеем богопочитание лишь внешнее, не интериоризованное и, в определенном смысле, выражаясь словами Канта, «добровольно инфантильное»[108]. Если первые соответствуют богооткровению, то последние – «богопросвещению», но и то и другое с точки зрения теистической нельзя не рассматривать как дары совершенные, которые свыше есть (Иак 1:17).
Поскольку эта схема применима к теологии в целом, она применима и к философской теологии. Но с определенным смещением акцента. В философской теологии «четырехугольник» должен быть, в отличие от уэслианского, «разумоцентричным», а не библиоцентричным. Ведь весь интерес к ней – это интерес к тому, что может постичь и сказать индивидуальный разум о «божественных вещах» с тем, чтобы его резоны можно было бы внести в общую копилку богопознания. Разумеется, снова уточним, этот разум никак не обязан строить «религию в границах одного только разума», т. е. по-простому, ее деистический проект, но, напротив, должен соизмеряться с тремя другими сторонами «четырехугольника». И он должен очень тщательно проверять себя, если его заключения приходят в противоречие с Писанием, Преданием или и внутренним религиозным чувством. Если же он сочтет нужным отстаивать свои вердикты и при противоречии с ними, то должен представить солидные для этого основания и имеет на это все права, так как с креационистской точки зрения имеет не менее благородное, если можно так выразиться, происхождение, что и соборные источники, как было уточнено уже выше. Но для этого ему следует дать и себе самому отчет в своих возможностях.
«Критика теистического разума»
Философская теология может развиваться, развивалась, да и развивается в любой религиозной традиции, где почитается или хотя бы признается Божество, отличное по своим онтологическим характеристикам от эмпирического мира, и это позволяет говорить о ее присутствии в античных религиозно-философских системах (среди которых в этом отношении выделяются платонизм и стоицизм), да и за пределами средиземноморья (в индийской культуре). Тем не менее и само понятие философской теологии, и разработка ее как дисциплины были открыты в христианской традиции и пока еще развиваются преимущественно в ней. А это значит, что нам есть смысл оценивать ее достижения исходя из требований того разума, который поверяется самим христианским теизмом.
Данная разновидность теизма, в свою очередь, предполагает несколько вещей. Во-первых – и это объединяет христианство с другими теистическими традициями, – это то, что только что было названо благородным происхождением этого разума, и то, что человек создан по образу и подобию Божьему (Быт 1:26–27), означает, что его разум может постигать некоторые истины о Боге и созданном Им мире и уж тем более о самом своем познании этих истин. Во-вторых, будучи особым разумным созданием Божьим, человек не перестает быть лишь созданием, которое отделено от Создателя бесконечным онтологическим расстоянием, и потому далеко не всё находится в радиусе доступного для него разумения, а многое из того, что находится в этом радиусе, нередко может быть видимо им (по крайней мере в этой жизни) в лучшем случае как лишь сквозь тусклое стекло (1 Кор 13:12). В-третьих – и это уже отличает христианство не только от всех нетеистических религий, но и от двух других монотеистических, – удельный вес сверхразумных и одновременно сотериологически необходимых истин является в нем многократно повышенным в сравнении с ними. В-четвертых – и это снова отличает христианство от двух других (моно)теистических религий, – оно является религией не «книги», а Откровения.
Попытаемся теперь выстроить иерархическую схему самих компетенций христианского теистического разума в соответствии с предметами познания и с учетом только что обозначенных оговорок:
1) То, что постижимо только из Откровения, раскрывается разуму через веру и может быть им воспринято исключительно через внутренние духовные чувства или опосредованным путем, с помощью определенных аналогий;
2) То, что принимается из Откровения, но в освоении чего разум может в значительно большей мере быть активным, принимая и прямое участие посредством применения дискурсивных ресурсов, включая и полноформатные умозаключения;
3) То, что целиком доступно разуму, ведомому «естественным светом» рациональности, но не пренебрегающему, однако, и ресурсами Традиции.
Эта схема при всей ее непритязательности нуждается в некоторых уточнениях и комментариях. Прежде всего, она подчиняется хорошо освоенной классической рациональностью (начиная с античности) трилемме. Верующий разум в позиции (1) может реализовать преимущественно свои рецептивные возможности, в позиции (3) – креативные, в позиции (2) – и те и другие. Что касается позиции (1), то она может быть проиллюстрирована многими примерами. Когда, скажем, еще в древности и сейчас предпринимают попытки доказывать из разума, что Божественных Лиц должно быть именно три, а не больше и не меньше, то мы имеем дело с типичной иллюзией разума, поскольку он выдает за доказательства то, что есть лишь усвоение догмата, и если бы Символ веры настаивал на том что, что Божественных Лиц два, а не три, то философы обращались бы к иллюстративным примерам в мире уже диад, а не триад. Это не значит, что рациональность при этих аналогиях бездействует, она выполняет свою работу (хотя бы тем уже, что настаивает на самом принципе аналогии между тварным и Нетварным), но это должность «служанки», а не «госпожи», и плохо, когда первая об этом забывает. Определенного уточнения заслуживает и позиция (3). Придерживаясь мнения, что кантовский коперниканский переворот[109] никоим образом не был лишь эпизодом истории философии, но имел кардинальное для нее значение, и вместе с тем считая, что его безоговорочная рецепция была бы и контринтуитивной, и противоречащей духу теизма[110], можно вполне рационально предположить, что компетенция разума (в том числе верующего) в том, что он производит, может быть более полной, чем в том, что получает извне, но это никак не значит, что он обязан ограничиться только первой сферой. Как предложенная стратификация компетенций разума может работать, достаточно продемонстрировать хотя бы на нескольких примерах.
То, что мир сотворен Богом ex nihilo, можно принять только на веру, и лишь принимая это на веру, можно обратиться к некоторым неточным аналогиям из некоторых современных астрофизических теорий, предполагающих, например, онтологическую первичность энергии по отношению к материи[111]. То, что Бог создал, помимо материального мира и раньше него, духовный и личный, можно осмыслить, принимая догматическое предание Церкви и небуквальное толкование самого первого стиха Библии («Вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1:1)), но также опираясь на некоторые великие метафизические конструкции, такие, например, как система эманаций в неоплатонизме[112]. А вот то, что из творения ex nihilo следует естественное представление о божественном всемогуществе (которое не ограничивает, например, возможность божественного творения необходимостью соответствовать законам эволюции), должно быть постижимо для верующего разума и из одних применяемых им понятий.
То, что грех пришел в мир через первого из ангелов, созданного совершенным действием совершенной любви Творца, может быть принято только верой, так как рациональные объяснения здесь «проваливаются»[113]. Что же касается потомков Адама, а именно того, что в нем все согрешили (Рим 5:12)[114], то это в целом за границами разума, тогда как идея наследования первородного греха (в смысле наследования предрасположенностей к нему от первого человека) постижима прежде всего через святоотеческое наследие, но разум здесь может осмыслить уже значительно большее посредством рассуждения и многочисленных параллелей. А то, что человек вследствие этого не может победить греховные страсти собственными силами, без помощи божественной благодати, уже должно быть для верующего разума вполне прозрачным.
Вопрос, как, собственно, в Таинстве Евхаристии происходит преложение Св. Даров в Тело и Кровь Христовы, и другие моменты сакраментологической онтологии, находятся всецело за границами разума. Вопрос о времени совершения Таинства во время Литургии может быть осмыслен исходя из вероучительных документов и литургической письменности. А вот решение вопроса о том, какая частотность полного участия в Литургии среднего мирянина могла бы считаться для него наиболее целесообразной, должно быть верующему разуму вполне и по его силам[115].
Эти примеры можно было бы умножить, но необходимости в этом нет. В другой форме стратификационная идея представленного типа – которая на деле есть лишь идея здравого религиозного смысла – высказывалась и некоторыми православными иерархами, в том числе наиболее авторитетными[116]. Кажется, что она не лишена и культурологической значимости, поскольку Запад и мы во многих аспектах находимся в соотношении взаимодополняющих крайностей. Например, западная культура настолько пропитана юридизмом, что он проникает даже туда, где ему немыслимо быть – в эпистемологию, а наша настолько равнодушна к праву, что к нему очень редко апеллируют и на самом бытовом уровне. Так и в данном случае, для западного религиозного сознания очень многое из того, что по всем статьям относится к уровню (1), считается находящимся в компетенции (3), а у нас дело обстоит прямо противоположным образом[117].
Непосредственные же вопросы, которые современный сознательный верующий вправе задавать в связи с этой стратификацией компетенций разума, представляются следующими. Приведенные примеры касались уровней познаваемости христианских догматов и тех выводов для верующего разума не случайно, так как современная философская теология как профильный бренд аналитической рациональной теологии уделяет им специальное внимание – отчасти за счет традиционных предметов исторической рациональной теологии (первым из которых были обоснования существования Бога). То, что христианские догматы представляют собой сверхразумные аксиоматические основоположения христианской веры, может считаться, по крайней мере для восточного христианства, достаточно выясненным[118]. Однако все ли догматы, по крайней мере из основных, тех, которые были зафиксированы на Вселенских Соборах, являются в одинаковой степени сверхразумными? Скорее всего нет. А потому речь может идти и о дальнейшей стратификации в рамках предложенной. Так, степень сверхразумности догматов о Св. Троице, творении мира ex nihilo и о Боговоплощении могут считаться таковыми в большей степени, тогда как догматы об Искуплении, Воскресении и воскрешении мертвых – в меньшей. Различие видится в том, что если в первых трех случаях даже разъясняющие метафоры малоприменимы (социальная модель чревата тритетизмом, психологическая – модализмом), то во вторых трех их «диапазон» представляется более широким. И понятно почему. В первых трех случаях речь идет о реалиях совершенно «сингулярных», недоступных для поддержки от мирских параллелей, а для понимания других (которые в логическом, если можно так выразиться, порядке являются в определенном смысле по отношению к первым из выводимыми) эти аналогии возможны, хотя и среди них можно различать более подходящие и менее.
Однако с той же когнитивистской точки зрения видится, что традиционное деление теологии на естественную и богооткровенную может быть проблематизировано. Так, проблема объяснения изобилия зла и страданий в богосозданном мире всегда относилась к ведомству естественной теологии. Но и то, и другое снова может быть стратифицировано. То зло и страдания, которые могут содействовать и содействуют большему благу – например, в плане избавления людей от вредных иллюзий, закаливания характера или даже богоподражания, могут быть истолкованы рационально. Однако те, которые теистка Мэрилин Адамс называет ужасами (horrors) или те, которые антитеисты называют страданиями напрасными (gratuitous sufferings), объяснению средствами практического разума не поддаются. К таковым относится то, что Уильям Роу с удовольствием вычитал из одной детройтской хроники[119] или допущение геноцидов, ненаказанных зверств над заложниками и узниками или просто летальные случаи в ДТП вследствие невменяемости водителей, т. е. такие, в которых большее благо никак не просматривается. Прецеденты такого рода (а они массовые) не могут быть аргументами, достаточными для отрицания существования теистического Бога (так как их можно «уравновесить» еще более изобильными прецедентами «напрасных благ»), но достаточными для того, чтобы поставить шлагбаум для религиозного разума. Тот ответ, который чаще всего дается на возражения от таких случаев – что мы не можем знать всех тех резонов, которые могут быть у Бога при допущении и таких «ужасов», подобно тому, как мальчик, садящийся за шахматную доску с гроссмейстером, не может знать его дальнейших ходов – не является в собственном смысле рациональным. Здесь (не)познаваемость, вероятно, примерно на том же уровне (1), что и в случае с догматами, поскольку этот ответ равнозначен лишь такому, что «я не понимаю, как Бог может такое допустить, но как верующий принимаю то, что это может иметь какой-то смысл, на веру».
Скорее всего можно предположить, что такая работа теистического разума по ревизии своих возможностей может иметь и большое практическое значение. Она может быть важным подспорьем для того, кто хочет вести миссионерскую деятельность (а всякая теология, если она, конечно, не «методоцентристская», имеет практическое назначение) как с «внешними», так и с самим собой. Второе же, конечно, первично по отношению к первому.
Основные категории межрелигиозного диалога: от мнимой самоочевидности к проблематизации[120]
Основные термины любой дисциплины организованного знания – а наука о религии никак не составляет здесь исключения – оказываются востребованными лишь в свое время, а не в чужое. Терминологизация основных типов религиозного мировоззрения начинается лишь в Новое время. Так, термин политеизм, упомянутый и в древности, «проснулся» лишь в 1580 году благодаря усилиям известного религиозного скептика Жана Бодена, а десятилетие спустя П. Вире описал «секту» деистов. Сам термин теизм (как и морфологически тождественный ему «деизм») начал употребляться в следующее столетие, и считается, что кембриджский платоник Ральф Кадворт в «Истинной интеллектуальной системе вселенной» (1678) дал ему первое определение. Очень неприятный для многих пантеизм был впервые сложен из двух греческих корней английским математиком Джозефом Рэпсоном и применен к Спинозе и некоторым другим философам в 1697 году, а в 1828 году немецкий философ Карл Краузе ввел панентеизм, для того чтобы отличить картину мира Гегеля и Шеллинга от спинозовской (где Божество якобы отождествлялось с мирозданием). Причина того, что данные термины обрели жизнедеятельность не ранее эпохи модерна, понятна: до нее культура религиозным разнообразием не интересовалась. И античный мир (в лице Цицерона), и христианский (например, в лице блж. Августина) отождествляли понятие religio с vera religio («истинная религия»), а всё лежащее за пределами истинного благочестия (а таково было основное значение самого понятия religio в те эпохи), как искаженная религия, интереса само по себе (кроме того, что оно нуждается в преодолении) не вызывало[121].
А вот в последнюю четверть ХХ века западный мир осуществил здесь «переоценку всех ценностей» до полной инверсии: стало считаться противоестественным предполагать не только, что есть одна истинная религия, но даже что какая-либо из них может быть хоть немного истиннее какой-либо другой. Наступила эпоха политкорректности, которая словами Алана Блума заявила, что большинство безумств и преступлений в истории человечества происходят как раз от того, что некоторые считали и считают, что располагают истиной[122]. В применении к межрелигиозным отношениям это означало разделение верующих на «черных», «серых» и «белых». Деление их на эксклюзивистов (это понятие стало таким же пейоративным, каким в прошлые времена были «пантеисты»), инклюзивистов и плюралистов провозгласил в 1982 году Алан Рейс. В этом же направлении работал разработчик «проекта всемирной теологии» исламовед Кантвелл Смит. Однако определяющий вклад в тематизацию этого деления внес теоретик религиозного плюрализма Джон Харвуд Хик (1920–2010). Например, в очень компактной статье «О конфликтующих претензиях религий на истинность» (1983) он, возразив Полу Гиффитсу и Делмасу Льюису, что по поводу этих претензий не стоит и беспокоиться – настолько они пусты (как любые догматические утверждения в сравнении с единой целью всех людей – спасением / освобождением[123]), утверждал, что гораздо большее значение имеют модусы межрелигиозного сознания. И здесь эволюция человечества прошла несколько этапов. До совсем недавнего времени царствовал эксклюзивизм (опиравшийся на доктрину Халкидонского Собора о том, что Иисус из Назарета – не только одна из точек соединения человечества с Трансцендентным, но и Сам Бог) – вера в то, что лишь один образ религиозной мысли и действия истинный, а все остальные ложные. На II Ватиканском Соборе была принята доктрина инклюзивизма (предтечей которой была, например, концепция «анонимного христианства» Карла Ранера), по которой полнота истины содержится одной традицией, но ее крупицы рассеяны и в других, – нечто вроде осовремененного эксклюзивизма. А вот с самого Хика начинается третий период в истории религиозного сознания человечества, суть которого в том, что все мировые религии воплощают различные восприятия и, соответственно, ответы Реальному, или Конечному, из различных культурных путей человеческого бытия и каждая из них примерно в равной степени способна содействовать трансформации человеческого существования из центрированности-на-себе в центрированность-на-Реальное. Сотериологически равноправны и те основные символы, через которые преломляется это Реальное – и персонифицированные (Яхве, Шива, Вишну, Отец Небесный), и безличные (Брахман, Дао, Нирвана, Шуньята)[124]. Хик очень много будет писать на эту тему и дальше (еще бы, ведь провозглашение им третьей эпохи делает из него второго Иоахима Флорского!) Он приведет и аналогию в духе кантовской философии, к которой он постоянно апеллировал: религиозные традиции подобны линзам, через которые человеческие культуры отражают совершенно трансцендентное Реальное (как кажется, примерно равноценным образом[125]).
У Хика было много восторженных почитателей уже при жизни, и при жизни, и по смерти у него было и есть множество продолжателей, хотя и оппонентов у него было и остается ненамного меньше. Сама его концепция религиозного плюрализма, как отмечали многие из последних, внутренне глубоко противоречива, так как плюрализм по определению предполагает равенство религий, а для него они четко делились на «более равные» и «менее равные»[126], тогда как христианству и вовсе предлагалось ради правильной эволюции отказаться от своей идентичности[127]. Однако люди и из не самых лучших побуждений (а мотив открыть собою новую ступень духовной эволюции человечества был для него, мне кажется, главным) часто промыслительно содействуют немалому благу. В данном случае оно заключается в том, что Хик дал мощнейший импульс осмыслению уже не религиозных мировоззрений (см. выше), а категорий межрелигиозных отношений. И если бы издатели некоторых идеологизированных либерально-теологических журналов не призывали современных христиан «перевоспитываться» в плюралистов (именно христиан, поскольку другие поддаются «перевоспитанию» меньше), а привлекали философов религии и религиоведов к серьезному уточнению основных категорий описания этих отношений (начиная с эксклюзивизма), это было бы гораздо конструктивнее. В настоящее же время более распространено пользование ими не как объектами исследования, а как оценочными понятиями.
Понятие эксклюзивизм потеряло сколько-нибудь конкретный смысл и стало под воздействием идеологии политкорректности не только пейоративным, но даже демонизированным, неразрывно связанным с духовным эгоизмом, высокомерием и нетерпимостью. На самом деле, я думаю, можно различать эксклюзивизм логический и религиозный – оба смысла, как правило, сливаются в один, – а во втором случае в нем также следует различать модусы. Алвин Плантинга в свое время продемонстрировал нелепости, которые вытекают из морального осуждения первого эксклюзивизма, показав, например, что, по логике политкорректности, следует осуждать любой взгляд А, противоречащий мнению не-А, и придется осудить за нетерпимость даже неприятие самой расовой ненависти, у которой и в настоящее время есть много сторонников[128]. Алистер Макграт развил эту идею, предложив иронически считать высокомерным и нетерпимым убежденность в том, что даже представление о том, что американская декларация независимости была принята в 1789 году вместо 1772, является ложным[129]. Я бы только добавил, что в этом смысле эксклюзивистом является любой человек, придерживающийся логических законов (в частности, чисто «эксклюзивистского» закона исключенного третьего), т. е. любое рациональное существо. Эксклюзивизм религиозный нуждается в большем прояснении. В самом широком смысле каждый убежденный верующий является в определенном смысле эксклюзивистом, и саркастическое сравнение его Хиком с тем мужчиной, что считает свою возлюбленную самой лучшей женшиной в мире[130], демонстрирует лишь глубинное непонимание Хиком самой внутренней ткани религиозности. Религиозность действительно очень сродни любви как самоотдаче другому (опыт всех великих мистиков это подтверждает), а самоотдача очень плохо сочетается с компромиссами, в том числе и в мировоззрении. Но человек живет не только чувством и волей, но и разумом.
А потому я бы поделил религиозный эксклюзивизм на безоглядный и дифференцированный. К первому относятся все проявления «джихадизма» в истории и в современности, притом в самых разных религиях, в очень многих случаях приводившие к действительной нетерпимости и насилию. И в самом деле, если я считаю религиозные убеждения другого однозначно ложными и демоническими, я не обязательно, но вполне последовательно буду применять меры для устранения этих убеждений, а то и оправдывать этим устранение и их носителей, и даже артефактов. Погромы иудеями язычников в древней Александрии, еврейские погромы, осуществлявшиеся христианами, разгром крестоносцами Константинополя, взрывы суннитами шиитских мечетей и выдавливание мусульман буддистами из Мьянмы – это лишь очень немногие случаи связи безоглядного эксклюзивизма с насилием. А вот к дифференцированному, он же контекстуальный, я бы отнес тот т. н. халкидонский эксклюзивизм, который столь сильно мешает тем, кто считает себя плюралистами. Дело в том, что он, вопреки их желанию, не халкидонский и даже не никейский, но самый что ни на есть уже новозаветный. В Евангелиях мы без труда обнаруживаем учение о том, что лишь один-единственный религиозный Путь является истинным, поскольку Сам Иисус говорит о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь и никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6)[131], и в Деяниях апостолов также однозначно указывается, что «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (4:12). Однако в тех же Деяниях апостол Петр посылается к римскому сотнику Корнилию, который боялся Бога со всем своим домом, всегда молился и творил милостыни народу, будучи язычником, за что и удостоился того же нисхождения благодати Св. Духа, что и апостолы в день Пятидесятницы из иудеев (10:1–2, 44–45), тогда как апостол Павел ссылается в Афинах в беседе с язычниками на их поэтов, называвших людей «родом Бога», и, главное, на алтарь неведомому богу, о котором они не знают, что тот Бог – истинный (17:28, 23). Противоречия здесь нет: хотя Путь только один, попасть на него можно из разных точек, и Бог был бы очень немилостивым к большинству человечества, если бы полностью блокировал продвижение к нему с боковых дорог и даже из тупиков, ограничив число званных на пир веры одними только «знатными гостями» (ср. евангельскую притчу о званых и избранных Мф 22:1–14; Лк 14:16–24). Правда, место, из которого можно попасть на пир, – еще не сам пир, а потому их «плюральное равенство» с пиром не предполагается. Но разные отправные точки к единственному Пути признавались и дальше до Халкидона. Климент Александрийский (ок. 150–215) прямо утверждал, что «единый и единственный Бог познается эллинами на языческий манер, иудеями – на их собственный, а христианами – новым и духовным образом»[132]. Здесь признается и то, что никто не был лишен Богом до конца возможности Его познания, и то, что познание истинное локализовано в одном только Предании. При этом он неоднократно говорит о законности разных «точек отправления» к единому Пути: для язычников философия была таким же наставником, как закон для иудеев[133].
От дифференцированного, или контекстного, эксклюзивизма, казалось бы, мало чем отличается инклюзивизм – представление о том, что во всех религиях наличествует уже единая («инклюзивная») Истина как таковая, но только в разных степенях полноты, чистоты и проясненности. Однако реальное различие проявляется в том, что баланс сходств и различий религий у инклюзивистов резко смещается в сторону первых за счет вторых. Это объясняется тем, что сам инклюзивизм представляет собой в первую очередь прагматическую стратегию межрелигиозного диалога. Прагматика, однако, бывает разной, а потому и сам инклюзивизм не однороден.
Та прагматика, которую Хик правильно вычитал в идеях II Ватиканского Собора, – преимущественно оборонительная, а точнее, политкорректная. В конечном счете это прагматика самооправдания одной религии перед другими и скрытых извинений за «империалистическое прошлое». В специальной «Декларации об отношении Церкви к нехристианским религиям» выделяется лишь то, что объединяет все религии (типа признания «коренной недостаточности этого меняющегося мира», как в буддизме, или потребности в «освобождении от тревог нашего существования», как в индуизме) или что сближает другие авраамические религии с христианством, но тщательно замалчивается все, что отличает последнее от предпоследних и всех прочих, а обязанность Церкви возвещать Христа никак не связывается с обязанностью свидетельствовать о том, что помимо луча Света в других религиях она всегда признавала (в общей сложности с апостольских времен) и весьма значительные «солнечные затмения». За прошедшие с тех пор полвека эта «стратегия» привела к тому, что христианство все более становится третьесортной (иудеев уважают и боятся, мусульман боятся и уважают, а христиане только сами испытывают эти чувства по отношению к остальным) религией в Европе и «гостевой»[134], а такие мероприятия, как межрелигиозные фестивали в Ассизи, и прямо воплощают мечту Джанни Ваттимо о том, чтобы призвание данной религии заключалось в том, чтобы стать «музеем религий».
Совсем иной модус инклюзивизма открыл другой малоизвестный католический теолог и всемирно известный индолог Пауль Хакер (1913–1979) – тот, о котором Хик либо ничего не знал, либо, зная, сделал вид (как и его последователи), что не знает. Хакер убедительно показал, что то, что признавалось в его время прославленной толерантностью индийских религий (сейчас это больше называют плюрализмом), на деле есть продуманнейшая миссионерская практика, суть которой в том, что в сознание обращаемого внедряется мысль, что то, что он всегда считал исконно своим, есть лишь деформированная модель той истинной и исконной традиции, в которую его обращают[135]. Он показал это на примере палийской «Тевиджджа-сутты», где Будда постепенно доводит ум юного брахмана Васеттхи до осознания того, что Три Веды «на самом деле» суть учение самого Будды[136]; «Бхагавадгиты», где Кришна утверждает, что «бескорыстно» дает саму веру почитателям других богов, чтобы они могли получить ее плоды, и что кому бы кто ни приносил жертву, на самом деле приносит ему[137]; поэмы Тулсидаса «Рамачаритаманаса», облегчающей шиваитам обращение в вишнуизм; а также деятелей неоиндуизма ХХ века, таких как Свами Вивеканданда и Сарвепалли Радхакришнан. Я продолжил там, где Хакер поставил точку, подробно показав на текстах палийской Дигха-никаи, что старания последователя Хика индолога Г. Каурда представить разоблачение «палийским Буддой»[138] «неосновательной веры» брахманистов в качестве критической толерантности[139] не имеет никакого отношения к диалогу религий, а принятие тем же Буддой брахманских богов в число своей свиты – к религиозному плюрализму[140]. Хакер был неправ, считая инклюзивизм как таковой специфической чертой индийской ментальности: китайские даосы, желая обратить буддистов, также представляли им Будду в виде воплощения Лао-цзы. Суть дела в том, чтобы инклюзивизм завоевательный четко отделять от виктимного, а религиоведам – не кормить свою читательскую аудиторию мифами о том, что инклюзивизм будто бы был изобретен отцами II Ватиканского Собора и Иоанном Павлом II.
Но что же такое религиозный плюрализм? Ответ и на этот вопрос представляет, на мой взгляд, бóльшие затруднения, чем обычно считается. С одной стороны, если следовать в принципе правильной аналогии Хика между «увлеченным верующим» и наивным влюбленным, то плюралист скорее напоминает евнуха в богатом гареме, который «объективно» оценивает жен своего господина, никак не претендуя на особые отношения ни с одной из них. В таком случае он больше похож не на религиозного субъекта, но скорее на религиоведа или философа религии. С другой стороны, некоторые критики Хика, например Гавин Да Коста, не без основания видели в теологии плюрализма своего рода религию со своим эксклюзивизмом, и это только подтверждается тем, что magnum opus Хика завершается своего рода гимном его божеству – Конечной Реальности[141]. Я думаю, что здесь имеет место то, что сейчас называют «вторичной религиозной позицией»[142], и она имеет достаточно точные аналогии в «религии разума» эпохи Просвещения, т. е. в деизме. Эта философская религия, которая стремилась заместить религию традиционную, имела свой «символ веры» (точнее, несколько, так как каждый значительный деист предлагал свой[143]), который содержал в себе «минимум религии» – те положения, которые разум вполне может принять без всякого Откровения. В некоторых случаях там был и свой культ, например почитание Архитектора мира у «вольных каменщиков» или богини разума, введенное ненадолго Робеспьером в Конвент (ср. почитание анонимной Конечной Реальности). Деистическая убежденность в ограниченности каждой эмпирической религиозной традиции в сочетании с ее «ограниченной уважаемостью» также находит прямые корреляты в образе линз, через которые человеческие культуры и видят, и отражают свет Реального. В самом деле, точка наблюдения и, соответственно, оценки эмпирических религий у Хика – с высоты Реального – как две капли воды напоминают Естественную Религию систематизатора деизма Мэтью Тиндла (1657–1733), которая только и позволяет оценить, что в этих «религиях откровения» истинно, а что ложно[144]. Но есть, безусловно, и различия. Деисты эпохи Просвещения не были еще поражены сегодняшней болезнью политкорректности, а потому, в отличие от современных, не заботились о том, как бы не задеть чувства не-теистов, и за пределы абстрактного теизма не выходили.
На этом разговор об основных типах отношения к религиозному чужому можно было бы и завершить, если бы в свое время сверхлиберальный католик Джозеф Ранцо не предложил подредактировать плюрализм Хика. А именно, он справедливо счел, что плюрализм недостаточно уважает наличные религии, предлагая их переинтерпретацию, и предложил свою, более, как ему казалось, «уважительную модель», которую назвал релятивизмом. Отличие в том, что если для плюралиста и христианство, и буддизм представляют собой только лишь ограниченные «линзы» (из которых первая более ограниченная, чем вторая – см. выше), то здесь христианство признается абсолютно истинным, но только для христиан, равно как и буддизм таковым, но только для буддистов, а потому никто не должен быть, так сказать, обижен[145]. Это довольно ловкое приспособление для того, чтобы его автору присудить себе новый, свой лейбл, отличный от конкурентных, на мой взгляд, не привнесло ничего существенно нового в идеологию плюрализма. Ведь сказать, что две «линзы» ограничены, и сказать, что они «безграничны», но только для своих пользователей, – значит сказать одно и то же. Я бы назвал эту тупиковую ветвь рассуждений на обсуждаемую тему скорее индифферентизмом, а аналогии она возбуждает значительно более древние, чем деизм. В свое время великий религиовед Ф. Макс Мюллер, раздумывая над тем, почему в разных ведийских гимнах разные божества (Индра, Варуна, Вишну, Вач и другие) называются «самыми великими» (хотя «самым» по определению должно быть только одно), решил назвать эту форму религиозного сознания генотеизмом. Так вот, я думаю, что Ранцо на деле бессознательно воспроизвел чисто языческую локализацию величия, при которой каждый бог – самый главный на своей территории.
Неудивительно, что постоянно генерируются и компромиссные, синкретические категории. Например, некоторым, кто в принципе сочувствует плюрализму, но не хочет и отказываться ради этого духовного холода от своей конфессиональности, импонирует то, что они называют «смиренным конфессионализмом» – не претендующим на многое перед лицом либеральной критики[146]. Мне, правда, кажется, что экуменизм – значительно более привычное и немного более определенное понятие (если это, конечно, не суперэкуменизм, означающий уже не столько диалог с другим, сколько растворение в нем).
Хочу выразить надежду, что этот экскурс в категориологию межрелигиозных отношений будет хотя бы немного содействовать прояснению понятий, с которыми постоянно работают философы религии и религиоведы. Конфуций был прав, заботясь о том, чтобы имена и вещи соответствовали друг другу.
Систематика
Может ли теизм не быть персоналистическим?[147]
Оформление дискуссионного поля
Если попытаться дать формальное определение теизма, то мы не сильно ошибемся, назвав его преобладающей во всемирном религиозном космосе системой религиозного мировоззрения, которая в своем нормативном виде фундирует онтологию трех монотеистических религий – христианства, иудаизма и ислама. А если попытаемся выйти к содержательности, то можно дать ему рабочее определение как религиозного мировоззрения, которое определяется концепцией Бога как личностного духовного Абсолюта, которому атрибутируются предикаты Всесовершенного Существа (метафизические – всеприсуствие, неизменность, вневременность, бесстрастность, бестелесность; и персоналистические – всемогущество, всеведение и всеблагость), а также сотворение мира и правление им. Отношение Бога к миру в теизме определяется его онтологической трансцендентностью по отношению к нему наряду с личностным участием в нем. При этом, ввиду конкретных и очень тесных религиозных аффилиаций, вышеуказанные предикаты и действия теистического Бога обосновываются как через средства рационального дискурса, так и через веру в авторитет Откровения, которое во всех трех монотеистических религиях понимается в двуединстве Писания и Предания, при том что соотношение и оценка рационального и богооткровенного источников богопознания были и являются предметом серьезных теологических дискуссий. Однако то, что теистический Бог должен рассматриваться в обеих равносильных системах координат – и в метафизической, и в персоналистической, – предметом обсуждения до XXI века не стало.
Скорее всего, впервые это произошло в третьем издании книги «Введение в философию религии» очень известного консервативного английского философа-томиста Брайана Дэвиса, который и изобрел сам термин theistic personalism[148]. Этому теистическому персонализму он противопоставил другой вид теизма, им отстаиваемый, который обозначил как classical theism[149]. Различие между ними он усмотрел прежде всего в учении о творении, точнее о каузальности. Различительным признаком классического теизма следует считать трактовку причинности: здесь она мыслится как однонаправленная – как бы только от Творца к творению, при том что Творец мыслится как абсолютно «нечувствительный» (impassible) к действиям со стороны творений. Еще один признак «классического теизма», по Дэвису, – это отрицание Божественного вмешательства (intervention) в дела мира. Ведь можно вмешиваться в то, что хоть как-то автономно, но всё, что происходит с творениями, есть креативное действие Бога: «Вы не можете вторгаться в то, что делаете сами». Некорректно, с точки зрения некоторых «классических теистов», утверждать, что Бог осуществляет и изменения в вещах: «Что-либо может измениться, если оно предсуществует и до деятельности изменяющего».
Но, спросит классический теист, «что может предсуществовать до действия Бога-творца?». То, что Бог «нечувствителен», для большинства «классических теистов» равносильно и тому, что Он и неизменный (immutable), а с этим сочетается и идея о том, что Он и вневременный (eternal). К этому добавляется (притом в качестве необходимого) и требование Его простоты (simplicity)[150]. Отличие же того, что Дэвис называет теистическим персонализмом, состоит в ослаблении всех вышеперечисленных предикаций и отношений. Прежде всего вследствие применения к Богу чисто человеческого понятия личности. Вследствие этого «персоналисты» должны отрицать Божественную вневременность и простоту, так как Бог как личность не может быть абстрактной сущностью, но должен быть действующим агентом, могущим вступать в личностные отношения со Своими созданиями. В соответствии с этим они приписывают свободу и человеческим личностям, имеющим и свою автономию, ограничивающую суверенитет Бога, а значит, и могущество[151].
Рассуждениям Дэвиса присуща своя последовательность, но также и полемичность. Он целит прежде всего в Алвина Плантингу, воспроизводя его аргументы против очень дорогой ему доктрины Божественной простоты[152], без которой, по его глубокому убеждению, классический теизм никак обойтись не может; однако не только в него, но и в солидаризировавшихся с ним Кристофера Хью и Ричарда Гейла[153], да и в других христианских философов, акцентирующих личностное отношение Бога к миру[154].
На деле же он попадает в само христианство как в религию Откровения, поскольку Бог Писания только и делает, что вступает в личные отношения со Своими разумными созданиями, и для того, чтобы это делать, дарует им предварительно свободу. Та эксклюзивная Божественная каузальность, которую продвигает Дэвис, гораздо больше похожа на спинозистскую, при которой «каузальные права» разумных творений поглощаются единой Субстанцией, не дающей самостоятельного бытия ничему, кроме себя, чем на библейскую, при которой все-могущество мыслится и как возможность само-ограничения ради других[155]. Не до конца продумано его учение о Божественной каузальности и с философской точки зрения. Осуществляет ли бог Дэвиса свой каузальный потенциал по необходимости или по свободе? Если по необходимости, то он детерминирован чем-то извне, высшим, чем он, а потому уже не может быть всемогущественным. А если по свободе, то тогда и ему следует приписать либертарианизм[156], а значит, и «антропоморфность», исходя из логики английского теолога. Так, этот бог с обеих сторон не может быть Богом традиционного теизма.
Католический фундаменталист, однако, получил энергичную поддержку там, где ему менее всего, вероятно, захотелось бы ее получить. Его разделение двух видов теизма было воспринято Клаусом Мюллером, предложившим усовершенствовать теизм за счет ресурсов немецкого метафизического идеализма[157]. Сравнительно недавно в Германии вышел и целый сборник, так и названный: «Переосмысляя понятие личностного Бога: классический теизм, персоналистский теизм и альтернативные понятия Бога» (2016), составленный ультралиберальными немецкими «философскими теологами» Томасом Шертлем, Кристианом Таппом и Вероникой Вегенер, которые решили собрать все силы, могущие вывести онтологию традиционного христианства из многовекового тупика. Шертль прямо пишет, что деление теизма на две половинки у Дэвиса его очень заинтересовало[158].
Шертль и его коллеги настойчиво предлагают обратить внимание сразу на несколько теологических альтернатив традиционному теизму, более подходящих для современного человека. Они рекомендуют пять направлений его «мелиорации».
Прежде всего, неплохи даже умеренные попытки реформирования того, что Дэвис называет классическим теизмом, ну хотя бы ограничение некоторых Божественных абсолютных атрибутов. Например, в том направлении, как т. н. открытый теизм (open theism) Уильяма Хаскера и его единомышленников[159] ограничивает Божественное знание знанием только прошлого и настоящего, исключая из него знание будущего. Но и критическая работа с традиционными «все-атрибутами» (которая может нам дать «реальный классический теизм») может быть полезна для ограничения «антропоморфизма», за который Ансельм и Авиценна не несут никакой ответственности: современное понимание Бога как совершенной субстанции может много «само по себе дать для уравновешивания чрезмерно персоналистического понятия Бога» (an overtly personal concept of God)[160]. Таким образом, даже «теистический классицизм» может быть использован для нейтрализации того, что наименее приемлемо для современного человека в традиционном теизме. Но есть и «более свежие» альтернативы ему, которые можно противопоставить уже и «классическому теизму» (он, как я бы сказал, должен, исходя из логики «реформаторов», сделать то, что должен сделать мавр, сделав свое дело).
Вторая альтернатива – это обращение к традициям классического немецкого и английского абсолютного идеализма, которые возрождаются прежде всего в теологической работе Клауса Мюллера, развивающего идею безличностного или, по-другому, «суперличностного» понимания Бога – как «Абсолютного Я». Ему близок и Тимоти Спригг, который, перечислив четырнадцать возможных атрибутов Бога, исключил из них для идеалистического понимания всего только три: понимание Его как Творца, как обладателя непревзойденного морального совершенства и как всеведущей и всемогущей «контролирующей личности»[161]. Это направление близко к панентеизму.
Третья альтернатива – обращение к процессуальной метафизике, целью которой является примирение понятия Бога со свободным и неуправляемым развитием мира (и с дарвиновской теорией). Здесь можно принять модель биполярного бога – как и начала и результата всех космических процессов[162].
Четвертая альтернатива – та версия «антропно / антропоморфного теизма», которую предложил австралийский философ Питер Форрест. Если ее развивать, то, следуя натуралистическо-эволюционистскому мировоззрению (Форрест называл это «научным теизмом»), придется ограничивать уже все атрибуты Бога классического теизма – всемогущество, благость и вневременность. Этот взгляд позволяет видеть в Боге «высшее, но реально развивающееся и в высокой степени относительное существо (highly relational entity), способное к любви и доверию», когда Он не как суверен мира, но как «скорее любящий партнер человеческого рода»[163].
Альтернатива пятая – та, что была предложена Джоном Бишопом и Кеном Перцсиком. Здесь также присутствует натуралистическая метафизика, и акцент ставится на демонтировании Божественной трансцендентности: Бог существует только внутри мира, как конечная формальная причина каждого события. «Открытие» Бишопа состояло в том, что Бога с атрибутами всесовершенства, такими как всемогущество и всеведение, можно только бояться, но не любить. Можно видеть также, что само совершенство стоит не у истоков мира, а в его конце – как цель, к которой он стремится[164].
Немецким реформаторам теизма, опирающимся на англоязычных коллег, можно было бы сразу предложить вопрос о том, правомерно ли они работают с разновидностями теизма, даже не думая об определении их родового единства. Тут либо искренний логический просчет, либо сознательное нежелание определять то, что предлагается «реформировать». Но вот в самом их настаивании на разделении теизма на классический и персоналистический никакого просчета нет – как нет никакого просчета в действии такого стратега, который вначале пытается разрезать колонну противника пополам, а затем справиться по отдельности с обеими половинками. В самом деле, вначале «реформаторы» вступают в союз с «реальным классическим теизмом» ради поражения «антропоморфического», а затем и с последним, также в его «реальном», т. е. «современном», значении – ради оттеснения традиционного «классического теизма». Но цели этой стратегии не симметричны: то, что предлагается в качестве хороших (а не только стратегических) альтернатив традиционному теизму, есть прежде всего редуцирование именно его персоналистической составляющей. Потому что и вторая альтернатива (панентеистическая метафизика), и третья (процессуальная теология), и пятая направлены именно на ее демонтирование. И при этом опять-таки все эти альтернативы теизму позиционируются и как альтернативные формы теизма.
Для того чтобы проверить возможность взаимоотделяемости в теизме этих двух его составляющих, я бы предложил вначале рассмотреть саму историю понятия «теизм» от начального его становления до окончательного формирования того его понимания, которое было с самого начала раскрыто здесь как его рабочее содержательное определение. При этом было бы конструктивно обратить особое внимание на то, как теизм отобразился в оптике его противников, поскольку враги чего-то бывают иногда более зрячи, чем друзья. А уже после этого я бы предложил собственное видение обсуждаемого раздвоения теизма на два типа.
История понятия
Единодушно пока что считается, что первое упоминание теистов состоялось в трактате лидера кембриджских платоников Р. Кедворта «Истинная интеллектуальная система мироздания. Часть I, в которой аргументация и философия атеизма опровергнуты, а его невозможность доказана» (1687). Согласно Кедворту, «те, кто строго называются теистами, суть те, кто утверждают, что совершенно сознательное и мыслящее Существо, или Ум, существующий сам собой от вечности, было причиной всех остальных вещей, а те, кто, напротив, производят все вещи из бессознательной материи, как первого источника, отрицая, что существует какой-либо сознательный разум, самосущий и не произведенный, по праву называются атеистами»[165]. Однако в большинстве случаев слово «теист» и прилагательное «теистический» употреблялось церковными теологами пейоративно – в применении к деистам, чье самообозначение было равнозначным, поскольку и латиницированный «деист» и грецизированный «теист» означали того, кто придерживается веры в единого всемогущего Бога. Так, У. Николс в «Дискуссии с теистом» (1696) опровергает преимущественно деистические покушения на богооткровенность Писания (автор придерживался того, вполне когерентного для христианства, мнения, что человеческий вклад в тексты Писаний не состоит в противоречии с их богодухновенностью)[166].
Значительной вехой в развитии понятия и, одновременно, в повышении его статуса стал пассаж, посвященный сопоставлению религиозных систем, в трактате Энтони Эшли Купера, графа Шефтсбери «Исследование касательно добродетели или достоинства» (1699). «Верить в то, что всё управляется, упорядочивается или регулируется в направлении лучшего проектирующим [перво]началом (the designing principle), т. е. Разумом, которое является с необходимостью благим и постоянным, – значит быть совершенным теистом». Отрицать это проектирующее начало в мире, считать, что всё в нем происходит по случайности и не в интересах целого – значит быть атеистом. Верить в то, что таких начал два или более, но считать их благими – значит быть политеистом. А вот считать это начало или начала не обязательно благими, но полагать, что они действуют по своему произволу, – значит быть уже демонистом (I.2)[167].
Деист Генри Сент-Джон, первый лорд Болингброк (1678–1751), в одном из своих эссе, посвященном монотеизму, подвергая критике очень старое воззрение (Филона Александрийского и Евсевия Кесарийского), согласно которому язычники всё лучшее украли у Моисея, ставит своего рода умозрительный опыт, представляя, с одной стороны, такого политеиста, который убежден в том, что боги, которым он поклоняется, суть служебные начала, используемые Верховным Божеством в его благих целях, а с другой – монотеиста, наделяющего своего единого Бога всеми человеческими страстями, и приходит к неутешительному для второго выводу. Он замечает, что монотеист весьма далек от «подлинного теизма» (the true theism), тогда как описанный им политеист к нему весьма близок[168]. Поэтому теизм предстает у него чем-то вроде кроссрелигиозной истины, не связанной с теми или иными конкретными религиозными системами.
Высокому статусу теизма как формы религиозного сознания и изначальной, и высшей, которая была утверждена деистами, пришлось уже вскоре пройти большое испытание (как и многим другим основоположениям рационалистической философии Просвещения) после Дэвида Юма, который в «Естественной истории религии» (1752–1755) проблематизировал и одно, и другое. Решительно различая «основание религии в разуме» и «происхождение ее из природы человека», он прежде всего попытался обосновать историческую вторичность теизма по отношению к политеизму, т. е. идолопоклонству, который «был и необходимо должен был быть первоначальной и наиболее древней религией человечества»[169]. Ум человеческий всегда восходит от простого к сложному – так и в истории религии вначале должны были преобладать самые примитивные и грубые представления о высших силах. «Первоначальные религиозные представления у всех народов, исповедовавших политеизм, были вызваны не созерцанием творений природы, но заботами о житейских делах, а также теми непрестанными надеждами и страхами, которые побуждают к действию ум человека»[170]. Именно поэтому идолопоклонники, разделив сферы действий отдельных божеств, обращаются к каждому из них по его «специальности». Теизм же сложился не из умозаключения о едином Создателе мироздания, причины были и здесь весьма утилитарными: хотя идолопоклонники допускают несколько ограниченных божеств, они выбирают одно из них объектом особого почитания и поклонения, полагая, что при разделении власти и территории между ними их народ был подчинен «юрисдикции» данного божества. А далее, по мере того как страхи и несчастья всё более одолевают людей, они измышляют всё новые способы поклонения, «и всякий, кто превзойдет предшественника в измышлении возвышенных титулов для божества, в свою очередь, наверняка будет превзойден преемником»[171]. Потому и не удивительно, что люди постепенно начинали представлять себе отдельное ограниченное божество подателем конкретных благ, творцом и владыкой вселенной. Произойдя из политеизма, (моно)теизм его, однако, не устранил, но стал чередоваться с ним в преобладании в человеческой истории – по закону «приливов и отливов».
Как две основные формы религии, политеизм и (моно)теизм противоположны друг другу и по преимуществу, и по недостаткам. Идолопоклонство имеет то очевидное преимущество, что, ограничивая силы и назначения «своих» божеств, оно отдает должное божествам и других групп, допуская и совместное существование многих. Теизм же исходит из убеждения религиозной группы в том, что единое божество исключает по определению почитание других, и эта исключительность идет и дальше, так как каждая группа убеждена в том, что только ее принципы и культ угодны божеству, и вследствие этого они «изливают друг на друга свое священное рвение и свою злобу – самые неистовые и непримиримые среди человеческих страстей»[172]. Но политеистическое сознание имеет и другое преимущество. Когда божество изображается бесконечно превосходящим людей, это неизбежно ведет к чувству угнетенности и приниженности, формируя «монашеские добродетели» умерщвления плоти, покаяния, смирения и т. д. как единственно подобающие человеку. Когда же богов признают лишь немногим превосходящими людей, последние могут быть значительно свободнее в обращении с ними, и отсюда возникают активность, подъем духа, храбрость, великодушие и т. д.[173]
Во Франции одним из первых (если не первым) термин théisme употребил Пьер Бейль в «Ответах на вопрос провинциала» (1709). Больший вклад в развитие этого понятия, однако, внес Жан-Жак Руссо. Об этом свидетельствует знаменитое «Исповедание веры савойского викария», вошедшее в часть четвертую романа «Эмиль» (1762). После того как викарий изложил свои аргументы против атеистов (в том числе в виде телеологического доказательства бытия Божия) и рассказал о своем непрерывном славословии Бога, у Которого ему, правда, нечего просить, маленький Эмиль спрашивает его, не желает ли он раскрыть какие-то еще религиозные истины, заключенные в Писании и догматах, после того как посвятил собеседника в «естественную религию». В ответ Руссо устами викария выражает удивление, как может быть необходимость в иной религии, кроме той, которую называют естественной. Высшие идеи о Божестве даются нам только разумом: «Созерцайте зрелище природы, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Разве Бог не сказал всего нашим глазам, нашей совести, нашему рассудку? Что же еще могут сказать нам люди? Их откровения только искажают Бога, наделяя Его человеческими страстями». Неверно считать, что Откровение нужно для того, чтобы служить Богу так, как Он того хочет, утверждает он и приводит в доказательство «множество странных культов», ибо разнообразие «культов» само порождено «фантазией откровений». Ведь «с тех пор, как народы вздумали заставить Бога говорить, каждый заставляет говорить Его по-своему, влагает Ему в уста то, что хочет. Если бы слушали только то, что Бог говорит сердцу человеческому, то на земле всегда существовала бы только одна религия»[174]. Культ также нужен, но тот, которого требует Бог, – «культ сердца», а он, если искренен, также всегда единообразен. И эту свою универсальную и внеконфессиональную (можно сказать даже, антиконфессиональную) религию он, в полном соответствии с деистическими представлениями, и называет théisme.
В не менее знаменитом трактате «Об общественном договоре» (1762) Руссо различает три разновидности религии в ее отношении к обществу: религию человека, религию гражданина и теократическую. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки (третья – преимущественно недостатки). Первая религия (Religion de l’homme) – религия внутреннего богопочитания, не нуждающаяся в храмах, алтарях, обрядах и ограничивающаяся верой во всевышнего Бога и следованием вечным предписаниям морали, характеризуется как «чистая и простая религия Евангелия, истинный теизм»[175]. Она имеет тот недостаток, что не привязывает граждан к государству, но, напротив, даже отрывает от него, но с внутренней как бы точки зрения является наиболее совершенной. Это – религия христианская, но деистически мыслящий философ подчеркивает, что речь идет о христианстве не «нынешнем», а о «христианстве Евангелия», которое совершенно отличается от первого, и таком, в котором основное заключается в признании всех людей чадами единого Бога, а потому и братьями, союз которых не распадается и с их смертью.
Но наибольший вклад в становление понятия «теизм» во французской философской литературе принадлежит все-таки Вольтеру как автору монументального «Философского словаря» (1764–1769), и при всех его более чем сложных отношениях с Руссо в их понимании теизма очень много общего. В статье «Атеист» он констатировал, что теизм даже и без проповедников распространился по лицу всей земли. Причина в том, что он содержится на самом деле в любой религии. Это следует из определения, которое предлагается в статье «Теист»: «Теист – это человек, твердо убежденный в существовании высшего Существа, столь же благого, сколь и могущественного, которое создало все существа протяженные, растительные, чувствующие и мыслящие, которое продолжает их род, которое без жестокости наказывает за преступления и щедро награждает за добродетельные поступки». Теист не знает, как Бог наказывает, награждает и прощает, но он знает, что Бог действует и что Он праведен. Затруднения, возникающие при оценке Провидения, не могут поколебать его веру, поскольку он судит о том, что непонятно, из того, что понятно. Единый в этом убеждении со всем человечеством, теист не считает себя связанным с какой-либо «сектой», которые друг другу противоречат. Его религия – самая древняя на земле, поскольку простое почитание Бога (l’adoration simple d’un Dieu) предшествует всем «системам». Его братья населяют весь мир от Пекина до Кайенны, и он числит всех мудрецов мира своими братьями. Он убежден в том, что религия не состоит ни в темных метафизических воззрениях, ни во внешних «суетных аксессуарах» (vains appareils), но в одном только искреннем богопоклонении (adoration) и в справедливости. «Делать добро – вот его культ, и покоряться Богу – вот его доктрина». В статье «Теизм» Вольтер проясняет, почему эта религия распространена во всем мире: этот тот металл, который естественным образом сплавляется со всеми другими и который добывается из всех «рудников», притом наиболее успешно из китайских. В настоящее время эта религия, однако, наиболее популярна в Англии, и это не случайно, поскольку и атеизм там более всего распространен. Вольтер с большим энтузиазмом цитирует Френсиса Бэкона, согласно которому малое знание ведет к неверию, а большое – к вере. У древних греков атеизм был в большой чести, но новое изучение природы гораздо больше проясняет ее разумное устроение. Люди иногда спрашивают, является ли теизм вообще религией. Ответ Вольтера двойственный: тот, кто видит в Боге лишь Всемогущее существо, а в творениях – чудесные механизмы, не более может Его почитать, чем европеец быть подданным китайского императора. Но тот, кто уверен в том, что Бог состоит в отношениях с людьми, которых Он создал свободными творить добро и зло и которых наделил тем добрым инстинктом, что позволяет им следовать естественному закону (la loi naturelle), у того, вне сомнения, есть религия, притом много лучшая, чем все «секты». «Таким образом, теизм есть здравый смысл (le bon sens), который еще не научен Откровением, тогда как другие религии суть здравый смысл, искаженный предрассудками». Истинный теист – тот, кто говорит Богу: «Я Тебе поклоняюсь и я Тебе служу», и говорит это одинаково в Турции, Китае, Индии и России. Преследовать же тех, кто внешне почитает Его по-другому – совершенный абсурд[176].
А в статье «Религия» Вольтер, не называя очень уважаемого им Юма, решительно полемизирует с его идеей исторической первичности политеизма по отношению к теизму. То, что первоначальной формой религии был политеизм, не соответствует прежде всего самому порядку познания человеком окружающего мира. Напротив того, «люди начали с признания единого Бога, и лишь впоследствии человеческая слабость добавила к нему многих». Первые люди были подобны детям, которых не поражают ни регулярные явления природы, ни ее гармоническое устройство, но только явления, внушающие страх, наподобие громовых раскатов. Эти люди, страдая от стихий и притеснений со стороны соседей, приходили к мысли о едином существе, несущем благо и зло, но вовсе не о разнодействующих силах, так как в любом процессе познания человеческий ум идет от простого к сложному, а затем возвращается к простому на основе «высшего знания». О единобожии свидетельствуют пантеоны всех древних народов, признававших верховное божество. Впоследствии «воспаленное воображение» по мере изучения многообразия мира обожествляет едва ли не все явления окружающего мира, однако затем философы древних народов приходят к допущению единого Божества, воздающего и мстящего. В итоге ко времени Августа все «исповедующие религию» признали его, а также множество второразрядных богов, культ которых и был назван позднее идолопоклонством[177].
Теоретически наиболее системная экспозиция теизма в сопоставлении с деизмом была выписана И. Кантом в «Критике чистого разума» (оба издания – и 1781, и 1787) в разделе «Трансцендентальная диалектика» в главе «Идеал чистого разума». Обе формы религиозного мировоззрения дедуцируются из кантовского понимания рациональной теологии (theologia rationalis), основывающейся на одном разуме, которая противопоставляется – что очень важно для кантовского понимания теизма – теологии, основывающейся на Откровении (theologia revelata). В рамках рациональной теологии различаются теология трансцендентальная, исходящая из одних трансцендентальных понятий (таких как «сущность изначальная», «сущность наиреальнейшая», «сущность сущностей»), и теология естественная, исходящая из понятия, заимствуемого из природы нашей души («высшее мыслящее существо»). Того, кто допускает только трансцендентальную теологию, следует считать деистом, а того, кто допускает в дополнение и естественную, – теистом. Если деист, в прочтении Канта, признает, что мы можем познать посредством одного разума существование первосущности, однако обладаем о ней понятием только как о сущности, обладающей всей реальностью, но не определимой далее, то теист настаивает на том, что мы ее можем знать и точнее, по аналогии с природой, – как сущность, содержащую в себе первоначальное основание всех прочих вещей благодаря ее рассудку и свободе. А потому, если деист признает под этой сущностью только причину мира (не уточняя ее дальше), то теист – и его творца. Исходя из этого можно утверждать, что деист верит в Бога, а теист – в живого Бога, который обозначается, однако, как «высшая интеллигенция» (summam intelligentiam)[178].
Неудивительно, что при таком понимании теизма (которое, вследствие авторитета Канта, было учитываемо многими) теизм вполне обособлялся от Откровения, что позволило, например, Гегелю трактовать его как лишь одно из направлений просвещенческой философии[179]. В 1800 г. в немецкой философской литературе было уже засвидетельствовано понятие спекулятивного теизма (spekulativer Theismus), а И.-Г. Фихте (Фихте-младший) употребляет данное понятие как обозначение собственной системы[180], как пароль для критики гегелевской философской теологии. В системе Фихте-младшего отношение Бога и человека не подчиняется априорному логическому мышлению как отношению двух абстрактных субстанций, но первый мыслится как Абсолютная Личность, отражающаяся в личностях конкретных. На этом теизме выстраивается и его теология, в которой акцентируется связь с опытом (несмотря на «спекулятивность» продвигаемого им теизма). Эти установки на персонализм и опытный характер теологии, наряду со стремлением к сохранению лучшего в классическом идеализме и к «альянсу» с кантовской философией, объединили немалое количество значительных философов, которые группировались вокруг фихтевского «Журнала по философии и спекулятивной теологии» (1837–1847, далее он был переименован), в котором участвовали и печатались Г. Штеффенс и Х. Вайссе (из известных теологов к ним примкнули А. Неандер, Р. Роте и Ф. Штауденмайер).
В том же XIX веке обозначается движение в сторону т. н. этического теизма (ср. «чистую» этику И. Вирта как раздел практической философии). Немало выходило и апологетических работ, посвященных теме «теизм и пантезм» (Ф. Хоффмана, Г. Шпета). А в англоязычной литературе к концу столетия выходят опыты в области конструирования «философского теизма» (philosophical theism). А. Фрезер в серии гиффордских лекций ставил и пытался решить вопрос о том, каким образом Бесконечное Существо может быть исследовано методами и в духе науки[181], а Б. Броун два года спустя опубликовал рассуждения о личностной природе сверхъестественного.
Среди критиков теизма следует различать тех, кого не устраивали отдельные, пусть и важные, аспекты теистического мировоззрения, и тех, кто отвергал это мировоззрение как це-лое. Критика первых обрушивалась прежде всего на традиционные доказательства существования Бога, презентацию Его атрибутов, оправдание существующего миропорядка (прежде всего опыты теодицеи), и об этом много писали начиная с эпохи Гольбаха до эпохи Докинза. Системных же критиков теизма, которых не устраивал и не устраивает теизм как таковой, целесообразно различать исходя из их «пунктов отправления», и наибольший интерес представляют те, для которых таковым была неприязнь к монотеистическим религиям (прежде всего к христианству) как таковым[182].
В интересующей нас группе следует выделить прежде всего Артура Шопенгауэра, который во втором томе своих малых этюдов «Парерга и паралипомена» (1851) посвятил теизму отдельный маленький параграф (§ 178), согласно которому теизм есть такое же идолопоклонство, как и язычество, с той только разницей, что если во втором персонифицируются лишь отдельные части и силы природы, то в первом – она как целое. Теизм не может ответить на вопрос о том, какова причина существования самой последней причины, а также каким образом, если всеблагой Творец создал человека таким, каков он есть, тот должен за свою негодность быть в претензии лишь к самому себе. Идолопоклонство (Idolatrie) не меняется от того, что сам идол делается не из дерева и металла, а из абстрактных понятий, и не может быть отменено тем, что объект приношений, как личность, требует в жертву не овец, а определенных душевных состояний. Оно имеет место везде, где есть межличностные отношения между субъектом и объектом поклонения, а потому можно понять мистические секты всех религий, которые удерживали своих последователей от исполнения обрядов[183].
Ему и здесь, как и во многом другом, вторил Ф. Ницше, утверждавший в «По ту сторону добра и зла» (1886), что хотя в его время «религиозный инстинкт мощно пошел в рост, он как раз с глубоким недоверием отвергает удовлетворение, сулимое ему теизмом» (§ 53). Причина этого, как и самого атеизма, в том, что в идее Бога основательно опровергнуты (не указано только, чем или кем), «Отец», «Судья» и «Воздаятель»[184], т. е. именно личностные предикаты. Показательно, что он, как и Шопенгауэр, не стоял на собственно атеистических позициях, благосклонно ссылаясь на индийские религии и противопоставляя их религиям авраамическим.
Показательно, что и в настоящее время отмечается возрождение юмовского интереса к политеизму как к альтернативе теизму. Например, Пол Дрепер считает, что представление (на деле эпикурейское) о существовании безразличных к природной и человеческой жизни высших существ («гипотеза безразличия») лучше соответствует натуралистическому мирообъяснению (единственному научному), чем теистическое учение о Боге, Который должен нести личную ответственность за мир, изобилующий напрасными страданиями, которые не приносят никаких компенсирующих их благ[185].
Стоит ли разделять неразделимое?
Представленный экскурс в историю понятия «теизм» показывает, что из тех, кто внес определяющий вклад в становление этого понятия, только у авторов XVII века персоналистический его аспект оказывается несколько затушеван, и то по той, вероятно, причине, что свою задачу они видели прежде всего в его противопоставлении натуралистическому атеизму. У Юма, несмотря на критический акцент, личностность теистического Бога уже вполне признается, у Руссо в еще большей степени (в аспекте Божественной благости), а у Вольтера в значительно большей мере, чем у Руссо, так как он прямо утверждал, что «теист – это человек, твердо убежденный в существовании высшего Существа, столь же благого, сколь и могущественного, которое создало все существа протяженные, растительные, чувствующие и мыслящие, которое продолжает их род, которое без жестокости наказывает за преступления и щедро награждает за добродетельные поступки», и что верить в одно только Всемогущее существо без этих «антропоморфических характеристик» (как предлагает Дэвис) – все равно что европейцу считать себя подданным китайского императора (см. выше). После Канта противопоставление теистического Бога как «живого Бога» деистическому как «просто Богу» окончательно устанавливается в европейской философской культуре, как и в середине XIX века противопоставление теизма пан(ен)теизму. Эти контрастные характеристики закономерны. В деизме персоналистический аспект хотя и не отрицается (образ благого мирового механика), но отодвигается на второй план, а в панентеизме редуцируется, так как личность есть то, что открыто для «другого», а здесь любой «другой» в конечном счете неотделим от «божественного меня» как его манифестация, развитие. Противники же теизма (которые были обозначены значительно более эскизно) находили его «ахиллесову пяту» именно в его неотделимости от персонализма, в котором Шопенгауэр видел презираемое им идолопоклонство, Ницше ненавистную ему идею личной Божественной праведности, а современные поклонники политеизма – всего только иррациональную «некогерентость».
Только Дэвис и Шертль с коллегами вынудили нас исторически доказывать самоочевидное. Персоналистская и субстанциалистская составляющие традиционного теизма находятся между собой на деле не в большем противоречии, чем аверс и реверс одной монеты. Конечно, их можно и разделить, но в результате получатся уже другие типы мировоззрения. При последовательной редукции персоналистичности мы остаемся с монизмом адвайта-веданты, где субстанциализм обеспечивает Мировое Сознание, иллюзорно продуцирующее через Иллюзию полуиллюзорный мир, в котором действующие лица до «просветления» не догадываются о том, что они так же соотносятся с Божеством, как пространство в горшке с пространством вокруг него[186]. При последовательной редукции субстанциальности мы получаем «теологию слабого бога» постмодернистов, могущего, как лишь «сумма событий», обеспечивать не религиозную веру, но только веру в то, что во что-то вообще можно верить[187]. Традиционный же теизм предлагает верить в парадоксы, среди них и в тот, что Всесовершенное Существо с метафизическими атрибутами, более которого ничего не может быть помыслено (quo nihil majus cogitari possit)[188], вывело евреев из Египта, а после неоднократно «судилось» со Своим народом и молилось о прощении Своих убийц. Так очень длительная альтернатива между «Афинами» и «Иерусалимом» разрешается из дизъюнкции в конъюнкцию, но достигается это не через когерентность (см. выше), а через concursum contrariourum.
Личностность Абсолюта в этой системе координат не может, конечно, мыслиться как человеческая (чем и нейтрализуется упрек в антропоморфизме), но она вполне традиционна, так как для традиционного христианства укореняется в полной совместимости единой Природы и трех Лиц. К данному случаю применим аналогический метод Фомы Аквинского, позволяющий видеть также, почему Божественная любовь, видение или знание не перестают быть любовью, видением и знанием, отличаясь от таковых человеческих[189]. Подобно тому, хотелось бы здесь добавить, как и само существование Бога отличается от существования пространственно-временных вещей, не переставая быть существованием[190].
Обоснования существования Бога: новый опыт классификационного анализа[191]
Хотя в названии этого материала не отразилось, что речь пойдет о проблемах в пространстве аналитической философской теологии (иначе название было бы уж очень утяжелено), дело обстоит именно так. Автор этих строк отчасти относит и себя к данному, совершенно интерконфессиональному тренду, который определяется не онтотеологическими презумпциями, а стилем мышления, в коем следует выделить, на его взгляд, прежде всего «проблемоцентризм» и «контровертизм». Обе эти компоненты, при всей их рамочности, позволяют отличить данный стиль философского мышления (в том числе и в применении к теологической проблематике) от того, что принято называть «постметафизической философией»: первая – от устремленности к континуальному «вопрошанию о вопрошании», вторая – от отказа от классической рациональности (если мы полемизируем с помощью рациональных аргументов, то признаем арбитраж общезначимых критериев рациональности, не пытаясь, соответственно, разоблачать заложенный в них «логоцентризм»). Но именно эти родовые признаки делают обоснованной и даже необходимой рационалистическую самокритику в самой аналитической общей философии и, соответственно, в «философии теологической», которой в «континентальной философии» препятствует широко употребляемый риторический стиль (нередко аргументацию замещающий), та магия слов, что в случае с постструктурализмом есть актуализация как раз той самой «власти», преодоление которой якобы и составляет его raison d’être.
«Заброшенный участок»
Сегодняшняя философская теология в ее основном, англо-американском культурном контексте может рассматриваться как нечто вроде «третьего поворота колеса дхармы» в истории освобождения аналитического метода от идеологического балласта неопозитивизма, который к середине ХХ века настолько с ней сросся, что до сих пор далеко не все научились разделять (у нас в стране еще, кажется, и не начали это делать) эти «ингредиенты», которые так же мало ингерентны друг другу, как, например, человек и костюм, который он сегодня надел и вполне может снять завтра, никак не переставая быть собой. Правда, раньше люди по многу лет носили одни и те же костюмы, и потому окружающие считали их уже едва ли не продолжением их тел, но это сущностных отношений между человеком и костюмом не меняет[192].
Первый поворот означенного «колеса дхармы» совершился тогда, когда некоторые видные философы, работавшие с аналитическими методами, заговорили о том, что пропозиции этические и даже метафизические относятся к тем, которые необязательно считать «бессмысленными» (нереференциальными). Второй, быстро и логично последовавший за первым, означал уже «возвращение Бога в философию», и так началось интенсивное и поступательное (до настоящего времени включительно) развитие «философии религии», под которой понималась (и сейчас понимается, хотя уже и не эксклюзивно) рациональная теология в академическом пространстве. Призыв же к третьему повороту того же «колеса» прозвучал в «Совете христианским теологам» Алвина Плантинги (1984), который убедил, как выяснилось позднее, многих христианских философов в том, что им следует не столько переубеждать секулярных философов (воспитанных на совершенно других «ценностях»), сколько заниматься своими «христианскими проблемами», другими словами, не доказывать правоту теизма (которую все равно не докажешь тем, кто не хочет, чтобы ему ее доказали), а, скорее, разрабатывать философию собственного вероучения[193].
Любые советы, как известно, воспринимаются только при готовности их услышать, а готовность освободиться не только от ограничений «философии критики языка», но и от тех, которые веками налагала на «теологию разума» «теология Откровения», имела давние исторические корни[194]. Так, на рубеже ХХ-XXI веков кристаллизуется бренд под названием философская теология[195] (которую я предпочитаю называть «философской теологией в узком смысле», о ней же «в широком смысле» см. ниже), а иногда и христианская философская теология, который в настоящее время, преимущественно в Америке, переживает эпоху «калифорнийской золотой лихорадки», завоевывая журналы, издательства и гранты. Средний предметный куррикулум общих антологий и тематических сборников под этими «титлами» включает разделы по структуре теистических верований, по Откровению и богодухновенности Писания, по Божественным атрибутам (простота, необходимость, вездесущесть, (а)темпоральность, (все) могущество, (все)ведение, (все)благость), по Провидению и проблеме зла, и даже по просительной молитве (иногда вспоминают и об этике), но наибольшее внимание уделяется философской интерпретации христианских догматов – о Св. Троице, Боговоплощении, первородном грехе и Искуплении, Воскресении Христовом и воскрешении мертвых[196]. Гораздо меньшее внимание уделяется экзистенциально едва ли не самому важному – посмертному существованию конечных разумных существ и практически никакое – самим обоснованиям существования Бога, которые всегда составляли исходный топос рациональной теологии.
Объяснений, сколько-нибудь внятных, этой второй лакуны мне вычитать нигде не удалось[197], а она является одновременно и логической, и исторической, так как те классики философской теологии, которые являются наибольшими авторитетами и для современных англо-американских «философских теологов», придерживались этого «исходного топоса» как основания для рассмотрения всех прочих. Классики же эти следовали Аристотелю, который более чем оправданно считал, что о свойствах вещи следует рассуждать только после того, как выяснено, что она вообще есть, а потому и у Фомы Аквинского обоснования существования Бога предшествуют Его атрибутам, и у Франсиско Суареса (вместе с его школой) последовательность та же[198]. «Имплицитное объяснение» отсутствия данного топоса тем, что он рассматривается в «основном корпусе» философии религии, чьей «пристройкой» является философская теология, никак не проходит, так как там же рассматриваются и Божественные атрибуты, и Провидение, и проблема зла, и многое другое, что спокойно входит в куррикулум и философской теологии (см. выше). Моя гипотеза заключается в том, что «философская теология» сегодня фактически отказывается (как и другие разновидности рациональной теологии) от задач миссионерского порядка, всячески адаптируясь к секулярной среде с ее идеологией политкорректности[199], вопреки как раз чаяниям ее «крестного отца» Плантинги (см. выше). А это объясняет и преимущественно академический, умозрительный интерес к содержанию и самой веры.
Но сейчас нас интересуют не причины данной закономерности явления, а некоторые его последствия. Они в том, что, по крайней мере частично, вследствие обозначенной «утечки умов» из этой проблематики (хотя все этим объяснить нельзя), в ней накопился целый, как сейчас модно говорить, кластер стереотипов. Последние (как и положено стереотипам с хорошим «стажем») имеют статус фактически непроверяемых канонических утверждений, принимаются заранее теми, кто работает с этой темой (за рамками «философской теологии в узком смысле» – см. выше), и в другом месте мы перечислили их в следующей последовательности:
– речь идет именно о «доказательствах» или, по крайней мере, об аргументах, имеющих аутентичную «доказательную силу», и поэтому в аналитической теологии, которая занимается ими всерьез, имеет место преимущественно синонимическое употребление соответствующих терминов в их применении к существованию Бога[200];
– не по «материи», но по форме все эти доказательства естественным образом делятся прежде всего на априорные и апостериорные;
– наиболее авторитетными и самими по себе и основоположными для остальных являются из них три – доказательства онтологическое, космологическое и телеологическое (сейчас оно чаще называется от замысла или от дизайна), что «первым среди этих равных» в различных смыслах мыслится онтологическое, и сама эта субординация заложена в теистическом мировоззрении;
– среди других доказательств (дополнительных) также существует иерархия, и «первыми среди вторых» являются здесь доказательства от нравственности, от религиозного опыта и от чудес, тогда как «вторые среди вторых» – доказательства от конституции человеческого сознания, от конституции познания и «практические», например пари Паскаля[201].
«Расчистка территории»
Что касается базового стереотипа (1), то мы аргументировали его несостоятельность тем, что обоснования существования Бога, которые можно считать сколько-нибудь убедительными, не могут быть подведены ни под один из тех типов доказательства, которые являются общепризнанными (дедуктивные и индуктивные) или признаются некоторыми (кондуктивные)[202]. То есть, перевертывая одну простенькую аналогию, которую однажды предложил Ричард Суинберн (настаивающий на том, что все они должны считаться не дедуктивными, но хорошими индуктивными доказательствами), если убийцей может быть кто-то из трех только людей, скажем, Питер, Джордж или Стивен, а получается, что улик нет ни против кого из них, то надо считать, что убийцы вообще не было. Сейчас я бы сослался и на новейший авторитетный отечественный учебник логики, согласно которому доказательства могут рассматриваться только в системе дедуктивных умозаключений, тогда как даже индуктивные относятся лишь к «правдоподобным рассуждениям»[203]. Разумеется, из того, что пока логика не открыла таких общепринятых умозаключений, которые считались бы доказательствами и под которые можно было бы подвести сколько-нибудь убедительные обоснования существования Бога, не следует, что она их не откроет никогда. Но тогда и будет смысл продолжить этот разговор – не раньше. Пока же мы продолжаем думать, что верующий разум вполне договорится с собой (и с действительностью), если будет считать эти обоснования относящимися теоретически к типу абдуктивных умозаключений (область неформальной логики) – доводов от лучшего объяснения при разрешении конфликта объяснительных гипотез[204].
Стереотип (2) демонтируется также не очень сложно. Для этого достаточно взглянуть на «фактуру» единственного «доказательства», которое считается априорным, – онтологического, и того, которое считается последнее время первым из апостериорных, – космологического. В первом случае имеет место развитие всего Ансельмова «доказательства» от вполне фактологической точки – от положения, что даже самый глупый человек на свете имеет представление о Всесовершенном Существе. Относительно того, не является ли само это допущение некоторой глупостью, правомерно размышляли уже давно очень умные люди (начиная с Аквината). Но дело не в «материи», а в форме – в том, что пусковой механизм этого умозаключения является апостериорным. А во втором случае этот механизм, напротив, оказывается вполне априорным: это отнюдь не существование мира как таковое (как хотят представить дело некоторые очень именитые аналитические теологи), а запрет на регресс в бесконечность – запрет, который следует поддерживать ради сохранения «метафизического порядка» в нашем мироздании. Да и в других «доказательствах» можно обнаружить смешанную, «априорно-апостериорную», структуру, а потому эта дихотомическая классификационная модель не работает.
А вот со стереотипом (3) требуется значительно бóльшая работа. Прежде всего следует заметить, что он имеет (о чем «христианские философы» часто забывают) отнюдь не теистическое происхождение. Он восходит к Канту, который дал и сами наименования этим «доказательствам» и определил, что других (кроме онтологического, космологического и физико-телеологического), исходя из теоретического разума, быть не может[205], и вынес вердикт, что из этой триады основоположным для двух других является первое – онтологическое[206]. Аналитические теологи совершенно правомерно оспаривают «догму», что кроме этих обоснований не может быть других, и не менее правомерно настаивают на том, что в случае с ними речь должна идти не столько о трех нумерических «доказательствах», сколько об их «семействах»[207]. Они до сих пор работают на этой «площадке», признавая эксплицитно или имплицитно, что «великая триада доказательств» составляет первичные обоснования, над которыми надстраиваются вторичные, и что из них логически исходным является онтологическое (даже если они считают, что другие являются более соответствующими своему предназначению)[208]. Но кантовский «догмат» никак принят быть не может. Высоко оцененное им – и по справедливости – телеологическое обоснование[209] отнюдь не получает, вопреки желанию кёнигсбергского гения, твердую почву в онтологическом, так как идея обоснования целесообразности, а также и эстетики в этом мире не требует онтологии всесовершенного существа, о чем свидетельствует и сама история философии, которую он знал плохо[210]. Да и запрет на регресс причин в бесконечность также не требует идеи «существа, больше которого нельзя помыслить», и это тоже подтверждает история философии[211]. Возможно, это допустил бы и сам Кант, если бы не был пленен настойчивой задачей разоблачить рациональную теологию, сведя ее в конечном счете к наиболее провальному из всех «доказательств». Правда, Кант был совершенно прав в главном – в том, что алогично допускать существование таких идей, которые, как идеи, гарантируют (в отличие от других идей) «материальное существование» своим референтам, и если бы он знал хорошо известный полемический текст Гаунило, современника Ансельма и первого его оппонента[212], то убедился бы в том, что у него был очень ранний и толковый предшественник.
То, что после Канта появилась целая библиотека литературы по онтологическому обоснованию, которая и теперь еще пополняется публикациями его противников и почитателей, объясняется двумя причинами. Первая та, что сам ход этого обоснования, как верно отмечал Плантинга, несомненно, эвристичен и метафизически весьма содержателен: здесь и постановка вопроса о статусе высказываний о существовании, и об онтологии ментальных объектов, и о различии свойств этих объектов и эмпирических[213], и – что было актуализировано самим Плантингой – возможность апелляции к концепции возможных миров. Дело не только в этом, но и в том, что понимание Бога как Всесовершенного Существа и возможность фундирования этим всесовершенством всех отдельных божественных предикатов и атрибутов[214], а также отчасти и действий в наибольшей степени соответствует теистическому мировоззрению как таковому. И, однако, вся эта положительная заряженность данного «доказательства» не противоречит правомерности его характеристики у злого, но проницательного Артура Шопенгауэра в качестве софизма. А соотношение его с другими обоснованиями, да и всех членов «великой триады» друг с другом, будет прямо противоположным тому, каким его видел Кант, да и многие аналитические теологи, Канта не приемлющие, которые здесь следуют за ним.
Всесовершенное Существо не потому должно существовать, что существованию прилично входить в совокупность свойств, образующих его понятие, но оно может существовать, если имеются основания через совсем другие аргументы предположить возможность наличия реального «кандидата» на его статус. Равно и предположение о Первопричине может быть реалистичным не вследствие предзаданного запрета на регресс причин в бесконечность, но при целесообразности допущения того же «кандидата» и на эту «должность». Но возможность номинирования искомого «кандидата» и осуществляется через ту «выборную процедуру», которая реализуется в абдуктивном дискурсе, соответствующем прежде всего телеологическому обоснованию. Осуществляемому здесь умозаключению от лучшего объяснения уместно располагать, как и в любой подлинной диалектической аргументации, кумулятивными основаниями: тут и не потерявшее востребованность рассуждение по аналогии, и хорошая работа методом reductio ad absurdum с альтернативными мирообъяснениями[215], и апелляция к «тонкой настройке». Из этого не следует, что обоснования онтологическое и космологическое должны быть просто отвергнуты, но их «работа» уже не первого, а второго порядка (см. ниже).
Что же касается стереотипа (4), то я не стал бы отрицать, что трудности в объяснении чувства морального долженствования, не сводимого к мотивациям выживания, выгоды и удовлетворения природных потребностей, которые плохо вписываются в оголенный мир атомов, пустоты и эволюции, наводят на мысль о трансцендентном источнике этого чувства или, по-другому, об определенной интенциональности в создании человека, этим и другими, близкими «внутренними чувствами» обладающего. Но я никак не думаю, что т. н. исторический аргумент, весьма древний – от неправдоподобности того, чтобы и человечество в своем религиозном большинстве, и первостепенные гении философии и науки (скажем так, от Парменида и Платона до Бора и Гейзенберга) как один заблуждались, не допуская того, что мир ограничен одной лишь сферой чувственно воспринимаемого, – менее убедителен. Скорее всего, даже более. Особенно с учетом того, что любые попытки «отобъяснить» религиозное восприятие действительности психофизиологическими и социальными причинами потребуют таких допущений, которые в конечном счете сводятся лишь к одному нежеланию признать что-либо реальное и надприродное. И еще один камень на чашу этого обоснования – квазирелигиозная (фидеистическая) структура сознания наиболее последовательных атеистов (соответствующая квазицерковной организации и их институтов). Аргумент от когнитивной структуры человеческого мышления также вполне может считаться вполне работающим – пока, по крайней мере, ученые не докажут наличие у животных абстрактно-понятийного и вербально нагруженного мышления. Зато почитаемый до сих пор аргумент Паскаля мы бы вычеркнули из ресурсов теиста и назвали его «торгашеским»: это правда, что есть немало людей, участвующих в религиозных обрядах «на всякий случай», но такая «диспозиция сознания» никак к реальной вере привести не может[216].
«Экзотические растения»
Аргументы, рассматриваемые в англо-американских монографиях и сборниках по аналитической «философии религии», однако, не исчерпывают всех тех, с которыми может работать теолог. Достаточно привести два примера.
Если закон нравственности во мне и звездное небо надо мною действительно могут вызвать чувство восторженного благоговения, то Книга написанная может его вызвать уж никак не меньше, чем книга природы, которая для Руссо и прочих последователей «естественной религии» была, если можно так выразиться, религиозно самодостаточной. Более того, из второй «книги» религиозные смыслы вычитываются наиболее «естественным образом» лишь при усвоении в культуре первой – независимо от признания этого обстоятельства самими «естественниками». И здесь можно апеллировать к теологии интеркультурной, которая соответствует «философской теологии в широком смысле». И не только к мусульманскому убеждению, что Книга составляет большее чудо, чем те, которыми привлекаются сердца незрелых. Выдающийся индийский философ-энциклопедист Вачаспати Мишра (X в.) привел однажды такое обоснование существования Божества-Ишвары, как то, что некоторые тексты – Веды и Аюрведа – никак не могли быть созданы, исходя из их совершенств и «эффективности», обычными человеческими умениями[217]. Та же аргументация отчасти прослеживается и у его возможного современника ньяика Джаянты Бхатты, который, полемизируя в своем знаменитом трактате «Ньяяманджари» с доктриной школы мимансы о том, что Веды существовали изначально и без всякого авторства (снова параллель с представлениями о Коране в исламе), отмечает, что совершенство текстов Вед может свидетельствовать против их авторства не более чем искусство, явленное в классических произведениях литературы, против того, что у них также был автор[218]. Если такие «созерцания» вызывали сакральные гимны-мантры даже тех текстов, которые формировались в культурной традиции, не знавшей Откровения в собственном смысле[219], то тем более это применимо к тем текстам, которые сообщают откровение о человеческой биографии самого Источника Откровения. Достаточно минимального «нефизического видения» хотя бы дискуссий Иисуса с учителями еврейского народа (Который «учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф 7:29)) или бесконечных глубин евангельских притч, открывающих каждый раз новые смысловые кристаллы при их чтении и особенно слышании (притом через прямое вневременное обращение к «внутреннему человеку» (2 Кор 4:16) конкретного реципиента, которого может отделить от их фиксации любое число столетий, чтобы убедиться, что мы непосредственно встречаемся с мудростью, даже при вторичной трансляции в порядки превосходящей человеческую.
Другой довод, который также невозможно обнаружить в пособиях по «философии религии», был в свое время озвучен великим политиком и ученым Бенджамином Франклином (1706–1790). А именно, когда ему французские энциклопедисты подписали торжественное обращение за открытие электричества, навсегда низвергающего с престола Зевса и всех прочих небожителей, он заметил, что благодаря этому поздравлению помимо электричества можно открыть и новый аргумент в пользу существования Бога – от ненависти[220]. Глубокая мысль Франклина нуждается в комментарии. Я неоднократно отмечал в качестве основного парадокса атеизма тот факт, что атеисты наиболее последовательные, отрицая существование божественного мира, удивительным образом сочетают его с обидой, неприязнью и даже открытой ненавистью к «несуществующему». Такова была смертельная обида «отца атеистов» Диагора (IV в. до н. э.) на афинских богов после проигранной тяжбы, а у эпикурейца Лукреция (I в. до н. э. – I в. н. э.) – непреодолимое желание низвергнуть богов греческих и римских, которых он также якобы только отрицал; презрение, граничащее с ненавистью, к «несуществующему» Ишваре у Васубандху (IV в.) и ряда других буддийских антитеистов; подлинное желание испепелить его у джайнского антитеиста Гунаратны (XV в.). Но те же «антинуминозные чувства» мы обнаруживаем у некоторых французских революционеров, Маркса и Ницше, русских «революционеров-демократов» и руководителей советского «Союза безбожников», у Сартра и Камю, Рассела и «новых атеистов» во главе с Докинзом, но также и у их конкурента Шелленберга (и его последователя Дранжа), который, как ему кажется, нашел самое простое опровержение существования Бога, подобно тому как Ансельм в свое время – самое простое его доказательство[221]. Последняя параллель заслуживает внимания. Ведь если, по мнению Ансельма, даже Глупец, имеющий отвлеченную идею Всесовершенного Существа, мог бы свидетельствовать о реальности ее референта (см. выше), то уж ненависть и прочие «антинуминозные чувства» гораздо больше свидетельствуют о ней, поскольку являются определенными и очень конкретными реакциями на определенный опыт общения. Частичное, по крайней мере, объяснение «парадокса атеизма» видится в том, что совершенно реальное и постоянное общение с Богом имеют те «интеллигенции», которые никогда в Его существовании не сомневаются, всегда «веруют и трепещут» (Иак 2:19), но имеют возможность использовать в качестве своих посредников в этом мире тех лиц, которые, хотя и отрицают их существование (и которых они же сами, скорее всего, побуждают к этому отрицанию), оказываются им (без)духовно необычайно близки. И можно предположить, что не только теолог, но и любой субъект, не связанный материалистическими догмами, способен допустить, что нам необязательно быть одними в космосе, даже если мы и не верим в НЛО.
Правда, «современно мыслящий» человек скорее всего не будет рассматривать такой довод всерьез, поскольку в эпоху современной астрофизики и «наноэтики» никак нельзя возвращаться к средневековому «мракобесию», и только очень немногие протестантские теологи решаются заговорить на эти темы в связи с частными вопросами (например, в связи со страданиями животных). Однако по своей «конфигурации» данный довод достаточно близок этическому аргументу (к которому «современный человек», если он не «окончательный дарвинист», относится благосклоннее): как там чувство морального долженствования выводится из недостаточной объяснительной силы «естественных факторов», так и здесь изощренные жестокости и инфернальная ловкость злодеев, коими полна человеческая история[222], также очень трудно объяснить одними только социокультурными факторами человеческого существования и еще менее – задачами выживания или приспособления к окружающей среде. Скорее речь идет о периодических «инфицированиях» человеческого рода со стороны умов, продвинувшихся в зле пропорционально их начальному очень высокому совершенству, и там, где тьма может быть густа до такой степени, она волей-неволей указывает на Свет, так как имеет «природу отрицания».
На это «научный теист», эвиденциалист, скорее всего возразит, что оба только что рассмотренные обоснования вряд ли будут убедительными для атеистов, поскольку они субъективны, «конфессиональны» и не отправляются от «публичных свидетельств» (public evidences), которые могли бы быть принятыми всеми. Но таких теистических обоснований, которые должны были бы быть приняты всеми, равно как и тех общепризнанных «публичных свидетельств», попросту не существует. Притом не без причин. Как сказал весьма именитый в свое время философ и историк философии Дитрих Генрих Керлер (1882–1921), «даже если бы можно было доказать математически, что Бог существует, я бы не хотел, чтобы Он существовал, поскольку это ограничивает меня в моем величии»[223]. Но ведь для того, кто мыслит в подобной интенциональности, никак не может быть теистических аргументов более «объективных», чем другие.
«Общая схема посадки»
Теперь, избавившись от «бремени доказательств» и деления их на «первичные» и «вторичные» (а заодно от деления на «первичные» и «вторичные» в каждой из этих групп), можно попробовать предложить другую классификацию обоснований существования Бога – из того, что может делать сам субъект обоснования как «лучшего объяснения». Здесь также возможно наметить «большую триаду», исходя из того, как он приходит к самой абдукции.
Первая группа обоснований формируется из того, что можно назвать аргументацией от здравого смысла – когда осуществляется контровертивное взвешивание действительных или теоретически возможных доводов pro и contra с теистических позиций. К этой группе следует отнести прежде всего телеологическую аргументацию – древние аргументы от разумного замысла в макрокосме (физико-телеологический аргумент) и в микрокосме (аргумент от конституции человеческого сознания), не намного менее древний аргумент исторический (от универсальности религиозного опыта и практики) и этический, который начал разрабатываться английскими аналитиками XIX–XX веков как применение «остаточного метода» к обоснованию неутилитарной человеческой нравственности.
Во вторую группу было бы целесообразно включить доводы от метафизических презумпций. В отличие от аргументов первой группы, они являются больше монологическими, чем диалогическими, и отправляются от анализа философских понятий и постулатов. Основной механизм этих умозаключений – плавный переход от должного к сущему, который в свое время подверг справедливой критике Юм. В онтологическом «доказательстве» это переход к существованию Всесовершенного Существа исходя из наличия его идеи в человеческом разуме, в космологическом – к существованию Конечной Первопричины исходя из иерархического понимания каузальности, в кантовском постулате чистого практического разума – к существованию Праведного Судьи из требований морального чувства.
В третью группу можно было бы включить только что «принятых новичков», которые могли бы представить аргументы от духовного узнавания признаков сверхприродного происхождения как Божественного самооткровения, так и саморазвертывания особых энергий зла. Вторая из этих интуиций имеет, кажется, «асимметричное сходство» с обоснованием морального блага, но очевидно, что речь тут может идти скорее о видении, чем об «остаточном методе». Но и куда как более привычный довод от тех сверхъестественных явлений, которые когда-то называли чудесами, также исходит преимущественно из «узнавания».
Переходя же к оценочным моментам, можно предположить, что только аргументы от здравого смысла являются собственно основными обоснованиями существования Бога, которые теист может адресовать оппоненту, а также достаточно широкой (хотя и не всеобщей) внешней аудитории, которую хочет склонить на свою сторону, а также и себя, когда чувствует потребность в «таблетках» при «понижении температуры» собственной веры, которая не может быть постоянной у такого «хрупкого тростника» (здесь Паскаля можно вспомнить уже добрыми словами), как человек[224]. Духовные видения источников как света, так и тьмы также могут быть обоснованиями, но значительно больше для самого теиста, а если и для не-теиста, то только для того, который для восприятия теизма уже открыт. Что же касается доводов от метафизических презумпций, то они, как мне представляется, могут быть вообще не столько обоснованиями существования Бога, сколько раскрытием Его «базовых характеристик» (из которых всесовершенство включает фактически и все остальные) для того, кто либо принимает Его существование и без обоснований, либо через реальные обоснования – другие. Поэтому их значимость ни в какой степени не следует преуменьшать – она очень большая (как важный ингредиент «теологии всесовершенного существа», которая восходит в конечном счете к тому же Ансельму и без которой не держится реальный теизм), – но только к ним, как и к людям, следует обращаться за тем, что они могут дать, а не за тем, что не могут.
Различны и функционально-коммуникативные контексты этих типов обоснований. Обоснования первого типа пускались и пускаются в дело в ходе реального диалога с оппонентами религиозного мировоззрения, и их агональный контекст хорошо выражается, например, в той «образной аргументации», которая более всего очевидна в телеологической аргументации, построенной на самых наглядных аналогиях и «контраналогиях», призванных (раз)убедить прежде всего потенциальных «послушников оппонента».
Самоочевидно ли «Откровение»? Размышляя над типологией Эйвери Даллеса[225]
То, что людям для богопознания и спасения требуются два условия – и внимательное наблюдение над миром, в котором они живут, и особые действия со стороны Самого Бога, раскрывающие то, что им недоступно из собственных ресурсов, – признавалось как нечто само собой разумеющееся вплоть до эпохи Ренессанса. И только с этого момента начинают раздаваться вначале тихие, а затем все более громкие голоса, настаивающие на том, что не только для ежедневной жизни, но и для осуществления высших человеческих целей эти «особые действия» в принципе не нужны, поскольку все необходимое даже для вечной жизни человеческий разум может извлечь из наблюдения над окружающим миром и собственной «конституцией», а то, что считается божественными действиями, на самом деле суть лишь человеческие регуляции и отсылки к авторитетам для самоутверждения религиозных общин.
Выдающийся немецкий историк теологии и философии религии Конрад Файерайс убедительно показал, что эта позиция была впервые четко артикулирована испанским врачом и теологом Раймундом Сабунде, который в своем сочинении «Книга о творениях, или Естественная теология» (1496) убеждал образованного читателя в том, что естественный разум является вполне достаточным источником знаний, ресурсом для богопознания и достижения совершенства и что из двух «книг», данных Богом человеку, первая – естественная теология – имеет все преимущества перед второй, Писанием, которая, в отличие от нее, не доступна каждому и может неправильно перетолковываться. Поэтому Файерайс оправданно видел в Сабунде, а также в его последователе Роберте Беллярмине (1542–1621) уже протодеистов[226]. Деизм же как таковой можно охарактеризовать в качестве религиозного умонастроения, средоточием которого является убежденность в факультативности для подлинной религии («религия разума») трансцендентного Откровения. Наиболее искренне и художественно экспрессивно эту идею выразил в романе «Эмиль» (1762) Жан-Жак Руссо, который от лица «савойского викария» в ответ на потенциальный вопрос о том, не следует ли людям знать что-либо после «естественной религии», провозглашает: «Созерцайте зрелище природы, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Разве Бог не сказал всего нашим глазам, нашей совести, нашему рассудку? Что же еще могут сказать нам люди? Их откровения только искажают Бога, наделяя Его человеческими страстями»[227]. Неудивительно, что тут же раздались и другие голоса, объявившие такие взгляды совершенно неприемлемыми, а голос Иоганна Гаманна и прямо возвестил, что критики Писания напоминают ему тех животных, которые стали бы критиковать то, что о них написано в баснях Лафонтена[228]. Поэтому в определенном смысле можно считать, что начало теологии откровения – как самоосознающего выбора «за» вопреки первым «против» – восходит к Новому времени несмотря на то, что о самом Откровении очень много было написано в эпоху патристики и схоластики[229].
Пятеричная классификационная матрица
А вот современный этап этой теологии, как представляется, трудно помыслить без знаменитой монографии «Модели Откровения» (1983) американского католического теолога, кардинала Эйвери Роберта Даллеса (1918–2008), профессора Фордэмского университета (Нью-Йорк). Дело в том, что с него начинается сам классификационный анализ в этой области – принципиально новая типологизация пониманий того, что, собственно, есть Откровение. Это оказалось возможно потому, что он сумел организовать принципиально новое пространство для обсуждения этих проблем.
Автор, идентифицируя свои изыскания как область «фундаментальной теологии откровения» (т. е. как домен фундаментальной теологии как таковой)[230], поставил основной вопрос в чисто философскую плоскость: как быть с тем логическим кругом, который образуется вследствие того, что любая теория откровения меряется самим откровением?[231] Считая, что до конца его избежать нельзя, Даллес перечисляет возможные пути исследования этих теорий. «Теории откровения» (revelation theories) могут быть выстроены в стадиально-хронологической последовательности, с учетом «перманентных черт человеческого мышления» (историцизм, рационализм, мистицизм) или экклезиологических позиций самих теологов. Но для ХХ века, по его мнению, гораздо больше подходит предлагаемая им схема, исходящая из того, что «современные [интерпретационные] системы… могут быть поделены на пять больших классов в соответствии с их видением того, как и где (курсив мой. – В. Ш.) Откровение имеет место»[232]. Речь идет о пяти типах (types) понимания откровения, которые могут быть рассмотрены и как модели (models) – по аналогии с манекенами для закройщиков или с теологическими «стилями». Но Даллес их обозначает и как «схематические прототипы теологии откровения», и как такие «образования», в ядре которых содержится своя теоретическая модель Откровения как такового[233]. В современном русском языке эти типы было бы естественнее всего называть парадигмами понимания. Даллес выделяет их пять.
Откровение как доктрина. Согласно этой парадигме – и исторически, и логически исходной, – Откровение заключается в прямых содержательных утверждениях (clear propositional statements), принадлежащих Богу как «авторитетному учителю». У протестантов, большинство которых ее приемлют, оно обычно отождествляется с Библией, рассматриваемой как собрание богодухновенных и безошибочных (inspired and inerrant) учений. У католиков Откровение содержится, в наиболее доступном виде, в официальном учении Церкви, рассматриваемом как «непогрешимый (infallible) Божественный оракул». Некоторые считают истинность того или иного из этих учений вполне распознаваемой через внешние знаки (чудеса и т. д.), но некоторые пропоненты этого взгляда (как протестанты, так и католики) полагают внутреннюю благодать (inner grace) необходимым условием не только для ответа веры, но и для восприятия силы свидетельства.
Откровение как история. Согласно парадигме этого типа, изначально оппонирующей предыдущей, Бог открывает Себя преимущественно в «великих деяниях» (the great deeds), особенно тех, которые образуют основные темы библейской истории, а Библия и, соответственно, официальная доктрина Церкви воплощают Откровение лишь в той мере, в какой могут считаться надежными «отчетами» о том, что совершил Бог. Они рассматриваются преимущественно как свидетельства (witnesses) об Откровении.
Откровение как внутренний опыт. Согласно этому взгляду некоторых современных (и протестантских, и католических) теологов, Откровение не есть ни «безличное» собрание «объективных» истин, ни серия определенных исторических событий, но «привилегированный внутренний опыт благодати или общения с Богом». Хотя это восприятие Божественного считается непосредственно доступным для каждого религиозного индивида, некоторые считают, что опыт благодати зависит от посредничества Христа, имевшего опыт «присутствия Отца» уникальным способом.
Откровение как «диалектическое присутствие». Речь идет о теологах, которые после Первой мировой войны отвергли и объективизм парадигм (1) и (2), и субъективизм парадигмы (3). Бог не может быть объектом, выводимым из природы и истории ни посредством пропозиционального учения, ни через восприятие мистического типа. Будучи совершенно трансцендентным, Он «встречает» человека, когда благоволит, посредством Слова, в котором вера узнает Его.
Откровение как «новое сознание». Во второй половине ХХ века все большее число теологов ощущают доминирующие теории Откровения слишком «авторитарными», а модель (3) слишком индивидуалистической. Для них Откровение означает расширение сознания человека или «смещение перспективы» при соединениях людей в движениях светской истории. Бог – не объект опыта, но «мистериально присутствующий как трансцендентное измерение человеческой вовлеченности в творческие задачи»[234].
Парадигма (1) начала разрабатываться в эпоху полемики теистов с деизмом в XVII–XVIII веках, в XIX–XX веках была артикулирована в Америке школой пресвитерианских теологов во главе с Бенджамином Уорфилдом (1851–1921), а ко времени написания своей книги Даллес выделяет среди евангеликов Г. Кларка, Дж. Паккера, Дж. У. Монтгомери и К. Генри. Их основные позиции можно сформулировать следующим образом: признание естественного (natural), или общего (general), откровения, доступного из наблюдений над природой, восполняемого сверхъестественным (supematural), или специальным (special) откровением как «восходящей» библейской (ветхозаветной и новозаветной) доктриной; теснейшая связь между Откровением и богодухновенностью Писания, которая означает «непогрешимую трансляцию» первого; трактовка Писания как безошибочного «Богом написанного слова». Согласно Генри, Бог открывает Себя «во всем каноне Писания, которое объективно сообщает в пропозиционально-словесной форме содержание и значение всего Божественного Откровения»[235]. Безошибочность Писания (inerrancy) трактуется консервативными евангеликами по-разному. Некоторые атрибутируют ее и начально записанным текстам (автографам), и дальнейшей текстовой трансляции (Г. Линдселл), другие – только первым, допуская минимальные ошибки переписчиков (К. Генри), третьи считают безошибочными только интенции библейских текстов, но не всю их «материю» (К. Пиннок), четвертые – их сотериологическое, но не историческое и «научное» содержание (Б. Рамм).
Католическая неосхоластика (которую Даллес датирует в границах 1850–1950 годов), представленная документами Первого Ватиканского собора (1870), антимодернистскими документами 1907–1910 годов и энцикликой Пия XII Humani generis (1950), а также такими теологами, как Р. Гарригу-Лагранж, К. Пеш и Г. Дикман, обнаруживает большую близость протестантскому консерватизму. Здесь и признание «естественного откровения» – через дела Божьи (per facta) наряду со священным текстом («через слова»), и трактовка Откровения только как Божественной речи, обращенной к людям (locutio Dei ad homines) при исключении из этого каких-либо религиозных чувств, и понимание Библии как безошибочного слова вследствие невозможности допущения каких-либо ошибок его Автором – Богом. Единственное, хотя и существенное расхождение в том, что Откровение полагается хранящимся не только в Библии, но и в апостольской традиции, которая должна почитаться (сообразно документам Тридентского Собора – 1545–1563) «с тем же чувством преданности и благоговения»[236]. Учительный авторитет Церкви (магистериум) определяет, что есть Откровение в общем и частных смыслах, опирается и на Писание, и на Предание и может раскрывать истины, недостаточно выявленные в Библии.
К основным «спикерам» модели (2) Даллес относит англиканского архиепископа Уильяма Темпла, писавшего в 1930-х годах, авторитетного либерального теолога Дж. Бэйли, библеиста Э. Райта и библейского богослова О. Кульмана, кардинала Жана Даниэлу (1950-е) и знаменитого протестантского теолога В. Панненберга (1960–1970-е)[237]. Модель (3) представлена у него либеральными протестантскими теологами XIX века, начиная с Ф. Шлейермахера, за которым следуют А. Ричль, В. Германн, О. Сабатье, католические модернисты (начиная с Дж. Тиррела), в начале ХХ века «некоторые видные англикане» (У. Инг, Э. Андерхилл), к которым был близок шведский лютеранский архиепископ Н. Зёдерблом, а далее философ У. Хокинг и некоторые протестантские библейские теологи (У. Робинсон, Ч. Додд). Модель (4) представлена теоретиками «диалектической теологии» К. Бартом, Э. Бруннером и Р. Бультманом. А модель (5) – очень широким спектром гетеродоксальных теологов ХХ века, включая М. Блонделя, Т. де Шардена, Г. Марана, П. Тиллиха, Р. Харта и других; относит к ним Даллес и одного из основных идеологов II Ватиканского Собора К. Ранера[238]. Правда, «представительство» всех пяти моделей можно было бы серьезно расширить, но Даллес интересуется теми именами, которые относятся, по его представлениям, только к «актуальной истории» философско-теологической мысли[239].
К достоинствам «пропозициональной модели» он относит ее значительную «подтверждаемость» и в Писании, и в Предании (в Новом Завете многие положения Ветхого Завета трактуются как Слово Божье и точно так же положения обоих Заветов у Отцов Церкви), а также большой потенциал и для доктринальной шкалы, позволяющей отделять ортодоксальные учения от гетеродоксальных, и для понимания задач самой теологии как систематизации «данных откровения» (the data ofrevelation), и для солидаризации Церкви, и для миссионерской деятельности[240]. Возражения против этой парадигмы (1), к которым Даллес относится сочувственно (и которые в значительной мере формулирует сам), связаны с тем, что ни само Писание, ни патристическая традиция в течение многих веков не настаивали на его буквалистской непогрешимости (отсюда очень широкое распространение и в древности, и в Средневековье аллегорических и других духовных толкований библейских текстов); что достижения библейской критики позволяют оценивать пропозициональную истинность Писания более дифференцированно, чем то виделось прежде; что многие вопросы возникают при рассмотрении и двух других «непогрешимостей» – Предания и магистериума; что сами пропозиции как таковые немного говорят нам без знания «локутора»[241] этих пропозиций. Вследствие этого «при таком подходе, – пишет Даллес, – малое внимание уделяется вызывающим воспоминания библейским образам и символам; мало мотивируется поиск знамений Божественного присутствия в индивидуальной жизни и в опыте; мало поощряется такая вера, которая испытывает и вопрошает»[242]. А две заключительные претензии сводятся к тому, что данная парадигма мало отвечает потребностям современного религиозного сознания и (последнее по порядку, но никак не по значимости) вследствие своей доктринальной ориентированности – диалогу с нехристианскими религиями[243]. Этот формат pro et contra Даллес применяет и ко всем прочим моделям откровения, считая, что каждая из них имеет свои преимущества перед другими, но не является самодостаточной. Его собственное восполнение каждой из них по отдельности и в целом через введение символичности Откровения (речь идет о таких базовых символах, как, например, Крест) не убеждает (меня, по крайней мере) в том, что ему удается существенно «обогатить» каждую из этих моделей. Поэтому его опыт типологизации пониманий Откровения имеет, как мне кажется, значительно большую ценность, чем его собственные эвристические решения.
Дискуссии в философской теологии
До Даллеса никто «философским теологам» такой удобный инструментарий для работы с концепциями Откровения не предлагал. И можно было бы предположить, что они это должным образом оценят. Этого не произошло: на американского кардинала ссылаются очень мало, а чтобы в положительном смысле, так я этого и не припомню. Причина, вероятно, в том, что его идея полного равноправия несовместимых интерпретаций Откровения, притом и таких, в которых авторитет Писания совершенно вторичен (если и вообще признается – как, например, в модели 5, да и в 3), политкорректная и духе мировоззрения II Ватиканского Собора, несовместима с традиционалистскими (т. е. реально религиозными) представлениями. Это не мешает, однако, многим теологам этой типологизацией пользоваться, не называя ее автора.
Из них наиболее восприимчивым к классификации Даллеса оказался, пожалуй, Стивен Дэвис. В «Христианской философии религии», в третьей главе «Бог, творение и откровение» он подробно рассматривает вопрос о формах и содержании получения людьми религиозных откровений. Для Бога много способов открыть или передать «послание» М (message) индивиду, например Джонсу. Один из них – создать самого Джонса таким, чтобы он по самой своей природе был склонен принять М. Другой – добиться того же результата неким телепатическим путем. Третий – избрать такую личность, которая могла бы сообщить М письменным или устным образом. Четвертый – воздействовать на Джонса так, чтобы он смог получить М во сне. Пятый – совершить такое «нелингвистическое действие», интерпретация или глубинное значение которого соответствовали бы М Эти способы передачи М могут быть в итоге поделены на лингвистические, т. е. пропозициональные, и нелингвистические, т. е. непропозициональные. Первоначально «богооткровенное действие» (revelatory action) по спасению Израиля при переходе через Красное море было нелингвистическим, и оно могущественно говорило евреям о характере их Бога, а передача Десяти заповедей была первоначально лингвистическим актом. Это и стало причиной теологических дебатов, особенно активизировавшихся в ХХ столетии, о том, осуществляется ли Божественное Откровение через слова или через дела. Так, Джон Бэйли, К. Рид, Э. Бруннер, Р. Нибур, а позже К. Трембат пришли к отрицанию того, что Бог открывает какие-либо пропозиции – вневременные, статичные, безличные и «холодные». Их мысль в том, что первичные божественные откровения (достойные этого названия) должны осуществляться через динамичные межличностные встречи, а потому Бог скорее должен открывать Себя в личностях и событиях, чем в словах[244]. Другие теологи им оппонируют. Так сталкиваются вышеописанные парадигмы (1) и (2).
Дэвис признает и достоинства, и проблемы в обеих. Действия больше впечатляют, захватывают, более могущественны, чем слова. Сказать, что кто-то любит свою вторую половину или ребенка – менее убедительно, чем показать это на деле. Однако «богооткровенные действия» могут истолковываться весьма различно, существенно изменяться при их пересказе и, если не будут записаны, легко со временем забудутся. Слова, с другой стороны, иногда менее сильны, чем действия, но богооткровенные слова (revelational words) не так легко перетолковать, их легче хранить и передавать в начальной форме, и, однажды сохраненные, они не очень легко забываются. Два последних аспекта их валидности легко оценить, по мнению Дэвиса, принимая то, что, начиная даже с ветхозаветных времен, некоторые откровения мыслились как обращенные не только к богоизбанному народу, но и к другим[245].
Однако само противопоставление одной парадигмы другой, с точки зрения Дэвиса, ложно. На деле Бог использовал оба способа самооткровения, и, как правило, великие деяния сопровождались авторитетными вербальными интерпретациями. И вправду, трудно себе представить, чтобы чистое событие, действие или встреча были богооткровенны в реальном смысле без их истолкования. События сами себя не истолковывают, а когда предлагается истолкование, мы имеем дело со словами и предложениями. «Чистая встреча с Богом (например, в Исходе) узнается как таковая, только если она объяснена или по крайней мере концептуализирована как встреча с Богом»[246].
Но Дэвис считает правомерным активнее вступить в полемику с критиками парадигмы (1). Конечно, Бог открывается в деяниях, лицах и опытах общения, но было бы нелепым отрицать, что Он открывается и в словах. Со ссылками на Рональда Нэша, Уильяма Абрахама и того же Даллеса он утверждает, что само испытание подлинной встречи с Богом логически предполагает обладание по крайней мере каким-то знанием о Нем. «Противники “пропозиционального откровения” аргументировали свою позицию тем, что христианская вера есть вера в личность Бога или Христа скорее, чем в какую-либо пропозицию. В этом есть своя истина, но много и путаницы. Ядро истины состоит в том, что христианская вера в аспекте доверия (fiducia – faith in) есть скорее доверие (trust) Богу, а не пропозициям, но другой необходимый аспект веры (belief), как веры во что-то (fides – faith that) с необходимостью включает принятие определенных пропозиций как истинных»[247]. А вера в истину пропозиции нерасторжимо связана с доверием лицу в тех случаях, когда это лицо несет ответственность за пропозицию – устно или письменно. Потому ложно и утверждение, что пропозиции слишком статичны и не вызывают подлинного ответа реципиентов: христиане не были бы способны на какой-либо ответ Богу, если бы не приняли в качестве истинных пропозиций такие, как «Бог нас любит», «Бог умер за наши грехи», «Мы должны благодарить и славить Бога» и т. д. Да и сама Библия настаивает на том, что Бог «открывает слова» – как в случае с Декалогом, пророчествами, притчами, другими наставлениями Иисуса, посланиями Павла, и многие из этих слов были грамматически организованы в пропозиции. Но Дэвис верит, что большинство сторонников парадигмы (2) на самом деле верили в пропозициональное откровение, и только им не нравились те пропозиции, которые более консервативные истолкователи Библии пытались там найти, а потому (и это неудивительно) они искали и, соответственно, находили там другие пропозиции[248].
Часть этих положений воспроизводится Дэвисом и в его главе «Откровение и богодухновенность» из «Оксфордского руководства по философской теологии»[249]. Но здесь он развивает и другие аспекты своего критического (в сравнении с фундаменталистами) понимания парадигмы (1). Так, он в полном соответствии с теологической традицией признает различение откровения общего – того, что люди могут узнать о Боге, человечестве, морали и религии и без сверхъестественной помощи Бога, и специального, которое можно получить только посредством особых божественных действий, из которых выделяются жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Первое откровение, оно же естественное, обретается через наблюдение над природой и собственной совестью, но в лучшем случае может быть только туманным и легко может вести к путанице, а потому должно восполняться вторым. Под рубрикой специального откровения Дэвис различает три его разновидности. Первая – изначальное откровение, в которое включаются исторические акты, притом некоторые в виде событий, другие – в виде слов (таким образом, мы видим у философа комбинацию парадигм (1) и (2)). Но это откровение было бы мимолетным и неустойчивым, если бы не было как-то зафиксировано. Текст, который христиане называют Библией, содержит в себе, помимо фиксации, также и истолкование первоначального откровения и относится к откровению записанному. Но Библия не только отражает первоначальное Откровение, но и сама по себе является откровением, притом уникальным. Дэвис ссылается на Пола Хелма, считающего, что те вещи, которые библейские авторы могли познавать естественным путем, становятся богооткровенными для нас, когда мы читаем о них в Библии. А когда Бог говорит с нами в Писании и вдохновляет кого-то на раскаяние в грехе или на помощь нуждающемуся, то мы имеем дело с вмещенным откровением[250].
Очень известная статья Ричарда Суинберна «Откровение» печатается в этом номере, а потому читатель никак не нуждается в моем пересказе ее содержания. Стоит только отметить, что живой классик аналитической теологии с самого начала различает такое откровение, как самораскрытие Бога, и такое, как передача Им человечеству определенной, необходимой для его спасения информации[251]. При этом Суинберн никак не противопоставляет одно откровение другому, лишь предупреждая читателя, что будет работать в рамках только второй парадигмы. Совершенно очевидно, что речь идет о даллесовских парадигмах (1) и (2), но при этом сам Даллес не упоминается.
А вот английский философ-кальвинист Пол Хелм был одним из тех, кого Даллес считал своим оппонентом, поскольку он настаивал на эксклюзивности пропозиционального аспекта Откровения, отвергая «латентные» аспекты, в частности символический[252]. Его статья «Непогрешимость» в «Компендиуме по современной философской теологии» О. Криспа представляет собой образцовое аналитическое исследование и вместе с тем апологию коннотаций нормативной характеристики Откровения в протестантской ортодоксии. То, что Даллес понимает под парадигмой (1), не имеет, по Хелму, никаких альтернатив. Но здесь встает традиционный протестантский вопрос об объеме и качестве пропозициональной истинности Писания.
Прилагательное infallible несет модальную нагрузку: если что-либо характеризуется как непогрешимое, то из этого следует, что оно не может не быть истинным, и прежде всего данная характеристика относится к Богу, а через Него – и к Откровению: «Если Он непогрешим, то и специальное откровение также непогрешимо, ибо невозможно представить себе, что то, что говорит Бог, не отражает в полноте Его характер»[253]. Чтобы понять, в чем непогрешимость Откровения должна состоять, следует прежде всего избавиться от неправильных ассоциаций. Во-первых, некоторые неправильно идентифицируют ее как соответствие необходимым истинам. Положения «Треугольник имеет три стороны», «Мой красный шарф – цветной» или «Все тождественно себе» являются необходимо истинными (поскольку отрицания их будут самопротиворечивыми), но их истинность, конечно, не та, которой наделены положения Откровения (что никак не отрицает того, что Бог знает все необходимые истины). Среди пропозиций Откровения, которые считаются непогрешимыми, преобладают как раз контингентные. Ведь положения о том, что Бог во Христе примирил с Собой мир (2 Кор 5:19), а Павел оставил Тимофея в Милете потому, что тот был болен (2 Тим 4:20), вполне могут отрицаться извне, но никто не скажет, что их отрицания самопротиворечивы. Во-вторых, положения Откровения нельзя относить (как тоже некоторые делают) к классу неопровержимых (incorrigible), которые относятся к внутренним состояниям человека, как, например, «Кажется, я вижу тень», «Я чувствую усталость», «Я думаю, что мне кажется, что я закрыл дверь перед тем, как ушел из дома». Очевидно, что приведенные из Писания пропозиции к этому классу также не относятся. В-третьих, о положениях специального откровения совершенно недостаточно сказать, что они истинны сами по себе: в таком случае их истинность не отличалась бы от той, которая присутствует в аккуратно составленной телефонной книге. Они являются непогрешимыми вследствие некоего внешнего авторитета, который их истинность санкционирует. Сказать, что некие положения непогрешимы, значит атрибутировать им совершенно особую «базовость» (basic-ness) – «это значит сказать, что свидетельство в их пользу таково, что оно не может быть опровергнуто или модифицировано новым свидетельством»[254]. И вот еще одна, последняя характеристика непогрешимости: она имеет нормативный или, по-другому, регулятивный характер. Хелм считает уместным сравнить статус пропозиций Откровения со статусом Верховного суда в США, над которым нет уже иной инстанции. Так и положения Откровения не могут «аттестовываться» ни какими-либо другими положениями, ни мнениями, но последние сами должны быть проверяемы этими положениями[255].
Но Хелм предлагает и философский анализ самого понятия откровения, размышляя о содержательных значениях глагола «открывать» (to reveal). Прежде всего глагол этот имеет значение фиксирования, регистрирования чего-либо (recording) и передачи сказанного кем-либо (reporting). В данном смысле это точная передача того, что без этого часто передается ошибочно или неточно, и это относится как к человеческим мнениям, так и к историческим событиям. Второе значение того же глагола имеет коннотации раскрытия чего-либо (disclosing) или «визирования» (endorsing). Если Бог дает откровение о чем-либо в указанном смысле, это является необходимым и достаточным основанием того, что оно истинно или правильно. Данная дистинкция имеет два важных следствия. Во-первых, если Библия и содержит верования или мнения, являющиеся ошибочными, то это не противоречит тому, что она является специальным откровением Бога. Например, Давид выразил предположение, что Саул его когда-нибудь убьет (1 Цар 27:1), и оно оказалось ложным (Саул погиб раньше, чем Давид ушел из жизни), но «регистрация» этого факта (верования Давида) в Библии не может быть аргументом против того, что она является специальным Божественным Откровением, поскольку данный эпизод составляет частицу общего нарратива, «зарегистрированного» ради передачи с определенными целями раскрытия взаимоотношений Бога с Его народом. Во-вторых, эти два аспекта Откровения должны всегда учитываться комментатором Библии, чтобы он не путал различные ее смысловые нагрузки – где она что-то просто констатирует и где раскрывает смыслы[256].
В той же антологии Криспа была опубликована и статья «Истинные слова» Николаса Уолтерсторфа – одного из «трех столпов» реформатской эпистемологии (наряду с Алвином Плантингой и Уильямом Олстоном), автора многочисленных работ не только по аналитической теологии, но и в области этики, политической философии, философии искусства и образования. Статья составлена очень искусно, можно сказать, диалектично в античном смысле. В первой (очень маленькой) ее части обосновывается, что истинность не есть главное, с чем мы имеем дело в Писании, а во второй (основной) – что она есть главное[257]. Для рассматриваемого здесь предмета основное значение имеет обоснование первой позиции. С самого начала автор отталкивается от фундаментализма, четко «экземплифицируемого» у Гарольда Линселла, по которому непогрешимость Библии есть несущая конструкция этой веры – в том значении, что всё, что сказано в Библии, есть истина. Уолтерсторф, однако, замечает, что для большинства «средних консерваторов» и «либералов» центральным понятием является не столько истина, сколько Откровение: Библия рассматривается либо как текст богооткровенный, либо как текст, продуцирующий то, что богооткровенно. И здесь он проводит дистинкцию между двумя понятиями. Откровение, как бы его ни мыслить, «открывает» то, что имеет место быть (what is the case), а то, что не имеет места быть, не может быть и «открываемо»: я не могу, например, сообщить в откровении о том, что мне 25 лет, если мне значительно больше. За этим следует уточнение: «То, что имеет место быть – не то же самое, что истина того, что сказано, но то и другое очевидным образом тесно связаны»[258].
Уолтерсторф отмечает, что различие между «иметь место» и «быть истинным» проводилось им и в его монографии «Божественная речь» (1995). Здесь же он делает акцент на том, что Откровение в Библии значительно шире, чем и констатация определенного положения вещей, и утверждение истинных суждений. Когда апостол Павел восклицал: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божия!.. ‹…› Ему слава во веки, аминь» (Рим 11:33, 36), он не констатировал и не утверждал ничего, ибо восклицания не относятся ни к тому, ни к другому. То же относится и к обетованию Иисуса в Нагорной проповеди: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф 5:6) – благословить кого-либо не значит сказать нечто истинное или ложное[259]. Множество сказанного в Библии относится не к описаниям чего-либо, а к предписаниям, в связи с которыми вопрос об истинности также иррелевантен – предписаниям надо повиноваться. Да и вообще вопрошание о том, что Бог хочет сказать через Библию, не есть всё, что мы получаем через Откровение: «У нас на устах псалмы, с которыми мы выговариваем свои собственные хвалы, жалобы, тревоги, равно как и славословия из Нового Завета, мы позволяем метафорам Писания оформлять наше видение реальности и т. д.»[260]. Таким образом, работая в парадигме (1), Уолтерсторф тем не менее не считает, что вербальное откровение – единственное подлинное – равнозначно пропозициональному.
Потому такие положения, как «Библия в своей полноте есть Откровение от Бога», должны приниматься с некоторой осторожностью. Если она и является в своей полноте таковым, из этого не следует, что и каждое предложение в ней есть богооткровение – во всяком случае не в большей степени, чем выведение из того, что поэма рифмуется, что и все слова в ней рифмуются. Потому и «полнота» относится к совокупному посланию Библии. Иногда, замечает Уолтерсторф, дистинкция двух смыслов («иметь место» и «быть истинным») считалась чем-то вроде дистинкции богооткровения и богодухновенности. Так, согласно Чарльзу Ходжу (1797–1878), влиятельнейшему (и до настоящего времени) ортодоксально-кальвинистскому библейскому теологу, назначение первого – сообщение знания, второго – обеспечение непогрешимости учения и, соответственно, задача первого – сделать читающего более мудрым, второго – хранить его от заблуждений[261].
Но это различение небесспорно, поскольку многое из того, для написания чего библейским авторам, с точки зрения Ходжа, требовалась богодухновенность, не было богооткровенным (так как они узнали об этом самым обычным способом) для них, но только для нас (вспомним, что и Стивен Дэвис, которого с Уолтерсторфом объединяет многое в самих постановках вопросов, также отмечал этот нюанс – см. выше).
В авторитетную антологию У. Уэйнрайта по философии религии, в которой опубликовались многие перворазрядные «философские теологи», была включена и глава «Вера и Откровение» весьма авторитетного баптистского философа Стивена Эванса. Он также безоговорочно принимает деление откровений на общее и специальное, понимая под первым те знания о мире, которые получаются из наблюдения над природой, общих измерений человеческого опыта, чувства морального долга, а также чувств эстетических и собственно религиозных (каково, например, благоговение), под вторым – «специальные события, опыты и (или) учения, часто опосредованные через пророка, апостола или другого выдающегося религиозного индивида»[262]. Эванс считает наиболее существенным пропозициональное откровение, т. е. парадигму (1) в ее классическом виде, ссылаясь на Фому Аквинского, согласно которому есть истины о Боге, которые доступны человеческому разуму, и те, которые ему недоступны[263], но Откровение необходимо для усвоения и первых истин, ибо лишь немногие могут их достичь с помощью своего разума: для этого им понадобится очень долгий путь познания, но даже и в его конце правильные мнения могут смешаться с ложными[264]. Убежденность в том, что Бог открывает прежде всего истинные пропозиции, разделялась также Лютером, Кальвином и составителями Бельгийского, Вестминстерского и Аугсбургского исповеданий[265]. Однако в ХХ веке нашлись богословы неоортодоксального и диалектического направления, которые стали утверждать, что Бог открывает Самого Себя, а не какие-то положения, а само Откровение состоит в личном общении людей с Ним[266].
Эванс считает, что эта позиция (модель 2 по Даллесу, на которого он, однако, не ссылается) стала результатом некоторых определяющих событий в истории мысли. Вначале библейская критика XIX–XX веков стала рассматривать Библию больше как собрание литературно-исторических памятников, свидетельствовавших о развитии религиозного сознания Израиля, чем как собрание писаний, непосредственно вдохновенных Богом. В соответствии с этим и либеральная теология также стала смотреть на библейские истины как на то, что современный человек должен скорее верифицировать исходя из своего духовного опыта и рефлексии, чем принимать на веру. В результате авторитет «специального откровения» был подорван, а различие между ним и «общим откровением» начало стираться. Теологи, которые пошли за такими «титанами», как Карл Барт и Эмиль Бруннер, предприняли попытку восстановить значение «специального откровения» через различение «богооткровенных исторических событий» и Библии как совокупности человеческих свидетельств о них. Эти «события» не суть часть общечеловеческого религиозного опыта, но представляют действия, через которые Бог раскрывал Себя людям, а Библия есть и запись Откровения, и средство его осуществления, поскольку Дух Божий просветляет сердца тех, кто читает и слышит ее с «открытостью».
Этот «непропозициональный взгляд» на Откровение Эванс считает очень привлекательным, так как он содержит мощные прозрения, которые могут быть встроены в жизнеспособную концепцию откровения. Этот подход, однако, открыт для критики. Во-первых, даже если принять понятие Бога, действующего «специальным образом» в истории, само сообщение определенных положений трудно отделить от этих «исторических действий». Во-вторых, многое в Библии является неисторическим: тут и доктринальные положения, и разные виды поэзии, притчи и другие литературные формы, содержание которых является по большей части пропозициональным. В-третьих, и это важнее, «невозможно провести четкое разграничение между Богом, Который открывает какие-то пропозиции, и Богом, Который открывает Себя». В точности как Дэвис (см. выше) Эванс признает и то, что личный контакт с Богом много больше, чем знание каких-то положений о Нем, но невозможно представить себе такое «личное знание», которое не включало бы и определенное «пропозициональное знание», и это относится к знанию не только Бога, но и человека: обо мне нельзя сказать, что я знаю Сьюзен, если я не знаю многого о ней (что она – человек, женщина с характером, предана чему-то и т. д.). Точно так же о человеке нельзя сказать, что он знает Бога «личным образом», если он не знает, что Он существует с необходимостью, что Он сотворил мир, что Он – вселюбящий и всеблагой. А потому, «если бы у нас не было никакого пропозиционального знания о Боге, не было бы даже возможно утверждать непропозициональный взгляд на Откровение», так как знать о Нем, что Он открывает Себя в истории – значит знать, что Он реален и достаточно похож на действующую личность, а это уже пропозициональные знания[267].
Однако «непропозициональный взгляд» на Откровение следует приветствовать как эксплицирующий очень важные темы (Эванс, судя по всему, оценивает его выше, чем Дэвис), которые, несомненно, присутствовали и в традиционалистском взгляде на Откровение, но не были в достаточной мере выявлены, а именно: «что первичным объектом Откровения является Сам Бог, а не пропозиции о Боге, и что первичное (курсив автора. – В. Ш.) назначение Откровения в том, чтобы сделать возможным отношение с Богом». Так, Эванс полагает, что эти моменты в скрытом виде содержатся в тезисе Фомы Аквинского, что истины, открываемые Богом, заслуживают веры не просто потому, что они истинны, но потому что Бог их открывает[268].
В более популярной книге «Философия религии: размышление о вере» Эванс и Захария Мэнис вписывают тему Откровения в другой, более общий контекст (уже объективистский): может ли Бог совершать в мире «особые действия», которые, как правило, трактуются как чудеса, одно из которых и состоит в передаче человечеству «специальных знаний» о Себе и от Себя? Здесь парадигма (1) и парадигма (2) в большей мере сближаются (снова при упорном замалчивании заслуг Даллеса в самом их четком различении): обе отправляются из возможности чудотворений, но только акценты ставятся разные. Однако прокладываются пути и к дальнейшему их сближению. Акцентируется тот момент, что христиане изначально верили в то, что Бог открывал Себя в истории особыми действиями, которые включали и сообщение о них определенным лицам. Потому правильно считать, что «цель пропозиционального подхода, следовательно, не в отрицании того, что Бог открывает Себя действиями, а в подчеркивании того факта, что одно из действий такого откровения состоит в том, что Бог говорит с людьми через боговдохновенных авторов-людей»[269]. Вместе с тем сторонников «непропозиционального подхода» с либеральными рационалистами сближает то, что они, в отличие от последователей «традиционного подхода» (пропозиционального), не считают Библию безошибочной. Иисус Христос признается истинным Словом Божьим, Библия – свидетельством Божественного Откровения, но сама по себе не является Откровением. Она может быть Словом Божьим при некоторых условиях – прежде всего если она «возвещается надлежащим образом»[270]. В защиту традиционного подхода к Откровению Эванс и Мэнис приводят следующие рациональные доводы. Первый выглядит достаточно прагматично: для теологии «выгодно», чтобы данный подход был правилен, так как если Бог не только действовал в истории, но и раскрывал значение Своих действий, то наши знания о нем «сильно обогатятся»[271]. Далее, сама речь является также определенным действием. В-третьих, противопоставление двух традиционных подходов друг к другу (за который ответственны сторонники непропозиционального) строит ложные «дизъюнкции» (по принципу «либо-либо»): общение с кем-либо невозможно противопоставлять знанию о нем (см. выше), равно как личностную веру – когнитивному согласию с определенным учением, события – их описаниям, описания – интерпретациям[272].
Угол зрения философии религии
Теологические дискуссии о парадигмах понимания Откровения следует признать и оправданными, и конструктивными. Разумеется, комбинирования (1) и (2), к которым склоняется большинство библейских теологов, значительно более правильны, нежели противопоставления их друг другу. Библейское Откровение есть откровение и пропозиций, и деяний, которые раскрываются в библейских текстах, и одно можно только искусственно изолировать от другого. Правда, само их сопоставление было бы невозможно без типологии Даллеса, которого замалчивают, но это уже вопрос не теоретизирования, а благодарности, точнее, ее отсутствия. Я думаю, что из всех изложенных авторов, несомненно, самым проницательным следует считать Пола Хелма с его разграничением библейских «фиксаций» и «регистраций», которое снимает множество проблем, выявляемых библейской критикой. Библия не теряет своей авторитетности вследствие того, что «фиксирует» не только приведенную ошибку царя Давида, но и значительно большую – другого псалмопевца, с точки зрения которого блажен тот, кто разбивает головы вавилонских младенцев о камни (Пс 136:9)[273]. Не все в порядке и с тем, что Хелм называет «регистрациями»: один из библейских пророков «зарегистрировал», например, что Бог обещал непослушным израильтянам такие мстительно-фольклорные кары, что очевидно, что они не могут исходить от того Первоначала, «больше которого ничего нельзя помыслить»[274], а потому благоразумнее отнести их (не идею, стоящую за ними) все-таки больше к средствам вполне человеческой (и далеко не самой высокой) риторики. Что касается указанного рода «фиксаций», то можно сказать, что Библия – текст правдивый par excellence, а что до такого рода «регистраций», то они объяснимы очень значительным присутствием в ней человеческого фактора[275] и тем, что библейский Бог, уважающий свободу человека лишь немного меньше, чем Свою, скорее всего, не ставил перед Собой задачи быть цензором библейских авторов в частностях, если они устраивали Его в целом.
Однако ни сам Даллес, ни пользующиеся его схемой теологи не поставили другого вопроса: а можно ли считать все пять парадигм понимания Откровения действительно относящимися именно к общему понятию откровения, а не и к чему-то другому, близкому, но все же отличному? И здесь подходы теологии и философии религии не совпадают. Ведь одно дело оценивать, какие из парадигм понимания Откровения истинны, а какие нет с точки зрения христианской догматики, другое – какие из них соответствуют семантике этого понятия и самой, если угодно, религиозной жизни и общины, и индивида.
Взяв на себя полномочия говорить от лица философии религии, отмечу, что отнюдь не все пять «моделей Откровения», которые типологизирует Даллес, в одинаковой мере соответствуют этому понятию вследствие их разнородности. Открываемые в Писании и Предании «божественные пропозиции» (модель 1) и «божественные деяния» (модель 2) относятся к области духовной информации, которую субъект не может извлечь из собственных (естественных) ресурсов, а личные спиритуальные ощущения (модель 3), встреча с Трансцендентным (модель 4) и «расширение сознания» (модель 5) – скорее к области духовных переживаний религиозных индивидов, и больше относится к иной духовной реальности – к мистическому опыту (независимо от того, понравилась бы такая трактовка К. Барту или нет). Поэтому первые две «модели» относятся к откровению в собственном смысле (revelatio), которое дается через избранных свыше реципиентов всей религиозной общины[276]. Откровение и открытия не суть одно и то же, хотя источник у них в религиях откровения предполагается один.
Но и в рамках тех парадигм понимания Откровения, которые соответствуют этому понятию, также отнюдь не все относится именно к откровению. Деление откровения на общее (естественное) и специальное (сверхъестественное), которое принималось и принимается, как мы в том убедились, большинством теологов-традиционалистов, не проходит потому, что «неспециального» откровения быть не может, ибо оно всегда есть «специальный Божественный акт», рассчитанный на конкретных людей в конкретном духовном состоянии. Если считать, что истинное постижение Бога через наблюдение природы также относится именно к откровению, то что нам препятствует отнести к откровению и конкретные открытия в научном естествознании, которые также могут интерпретироваться как то, что Бог открывает добросовестным ученым? Но тогда не следует ли отнести к откровениям и все истинные знания, приобретаемые человеком в этом мире, и не обеднеет ли (по закону логики) содержание этого понятия пропорционально бесконечному обогащению его объема, а базовое понятие теистических религий не станет ли абсурдным?[277]
То, что Дэвис трактует как «вмещенное откровение», есть семантически избыточное понятие, поскольку Откровение с необходимостью предполагает Того, Кто нечто открывает, и тех, кто это принимает, и если последние «не вмещают» то, что призваны вместить, процесс не осуществляется. Он, конечно, прав в том, что религиозный индивид должен присваивать, относить к себе лично то, что открывается всей общине (церкви), ибо иначе он будет только потребителем «религиозных услуг», но речь идет не о получении им какого-то дополнительной духовной информации (сакральных знаний), а скорее уже о ее истолковании (в том числе и в применении к себе), адекватную способность к которому он приобретает через «вдохновение» свыше (inspiratio). Представляется, что акцент на различении Откровения и его реципиентов несколько отодвигает на второй план традиционный вопрос о соотношении Писания и Предания (который продолжает беспокоить теологов всех конфессий), поскольку речь должна идти в первую очередь о корреляции «вина» и «сосудов», а не о том, какой из «сосудов» можно считать «вложенным» в другой[278].
Однако и помимо восприятия Писания имеют место партикулярные духовные открытия индивидов, в которых христианские субъекты религиозного опыта узнают «посещения» и «извещения» от Св. Духа – прежде всего получаемые ими указания на то, как им в точности исполнить волю Божью или как их внутреннее состояние оценивается свыше, но также и как понимать экзистенциально, в духе и истине (Ин 4:24) сами основоположения своего вероучения. Чаще всего такие «посещения свыше» постигают верующего во время соборной или личной молитвы. И эту модальность «религиозного отношения» я бы и обозначил в качестве духовных озарений, или «просвещений» (illuminatio).
Если попытаться обобщить сказанное, то, по крайней мере, с теистической точки зрения – а вне теизма реального Откровения быть не может[279] – Откровение есть лишь одна, хотя и важнейшая модальность божественно-человеческой коммуникации (communio). Если говорить с позиций традиционной логики, то здесь мы имеем предельный род того, по отношению к чему обсуждаемое в этой статье является видом. А более подробные уточнения его границ с другими видами могут быть предметом специального исследования, в котором, конечно, большое внимание должно быть уделено историческим изысканиям о «ревеляторной терминологии» патристики и схоластики[280].
Философская теология и библейская герменевтика: дискурс о постструктуралистском вызове[281][282]
В одном из материалов, ранее опубликованных на страницах данного периодического издания, я предположил, что мы будем мыслить о философской теологии правильно, если допустим, что она может иметь две основные компетенции – апологетическую и герменевтическую[283]. Обе они должны соответствовать «инструментальной» функции теологии как таковой по отношению к Откровению, которое в ней принимается заранее (при беспредпосылочном дискурсе мы имеем дело уже не с теологией, по крайней мере в принятом смысле). Оба этих формата теологии не сводимы друг к другу, хотя не могут не пересекаться. В самом деле, Адаму была дана двуединая заповедь об Эдемском саде: возделывай и храни (Быт 2:15), из которой первая ее часть предполагала будущие герменевтические усилия (умственное «возделывание» богооткровений), а вторая – апологетические («хранение» возделываемого). Особенностью же теологии философской, поскольку она философская, должна быть еще одна компетенция – критическая, соответствующая ее определенному метатеологическому предназначению, которое может отличать ее от смежных теологических дискурсов, например, от естественной теологии[284]. В применении к апологетике это выражается в экспертной установке по отношению не только к антитеологической, но и теологической аргументации, а в применении к герменевтике в том, что она призвана не только к экзегезе текстов, но и к экзегезе самой экзегезы.
Дальнейшие шаги, предпринимаемые в данной публикации, будут соответствовать, во-первых, констатации и осмыслению беспокойства современных христианских экзегетов в связи с новым явлением экзегетической вседозволенности в современной культуре и, во-вторых, установлению исторических прообразов данного явления не где-то вовне, а в самой глубине христианской богословской традиции. Хотя сами привлекаемые исторические материалы никак не будут относиться к малоизвестным, контекст их привлечения вряд ли покажется традиционным. Но востребованность их привлечения объясняется еще двумя другими обстоятельствами. Ответственность за библейскую экзегезу занимает совершенно маргинальное место в англо-американской философской теологии, которая как таковая функционирует именно в данной философско-богословской традиции, а если предполагается, что данный теологический дискурс может развиваться и в других ареалах (а это предположение, на мой взгляд, вполне рационально), то было бы естественно стремление восполнить то, чего нет в «исходнике». С другой стороны, библейская герменевтика в нашей стране если как-то и обнаруживается, то исключительно в патрологическом контексте, чему причиной отчасти сознательное нежелание делать какие-либо самостоятельные богословские усилия (притом не только герменевтические, но и любые), а отчасти опасение перед самой мыслью как-либо отклониться от consensus patrum (которого на деле и в библейской святоотеческой герменевтике никогда не было, а было серьезное противостояние герменевтических установок[285]) и перед возможностью критического отношения к «канонизированным именам», что является на деле симптомом и того экклезиологического монофизитства, о котором в свое время писал В. Н. Лосский[286]. В завершение преамбулы позволю себе то вполне ожидаемое терминологическое предварение, что под герменевтикой я буду понимать преимущественно теорию экзегезы, а под экзегезой – саму истолковательную практику, которую эта теория призвана обосновывать и норматизировать.
Современная христианская герменевтическая озабоченность
Консенсус католических и православных богословов – явление не частое, а полный консенсус – еще более редкое, и потому есть смысл обратить на один из таких прецедентов достаточное внимание.
В статье «Библейская герменевтика» (2003) католический экзегет Дж.-Т. Монтегю классифицирует современные типы толкования библейских текстов, приемлемые для Ватикана. Их оказывается столько, что они укладываются в хороший рубрикатор. В рубрике «Текст как он есть» Монтегю различает нарративный критицизм (исследование границ текста, сюжета, место действия и т. д.), риторический (интенция убеждения, значимая для большинства библейских текстов), структуралистский (семиотический анализ, рассмотрение формального соотношения текстовых элементов) и постструктуралистский – деконструктивный метод Жака Дерриды, исходящий из того, что текст содержит неограниченное множество сигнификаторов, не оставляющих ничего из собственного «мира текста», а это означает, что текст «не имеет никакого референта в реальном мире, а потому не означает ничего». Экзегетические стратегии, рубрицируемые как «Мир за пределами текста», распределяются у Монтегю на текстуальную критику (реставрация начальной формы текста), источниковедческую (исследование письменных источников текста), формальную (исследование преимущественно устных источников текста), историческую (исследование информации, содержащейся в тексте, средствами археологии, эпиграфики, папирологии, исторической науки), социокультурную, «публикаторскую»[287]. Остальные экзегетические стратегии распределяются на «канонический критицизм» (изучение места, занимаемого текстом в соответствующем текстовом корпусе), и «Мир перед текстом», куда инкорпорируются изучение истории влияния текста на его «окружающую среду», ответных реакций на текст со стороны читательской аудитории (с ее ожиданиями, интерпретациями и т. д.) и специально реакций групповых[288]
