Из смерти в жизнь бесплатное чтение
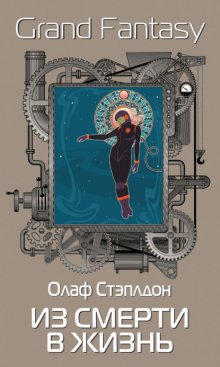
© Соловьёва Г. В., перевод с английского языка, 2021
© Речкин А. В., вступительная статья, 2021
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Мотылек расправляет крылья: философия и фантастика Олафа Стэплдона
Самое значительное и поистине титаническое воображение, которое когда-либо до сих пор было привнесено в область научной фантастики, несомненно, принадлежит британскому писателю и философу Уильяму Олафу Стэплдону. Его первое художественное произведение, «Последние и первые люди: история близлежащего и далекого будущего», созданное в зрелости в возрасте сорока четырех лет и опубликованное в Лондоне в 1930 году, имело мгновенный успех как среди критиков и литераторов, так и любителей уже оперившейся научной фантастики. Вся эта аудитория никогда не слышала о Стэплдоне и не была готова к космическому размаху, величию идей и масштабу философских концепций, которые можно найти в этом романе. Книгу читали и обсуждали с восторгом.
Созданная Олафом Стэплдоном удивительная хроника следующих двух миллиардов лет была признана «шедевром», «абсолютно оригинальной», «лучшей книгой такого рода в наше время» – именно такими эпитетами награждали критики и романисты дебютный роман почти никому не известного писателя. Как удалось Стэплдону с первой попытки добиться успеха? Но разберемся во всем по порядку.
Уильям Олаф Стэплдон родился 10 мая 1886 года в Уолласи (ныне Мерсисайд) недалеко от Ливерпуля, графство Чешир, Англия. Его семья имела выдающуюся родословную, их происхождение восходит к началу XIV века (родовое имя в ту пору писалось как «Стэпелдон»). Предки писателя упоминаются в Епархиальном регистре Эксетера, в частности там говорится об Уолтере Стэпелдоне, который был епископом Эксетера. В документе сообщается, что епископ Стэпелдон был одним из выдающихся государственных деятелей своего времени и служил советником короля Эдуарда II. Среди услуг, которые он оказал королю, была специальная дипломатическая поездка во Францию. Одно время Эксетерский колледж именовался Стэпелдон Холл – в память о епископе. Генеалогическое древо Стэплдонов огромно, поэтому мы не будем останавливаться на нем подробно и перейдем непосредственно к родителям Уильяма Олафа.
Его отцом был Уильям Клиббетт Стэплдон, а матерью – Эммелин Миллер Стэплдон. Дед основал фирму «Уильям Стэплдон и сыновья» (имевшую местные отделения в Порт-Саиде и Суэце), которая поставляла воду и уголь судам, проходившим через Суэцкий канал. Владельцы крупной британской судоходной компании «Блю Фьюнелл Лайн» из Ливерпуля были впечатлены опытом и компетентностью Уильяма Клиббетта Стэплдона в морских делах и пригласили его в головной офис своей фирмы на высокую руководящую должность. Поэтому первые шесть детства Олафа прошли в Порт-Саиде, хотя его мать и возвращалась в Англию на некоторое время. Так что Олаф рос довольно одиноким ребенком. Его ближайшим другом стал Рип, жесткошерстный терьер, которого он никогда не забывал и чье литературное эхо звучит в некоторых книгах Стэплдона, особенно отчетливо в романе «Сириус».
Мальчик прекрасно ладил с отцом, который был отличным педагогом и владел прекрасной библиотекой классической литературы. Многие тома этой библиотеки были переданы Стэплдону-младшему в наследство. С матерью у Олафа складывались непростые отношения: беспокоясь за благополучие сына, она демонстрировала себя ярой собственницей, хотя по натуре она была добрым и мягким человеком. Как и у мужа, у нее имелись литературные интересы; ее кумиром был Джон Рескин, с которым она часто и много переписывалась. Рескин – по-видимому, через мать – оказал весьма важное влияние на подростковую жизнь Олафа. Рескин, сын богатых родителей, рано зарекомендовавший себя как выдающийся поэт и в конце концов ставший одним из социальных критиков и ведущих авторитетов в области искусства в XIX веке, опередил свое время, поддерживая народное образование, осуждая промышленность за растрату природных ресурсов и загрязнение воздуха, борясь за пенсии по старости и отстаивая права рабочих. Работы Рескина всегда были под рукой Эммелин, в доме их постоянно обсуждали, так что легко понять причины, по которым Олаф Стэплдон всегда отстаивал интересы рабочего человека, и его энтузиазм по отношению к социализму вообще.
В то время как Эммелин увлекала сына социальными науками, Уильям делал упор на естественные. Мальчик впитал достаточно того и другого, и в книгах взрослого Стэплдона это ярко проявляется.
Агностицизм Стэплдон также унаследовал от родителей. Его отец, по-видимому, не принадлежал ни к какому религиозному движению, поэтому любое прямое религиозное влияние, должно быть, исходило от матери. Она была унитарианкой. Унитаризм – это ответвление протестантизма, отвергающее Троицу и божественность Христа; представители этого направления верят, подобно иудеям, что Бог – единое существо. Унитаристы, однако, принимают учение Христа, особенно отмечая его этику и нравственное начало. Они подчеркивают важность человеческого характера и известны своей терпимостью к другим религиям.
В зрелые годы Стэплдон отрицал, что является христианином, хотя растущий мистицизм в его работах начиная с 1940-х годов указывал на глубоко укоренившееся чувство религиозности.
Олаф Стэплдон получил шестилетнее начальное образование в Абботсхолме, прогрессивной школе-интернате, расположенной в Уттоксетере, графство Дербишир. Основателем школы был английский педагог, приверженец теории нового воспитания Сесил Редди; он ставил в центр педагогической работы интересы ребенка, развитие его индивидуальных способностей, а также потребность в деятельности и творчестве. Здесь отказывались от классического образования: процесс обучения строился на сбалансированном соединении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин с целью разностороннего развития учащихся. Этим же целям служило и введение в Абботсхолме трудового обучения. Поэтому Олаф приобрел замечательные практические навыки – научился ухаживать за овцами и работать в поле.
Высшее образование – степень бакалавра и магистра истории – Стэплдон получил в Баллиол-колледже в Оксфорде до начала Первой мировой войны; после войны он получил степень доктора философии (аналог нашей кандидатской степени) в Ливерпульском университете. Возможно, именно интерес и, без сомнения, любовь к исторической науке будили в Стэплдоне желание узнать, понять и спрогнозировать будущее человечества. Свои предвосхищения грядущего Стэплдон выдавал в последующих сочинениях. Несмотря на интерес к наукам, его оценки в Оксфорде были средними. За время обучения он достиг полного физического развития при росте 172 см и 63 кг веса, который почти не менялся до конца его жизни. Стэплдон достиг и определенных спортивных успехов, выступая на соревнованиях по гребле за честь колледжа.
После того как Сэплдон покинул Оксфорд, отец устроил его на работу в «Блю Фьюнелл Лайн», где будущий писатель без энтузиазма выполнял различные мелкие управленческие обязанности. Отец надеялся, что Олаф хорошо проявит себя и в конце концов унаследует его прекрасное, хорошо оплачиваемое положение. Но его сын любил корабли, а не бумажную работу. В какой-то момент он не учел 20 фунтов мелкой наличности, и, возможно, это стало причиной его скорого ухода из компании. После увольнения Стэплдон принял должность учителя в Манчестерской гимназии. Его любимой методикой преподавания была постановка исторических событий в форме пьес с участием всех учеников класса. Шум и активность театральных представлений действовали на нервы другим преподавателям, и, возможно, поэтому Стэплдон преподавал всего лишь год.
Трудясь в «Блю Фьюнелл Лайн» и Манчестерской гимназии, по вечерам в Ассоциации работников образования Стэплдон читал лекции по литературе, психологии и истории промышленности. В этих лекциях он уделял большое внимание левым взглядам, ибо в то время он был глубоко погружен в социалистическую философию. Стэплдон был связан с социалистическими группами и написал несколько статей в соответствующие журналы, но первые его литературные опыты были связаны с поэзией. Его первой книгой стал сборник стихов «Псалмы последних дней», изданный в 1914 году ливерпульским издательством «Генри Янг и сыновья». Считается, что отец Олафа заплатил за издание книги; он был клиентом Янга, который владел ливерпульским книжным магазином. Из 500 напечатанных экземпляров сборника подавляющее большинство оказалось уничтожено во время пожара, случившегося в магазине в результате одной из немецких бомбардировок города во время Первой мировой войны.
В книге стихов с большой силой отражены темы атеизма, социальной революции и бедственного положения рабочего человека. Есть также два антивоенных стихотворения; но в ту пору пацифизм Стэплдона не был еще подкреплен военным опытом; это имело место позже.
Во время Великой войны Олаф четыре года служил братом милосердия в квакерском походном госпитале во Франции и Бельгии с июля 1915 по январь 1919-го (он отказался в руки брать оружие, так как был пацифистом). За свою службу Олаф был одним из первых награжден французским Военным крестом. Война закончилась, и 16 июля 1919 года Стэплдон женился на своей двоюродной сестре из Австралии, Агнес Зене Миллер. Торжественная церемония произошла в Доме собраний друзей, квакерском заведении в Рейгейте, графство Суррей.
Агнес, старшая из четырех детей дочь Фрэнка Эдварда и Маргарет Барнард Миллер, родилась в Новой Зеландии 25 мая 1894 года. Фрэнк был братом матери Олафа, Маргарет – дочерью Чарльза Барнарда, директора квакерской школы в Йоркшире. Оба родителя Агнес были британскими эмигрантами.
Фрэнк Миллер работал в сиднейской фирме, занимавшейся экспортом шкур животных в Англию. По делам бизнеса он посещал Англию каждые несколько лет, и в этих визитах его, как правило, сопровождали жена и дети. В 1902 году, когда Агнес было всего восемь, во время поездки в Англию она впервые увидела и познакомилась с шестнадцатилетним Олафом. Несмотря на то из-за что разницы в возрасте у них имелось мало общих тем для разговора, юноша прилагал особые усилия, чтобы пребывание Агнес в Англии было приятным, и проводил много времени, показывая ей окрестности. Она снова посетила Англию в четырнадцать лет и нашла Олафа таким же внимательным и заботливым, как и прежде.
Перед Первой мировой войной родители отправили Агнес на год в Европу изучать французский, немецкий и музыку. В то время эти предметы считались подходящими для образования молодой женщины, но впоследствии Агнес жалела, что не получила более серьезного академического образования где-нибудь вроде Сиднейского университета. Когда началась война, она находилась во Франции, но вскоре вернулась в Австралию. В Европе у Агнес была возможность несколько раз увидеться с Олафом.
Помолвка и брак были заключены по письменному согласию всех заинтересованных сторон. После свадьбы супруги переехали жить к родителям Стэплдона, в большой и красивый дом в Калди. Характер матери Олафа оказался тяжелым испытанием для Агнес, и молодожены переехали в соседнюю квартиру. Впрочем, отец Олафа решил проблему, купив молодым дом на Гросвенор-авеню, 7, в Западном Кирби, где они жили с 1920 по 1940 год.
Мировоззрение Стэплдона отчасти формировали религиозные воззрения квакеров, к которым принадлежали друзья и родственники. В основе теологии квакеров лежит почитаемая даже выше Библии доктрина о непосредственном внутреннем откровении Святого Духа, и, возможно, именно здесь следует искать основания многочисленных «духовных» путешествий героев романов Стэплдона – в будущее, космос или потусторонний мир. А также фундамент концепции «духа человеческого», развернутой в романе «Из смерти в жизнь».
После свадьбы Стэплдон участвовал в обширных лекционных турах для Ассоциации работников образования: эти выступления теперь его основным источником дохода, хотя и приходилось много ездить в близлежащие общины, а значит – редко проводить время дома с женой. Но вот 31 мая 1920 года у четы Стэплдонов родилась дочь Мэри Сидней, а 6 ноября 1923 года – сын Джон Дэвид. Неудивительно, что Олаф оказался замечательным отцом. С ним было легко жить, он растил детей с любовью, помогал с учебой и проблемами. Поскольку Олаф, как говорится, имел «золотые руки», а также проявлял большой интерес к морским делам, он занялся изготовлением моделей судов, как он убедился, к большому удовольствию детей. Он быстро расправлялся с обедом и, отодвинув тарелку, тут же, за столом, начинал собирать модели лодок и судов, пока все остальные еще ели.
В течение 1920-х годов Стэплдон прочитал много лекций на заочных отдеделниях и преподавал на университетских курсах повышения квалификации по психологии и истории промышленности. Он также начал публиковать статьи по социологии, психологии и философии в различных журналах. На его полках копились серьезные книги, и он начал формировать собственные философские теории. Стэплдон рассматривал капиталистическую систему как декадентский порядок, который следует оставить в прошлом. Он осуждал насилие, но уже не находил оправдания пацифизму. В религии Олаф теперь был немного левее агностицизма, а в политике – немного правее коммунизма. Стэплдон симпатизировал коммунизму, в оценке которого старался быть объективным. Его, по общему признанию, больше всего впечатляли взгляды Спинозы и Гегеля. Он был, пожалуй, даже более оптимистичен, чем они, когда писал: «В самом деле, вполне возможно, что человек – это живой зародыш, которому суждено оживить весь космос!» К концу 1928 года взгляды Стэплдона вполне сформировались, и он был готов бросить вызов одному из ведущих философов того времени, Альфреду Норту Уайтхеду, в то время профессору Гарвардского университета.
Журнал «Философские исследования» был отличным местом для дискуссии: среди его авторов были такие всемирно известные люди, как Джулиан Хаксли, Бертран Рассел и Гарольд Ласки. Однако Олафу Стэплдону не суждено было провести много времени в беседах с другими философами. Он нашел иной способ выражения собственной точки зрения и философской доктрины: фантастическая литература. Так появился роман «Последние и первые люди: история близлежащего и далекого будущего», опубликованный лондонским издательством 23 октября 1930 года. Американское издание вышло 23 марта 1931 года, российскому же читателю пришлось дожидаться перевода книги чуть больше семидесяти лет.
Книга продавалась в Англии гораздо лучше, чем в Соединенных Штатах, даже несмотря на восторженные отзывы некоторых важных литературных критиков США и серьезного спроса на фантастику среди американской молодежи, которая, правда, в это время тяготела больше к журналам наподобие «Amazing Stories» («Удивительные истории») или «Wonder Stories» («Истории чудес»), нежели к книгам.
Как Стэплдон зачал «Последних и первых людей»? Он вспоминал: «Общий план книги пришел ко мне в одно мгновение, когда я наблюдал за тюленями со скал Англси. После этого я просто выкачал из своих друзей-ученых всю необходимую мне информацию и принялся писать историю с точки зрения человека, живущего в далеком будущем». Эти друзья были, конечно, профессорами Ливерпульского университета, которых Стэплдон упоминает в предисловии к книге – П. Дж. Г. Босуэлл, Дж. Джонстон и Дж. Райс. Тюлени скал острова Англси стали прообразом «шестых людей» Венеры.
В романе излагается грандиозное видение Стэплдоном будущего человеческого вида, охватывающее два миллиарда лет; люди проходят через множество различных эволюционных стадий. Вообще конструирование будущего – сложная задача даже для профессионального писателя-фантаста, поэтому воображению Стэплдона можно только позавидовать. Масштаб книги ошеломляет, Стэплдон не только создает шаблон для целого поджанра фантастической литературы – истории будущего, но также рассуждает о генной инженерии и терраформировании планет. Не забываем, на дворе 1930 год!
История начинается с расколотой и воюющей Европы, явный отголосок воспоминаний о Первой мировой. На встрече, которая проходит в Англии с участием президента Соединенных Штатов, китайский изобретатель демонстрирует усовершенствованную бомбу. Одновременно с демонстрацией американский воздушный флот, подстрекаемый провокационными инцидентами, вступает в бой с объединенным европейским воздушным флотом и уничтожает его. Затем американцы обрушиваются на Англию, но их флот загадочным образом гибнет. В отместку разъяренная Америка почти очищает Европу от жизни при помощи газа и смертоносных бактерий. В последующем за тем противостоянии с Китаем Америка снова одерживает победу, и формируется новое мировое государство.
И это только начало богатого на события и идеи труда, который поражает своим масштабом. Перед нами – вся панорама истории человечества. Мы читаем о конце американизированной эпохи и вступлении в новые темные века, за которыми в конце концов следует возвышение Патагонии в качестве мирового культурного центра. Повторное открытие атомной энергии приводит к падению патагонской цивилизации в результате цепи взрывов. В последующие десять миллионов лет обезьяны эволюционируют в конкурентоспособную, разумную расу, командующую рабами-недочеловеками. В конечном счете люди истребляют ослабевшую расу господ. За этим следует подъем новой великой человеческой цивилизации.
Происходит вторжение марсиан, микроскопических существ, которые путешествуют в туманных желеобразных плавающих облаках; начинается война между Марсом и Землей. Вся жизнь на Марсе уничтожена, но разрушительный вирус из пыли марсиан возвращает человечество к дикости.
Через какое-то время возникает цивилизация новых людей, которые пребывают в гармонии с природой. Мозги представителей этой расы эволюционируют до колоссальных объемов. Однако, разочарованные своими физическими ограничениями в поисках того единственного, что имеет для них значение, – знания, эти великие умы выводят новую расу, которая заменит их.
Вскоре Луна придвигается к Земле настолько близко, что грозит упасть на поверхность материнской планеты; эти обстоятельства заставляют людей переселиться на Венеру. Разумные формы жизни на Венере будут уничтожены, изменится и сама планета, а люди эволюционирует в расу крылатых существ. Проходят миллионы лет, и столкновение с блуждающим газообразным телом приводит к изменениям в Солнечной системе: человечество вынуждено мигрировать на Нептун.
На Нептуне в результате естественного и научного прогресса формируется поистине утопическое общество, и человеческий вид меняется радикально: даже увеличивается число полов, необходимых для продолжения рода. Конец человечества наступает, когда солнце начинает становиться красным гигантом, и накаляющаяся атмосфера обрекает последних людей на гибель. Однако перед самым концом последние люди выбрасывают в космос бесчисленные искусственные человеческие споры, надеясь однажды засеять миры других солнц.
Этого простого пересказа, разумеется, недостаточно, чтобы оценить масштаб грандиозной эпопеи «Последние и первые люди». Стэплдон подробно рассматривает каждую фазу человеческого развития, пытаясь охватить физиологические, психологические и социокультурные изменения.
Романы «Первые и последние люди», «Создатель звезд» и «Из смерти в жизнь» написаны уникальной поэтической прозой. Читатель наслаждается сотнями идей, которые с тех пор укоренились в ткани современной научной фантастики, и отточенностью формулировок. Неудивительно, что этой книгой вдохновлялись молодые американские и британские фантасты, такие как Роберт Хайнлайн, Артур Кларк, Брайан Олдисс, Джеймс Блиш и многие другие. Правда, кому-то может показаться, что сегодня эти тексты читаются не столь захватывающе, как, например, романы означенных авторов, поэтому читатель должен быть готов к несколько монотонным, путь и поэтическим, строкам хроники далекого будущего, и тем не менее знакомство с ними обязательно для каждого поклонника фантастической литературы.
Создатели «Энциклопедии научной фантастики» Питер Николс и Джон Клют считают, что книга Стэплдона была абсолютно уникальна в своем жанре. Впрочем, Стэплдон наверняка опирался на работы некоторых своих предшественников. Одной из таких работ критик и историк фантастики Сэм Московиц считает последнюю книгу Эдгара Аллана По «Эврика. Поэма в прозе (Опыт о вещественной и духовной Вселенной)». Это околонаучное, философское и мистическое произведение часто воспринимается как безумная какофония и свидетельство окончательного погружения великого автора в алкогольный делирий. Чтение этого текста требует интенсивной работы, концентрации и является чем угодно, только не развлечением.
Сочинение По начинается с тщательно разработанного отказа от эмпирической науки в пользу «инстинктивного» или «интуитивного» рассуждения, чем-то напоминающего квакерскую концепцию о непосредственном внутреннем откровении. Автор утверждает, что Вселенная – суть Бог, и каждое живое существо, соответственно, – его часть. Согласно концепции По, по мере того как Вселенная сжимается, все разнообразные существа на миллиардах миров постепенно утрачивают индивидуальное сознание и достигают более совершенного состояния – в рамках общего и универсального космического сознания. Все это становится общей идеей более поздних романов Стэплдона, таких как «Создатель звезд», «Из смерти в жизнь».
Возможно, на сочинения Стэплдона повлияли еще два романа – «Дом в порубежье» (1908) Уильяма Хоупа Ходжсона, которым восхищался «отец литературы ужаса» Говард Филипс Лавкрафт, и «Амфибии» (1924) С. Фаулера Райта. Первый из этих авторов говорит о Вселенной, состоящей из разумных космических объектов, его роман перекликается с текстами Стэплдона, особенно напоминает «Создателя звезд». В романе Райта (с которым Стэплдон был знаком лично) рассказывается о гуманоидных существах, которые поднялись по лестницы эволюции на ступеньку выше людей.
И разумеется, нельзя исключать влияние идей футурологического эссе генетика, биолога и популяризатора науки Джона Холдейна «Страшный суд: взгляд ученого на будущее человечества» (1927). Здесь в очень краткой, почти синоптической форме излагается хронология грядущих сорока миллионов лет. Присутствует множество штрихов, которые перекликаются с романом «Последние и первые люди»: тут и покорение космического пространства, и успешные экспедиции к Марсу и Венере, и стремительная эволюция человечества, и его адаптация к неблагоприятным внеземным условиям, и развитие телепатической связи, и создание новых биологических видов. В эссе Холдейна присутствует разрушение Луны, осколки которой образуют вокруг Земли кольцо, как у Сатурна. Наконец, нам предлагается заселить планету Юпитер; здесь образуется человеческая раса коренастых коротышек – обладателей огромной физической силы. Предпринимаются попытки колонизации внешних планет. Автор предполагает, что в течение двухсот пятидесяти миллионов лет Солнечная система перейдет в такую область Вселенной, где звезды намного плотнее, больше пригодных для жизни планет, а люди смогут позволять себе путешествия длиной в сто тысяч лет.
Позитивные отзывы о первом романе определили направление дальнейшей жизни Стэплдона. Он станет писателем на полную ставку и лектором на полставки. Стэплдон стал сокращать лекции и занятия, чтобы оставлять достаточно времени для написания книг. Это означало, что он будет находиться в доме и путаться под ногами жены еще больше, чем прежде. Однако у Агнес было множество собственных интересов, включая выходы в свет, жизнь школ и местные мероприятия. Стэплдон использовал ее в качестве рупора своих идей, а ее помощь в редактировании рукописей помогла супругам достичь отточенной ясности отношений. Отчасти это было связано с проверкой орфографии, которая, по словам Агнес, не была сильной стороной ее мужа.
Прекрасное чувство юмора Олафа помогло их отношениям. Он любил добродушные шутки и при каждом удобном случае проникался духом веселья. Его крепкое здоровье, несомненно, способствовало спокойному нраву. При всей своей непринужденной небрежности, однако, он был чрезвычайно систематичен почти во всем, что делал, его нельзя было назвать рассеянным профессором.
Вслед за «Последними и первыми людьми» был издан роман «Последние люди в Лондоне» (1932), к сожалению, до сих пор не переведенный на русский язык. Этот текст является своего рода прелюдией к более известному роману – «Странный Джон» (1935).
В том же 1932 году умер отец Стэплдона, а спустя три года этот мир оставила и мать писателя. Их единственным наследником был сын; он увековечил память о родителях, завещав большой участок леса возле своего дома на холме Калди подданным Британии в качестве парка. Это место известно сегодня как Стэплдонский лес. Наследство, оставленное родителями, стало основным источником дохода Стэплдона до конца его жизни. Об этом вполне откровенно упоминал сам писатель: «Я главным образом живу на дивиденды».
Важной вехой литературной биографии Стэплдона стал роман «Странный Джон». Это история мутанта (высокоразвитого человека), который оказывается представителем следующей ступени человеческой эволюции. В отличие от ситуации с более ранними произведениями, здесь внимание Стэплдона сфокусировано не на каких-то экстраординарных способностях своего героя, а на социальных и психологических сферах жизни новой ступени эволюции человечества. Его «Странным Джоном» вдохновлялись создатели комиксов про «Людей Икс», роман послужил основой для «Слэна» Альфреда Ван Вогта, «Бездны» Роберта Хайнлайна и многих других произведений. Интересно, что для обложки английского издания романа Стэплдон сам нарисовал главного героя – мелками. Стэплдон вообще увлекался живописью и даже посещал художественный класс в Лондоне. В личной библиотеке писателя имелся небольшой томик под названием «Стихи для Мэри и Дэвида». В него Стэплдон от руки записывал стихи для своих детей, которые богато иллюстрировал.
Помимо серьезных философских трактатов и классической литературы, доставшейся в наследство от отца, в библиотеке Олафа Стэплдона были книги Герберта Уэллса (Стэплдон некоторое время состоял в переписке с великим классиком: они обсуждали научно-фантастические кинофильмы), Жюля Верна и приключенческие романы Эдгара Райса Берроуза. Здесь же стояли мечтательное произведение «Питер Иббетсон» Джорджа дю Морье, ныне классический философско-фантастический роман «Путешествие к Арктуру» Дэвида Линдсея, роман о вымышленной стране «Эревон» Сэмюэла Батлера и постапокалипсис М. Ф. Шила «Пурпурное облако». Как впоследствии заявлял сам Стэплдон, до 1936 года он не читал научно-фантастические журналы и, следовательно, имел слабое представление о современной ему фантастической литературе. Поэтому, возможно, писатель не знал, что у его мутанта Джона были предшественники. Так, известный американский математик Эрик Темпл Белл, писавший под псевдонимом Джон Тейн, представил выдающийся пример темы сверхчеловека (с обсуждением его биологических особенностей) в романе «Цветок жизни», появившемся на страницах американского журнала «Amazing Stories Quarterly» осенью 1931 года. Чуть раньше американский писатель Филип Уайли в романе «Гладиатор» (1930) предложил свой вариант физически развитого супермена.
В 1911 году был опубликован роман «Хэмпденширское чудо» английского писателя Джона Дэвиса Бересфорда, известного фантаста и автора рассказов в традиции «истории с привидениями». Роман «Хэмпденширское чудо» также дал Стэпладону пищу для размышлений во время его работы над «Странным Джоном». Однако, в отличие от предшественников, Стэплдон демонстрирует гораздо более глубокое понимание своего героя, сосредоточиваясь на мировоззрении и морали сверхсущества.
В перерывах между работой Стэплдон посещал кино, с удовольствием ходил на концерты и балет, особенно любил театр. Он любил покурить после обеда, но не был заядлым курильщиком, в отличие, например, от таких писателей, как Джон Уиндем и Стивен Кинг. Стэплдон верил в регулярную физическую активность. Он любил ходить пешком и плавать в море. Кроме того, он занимался альпинизмом и теннисом.
Британский писатель-фантаст Эрик Фрэнк Рассел, который начал пропагандировать ракетную технику в качестве члена Британского межпланетного общества в 1935 году, получил письмо от Стэплдона с запросом о вступлении в общество (в которое его в конце концов приняли). Это письмо стало началом общения Стэплдона и Рассела. И однажды два великих фантаста повстречались. Вот как Рассел описывал внешность Стэплдона: «Стройный, моложавый мужчина (которому на тот момент шел пятьдесят первый год), одетый в спортивную куртку, серые фланелевые брюки и рубашку с открытым воротом. Его густые светлые волосы были разделены пробором на одну сторону, на лице совершенно не было морщин, и он выглядел не старше двадцати семи лет».
Однажды ночью Стэплдон в расстройстве чувств забрался на вершину холма, находящегося рядом с его домом. Пробравшись сквозь волны вереска, которые хватали за ноги, он устремил взгляд в кромешный мрак, нависший над головой. «…Я ощутил странную гармонию между людьми и звездами. Невыразимое могущество космоса чудесным образом усилило яркость краткой искры этого робкого предприятия – человечества. Знать бы только, есть ли где-либо среди этой мерцающей бесконечности другие шарики из камня и металла, является ли робкий человеческий поиск мудрости и любви одиноким и незначительным импульсом или же частью вселенского движения!» Воображение дорисовало то, чего не могло различить зрение. И менее чем через год Олаф Стэплдон закончил «Создателя звезд». Если в «Последних и первых людях» он стремился показать будущее человечества, то в «Создателе звезд» он вознамерился рассказать всю историю Вселенной, от ее создания до конца. В этом масштабе два миллиарда лет, которые охватывают «Последние и первые люди», становится не более чем сентиментальным эпизодом в гораздо более масштабной перспективе.
Уже на первых страницах книги рассказчика уносят с вершины холма в космос и предоставляют ему универсальную перспективу времени и пространства. Он наблюдает за развитием разумной жизни на протяжении миллиардов лет: за людьми, симбиотическими инопланетянами и разными организмами на других планетах. Стэплдон считает туманности живыми существами, а звезды – их потомством. Он вникает в их жизнь, мысли, философию и амбиции. Он подробно описывает звездные войны и организацию галактических империй, включающих тысячи планет. Его описаниями этих событий впоследствии вдохновлялись многие писатели-фантасты, такие как Роберт Хайнлайн, Клиффорд Саймак (в особенности в романе «Город»), Эрик Фрэнк Рассел, Айзек Азимов (можно вспомнить цикл «Основание»), Мюррей Лейнстер и десятки других авторов.
Стэплдон с особенным интересом рассматривает психологию или философию жителей других звездных систем: в этом специфика подхода Олафа Стэплдона к научной фантастике. В конечном счете рассказчик сталкивается с самим Создателем Звезд, творцом Вселенной, который выглядит как огромная звезда такой яркости и величины, что к ней невозможно приблизиться. Функция и цель существования Создателя Звезд – творить, создавать новое.
В то время как великие философы истории исследовали прошлое человека, чтобы найти ответы на вечные вопросы, Олаф Стэплдон с той же целью с удивительным визионерским чутьем исследует будущее. В «Создателе звезд» (1937) автор ясно предвидел Вторую мировую войну; в предисловии к книге он пишет: «Сейчас, когда Европе угрожает катастрофа, куда более ужасная, чем события 1914 года, книга, подобная этой, может оказаться порицаемой, как отвлечение от животрепещущей темы борьбы цивилизации с современным варварством»[1]. Стэплдон исповедовал пацифизм даже после прихода Гитлера к власти, но нацистский Джаггернаут, пронесшийся по Европе и угрожавший дальнейшему существованию Англии, изменил позицию писателя.
С началом Второй мировой войны нехватка бумаги сократила объем изданий работ Стэплдона и отвлекла внимание общественности от того типа книг, которые он писал. Многие британские писатели погрузились в депрессию и прекратили писать, однако обстоятельства не остановили Стэплдона: он продолжал выпускать интересные книги. В романе «Тьма и свет», опубликованном в 1942 году, он предлагает два возможных варианта будущего для мира на манер «Последних и первых людей». «Тьма и свет» – весьма увлекательное чтение. Основная идея романа, по-видимому, такова: человечеству следует надеяться на появление – искусственным путем или благодаря мутации – нового продвинутого вида, представители которого по своим характеристикам будут больше напоминать богов, нежели животных.
В 1944 году появляется книга «Сириус. История любви и разлада», этакое «Собачье сердце», но перевернутое с ног на голову. В романе мы наблюдаем за эволюцией пса, которого наделили интеллектом и чувствами. Пес влюбляется в девушку, и читатель наблюдает за внутренним смятением животного. Стэплдона интересует, сколь велика роль интеллекта в развитии сознания и нравственного самосознания. Эту книгу многие критики считают лучшей во всем наследии Стэплдона. Многое в ней перекликается с бессмертным романом Дэниэла Киза «Цветы для Элджернона», написанным гораздо позже.
Одновременно с «Сириусом» во время войны Стэплдон постепенно, с чувством и толком, писал еще один философский роман, «Из смерти в жизнь» (1946), который станет предпоследней прижизненно изданной его книгой. Этот роман показывает, как повлияла на автора война, и если не ставит точку в понимании философии и взглядах Стэплдона, то по крайне мере дает окончательное развитие его концепции «духа».
«Из смерти в жизнь» – не образцовый научно-фантастический роман в привычном понимании, здесь мы сталкиваемся и с философией, и с мистикой; язык произведения – блестящая поэтическая проза. В роман автор включает яркие автобиографические фрагменты – в форме интерлюдий. Стэплдон вспоминает самые ценные моменты своей жизни, словно пытается в воспоминаниях укрыться от бойни, разразившейся в Европе. Тут и признание в любви к жене, и повседневные радости, и грусть расставаний, и починка игрушки для дочки (вспомним про макеты кораблей; впрочем, автор довольно скромно отзывается о своих способностях починить что-либо), и размышления о вечности, смерти, старости, бренности бытия.
Предшествует интерлюдиям описание чувств тылового стрелка бомбардировщика, идущего в бой вместе с командой своего самолета; а внутри кабины парит хрупкий мотылек. Насекомое целует стрелка, а затем происходит гибель экипажа бомбардировщика, но на этом ничего не кончается. Из смерти рождается жизнь: происходит контакт духа стрелка с духами остальных членов экипажа и других людей, погибших на войне. Все они соединяются в «дух человеческий», идея которого берет начало в христианстве и буддизме. «Все люди – части друг друга, и что лишь в деятельной любви к ближнему, к товарищу, спасение человека. А потому будьте нежны – о, всегда нежны к отдельному человеческому существу»[2]. Святые потому святы, что живут ради служения другим людям. «Дух» становится для Стэплдона философским инструментом для исследования прошлого, настоящего и будущего.
И в этом романе Стэплдон излагает собственное представление об эволюции человеческого вида, начиная от Адама, минуя середину ХХ века, заканчивая далеким будущим; здесь он верен масштабу своих прошлых произведений: «В свой срок землю населила благороднейшая человеческая раса. Их зрение было тоньше и различало больше цветов, слух и обоняние превзошли чувства собак. Их прикосновение было нежнее прикосновения пчелы к цветку. Их зоркий и глубокий разум отмел примитивные идеи предков и создал новый мир идей, соответственно новому опыту. К тому же они познали собственную природу, и благодаря тонкости их самосознания и познания ближних дух человеческий ожил и просветлел. Новая человеческая раса направила свою мудрость на исследование других планет – сестер Земли, ища на них не силы, но дружбы. Послушавшись своих пророков, они искали чужой разум – чуждый по пристрастиям, но сходный по духовной основе. Вместе с ним они мечтали создать обширное содружество миров. Но их отважные странствия открыли, что человек одинок в Солнечной системе. Ни на знойной Венере, где воздух не пригоден для жизни, ни на холодном засушливом Марсе, где жизнь существует лишь пятнышками низших форм, ни на бурном Меркурии, ни на огромном Юпитере, ни на других планетах люди не нашли разума. Дух Человеческий, вспоминая это леденящее открытие из своего будущего, вновь вкусил охватившее его чувство одиночества. Обратив взгляды за самые отдаленные планеты, люди гадали, не одинока ли их дорогая Земля и в этой звездной черноте».
Чувства участников военных действий Стэплдон описывает очень проникновенно, со знанием дела. Он участвовал в Первой мировой войне. А во Вторую мировую его родной сын Стэплдона, Джон Дэвид, четыре года служил в военно-морском флоте в должности оператора радара на эсминцах в Средиземном море. Корабль, на который он был определен, был уничтожен в ходе боевых действий, и Джон Дэвид оказался в числе счастливчиков, которых не убили и не утопили. После этого пренеприятнейшего события его перевели в лагерь радиолокационной станции на Сицилии. Именно здесь он познакомился со своей будущей женой Сариной Тетто.
После 1945 года Стэплдон путешествует с курсом лекций и посещает Голландию, Францию и Швецию и в 1948 году участвует в Конгрессе по вопросам мира в Варшаве. В 1949 году он побывал в США в качестве британского делегата Конгресса деятелей науки и культуры в защиту мира в Нью-Йорке. С конгресса Стэплдон вернулся в Европу в глубокой депрессии. «Война может начаться в любой момент», – заявил он журналистам по возвращении. Однако к тому времени уже набрала обороты «холодная война», которую великий фантаст предсказал в романе «Из смерти в жизнь»: «И вот, в самый год военной победы, дух человеческий невольно усомнился, обладают ли победители, эти преданные воители Духа, ясным пониманием, что им делать со своей победой. Казалось, их заботила одна только власть – и такая организация мира, которая даст им еще больше власти. Некоторые желали всего лишь восстановить старую, рыхлую как губка структуру, при которой они еще недавно процветали. Другие задумали тесно переплетенный мировой организм, в котором мужчин и женщин удерживали бы вместе стальные узы – не товарищества, а законов, – мир, в котором Дух был бы так же скован, как в старых злокачественных империях».
Интересно, что, несмотря на социалистические взгляды и латентный атеизм автора, Стэплдона не печатали в Советском Союзе, и он прошел абсолютно незаметно для отечественного читателя. Книги космического философа появились в России лишь в середине 1990-х годов прошлого века и вызвали большой интерес. Так роман «Создатель звезд» переиздавался более пяти раз.
В 1950 году Стэплдон напишет последний роман «Разделенный человек», в котором, как считают критики и исследователи его творчества, имеют место автобиографические мотивы, в том числе воспоминания об интимной жизни, начиная с 1912 года. Словно у Стэплдона появилось странное предчувствие и он ощутил настоятельную необходимость подвести итоги, ибо через несколько месяцев после публикации книги Уильям Олаф Стэплдон был мертв.
Пятого сентября 1950 года Олаф Стэплдон рубил дрова, почувствовал себя более усталым, чем обычно, и Агнес уговорила его прилечь отдохнуть. Шестого сентября во время ужина у Стэплдона не было аппетита, и он почти ничего не ел. После еды он отнес поднос с посудой на кухню, поставил его на шкаф и рухнул навзничь, ударившись головой. Стэплдон умер прежде, чем семья успела хоть как-то ему помочь. Причиной смерти позже была названа окклюзия коронарных артерий. Прах Уильяма Олафа Стэплдона был развеян по ветру на утесах Калди, неподалеку от Саймонс-Филд.
Нам же в наследие остались работы Стэплдона, которые свидетельствуют о его потрясающем воображении и отражают социологические и политические проблемы ХХ века; умопомрачительные концепции чередуются на страницах его произведений ярким калейдоскопом. Идеи Стэплдона постоянно бросают вызов представлениям среднестатистического читателя. Критики и историки научной фантастики отдают должное масштабу его текстов, важности его философии, его пониманию социокультурных вопросов – и удивительной способности объединять все эти качества в произведения, которые остаются выдающимися образцами научной фантастики.
Александр Речкин
Из смерти в жизнь
Глава 1. Битва
Летчики. – Кормовой стрелок. – Город и его жители. – Атака
Летчики
Десять тысяч мальчиков в небесной вышине. Эскадрилья за эскадрильей, сложные машины, нагруженные смертью, с грохотом летят к цели. Темнота внизу, а наверху звезды. Внизу невидимый ковер полей и домиков; наверху, очень далеко за мерцающими звездами, невидимые галактики, скользящие сквозь необъятную тьму – эскадрилья за эскадрильей вселенные разворачиваются в безграничном и все же измеримом пространстве.
В одном из бомбардировщиков семеро мальчиков. Семь юных умов в упорядоченном единстве: каждый занят собой, но все связаны нитями товарищества – нитями из закаленной стали. И все равно умом и телом пленники своей сложной машины.
Семеро мальчиков и – по странной случайности – мотылек. Он, конечно, залетел в самолет, когда команда занимала места. С тех пор он порхает здесь и там, облетает свою тюрьму сверху донизу, от одного прозрачного колпака турели к другому. Его влечет странная тоска, неосознанная потребность в паре. В поисках второго он мягко наталкивается то на одну, то на другую мягкую человеческую щеку, целует их прикосновением ресниц невидимой любимой, тратит впустую мгновения жизни, которых у него наперечет. Или бессильно бьется в тюремное окно, привлеченный светящимися точками на небе, но не сознавая величия галактик.
У семерых мальчиков свои, более осознанные мечты. Они стремятся к жизни, которая естественна для их человеческой, более сознающей, но незавершенной, природы. И, подобно мотыльку, их разум бессильно бьется в тюремное окно, тщетно вопрошая звезды.
Кормовой стрелок
Кормовой стрелок никогда не слышал о галактиках. Даже звезды для него немногим более, чем блуждающие огоньки. Он, конечно, знает, что они – солнца, но что из этого? Эта мысль его подавляет. В смущении он нырнул в глубину, где нет даже воспоминаний. И хотя в такие ночи, как эта, он невольно вспоминает и гадает, но в пустоте быстро начал скучать. Он чувствовал, что звезды ничем не могут помочь. На земле внизу ад, и мелькающие в нем маленькие радости – пиво, секс и горький, сокрушающий экстаз воздушного боя – только дразнят напрасно. Бывали и минуты, пугающие и все же волнующие, когда им овладевал кто-то, сидящий глубоко внутри, и вся жизнь меняла цвет, становилась ужасающе важной, и человек готов был дать себе пинка за то, что тратит ее напрасно. Но такие мгновенья быстро проходили. Возможно, это от несварения желудка или работы желез. Нет, здесь внизу ад, а там, наверху, только пустые звезды. А сейчас ко всему этому у него начинался насморк. В носу уже утомительно щекотало, и в голове было не очень ясно. Не лишит ли насморк отваги? Не завалит ли юноша свою работу? Что бы там ни было, он не смеет подводить команду. Вот что по-настоящему важно. Важно? В чем важность? На миг перед ним раскрылась черная бездна, но мальчик храбро перепрыгнул ее. Черт! Он не знал, почему это важно, но так было – ужасно важно, чтобы команда хорошо сработала. Потом, вспомнив прошлый вылет, когда вокруг самолета бушевал огонь и молотом били разрывы, он сник. Конечно, есть шансы, что вернутся всем семеро. Но не все экипажи возвращаются. А рано или поздно… он представил себе пылающий самолет.
Паника захлестнула его, но он мгновенно отбросил страх. Нечего об этом думать. Думай лучше об искусстве пилота и о своем оружии. Ну вот! Очень скоро они понесутся к дому, обгоняя рассвет, сбросив груз страха вместе с бомбами. А там и завтрак. Как ему хотелось жить! Беззаботный поцелуй мотылька странно растревожил его, как тревожат щекочущие щеку волосы девушки – так ему подумалось. Он еще не бывал в постели с девушкой, хотя не раз хвастался, что бывал. И может умереть в эту ночь, так и не попробовав. Почему, спросил он себя, я так неловок с девушками? Может быть, он на самом деле боялся их, боялся повредить в них что-то святое. Он никак не мог избавиться от этого чувства, хоть и считал его глупостью. Они же просто самки, а он самец. Поэтому он прикрывал свою благоговейную застенчивость светской развязностью, но они видели его насквозь. Она видела его насквозь. И она умела его завести и вывести, умела раздразнить. Маленькая сучка. Но, Господи, может быть, они оба ничего не понимали, может быть, и правда существует что-то святое, и, может быть, путь к нему действительно лежит через это дело с любовью, если только правильно взяться. Бомбардировщик летел уже над проливом. Впереди светлой кляксой белело отражение восходящей луны. Мотылек все настойчивее стремился к свету, а далеко внизу, невидимо для них, каждый гребень волны, каждый пузырек пены и капелька брызг были просвечены луной.
Кормовой стрелок не знал, что под этой соленой водой лежит древняя долина. Там у великой реки некогда стоял лес. Мамонты ломились сквозь молодую поросль, плавали в быстрых водах, искали новых пастбищ на будущих островах. Сутулые предки людей использовали необработанные камни как инструмент и как оружие в своих древних ссорах – бомб еще не было. Но для кормового стрелка узкая полоса моря была лишь оборонительным рвом, защищающим его родной остров. А его остров – это просто поля и дома, города и шахты, король и принцессы и тому подобное. И, конечно, самые порядочные люди на свете, и столица империи, несущей порядочность на все континенты. Кое-кто с этим спорит – к черту их! Умная птица не гадит в собственном гнезде. Но даже если они правы и империя – большая фальшивка, разве это важно? Важны только люди на родине. Летчики сражались за них и за право жить достойно. Достоинство – что, в сущности, значит это слово? Святыня? Абсолютная правота? Или просто образ жизни, бессмысленная привычка?
За блестящим под луной морем уже темнела земля. Скоро они окажутся над вражеской обороной, и тогда мечтать станет некогда. Слава богу, он был неуклюж только с девушками, а с оружием обращался ловко и уверенно; и хотя на пути к цели в животе у него все таяло и ноги порой подрагивали, когда начиналось представление, он успокаивался. Они семеро будут действовать как одно существо, в идеальной согласованности! Только, ох, как ему хочется жить и дальше. Конечно, надо остановить этих подонков, готовых погубить мир. И надо защищать остров-крепость, империю и все такое. Да, и чертовски хочется выбраться на гражданку, и приятно сознавать, что участвуешь в самом грандиозном представлении, и играть свою роль стильно, как немногие: избранное меньшинство бойцов за Британию. Но как же хочется жить!
Ну, если он доживет до мира, он не станет заниматься политикой. Он будет наслаждаться жизнью, возмещая все нынешние лишения. И вдруг представил себя в медалях, с нашивками-крылышками на поношенном штатском пиджаке, торгующим вразнос зубными щетками. Такое случалось после прошлой войны, но с ним-то такого не произойдет! Если ему не дадут чего-нибудь получше, они с товарищами все разнесут. Страну давно пора почистить. Конечно, во всем виноваты грязные евреи. Ну, если жизнь – это жизнь ветерана на пенсии, лучше умереть сегодня и покончить с этим. Хотя и будет больно. Как при ожоге на руке, только здесь – на всем теле. А что смерть? О таких вещах не говорят. Он даже с самим собой не вел таких разговоров, если мог удержаться. Но сегодня ему все равно. Пора взглянуть в лицо фактам. Немцам и японцам легче, они верят в Валгаллу или что там у них. У нас – другое дело. Конечно, падре уверен, что какие-то там небеса нам обеспечены. Он так говорит, но ведь он за это деньги получает. В общем, рискованное пари. Но если смерть – просто прекращение дыхания, выключение тока, какой во всем этом смысл, зачем эти безумные небеса и ад под ними?
Стрелок снова взглянул на усеянный светлыми точками купол. Эти звезды, эти солнца уставились на него холодными бесстрастными взглядами – а может, моргали, чтобы лучше рассмотреть его, – чтобы лучше съесть тебя, милый. Конечно, он их узнал: они – дьяволы. Он наполовину убедил в этом самого себя.
Разумеется, на самом деле они так же равнодушны к нему, как он сам – к маленькому фагоциту в своей крови. Звезды плывут тысячами, мириадами, эскадрильями фагоцитов в крови галактики. В глубинах глубин они текут по жилам космоса – звезды большие и малые, далекие и близкие, молодые гиганты и дряхлые карлики. И для чего они существуют – не узнает ни кормовой стрелок, ни умники на земле. И все же разум кормового стрелка тяготит подозрение, что в них есть смысл. Мальчик дрожит и сморкается. Господи, какой смысл в этих чертовски огромных огнях? Может быть, это летучие искры от невидимого и много большего костра? Что за мысль! Надо подтянуться. Для него важнее осветительные ракеты, прожектора, трассирующие пули, а еще острый глаз и твердая рука. В любой момент могут появиться вражеские истребители, а до цели, до Города, еще далеко.
Город и его жители
Далеко впереди лежит под лунным светом и ждет Город. Прозвучали сирены. С высоты, с патрульных самолетов, огромный город представлялся большой кляксой на узоре ковра из лесов озер, рек и паутинок дорог. На аморфном пятне выделялись мелкие детали, словно нити лишайника или грибной плесени. Он распластался по равнине невнятным следом органики, как раздавленный колесом зверек на асфальте. Только город не был безжизненным. От него тянулись вверх тонкие усики света – шевелились в воздухе, ощупывали высоту и гасли, не достигнув звездных глубин. Ведь эти любопытные щупальца искали не небес, а предсказанной адской атаки.
Приближаясь, можно было увидеть, как Город – большое раненое животное – открывал взору живые части, уцелевшие ткани улиц и крыш. Но среди них пролегли шрамы: пчелиные соты без крышечек, с хрупкими, тонкими, обломанными восковыми стенками. Мед вытек и пропал, детва погибла. Были и такие места, где соты смялись напрочь, превратились в бесформенный мусор.
В этом улье, в этом муравейнике, потоптанном и смятом ногой гиганта, еще жили насекомые. Правда, они роями убегали в промерзшие леса, скрываясь от ночного ужаса, но многие еще остались. Бездомные скрывались в глубоких щелях и укрепленных убежищах. Старики, чей дух уже клонился к смерти, все еще цеплялись за последние ниточки жизни. Матери цеплялись за младенцев, яростно ревнуя к разлучнице-смерти; беременные больше всего боялись, как бы судорога ужаса не вытолкнула из лона их незавершенное сокровище. Молодые делились интимными радостями, не заботясь о скрытности, обгоняя смерть. Но были в городе и те, кто противостоял накатывающим волнам ада. Ждали зенитчики на батареях. Ждали дежурные на крышах, патрули на улицах. Шоферы «скорых» ждали прямо в машинах. В напряженной праздности ждали доктора и медсестры на пунктах помощи раненым. В мертвецких еще лежали неопознанные останки жертв последней агонии – старые сморщенные тела и тела на прерванном расцвете, тела в лохмотьях, недавно бывших приличными костюмами, и тела в старых лохмотьях. И разрозненные члены, странно безличные, еще недавно принадлежавшие живым рабочим, домохозяйкам, детям.
Среди руин прятались вооруженные люди в форме, готовые водворять дисциплину среди населения.
Город ужаса, страдающий духом не меньше, чем плотью. Он, как всякий город, был роем беспокойных маленьких солипсистов, погруженных в собственные миры, каждый из которых представлялся одним-единственным, истинным и великим. Каждый из этих индивидуумов, почтальонов, уборщиц, продавщиц, управляющих компаниями, нес на себе свой мир, как подводные насекомые несут пузырек воздуха для дыхания – отдельную маленькую вселенную, микроскопическую вырезку из огромной реальности, и все же цельную. В каждом микрокосме были ландшафты и разумные существа, города и звездное небо с простыми огоньками или с гигантскими солнцами, и собственное течение времени, будь то всего лишь срок одной жизни, или столетия истории, или звездные эры. В каждой вселенной крошечный индивидуум являл собой воспринимающий, динамичный, деятельный центр, наполняющий свой пузырек красками и ароматами, жаром желаний и смертным холодом одиночества. И эти крошечные личности, эти мыслящие тела, эти звучащие инструменты воли и страсти, запертые на островках в океане и в то же время – странное дело – включающие друг друга, – могли ли они быть частицами одной необъятности, одного всеохватного и единого сознания? Или же они со всеми, подобными им в целом космосе, оказывались совершено отдельными зернышками разума и единственным родом мыслящих существ в целой вселенной? Или некое олицетворенное божество глядело на них сверху, просеивая мириады существ между пальцев как песчинки? Или эти маленькие личности были в действительности вовсе не постоянным частицами духа, а лишь эфемерными призраками мыслей и желаний, проистекающими из физических процессов в человеческих телах подобно пару над навозной кучей?
Если рассматривать их в массе, как единицы городского или мирового населения, или как муравьев в муравейнике, то как же они одинаковы: все их драгоценные различия лишь неуловимые неправильности механического узора. А присмотреться вблизи – каждый уникален! Вот маленькая вселенная, вечно озаренная солнцем, пока его не затмит навсегда общая катастрофа нашего времени. Вот микрокосм-пустыня. Вот кипящий котел событий, а вот стоячий пруд. Вот вселенная ссохшаяся и низкая, ограниченная сетью коммерческих и политических интриг или поисками предлогов, чтобы показать себя. А вот щедрая и непрерывно расширяющая, отражающая, пусть несовершенно, все смятение современного мира, всю цепь человеческой истории от самого ее рассвета и весь космос. Здесь, и здесь, и здесь вселенные, расчлененные глупыми мечтами и безумными мифами. А здесь и вот здесь очень простые микрокосмы, не наделенные ни величием, ни тонкостью, но (как знать), может быть, истинно верные природе реальности, потому что изнутри их освещают яркие огни дружбы и любви.
Как различны все эти мыслящие динамичные центры самих себя. Вот паук, день и ночь плетущий нити, чтобы связать крылья невинным; вот теплый источник света, освещающий соседние миры. Это живет в своей колее, не задаваясь вопросами, словно спит наяву, а этот всеми фибрами оголенных нервов ощущает каждый закоулок своего маленького мира.
Так различны были индивидуальности миллионов горожан, однако, подавленные общей иллюзией, общей тиранией, общей трагедией, все они стали жестоко обезличены отпечатком железной идеи.
Город был искалечен, но не покорен. Он был загнанной в угол крысой, попавшим в засаду тигром. Гордые и верные люди были трагически обмануты. Их кумиры рушились. Мягкие сердцем, отзывчивые на мольбу, преданные семье и празднику Рождества. Многомудрые тома, смелые теории. Музыка, отверзающая небеса. Народ, сознающий себя цивилизованным, но хранящий внутри варварство, подобно всем людям, и, может быть, более опасный. Слишком простой под всеми тонкостями. С зудом зверства под мягкостью – как у всех, только более свирепым. Народ, легко покорившийся жестокому богу – тем легче, что благородный Бог не оправдал надежд. Потому что старая нежная вера Запада истлела в сердцах. Несомненно, кто-то еще берег ее, какой-нибудь борец против тирании мог погибнуть за нее, но для большинства она умерла. Как верно эти люди повиновались новому пророку, своему бешеному шаману! Отдавая ему сыновей и дочерей, чтобы он перекроил их под свою мечту. Сжигая книги. Подавляя, убивая, пытая ради единства мира. Опьяненные видениями, как они стремились в страну обетованную, в изобильную Валгаллу славных, повелителей мира – эти самозваные спасители человечества. Но человечество отвергло их, восстало против них, и теперь их видения гасли. Не только потому, что отступали их армии, горели их города: в их сердцах долго дремавший дух восстал против самозванного пророка и его целей. Не потому ли, что месяц за месяцем, год за годом их жертвы и рабы вонзали в своих насильников ненавидящие взгляды? Взгляды, столь же бессильные, как булавочные уколы, но преследующие повсюду, бесконечно. Или собственное страдание научило их, наконец, мягкости?
Несчастный народ с трагичной судьбой. Глубоко провинившийся и ставший козлом отпущения для виновного мира.
Атака
Настороженных ушей защитников города коснулась тень звука. Звук – или почудилось? Если звук – то гром или отзвуки далекого сражения? Первые волны далекого удара отозвались дрожью в фундаментах домов и прошли по воздушным путям улиц. Вздрогнули руины. Огромное раненое существо задрожало каждой клеткой. И вместе со звуком по всему населению города, от дежурных на крышах до толпы в убежищах, прошел вздох, скрытый каждым от каждого.
Внезапно взревели орудия города. Задребезжали стекла и посуда. Булавочные проколы звезд затмило недолговечное сияние. Десять тысяч мальчиков в небесной вышине нацелились на убийство – и наравне с ними те, что при орудиях. Ливень огромных бомб терзал сердце города; каждая, попадая в дом или улицу, взрывалась огнем; их удары пересекались, словно кольца от дождевых капель на воде пруда. И в течение получаса еще множество городских сот было растоптано подошвой гиганта. Снова лишившиеся фасадов дома выставили свои потроха напоказ, как кукольные домики. Фабрики и конторы, школы и церкви вдруг обратились в кучи мусора. И в этих грудах кирпича и бетона, балок и перекрытий лежали человеческие тела. Многие из них были неподвижны, из них выбило дыхание и жизнь, но некоторые люди еще дышали – и кричали! А по всему городу паразитами пировали пожары, тянули к небу яркие щупальца, вздымали дым выше пролетавших бомбардировщиков.
В эти минуты многие сотни маленьких личных вселенных пропали, как пропадают пузыри на сохнущей пене. Их жизненные центры были уничтожены – так исчезает освещенная комната, когда разобьют лампу. А иные из выживших, объединенные с уничтоженными симбиотической связью, остались еле живыми калеками.
Яркие усики города ощупывали небо. Бомбардировщики в небесной вышине прокладывали курс между колоннами вражеских прожекторов и расцветающих бутонов пламени. Десять тысяч исполняли предписанный им долг. Сердце города было для них мишенью, которую нужно поразить еще перед завтраком. О том, что это ткань, сплетенная из жизней и любви, большинство из них забыли в напряжении атаки. Некоторым эта мысль мешала, и ее приходилось отгонять: у немногих укол жалости был отражен сознанием своей правоты, другие немногие – душевные калеки – наслаждались жестокой агонией. Но светлые головы взирали на созданный ими ужас со всей суровостью, словно выдавливали гной из нарыва; они делали свое дело вполне осознанно.
Каждый экипаж был скреплен стальными узами: разные обязанности и разные мысли объединялись общим повиновением цели. Каждый мальчик из каждой команды дорожил самим собой, нес сквозь ужас этой ночи упрямую тему собственной жизни, и в то же время каждый был самоотверженной частью целого. Быть может, здесь и там что-то не сходилось в общей мозаике мыслей, какой-нибудь одиночка или непокорный дух подтачивал единство экипажа, заражая остальных сомнением и страхом, отравляя общее единодушие и эффективность, как больной зуб или заноза в пальце ослабляют единство глаза и мышц атлета.
Но такие диссонансы были редки. Каждый экипаж был цельным существом в пределах маленькой вселенной смерти. И вся армада воздушных судов, эскадрилья за эскадрильей накатывающая на цель, выбрасывала в сердце города смертоносную икру с точностью часового механизма, с ошеломляющей целеустремленностью атакующего. С небес нападало единое существо, живой и разумный улей, где каждая пчела, жалея себя, жертвовала собой ради общей жизни, общей цели.
Бомбардировщики тоже уязвимы. То один, то другой, пойманный усиками прожекторов, задетый выстрелами орудий или подбитый истребителем обороны, вычерчивал в темноте длинную нисходящую кривую – огненный след – или пропадал в яркой вспышке.
Мотылек все порхал по летучей тюрьме в смутном беспокойстве. Но семеро готовились к решающему моменту – к сбросу смертоносного груза. Они, захваченные важностью задачи, стали семью органами механической летучей твари. Если бы в одно сознание из семи залетела индивидуальная мысль, она была бы немедленно изгнана. Общность семерых должна быть абсолютной. Только мотылек, невольный и неразумный пассажир, оставался чем-то отдельным. Телом попав в ловушку, он был свободен от человеческого разума, от его тирании и всей его тупости.
Кормовой стрелок был счастлив. Он уже убил и ждал новой атаки. Но когда мотылек вновь коснулся его чарами далекого, но такого родного мира, сердце стрелка на миг дрогнуло. Он яростно заставил себя встряхнуться, мобилизовался.
Самолет вдруг попал в перекрестье прожекторных лучей. Близкие разрывы сотрясали его. В бушующем свете кормовой стрелок на миг увидел мотылька: трепетную белую пылинку, зависшую в темноте.
А потом вселенную кормового стрелка объяло сияние и грохот, дикая боль прокатилась по каждому его нерву. Каждую клетку тела затопил свирепый жар. Так было со всеми семью. Бумажные крылышки мотылька мгновенно преобразились в облачко разрозненных молекул. Плоть семерых мальчиков распадалась в мучениях. Семь юных сознаний, средоточия и короли семи миров, переживали последний свой опыт. А потом и они превратились в стайку блуждающих молекул, в газовые облачка.
А семь молодых душ?
Последний миг кормового стрелка был до отказа заполнен болью, яростным отвращением тела к гибели. Все, что он испытал в своем мире: булавочные точки звезд – солнц, святое товарищество экипажа, поцелуй мотылька и девятнадцать лет взросления – все это стерла раскаленная добела агония тела. Потом ушла и боль. Кормовой стрелок исчез.
Первая интерлюдия. Что значит – умирать?
Мы прощались в тоннеле. Ты на платформе, я в вагоне. В дни ракетных ударов.
Ты с улыбкой отступила назад и послала мне воздушный поцелуй. В нем светилось все, что мы пережили.
Двери сомкнулись, разделив нас. Шанс, что мы больше не встретимся, был, думал я, один на много миллионов. И все же этим утром, всего за несколько улиц от нас, погибли десятки людей. Сегодня, как в тысячи других дней, они зевали в своих постелях, одевались, завтракали, собирались на работу, а потом внезапно или медленно и мучительно переставали быть. Так это виделось со стороны.
Что значит – умирать? Никто из тех, кто пробовал, не расскажет.
Что мы – просто искорки разума, навсегда гаснущие со смертью, или птенцы бессмертных, страшащиеся покинуть гнездо? Или то и другое? Или ни то, ни другое?
Мы зарождаемся в тайне и в тайне умираем.
Давайте же, по крайней мере, не бахвалиться бессмертием, не закладывать ему душу. Если конец – это сон, что ж, для усталого сон – последнее блаженство.
И все же, быть может, умирает только дорогое нам мелкое «я» каждого. Быть может, с его уничтожением нечто живое и вечное расправляет крылья и вылетает на волю. Нам не дано знать.
Но вот что мы знаем: исчезаем мы или достигаем вечной жизни, как бы то ни было, любить – хорошо.
Глава 2. Эфемерные души
Миг смерти. – Уничтожение и выживание. – Экипаж. – Дух экипажа. – Общество убитых. – Дух убитых. – Смерть духа убитых
Миг смерти
В самый миг исчезновения кормовой стрелок пережил странный опыт, о котором так легко не расскажешь. Он уже оставил позади боль и падал в ничто. В этот последний миг он пробудился к осознанию всей прошлой жизни. Вся его прошлая вселенная чудом промелькнула перед ним в изысканной чистоте утреннего сияния, во множестве подробностей. Он заново ощутил все свои дни и ночи разом, но теперь – как цепочку разноцветных бусин, выложенную перед ним в смене света и тьмы. Каждая был изукрашена уникальным опытом той конкретной ночи или того дня. Здесь, как наяву, он видел день, когда его впервые отвели в школу; ночь неописуемого кошмара, который не выпускал его из зубов еще много дней и ночей; день, когда он, школьник, узрел божественность в однокласснице; первый день работы в банке; ночь первой операции за проливом. Видел он также, что ниточкой, связывающей воедино все его дни и ночи, было драгоценное, постоянно растущее тело, которое теперь уничтожалось. Вот оно жило и несло в себе все воспоминания, транслировало страсть и восторг, служило источником всякой жажды и всякого ее утоления. Но теперь его тело переживало смерть, а его разум – уничтожение. Странно, странно, что в одном мгновении нашлось место для толпы мыслей и желаний, для всех его девятнадцати лет!
И на одном конце длинной цепочки дней он увидел самый первый день, замкнутый в мирную темноту лона, день болезненных и новых толчков, напора, мучительных схваток, и затем – укол холодного воздуха на нежной коже, и шлепок, расправивший его легкие для первого вдоха и крика. В этом первом, глубже всех похороненном воспоминании кормовой стрелок снова испытал слепой младенческий ужас, гнев и жалость к себе и пожелал вернуться в мирное лоно. Однако, рассматривая свой первый день с чудесной точки зрения последнего мига, он больше не стремился в лоно, которое, казалось, готово было поглотить его снова – и навсегда. Нет, он желал только жизни и исполнения всего, что она так поспешно обещала. Но вот перед ним лежала сумятица его дней, ярких от надежд и их частичного исполнения, но подпорченных бесконечной скукой, отчаянием, подделкой под будущее блаженство. Он жадно слизывал сладость своих драгоценных, сочтенных и исчисленных дней и сплевывал всю их горечь. И, жалея себя, он тосковал по зрелому мужеству, которого не успел испытать.
Но сейчас, в этот дивно наполненный миг на краю уничтожения, кормовой стрелок уловил в себе странный конфликт. Он, казалось бы, всем существом протестовал против небытия, но в то же время в самой глубине его что-то равнодушно принимало уничтожение. Казалось бы, всем существом он жадно цеплялся за каждое сладкое мгновенье жизни и в то же время нетерпеливо отворачивался, отыскивая взглядом окончательное завершение. Как будто два разных существа противоположных темпераментов оценивали каждый день и минуту его жизни. Одно было знакомо ему как он сам: жадный ловец удовольствий и беглец от боли. Другое – пугающее и нечеловечески чужое – было незнакомцем и в то же время самой глубиной его существа. Оно ничего не ловило, ничего не чуралось. Эта невидимая до поры, но активная часть его существа – если можно было считать ее таковой – принимала удовольствия наравне с болью, бесстрастно судила их с точки зрения некого высшего смысла, вопрошая, несут они в себе жизнь или смерть, усиливают широту и восприимчивость личности или калечат ее. Так, давний случай, когда он больно обжег руку, оценивался двояко. Обычное «я» кормового стрелка каменело от воспоминания боли, но вторая сторона его, тоже сознавая страдания тела, смотрела на них спокойно, с неслышной насмешкой над рабским характером первой половины. Потому что этот ожог не калечил, а увеличивал, прояснял опыт. Разве не он посвятил мальчика в грозную тайну страдания? А можно ли быть мужчиной, не пройдя этого посвящения?
Но его обычное «я» встречало решение высшей мысли непониманием, издевкой и ненавистью. Он спорил с собой: «Если уж умирать, умру настоящим, какой я есть, а не каким-нибудь длиннополым падре или ученым очкариком. Боль – это просто ад. Я не вижу в ней ничего хорошего, я ее ненавижу, терпеть не могу. К черту ее!»
В свой последний миг кормовой стрелок заново пережил тысячи мелких случаев раненой гордости и публичного унижения, как моль разъедавших крепкую ткань его жизни. Его снова отвергала первая красавица квартала; он узнавал, что его новый друг, настоящий герой, живет в трущобах. Только теперь его жестоко терзало несогласие между обычным «я» и вторым, более светлым. Одно покорно уступало давнему ужасу перед общественным мнением, другое же терзалось стыдом совсем иного порядка – стыдом за мальчишество и подлость. Потому что дружба, которая, как он теперь видел, могла осветить всю его жизнь, была отравлена снобизмом. Этой первой уступкой, как и многими другими предательствами, он отравлял собственную душу и каждый раз становился чуть более близоруким, более бессердечным.
Оценивая неуклюжие ухаживания за девушкой, которой он добивался в последнее время, его пробудившийся ум видел, что их живые души так и не встретились лицом к лицу. Оба они были слепы к себе и к другому. Оба вновь и вновь ранили друг друга – не из жестокости, а от поглощенности собой и по глупости. В тот раз, когда она, горюя над растоптанной бабочкой, искала у него сочувствия, он не додумался, что у ее горя есть скрытый источник. Втайне презирая ее за ребячество, он мельком утешил ее и стал ласкать. А она, хоть и уцепилась за него, стала странно холодной. Ему надоело добиваться ответа, и он поднял на смех девчонку, хнычущую по пустякам. Тогда она почему-то вдруг неудержимо расплакалась. В свой последний миг кормовой стрелок с чудной ясностью видел то, чего не поняли тогда ни он, ни она: в гибели бабочки она словно при вспышке молнии увидела ужас, затопивший бесчисленное множество людей и целые страны. Ее терзало противоречие между жалостью к угнетенным и вспыхнувшим пониманием, что участие в бойне, даже ради спасения терзаемых народов, – ужасное святотатство; но больной мир нуждается в этом святотатстве, и прекратить его было бы еще ужаснее. Но все это происходило в такой глубине ее существа, которое она никогда не изучала. Запутавшаяся и испуганная, она бежала этих глубин, находя выход чувствам в простой жалости к бабочке. Но смутное недоумение и беспричинный ужас остались. И, обращаясь к нему в тоне несчастного ребенка, а не женщины, поверяя ему маленькую на вид печаль, скрывавшую глубокое горе, она ждала большего, чем обычные любовные ласки: она надеялась на понимание и исцеление раны, в которую сама не смела вложить персты; в сущности, она просила любви, взаимного любопытства и бережности существ, разных по натуре, но слитых в единое целое. Все это сознавало теперь пробудившееся «я» кормового стрелка, и он горько презирал себя за давнюю недалекость.
Однако его обычное «я» отвергало это презрение к себе и страшилось остроты нового зрения. «Что на меня нашло? – бранился он. – Что со мной происходит? Откуда эта книжная чушь? Подобное мне не свойственно. Я не такой и никогда таким не был. И вообще, что мне эта девица? Черт возьми, не мое дело разбираться в ее глупых мыслишках и хныкать вместе с ней над букашками!»
Да, мысли о насилии заставляли кормового стрелка с особым ужасом восставать против нового «я». Живой мальчик всегда принимал – хоть и со смутным беспокойством – необходимость насилия ради защиты добра. Его самого призвали для участия в убийствах. Ради экипажа, ради страны он участвовал в бойне, загнав мысли о ней в дальний угол сознания вместе с ужасом и стыдом. Он говорил себе: «Работа грязная, но ее надо делать. Если нас проклянут за нее, то и ладно, но сделать работу нужно».
А между тем его новое «я» жестоко и горько раскаивалось. Его оживившееся воображение в мрачных подробностях рисовало агонию вражеского летчика, расстрелянного из пулемета или сбитого снарядом, и граждан вражеского государства, сгоревших или заваленных обломками разбомбленных зданий. Но еще страшнее этого ужаса было духовное предательство, сделавшее его возможным: предательство того, в чем благодаря новому зрению видел он главную святыню, – уз братства, связывающих все живое. Его захлестывали мысли, которые вряд ли сумел бы выразить грубый жаргон умирающего мальчика. Роясь в завалах вульгарных словечек, он откопал в кладовых памяти запылившиеся от бездействия слова и фразы. «Как я мог быть таким… таким бесчувственным? – спрашивал он себя. – Таким… толстокожим животным и таким трусом, что согласился участвовать в этой дикой бойне? И чем мне стереть, смыть этот грех? Я очнулся и увидел, что стою по горло в нечистотах, в вонючей яме, из которой мне ни за что не выбраться».
Впрочем, очень скоро мысли его переменились. Поднявшись над собой, он более объективно увидел не только участие в убийстве, но и всю жизнь без цели и смысла.
Обратившись к старому жаргону, он вздохнул: «Бедный тупица, болван несчастный!» И, мучительно подбирая слова, которые бы вернее выразили его новое, оживившееся понимание: «Этот бедный лунатик не мог иначе. Возможно ли для такого бесчувственного существа освободиться от всеобщего греха? Мог ли человек, который так боится разочарований, так пресмыкается перед волей племени, увидеть, что племя ошиблось, и восстать против него? От него только и можно было ожидать, что, повинуясь зову племени, он предаст свободу ради умения драться и убивать. Так он и сделал».
