Сияющие бесплатное чтение
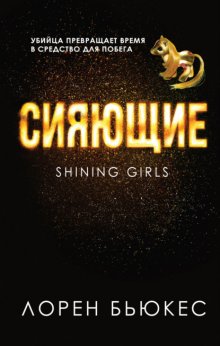
© Т. Чамата, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Посвящается Мэттью
Харпер
17 июля 1974
Он сжимает в потной ладони пластиковую оранжевую лошадку, спрятав руку в карман пиджака. Для самого разгара лета одежда слишком уж теплая, но у него давно вошло в привычку переодеваться в рабочее, когда он выходит на дело. В частности – в джинсы. Его шаг уверенный и твердый, несмотря на хромоту, – по нему видно, что он вышел не на бесцельную прогулку. Харпер Кертис далеко не бездельник. И время не ждет. За редкими исключениями.
На земле, скрестив ноги, сидит девочка. У нее голые коленки, белые, острые, словно птичьи косточки, и на них виднеются следы от травы. Заслышав шорох гравия, она вскидывает на него взгляд, но ненадолго. Все, что он успевает увидеть, – карие глаза под занавесью спутанных грязных волос, а потом она вновь возвращается к своему занятию.
Харпер немного разочарован; он надеялся, что глаза у нее будут синими – как озеро вдали от побережья, где бескрайние воды становятся похожи на океан. А коричневый – цвет мелководья и поднятой со дна грязи, в которой ни черта нельзя разглядеть.
– Что ты делаешь, золотце? – интересуется он у девочки с фальшивым энтузиазмом и присаживается рядом с ней в жиденькую траву. Да уж, он в жизни не встречал детей с таким гнездом на голове. Ее словно изрядно помотало по пыльной буре, а потом выбросило вместе с мусором, который остался валяться вокруг. Его много: проржавевшие консервные банки, стоящее на боку велосипедное колесо с выскочившими из обода спицами, щербатая чайная чашка, которую девочка поставила перед собой вверх дном, из-за чего серебристые цветочки у ободка утонули в траве. Ручка у чашки сколота – на ее месте осталась лишь пара притупившихся обрубков. – Пьешь чай?
– Нет, – бурчит она в скругленный воротничок своей клетчатой рубашки. Для ребенка с веснушками она слишком серьезная. Ей это совсем не идет.
– Ну и ладно, – говорит Харпер. – Я все равно больше люблю кофе. Не нальете мне чашечку, мадам? Черный, пожалуйста, и три ложки сахара. – Он тянется к обшарпанному фарфору, но девочка с возгласом шлепает его по руке. Из-под перевернутой чашки раздается низкое, весьма недовольное жужжание. – Господи, что у тебя там?
– Не чай, я же сказала! Я играю в цирк!
– Правда? – Он улыбается, нарочито глуповато и беззаботно, показывая, что не обижается, и ей не стоит принимать все так близко к сердцу. Но ладонь саднит от удара.
Девочка смотрит на него с подозрением. Не потому, что боится его – или того, что он может с ней сделать, – а потому что злится на него за недогадливость.
Теперь, оглядевшись, он действительно замечает раскинувшийся вокруг них разваливающийся цирк: его арену, выведенную на земле пальцем, канат в виде сплющенной соломинки для питья, устроенной на паре жестяных банок, и колесо обозрения – стоящее у куста погнутое велосипедное колесо, которое девочка подперла камнем, а между спиц засунула вырванных из журналов бумажных человечков.
А ведь этот камень прекрасно бы уместился у него в кулаке. И велосипедная спица легко проколола бы девочке глаз – прошла бы насквозь, словно через желе.
Он сильнее стискивает лошадку в кармане. Яростное жужжание, доносящееся из-под чашки, вибрацией расходится по позвоночнику, отдается в паху.
Чашка подпрыгивает, и девочка тут же прижимает ее к земле.
– Ой! – смеется она, и наваждение рассеивается.
– Да уж, еще какой «ой»! Кто там у тебя? Лев? – Он легонько толкает ее плечом, и ее недовольство сменяется на улыбку, пусть и почти незаметную. – Так ты, значит, дрессировщица? Будешь учить его прыгать через горящие кольца?
Она улыбается шире, сверкая белоснежными зубками. На ее округлых щеках россыпью выделяются яркие веснушки.
– Не-а, после прошлого раза Рэйчел не разрешает мне играть со спичками.
Один из клычков у нее вырос неровно: слегка налезая на резец. А благодаря улыбке даже мутная грязь карих глаз кажется сущей мелочью – теперь в них виднеется блеск, от которого трепещет сердце. Зря он сомневался в Доме. Она идеальна, как и все остальные. Его сияющая девочка.
– Я Харпер, – представляется он, затаив дыхание, и протягивает руку. Она пожимает ее, придерживая чашку свободной ладонью.
– А вы незнакомец? – спрашивает она.
– Уже нет. Я ведь сказал, как меня зовут.
– А я Кирби. Кирби Мазрахи. Но когда вырасту, буду Лори Стар.
– Это когда ты приедешь в Голливуд?
Она подтягивает чашку поближе, вызывая в запертом насекомом новую вспышку гнева, и Харпер понимает: не стоило это говорить.
– А вы точно не незнакомец?
– Ну, ты же хочешь выступать в цирке? Кем же Лори Стар будет? Воздушной гимнасткой? Наездницей на слонах? Клоуном? – Он прикладывает палец к верхней губе, шевеля им. – Или дамой с усами?
К его облегчению, Кирби хихикает.
– Ну не-е-ет!
– Будешь укрощать львов! Метать ножи! Глотать факелы!
– Я буду ходить по канату. Я даже немножко умею! Хотите, покажу?
Она хочет подняться, но он перебивает ее, охваченный отчаянием:
– Нет, подожди! Можно посмотреть на твоего льва?
– Да там не лев, если честно.
– А вдруг ты обманываешь? – не сдается он.
– Ладно, но только осторожно, а то он улетит. – Она самую чуточку приподнимает чашку. Харпер, уложив голову на землю, щурится, заглядывая внутрь, и вдыхает успокаивающий запах примятой травы и чернозема. Под чашкой кто-то шевелится. У него мохнатые лапки и черно-желтое тельце; его усики касаются края чашки, и Кирби, ахнув, вновь прижимает ее к земле.
– Ничего себе, какой большой шмель, – говорит он, присаживаясь на корточки.
– Знаю, – гордо отвечает ему Кирби.
– А ты нехило его разозлила.
– По-моему, он не хочет выступать в цирке.
– Хочешь, покажу тебе фокус? Ты мне только доверься.
– А какой?
– Тебе же нужен канатоходец?
– Нет, мне…
Но он уже поднял чашку и накрыл взвинченного шмеля ладонями. Глухой звук, с которым отрываются его крылышки, напоминает о вишне, которую Харпер целое лето собирал в Рапид-Сити, – с точно таким же звуком он срывал ее с черенков. Он ведь колесил по стране в поисках работы словно ужаленный. Пока не нашел Дом.
– Что ты делаешь?! – кричит Кирби.
– Так, теперь нам нужна липучка для мух. Натянем ее между банками, и наш шмелек сможет по ней ходить, но точно не упадет. Есть у тебя липучка?
Он усаживает шмеля на край чашки. Тот цепляется за нее лапками.
– Зачем ты с ним так?! – Она бьет его по руке открытыми ладонями быстро и буйно.
Такая реакция его удивляет.
– Мы же играем в цирк?
– Ты все испортил! Уходи! Уходи-уходи-уходи-уходи! – повторяет она, продолжая его колотить.
– Ну хватит, хватит, – смеется он, но она не останавливается. Он перехватывает ее руку. – Сказал же. Заканчивай-ка ты нахрен, малышка.
– А ты не ругайся! – кричит она и вдруг начинает рыдать. Не этого он ожидал от их первой встречи – хотя планировать их всегда довольно бессмысленно. Дети непредсказуемы, и это так утомляет. Поэтому он их и не любит. Лучше дождаться, пока они подрастут – вот тогда-то все будет по-другому.
– Ну ладно, ладно, прости. Только не плачь, хорошо? У меня для тебя подарок. Не плачь, пожалуйста. Смотри. – Он не знает, что еще делать, поэтому достает из кармана лошадку. Точнее, пытается, потому что ее голова за что-то цепляется, и ему приходится выдергивать ее силой. – На, бери. – Он пихает лошадку девочке в руки. Как талисман – один из тех, что связывают все воедино. Не поэтому ли он взял ее с собой? Лишь на мгновение в его мыслях мелькает сомнение.
– Что это?
– Лошадка. Не видишь, что ли? Лошадка-то явно лучше, чем какой-то дурацкий шмель, согласись?
– Но она игрушечная!
– Да знаю я, чтоб тебя. Бери уже, а? Это подарок.
– Не хочу. – Она шмыгает носом.
– Ладно, это не подарок, а вклад. Я отдам тебе лошадку, а ты будешь ее охранять, как в банке.
Солнце припекает затылок. В пиджаке становится слишком жарко. Ему сложно собраться с мыслями и хочется поскорее уйти.
Шмель, свалившись с края чашки в траву, заваливается на спинку и беспомощно сучит лапками в воздухе.
– Ладно.
Ее слова успокаивают его. Все так, как и должно быть.
– Самое главное – не потеряй ее, хорошо? Я за ней вернусь. Договорились?
– А зачем?
– Потому что она мне очень нужна. Сколько тебе лет?
– Шесть, но через три месяца будет семь.
– Вот и отлично. Просто чудесно. Самое то. Планета вертится, как твое колесо обозрения. Когда подрастешь, мы снова встретимся. Не забывай обо мне, золотце, ладно? Я обязательно за тобой вернусь.
Он встает и отряхивает джинсы, а потом разворачивается и быстро уходит, лишь немного прихрамывая. Девочка провожает его взглядом – он переходит дорогу, а потом идет к железнодорожным путям и вскоре скрывается среди растущих вокруг деревьев. Только тогда она смотрит на пластиковую лошадку, влажную от его пота, и кричит ему вслед:
– Да? Как будто мне нужна твоя дурацкая лошадь!
Она бросает ее на землю, и игрушка, отскочив, падает рядом с велосипедным колесом обозрения. Под безучастным взглядом ее нарисованных глаз по земле ползет шмель, сумевший перевернуться.
Но за лошадкой Кирби еще вернется.
Куда она денется.
Харпер
20 ноября 1931
Песок проваливается под ногами – не песок даже, а зловонное льдистое месиво, от которого ботинки с носками насквозь промокли. Харпер ругается себе под нос, тихо, так, чтобы не услышали его преследователи. В темноте раздаются их крики: «Где он? Вы его поймали?» Если бы не было так чертовски холодно, он бы рискнул уйти по воде. Но его и так трясет от дующего с озера ветра, заползающего под рубашку, – залитое кровью пальто пришлось бросить за баром.
Он пробирается дальше по пляжу, чавкая грязью, среди сваленного повсюду мусора и гниющей древесины. У самой кромки воды стоит какая-то халупа из картонных коробок, склеенных между собой просмоленной лентой, – неплохое место, чтобы укрыться. Сквозь щели коробок просачивается свет фонаря, и вся развалюха будто бы светится. Харпер не понимает, почему люди вообще уходят жить так близко к воде. Может, думают, что все и так пошло под откос, и хуже уже просто не будет. Ну да, ведь никто не придет и не насрет им под дверь. И уровень воды не поднимется после дождя, ко всем чертям смыв их насквозь провонявшее жилище. Проклятый Гувервилль[1]. Пристанище всеми забытых людей, для которых неудачи стали привычным делом. Никто не будет скучать по ним. И уж точно никто не будет скучать по сраному Джимми Грэбу.
Он не ожидал, что кровь будет хлестать из Грэба так сильно. Но урод сам напросился – дрался бы честно, и ничего бы с ним не случилось. Но нет, он был пьяным в стельку жирдяем, который не придумал ничего лучше, чем полезть к яйцам Харпера, потому что не смог ему врезать. Ублюдок даже успел схватить его за штаны своими жирными пальцами. А на грязные приемы отвечать нужно еще грязнее. Харпер не виноват, что острый осколок стекла задел артерию. Он-то метил Грэбу в лицо.
А все из-за того, что хренов туберкулезник начал кашлять на карты. Нет, Грэб, конечно, стер кровь рукавом, но все знали, что он заразный – видели, как он постоянно отхаркивается в испачканный кровью платок. Болезни, разруха да шалящие нервы. Вот что погубит Америку.
Но разве докажешь это «мэру» Клейтону и его геройской шайке самовлюбленных линчевателей? В подобных местах плюют на законы. Как и на деньги, и на собственное достоинство. Можно было бы догадаться – он же видел висящие на каждом втором магазине вывески о взыскании имущества банком. Стоило посмотреть правде в глаза: американцы сами на это напросились.
По пляжу скользит тусклый луч фонаря, ненадолго останавливаясь на следах, которые Харпер оставил в грязи. Но вскоре он пропадает и вспыхивает в другой стороне, а дверь халупы отворяется, и пляж заливает светом. На пороге стоит женщина, тощая, как помойная крыса. В свете керосиновой лампы ее лицо кажется серым и дряхлым, как и у всех местных жителей, словно пыльные бури унесли за собой не только посевы, но и остатки человеческой индивидуальности.
На ее острых плечах болтается темный пиджак, который был велик ей на несколько размеров. Шерстяной, теплый. Словно шаль. Харпер сразу понимает, что отберет его, – и лишь затем замечает, что женщина слепа. У нее пустой взгляд, гнилые зубы, а изо рта несет кислой капустой. Она касается его руки.
– Что такое? – спрашивает она. – Что за крики?
– Бешеный пес сбежал, – отвечает ей Харпер. – Они его ловят. Идите лучшей домой. – Он мог бы сорвать с нее пиджак и уйти. Но вдруг она закричит? Вдруг будет сопротивляться?
Она стискивает его руку сильнее.
– Стойте, – произносит она. – Это вы? Бартек, это вы?
– Нет, мэм. Не я. – Он пытается отцепить от себя ее пальцы. Но она продолжает, и голос ее становится громче. Такой привлекает внимание.
– Это вы. Это ведь вы. Он предупреждал, что вы скоро придете! – В ее голосе слышны истеричные нотки. – Он сказал, что…
– Тише, все хорошо, – говорит Харпер. Прижать ее к навесу за шею, навалившись всем весом, не составляет труда. Он просто хочет, чтобы она замолчала. Сложно кричать со сдавленным горлом. Женщина распахивает рот, пытаясь вздохнуть. Ее глаза лезут из орбит. Глотка под рукой содрогается. Она стискивает его рубашку, будто выжимает мокрую тряпку, а потом хрупкие костлявые пальцы разжимаются, и она безвольно оседает, привалившись к стене. Харпер склоняется вместе с ней, осторожно укладывая на землю, и снимает с нее пиджак.
В лачуге он замечает мальчишку. Тот смотрит на него огромными глазами.
– Чего пялишься? – шипит ему Харпер, натягивая пиджак. Он слишком большой, но его это не волнует. В кармане что-то бренчит. Может, ему повезло, и там мелочь? Нет, как он выяснит позже, его находка окажется куда ценнее, чем деньги.
– Иди, принеси маме попить. Не видишь, ей плохо.
Мальчишка смотрит на него не моргая – а потом вдруг заходится криком, привлекая лучи фонарей. Их свет падает на лачугу и лежащую на песке женщину, но Харпер уже бежит прочь.
– Вон он! – кричит кто-то из приспешников Клейтона, а может, и самопровозглашенный мэр собственной персоной, и преследователи бросаются к пляжу.
Харпер мчится по лабиринту из хлипких лачуг и палаток, жмущихся так тесно друг к другу, что между ними не протолкнешь и тележку. «Муравьи – и те живут лучше», – думает он, сворачивая в сторону Рэндольф-стрит.
И тут же оказывается, что некоторые люди и сами ведут себя как муравьи.
Брезент, на который он наступил, проваливается под ногами, и он падает в узкую яму, длинную и очень глубокую. Видимо, она служит кому-то домом, а брезент был подобием крыши.
Приземляется он неудачно: левая рука задевает деревянный настил, служащий кроватью, и что-то резко трещит, словно лопнувшая струна. От удара Харпера ведет в сторону, и он всей грудью врезается в самодельную плиту. Дух вышибает; лодыжка болит, будто в нее всадили пулю, но выстрела он не слышал. Не получается ни закричать, ни вздохнуть – сверху падает парусина, сковывая его по рукам и ногам.
Так Клейтон с дружками его и находят – барахтающимся в полотне и проклинающим сраного бродяжку, у которого не хватило рук и мозгов построить нормальную халупу. Собравшиеся у края ямы мужики светят вниз своими фонариками. В их свете от них видны одни только силуэты.
– Нельзя приходить в чужой монастырь со своим уставом, – нравоучительно говорит ему Клейтон.
Харпер с трудом глотает воздух. От каждого вздоха становится больно. Он сломал ребро, это точно, но ноге еще хуже.
– Соседей нужно уважать, и они будут уважать тебя, – продолжает свою проповедь Клейтон. То же самое он говорит на собраниях, когда убеждает людей, что нужно наладить отношения с местными предпринимателями. А потом эти предприниматели жалуются в администрацию, и на всех халупах в округе появляется уведомление о необходимости освободить землю в течение недели.
– Сложно кого-то уважать с того света, – смеется Харпер, но хрипло, и живот стягивает болью.
Он опасается, что мужики принесли ружья, но успокаивает себя: вряд ли они на это пойдут. А потом свет фонаря смещается в сторону, и он замечает в их руках трубы и молотки. Снова становится страшно.
– Ну что, сдадите меня властям? – с надеждой спрашивает он.
– Не, – отвечает Клейтон. – Нечего им здесь делать. – Он взмахивает рукой с фонариком. – Вытаскивайте его, ребята. А то узкоглазый скоро вернется, а в его яме всякие отбросы валяются.
За мостом на горизонте появляются первые лучи рассветного солнца, и вместе с ними приходит спасение. Помощники Клейтона не успевают к нему спуститься – с неба на них обрушивается обжигающе-ледяной ливень. А где-то среди трущоб раздается крик:
– Полиция! Это облава!
Клейтон оборачивается посоветоваться с дружками. Они что-то орут и размахивают руками, как обезьяны, а потом сквозь дождь прорывается пламя, заревом освещая все вокруг, и разговоры стихают.
– А ну не трожь!.. – доносится с противоположной стороны Рэндольф-стрит, а потом кто-то вопит: – У них керосин!
– Ну, чего ждете? – спрашивает Харпер негромко. Дождь и раздающиеся крики заглушают его голос.
– Сиди на месте. – Клейтон грозит ему обломком трубы, но его подельники расходятся. – Мы с тобой еще не закончили.
Не обращая внимания на хрипы, вырывающиеся из груди, Харпер приподнимается на локтях. Один край брезентовой крыши все еще цепляется за крепление, вбитое в землю, и Харпер дергает ткань, заранее понимая, что чуда можно не ждать. Но гвозди выдерживают.
Где-то над головой раздается голос дражайшего мэра, который пытается перекричать шум драки.
– Где судебное постановление?! Что, думаете, можете просто прийти и жечь наши дома? Мы и так уже все потеряли!
Харпер стискивает тяжелый брезент в кулаке, опирается здоровой ногой на перевернутую плиту и резко подтягивается. Лодыжка задевает стену ямы – и взрывается ослепительной болью. Его рвет, и он отплевывается от вязкой слюны и кровавой желчи. Но ткань из рук не выпускает – просто моргает, пока не пропадают пляшущие перед глазами черные точки.
За барабанной дробью дождя криков почти не слышно. Времени мало. Харпер карабкается вверх по мокрому сальному брезенту, как по канату. Еще год назад сил бы ему не хватило – но трех месяцев в Нью-Йорке на строительстве моста Трайборо достаточно, чтобы руки стали как у орангутана, которого он как-то видел на сельской ярмарке ломающим арбузы пополам.
Брезент подозрительно трещит, и Харпер боится, что сейчас снова рухнет в проклятую дыру. Но ткань выдерживает, и он кое-как вылезает из ямы, навалившись грудью на торчащие из крепления гвозди. Да и плевать. Чуть позже, когда он осмотрит царапины, то решит, что они похожи на следы от ногтей какой-нибудь запальчивой шлюхи.
Но пока он лежит под хлещущим спину дождем, уткнувшись лицом в грязь. Крики раздаются где-то вдали, но в воздухе чадит дым, а всполохи горящих повсюду лачуг разгоняют серость рассвета. Откуда-то доносится обрывочная мелодия; видимо, жители близлежащих домов открыли окна, наслаждаясь зрелищем.
Харпер ползет в грязи на четвереньках. Каждое движение обжигает болью – а может, его пожирает настоящее пламя. Костер, из которого он восстанет перерожденным.
Где-то на земле находится палка, и Харпер поднимается, опираясь на нее. Он хромает; левая нога подворачивается, волочится за ним бесполезной тряпкой. Но он не останавливается. Так и идет сквозь тьму и сквозь дождь, оставляя за спиной пылающие трущобы.
У всего в этой жизни есть причина. Ему пришлось сбежать – и он пришел в Дом. Он взял пиджак – и от Дома нашелся ключ.
Кирби
18 июля 1974
Раннее утро опускается на землю тяжелыми, темными сумерками; это странное время – последние электрички давно уже перестали ходить, дороги опустели, но птицы еще не начали петь. Ночь дышит жаром. От душного влажного воздуха на улице полно насекомых: мотыльки и мошки выстукивают неровную дробь о фонарь на крыльце; где-то под потолком тонко пищит комар.
Кирби лежит в кровати, поглаживая нейлоновую гриву лошадки, и вслушивается в стоны пустого дома. Он урчит, словно голодный желудок, – «утихомиривается», как говорит мама. Но мамы нет дома. На улице стоит глубокая ночь, – или раннее утро, – а Кирби не ела ничего с прошлого завтрака, который состоял из застарелых кукурузных хлопьев, и в стонах дома нет ничего тихого или мирного.
– Он просто старый. Ветер гуляет, наверное, – шепчет Кирби лошадке. Но входная дверь хлопает, хотя заперта на засов. И пол скрипит, словно к Кирби крадется грабитель с большим черным мешком, в который он ее засунет. А может, и не грабитель. Может, это ожившая кукла из того страшного фильма, который ей запрещали смотреть, перебирает по полу своими пластиковыми ножками.
Кирби выбирается из-под одеяла.
– Я пойду проверю, хорошо? – говорит она лошадке, потому что не может просто лежать и ждать, пока к ней придет жуткий монстр. Дверь в ее комнату расписана причудливыми цветами и переплетающимися виноградными лозами – мама Кирби разрисовала ее четыре месяца назад, когда они только въехали в дом. Кирби приближается к ней на цыпочках; она не знает, кто – или что – поднимается по лестнице, но она готова обороняться.
Прячась за дверью, как за щитом, она вслушивается в ночь, ковыряя ногтем шершавую краску. Она уже ободрала тигровую лилию до голого дерева. Кончики пальцев покалывает. Тишина звоном отдается в ушах.
– Рэйчел? – шепчет Кирби, совсем тихо, так, что слышит ее только лошадка.
Где-то совсем рядом раздается глухой стук, а потом грохот и звон разбитого стекла.
– Черт!
– Рэйчел? – громче повторяет Кирби. Сердце грохочет в груди, как ранняя электричка.
На мгновение воцаряется тишина. А потом раздается голос мамы:
– Иди спать, Кирби, все хорошо.
Кирби знает, что она врет. Но она хотя бы не Говорящая Тина, живая кукла-убийца.
Оставив в покое слезающую краску, она выходит в коридор, обходя осколки разбитой вазы. Среди увядших роз, плавающих в пованивающей воде измятыми лепестками и сморщенными бутонами, они блестят как алмазы. Мама оставила дверь приоткрытой.
С каждым новым переездом дома становятся все хуже и хуже. Их старость не скрыть даже за рисунками, которыми Рэйчел украшает шкафы, двери и даже пол, словно показывая: этот дом теперь их. Рисунки они с Кирби выбирают из большого серого графического альбома: там полно тигров, единорогов, ангелов и загорелых островитянок с цветами в волосах. По этим картинкам Кирби отличает один дом от другого. Здесь, например, на кухонном шкафчике над плитой нарисованы расплавленные часы, а значит, слева от них стоит холодильник, а ванная прячется под лестницей. Все дома отличаются друг от друга. Иногда в них есть сад, иногда у Кирби появляется собственный шкаф – иногда даже полки, если ей повезет, – и лишь одно остается неизменным: комната Рэйчел.
Про себя Кирби называет ее пиратской бухтой сокровищ. (Мама говорит, что пираты закапывают клады, а не хранят сокровища в бухтах, но это не мешает Кирби представлять волшебный потаенный залив, куда можно приплыть на большом корабле – но только если тебе повезет, только если под рукой окажется подходящая карта.)
По комнате разбросаны платья и шарфы, словно в ней закатила истерику вспыльчивая пиратская принцесса. На золотистых завитушках большого овального зеркала болтается разная бижутерия. Его Рэйчел всегда вешает в первую очередь после переезда, обязательно ударив молотком палец. Иногда они с Кирби играют в переодевалки, и Рэйчел наряжает ее в целую гору браслетов и ожерелий, а потом говорит, что она похожа на рождественскую елку – хотя они наполовину евреи, а те не празднуют Рождество.
Над окном висит украшение из цветного стекла. Днем, когда в окно светит солнце, его радужные блики пляшут по всей комнате, забираясь даже на стол для рисования и иллюстрации, над которыми Рэйчел работает.
Когда Кирби была совсем маленькой и они еще жили в городе, Рэйчел устанавливала вокруг стола ограду, чтобы Кирби спокойно ползала по комнате и не мешала. Раньше она рисовала для женских журналов, а сейчас «мой стиль никому больше не нужен, малышка, мода – дама капризная». Слово «дама» очень забавное. Оно нравится Кирби. Дама-рама-мама-мадама. А еще ей нравится подмигивающая официантка с двумя тарелками масляных блинчиков в руках, которую мама нарисовала для блинной «У Дорис» недалеко от магазинчика на углу.
Но сейчас радужное украшение холодно и мертво тускнеет, на лампе висит небрежно сброшенный желтый шарф, и во всей комнате царит уныние. Рэйчел лежит на кровати, закрыв лицо подушкой. Она даже не разделась – не сняла ни туфли, ни платье, и под черной кружевной тканью ее грудь часто подергивается, как от икоты. Кирби останавливается на пороге, но мама не замечает ее. Хочется что-то сказать, но нужные слова не приходят.
– Ты в обуви на кровати, – наконец выдавливает она хоть что-то.
Рэйчел убирает подушку в сторону и смотрит на дочь красными от слез глазами. От потекшей туши на ткани чернеет пятно.
– Прости, солнышко, – говорит Рэйчел. Почти что щебечет. (Почему-то это слово напоминает Кирби другое. «Щербатый». Как зубы Мелани Оттесен, когда та свалилась с каната. Как треснутые стаканы, из которых опасно пить.)
– Нужно разуться!
– Знаю, солнце, – вздыхает Рэйчел. – Не кричи.
Она поддевает ремешки носками черно-коричневых туфель, а потом сбрасывает их на пол. Перекатывается на живот.
– Почешешь мне спинку?
Кирби забирается на кровать и садится рядом, скрестив ноги. Мамины волосы пахнут сигаретами. Она проводит по тонкому кружеву платья кончиками ногтей.
– Почему ты плачешь?
– Я не плачу.
– Нет, плачешь.
Мама вздыхает.
– Раз в месяц с женщинами такое случается.
– Ты всегда так говоришь, – дуется Кирби, а потом, словно между прочим, добавляет: – А у меня есть лошадка.
– У меня денег не хватит купить тебе лошадку, – сонно произносит Рэйчел.
– Да нет, у меня она уже есть, – закатывая глаза, поясняет ей Кирби. – Оранжевая. У нее бабочки на боках, карие глаза и золотая грива, и она, эм, она немножко дурацкая.
Мама беспокойно оглядывается на нее через плечо.
– Кирби! Ты ее что, украла?
– Нет! Мне ее подарили. Хотя я не просила.
– Ну ладно. – Мама потирает глаза ладонью, размазывая тушь. Так она выглядит как разбойница.
– Так мне можно ее оставить?
– Конечно. Тебе все можно. Ну, почти. А с подарками делай все, что захочешь. Хоть ломай или бей на кусочки.
«Прямо как вазу в коридоре», – думает Кирби.
– Хорошо, – серьезно отвечает она. – У тебя волосы странно пахнут.
– Кто бы говорил! – Смех мамы тоже пляшет по комнате радугой. – Ты сама-то давно голову мыла?
Харпер
22 ноября 1931
Больница Милосердия свое название не оправдывает.
– Заплатить сможете? – резко интересуется из-за стекла уставшая женщина в регистратуре. – Если да, пройдете без очереди.
– А сколько ждать? – хрипит Харпер.
Женщина кивает в сторону приемного покоя. Скамеек там нет, поэтому людям приходится стоять; только некоторые сидят, а то и лежат на полу, подкошенные болезнью, усталостью или простой скукой. Во взглядах, которые они бросают на Харпера, видны то надежда, то ярость, то зыбкая шаткая смесь всего сразу. Но некоторые смотрят смиренно – как лошади, доживающие свои последние дни. Харпер видел таких на фермах: с торчащими острыми ребрами, словно трещины в мертвой земле, по которой они тащут плуг. Таких лошадей пристреливают.
Он достает из украденного пиджака помятую пятидолларовую купюру, которую нашел в кармане вместе с булавкой, тремя монетами по десять центов и ключом, тусклым и старым. Ключ показался ему странно знакомым – может, потому, что был таким же потертым, как и он сам.
– Ну что, на милосердие хватит, хозяйка? – спрашивает он, пихая купюру в окошко.
– Да. – Она выдерживает его взгляд. Хочет показать, что ей не стыдно брать с него деньги, но своим упорством лишь доказывает обратное.
Она звонит в колокольчик, и к ним выходит медсестра, постукивая по линолеуму широкими каблучками удобных туфель. «Э. Кэппел», судя по бейджику. Простушка, но симпатичная: с розовыми щеками и аккуратными каштановыми локонами, выглядывающими из-под белой шапочки. Только нос слишком вздернут. Как пятачок.
«Свинка», – думает Харпер.
– Идите за мной, – говорит она, не скрывая своего раздражения. Становится ясно: для нее он просто очередной отброс. Развернувшись, она быстро уходит, и Харпер кидается следом. Бедро простреливает болью на каждом шаге, но отставать он не собирается.
Палаты, мимо которых лежит их путь, забиты до отказа. Кое-где люди ютятся на кроватях по двое, лежа валетом. В воздухе пахнет болезнью.
Хотя в военных госпиталях бывало и хуже. Калеки на залитых кровью носилках, воняющие паленым мясом, гноем, дерьмом, рвотой и кислым лихорадочным потом. Вторящий им хор бесконечных мучительных стонов.
Был там парнишка из Миссури, которому оторвало ногу. Он так орал, что не давал никому спать, пока Харпер не подошел к нему, словно хотел успокоить. Но вместо этого тайком всадил придурку в раскуроченное бедро свой штык и резко дернул им вверх, перерезав артерию. Прямо как на армейских сборах, где он практиковался на соломенных чучелах. Воткнуть и повернуть. Выпусти человеку кишки – и он точно уже никуда не пойдет. Работать штыком Харперу всегда нравилось больше, чем стрелять. Так он точно знал, кого убивает. Помогало мириться с войной.
Жаль, здесь так не получится. Хотя от надоедливых пациентов можно избавиться и по-другому.
– Принесли бы им яду, – говорит Харпер, чтобы позлить пухленькую медсестру. – Они бы только спасибо сказали.
Та презрительно фыркает, открывая перед ним двери в платное крыло. Палаты тут чистенькие, рассчитанные на одного человека и в основном пустующие.
– Не искушайте. У нас тут уже не больница, а какой-то чумной двор. То тиф, то инфекции. Яд – предел мечтаний. Но только попробуйте заговорить о нем при хирургах.
В палате, мимо которой они проходят, Харпер замечает девушку, окруженную цветами. Она напоминает кинозвезду, хотя Чарли Чаплин уже давно променял Чикаго на Калифорнию, попутно забрав с собой всю киноиндустрию. Светлые кудри липнут к лицу, а в лучах бледного зимнего солнца она кажется еще бледнее, чем есть. Но когда Харпер останавливается перед дверью палаты, она приоткрывает глаза. А потом присаживается на кровати и солнечно улыбается, словно ждала его и очень даже не против немного с ним поболтать.
Сестру Кэппел такой вариант не устраивает. Она хватает его за локоть и ведет дальше.
– Хватит глазеть. Вот уж поклонников девке точно хватает.
– А кто это? – Харпер оглядывается через плечо.
– Да никто. Танцовщица. Отравилась радием, дура. Мажется им, когда выступает, чтобы светиться в темноте. Не волнуйтесь, скоро мы ее выпишем, вот тогда и насмотритесь. Во всей красе, так сказать, насколько я знаю.
Она заводит его в кабинет с белоснежными стенами, остро пахнущий антисептиком.
– Ну, садитесь. Посмотрим, что у вас тут.
Он с трудом забирается на стол для осмотра. Сестра Кэппел хмурится, разрезая грязную тряпку, которой он насколько мог туго перевязал ногу.
– Ну вы и идиот, – сообщает она. Уголки ее губ изгибаются в едва заметной усмешке: ей прекрасно известно, что она может говорить все, что вздумается. – Вот и чего вы ждали? Думали, само все пройдет?
Она права. К тому же последние пару дней он урывками спал на задворках, подстелив картонку и накрывшись украденным пиджаком, потому что возвращаться к своей палатке было чревато: там могли поджидать Клейтон с дружками, вооруженные обрезками труб и молотками.
Блестящие серебряные ножнички, тихо щелкая, разрезают тряпичную перевязь. На распухшей ноге от нее остались белые полосы, и так она похожа на вязанку ветчины. Ну и кто тут свинка?
«Вот же зараза, – горько думает Харпер. – Прошел всю войну без серьезных травм, а грохнулся в нору какого-то бомжа – и сразу калека».
Дверь распахивается, и в кабинете появляется доктор. Немолодой, с брюшком и убранными за уши густыми седыми волосами, похожими на львиную гриву.
– Ну-с, на что жалуетесь, сэр? – Он улыбается, но снисходительный тон все портит.
– Уж точно не на то, что всю ночь танцевал, обмазавшись краской.
– Да вам и не придется, судя по всему, – замечает доктор, все еще улыбаясь, и поворачивает опухшую ступню, обхватив ее обеими руками. А потом ловко, даже профессионально, уворачивается от взвывшего Харпера, который замахнулся на него кулаком. – Ну-ну, помашите мне тут, голубчик, и вас взашей выгонят, – усмехается доктор. – Никакие деньги вам не помогут.
Он снова сгибает его ступню, двигая ее вверх и вниз, но теперь Харпер стискивает зубы и сжимает кулаки, стараясь держать себя в узде.
– Пальцами пошевелить сможете? – спрашивает доктор, внимательно изучая его ногу. – Чудесно, чудесно. Это хорошо. Лучше, чем я думал. Замечательно. Вот, смотрите, – обращается он к сестре, зажимая дряблую кожу над пяткой. – Здесь должны быть сухожилия.
– Да, действительно, – медсестра тоже ощупывает пятку. – Вы правы.
– И что это значит? – спрашивает Харпер.
– Да то, что ближайшие пару месяцев вам стоит побыть в больнице, голубчик, но что-то мне подсказывает, что для вас это не вариант.
– У меня нет на это денег.
– И озабоченных воздыхателей, готовых раскошелиться на ваше здоровье, как у нашей светящейся девушки. – Доктор подмигивает. – Можем наложить вам гипс, вручить костыль и отправить восвояси. Но разрыв сухожилий так просто не вылечить. Нужно месяца полтора постельного режима, не меньше. Могу посоветовать одного башмачника, он специализируется на ортопедической обуви. Сделает вам что-нибудь на каблуке – это поможет.
– Я не могу просто лежать. Мне нужно работать. – В голос прокрадываются жалобные нотки, за которые Харпер на себя злится.
– Сейчас у всех проблемы с деньгами, мистер Харпер. Спросите в администрации, если не верите. Так что советую что-нибудь придумать. – Задумавшись, он прибавляет: – Сифилиса-то у вас нет небось?
– Нет.
– А жаль. В Алабаме как раз начали его исследовать, заплатили бы вам за лечение. Правда, у них программа только для негров.
– Я не негр.
– Не повезло, – пожимает плечами доктор.
– Я смогу ходить?
– О, разумеется, – говорит доктор. – Но на роль в спектакле у мистера Гершвина рассчитывать вам уже точно не придется.
Из больницы Харпер выходит, прихрамывая, с перевязанными ребрами, гипсом и ударной дозой морфина в крови. Первым делом он лезет в карман: проверить, сколько осталось денег. Два доллара с мелочью. Но затем пальцы проходятся по зазубренному краю ключа, и что-то в голове проясняется, щелкает, как приемник. Может, все дело в морфине. Может, просто настал подходящий момент.
Раньше он ни разу не замечал, как гудят уличные фонари: низко и глухо, вибрацией отдаваясь в ушах. До вечера еще далеко, и огни не горят, но Харперу все равно кажется, что они вспыхивают, когда он подходит ближе. Гул отдаляется, останавливается у фонаря чуть подальше, словно зовет за собой. «Сюда». Харпер готов поклясться: он слышит потрескивающую музыку и чей-то далекий голос, искаженный, словно плохо настроенное радио. Фонари гудят, и он следует за их гулом, пытаясь справиться с неповоротливым костылем.
Стейт-стрит приводит его к деловому центру Вест-Луп и плавно перетекает в Мэдисон-стрит, по обеим сторонам которой возвышаются сорокаэтажные небоскребы, делая ее похожей на каньон. Оттуда он сворачивает в Скид-Роу, где за два доллара можно снять койку на несколько дней. Но гул фонарей ведет его дальше, к Блэк Белт. Здесь полно сомнительных баров, откуда играет джаз, да захудалых кафешек, которые быстро сменяются нагромождением дешевых домов. На улице перед ними играют тощие дети в обносках, а на ступенях сидят старики с самокрутками, которые провожают его взглядами пристальных глаз.
Постепенно улица становится у́же, а дома начинают налезать друг на друга сильнее, отбрасывая на тротуар прохладную тень. Откуда-то из квартиры сверху доносится женский смех, резкий и неприятный. Повсюду, куда ни посмотри, Харпер замечает следы разрухи. Битые стекла в домах, написанные от руки вывески на витринах пустых магазинов: «Мы закрыты», «Закрыто на неопределенный срок», а один раз и вовсе одно лишь «Простите».
С озера дует холодный сырой ветер. Он прорезает тусклый пасмурный день и забирается прямо под пиджак. Чем дальше Харпер пробирается по складскому району, тем меньше ему попадается людей и тем громче играет заунывная, нежная музыка. Он знает ее. Это «Незнакомец из ниоткуда». Голос торопливо нашептывает ему: «Ну же, Харпер Кертис, ну же, вперед».
Подчиняясь музыке, он пересекает железную дорогу и выходит к Вест-Сайду, где находит целую улицу рабочих бараков – одинаковых деревянных домов с облупившейся краской, стоящих плечом к плечу. К одному из них Харпер подходит. В нем нет ничего выдающегося: большие выступающие окна забиты досками, а на заколоченной крест-накрест двери болтается табличка: «Закрыто под снос по распоряжению администрации города Чикаго». Вот вам бланк, господа избиратели, голосуйте. Герберт Гувер – ваш президент!
Музыка раздается из-за двери дома под номером 1818. Будто бы призывает войти.
Харпер дергает дверь, просунув руку через доски, но она заперта. Его захлестывает необъяснимое чувство: все было предрешено. На улице никого. Окна домов закрыты либо досками, либо плотными шторами. Издалека раздается шум машин, возгласы лоточника, торгующего орехами. «Горячие! Свежие! Не проходите, берите побольше!» – кричит он, но голос его звучит глухо, словно проходит сквозь толстое одеяло. Только музыка резким напоминанием вонзается в голову: ключ.
Харпер шарится по карману, и его пронзает неожиданный ужас: вдруг он его потерял? Но ключ оказывается на месте. Он бронзовый, с клеймом мануфактуры «Йель-энд-Таун». И замок на двери подходящий. Дрожащей рукой он вставляет ключ в скважину. Пытается повернуть – и ему удается.
Дверь открывается. За ней расстилается тьма, и какое-то время Харпер просто стоит, не в силах пошевелиться. Он не знает, что ждет впереди. Но потом пригибается, кое-как пропихивает через доски костыль и ступает, хромая, в глубину Дома.
Кирби
9 сентября 1980
Наступившая осень приносит с собой прохладные, ясные дни. Деревья еще не определились, что им делать с листвой, и стоят все пятнистые, желто-зелено-коричневые. Кирби не нужно быть гением, чтобы понять – Рэйчел уже накурилась. Во-первых, ее с головой выдает сладковатый запах, витающий в доме, а во-вторых, она суетливо расхаживает по двору, разглядывая что-то в разросшейся траве. Токио, радостно лая, скачет с ней рядом. Кирби не знает, почему Рэйчел дома, когда ее ждет очередной вояж.
Когда Кирби была маленькой – ну ладно, еще год назад, – она не знала, что такое этот «вояж», и думала, что это имя. Почему-то она решила, что Вояж был ее отцом и что Рэйчел хочет их познакомить. Но потом одноклассница Грейс Такер сказала, что ее мать просто ходит к разным мужчинам, потому что она проститутка. Кирби не знала, кто такие проститутки, но все равно разбила Грейс нос, а та в ответ выдернула ей клок волос.
Рэйчел, узнав об этом, смеялась до слез, хотя кожа головы у Кирби покраснела и ныла. Она не хотела смеяться, но не могла и остановиться: «Просто это очень смешно!» Потом она объяснила Кирби, что проститутки – это женщины, которые с помощью своего тела извлекают выгоду из тщеславия мужчин, а «вояж» нужен, чтобы отдохнуть душой. Она всегда объясняла все так, что Кирби путалась только сильнее. Уже потом она выяснила, что все, оказывается, совсем по-другому. Что проститутки занимаются сексом за деньги, а вояж – просто небольшой побег от реальности. Вот уж без чего Рэйчел могла бы и обойтись. Поменьше побегов, побольше реальной жизни, мама.
Кирби подзывает Токио пятью короткими свистками – она специально подобрала их так, чтобы можно было отличить призыв от других собачников в парке, где они обычно гуляют. Он подбегает к ней тут же, полный восторга, присущего только собакам. «Чистокровная дворняга» – так зовет его Рэйчел. Он худой, с вытянутой мордой и лоскутной рыжевато-белой шерстью, только вокруг глаз большие круги песчаного цвета. Его зовут Токио, потому что когда Кирби вырастет, она обязательно уедет в Японию, станет известной переводчицей хайку и будет пить зеленый чай и собирать коллекцию самурайских мечей. («Ну, всяк лучше, чем в Хиросиму», – сказала мама, когда про это узнала.) Она уже даже начала сочинять собственные хайку. Вот, например:
- Лети, ракета,
- И забери меня тоже.
- Звезды ждут.
Или вот:
- Фигуркой оригами
- Она растворится
- В собственных снах.
Когда она читает их вслух, Рэйчел воодушевленно ей аплодирует. Но Кирби кажется, что мама будет хлопать даже списку ингредиентов с коробки хлопьев, особенно когда накурится. В последнее время это случается все чаще и чаще.
Во всем виноват Вояж. Или как там его зовут. Рэйчел не хочет о нем говорить. Как будто Кирби не слышит, как в три утра к их дому подъезжает машина, не слышит приглушенных разговоров, неразборчивых, но напряженных, и как потом хлопает входная дверь, а мама на цыпочках ходит по дому, чтобы не разбудить ее. Как будто Кирби не догадывается, откуда они берут деньги. И ладно бы все началось в последнее время – но это длится годами.
По двору Рэйчел разложила все свои картины – даже большой портрет волшебницы Шалот в башне (Кирби ни за что не признается, но он нравится ей больше всего), который обычно стоит в чулане, где хранятся все рисунки, которые мама начинала и не закончила.
– Распродажу хочешь устроить? – спрашивает Кирби, хотя знает, что Рэйчел наверняка не обрадуется вопросу.
– Эх, дорогая, – вздыхает мама с отрешенной полуулыбкой. Она всегда так делает, когда Кирби ее разочаровывает. В последнее время это случается часто, особенно когда она говорит что-то не по возрасту зрелое. «Ты так растеряешь всю свою детскую непосредственность», – сказала мама две недели назад, так резко, словно ничего хуже быть не могло.
Что странно, настоящие проступки Кирби ее мало волнуют. Она постоянно дерется с одноклассниками, а один раз даже подожгла почтовый ящик соседа, мистера Партриджа, который вечно жаловался, что Токио якобы роется в его горохе. В тот раз Рэйчел ее отругала, но Кирби видела, что на самом деле она в полном восторге. Разумеется, они устроили знатное представление: орали друг на друга так, чтобы услышал «этот самовлюбленный святоша». «Ты что, не понимаешь, что помеха работе почты – федеральное преступление?!» – кричала тогда мама, а потом они обе валялись на полу от смеха, зажимая ладонями рты.
Рэйчел указывает на маленькую картину, лежащую между босыми ногами. Ногти на них выкрашены ярко-рыжим. Он ей совсем не идет.
– Как думаешь, не слишком жестоко получилось? – спрашивает она. – Не слишком кровожадно?
Кирби не понимает, о чем она. На картине матери изображены бледные женщины с длинными развевающимися волосами и непропорционально большими печальными глазами. Окружение их выписано зелеными, синими и серыми мазками. Никакой крови Кирби не видит. Глядя на творчество Рэйчел, она вспоминает слова своего учителя физкультуры. Она никак не могла перепрыгнуть козла, и он прокричал: «Да господи боже, хватит тебе так стараться!»
Кирби не знает, как ответить, чтобы не разозлить маму.
– По-моему, все нормально.
– Если нормально – значит, никак! – громко произносит Рэйчел, хватает ее за руки и кружит по траве среди картин. – «Нормально» – это посредственно. Приемлемо. Правильно. Жить нужно ярче и громче, дорогая моя!
Кирби выкручивается из ее хватки и смотрит на красивых девушек, тянущих тонкие руки к небу, словно в молитве.
– Эм… – произносит она. – Так что, мне помочь тебе убрать картины в кладовку?
– Эх, дорогая, – говорит мама с такой жалостью и пренебрежением, что Кирби не выдерживает. Она забегает в дом, грохоча ногами по лестнице, и забывает рассказать про мужчину с тусклыми русыми волосами, высоко натянутыми джинсами и кривым носом, как у боксера. Она видела его по пути домой: он стоял в тени платана рядом с заправкой Мэйсона, попивал колу через соломинку и смотрел на Кирби не отрываясь. От его взгляда по коже бежали мурашки и почему-то начинало подташнивать, как после какой-нибудь карусели.
А когда она ему помахала, активно и нарочито-радостно, словно хотела сказать: «Эй, мистер, я вижу, как ты пялишься, урод ты противный», он тоже поднял руку. И так и не опустил ее (жуть-то какая), пока она не свернула на улицу Риджленд, решив, что сегодня пойдет длинным путем, лишь бы поскорее укрыться от его взгляда.
Харпер
22 ноября 1931
Он снова чувствует себя мальчишкой, забравшимся в соседский дом. Он любил сидеть за столом, вслушиваясь в тишину, лежать в мягкой кровати, рыться в чужих вещах, выискивая секреты.
Он всегда понимал, когда хозяева дома; и в детстве, и позже, когда пробирался в заброшенные дома в поисках еды и забытых безделушек, которые можно было бы сдать в ломбард. Пустые дома ощущались иначе. Отсутствие людей словно пронизывало воздух.
От атмосферы, царящей в Доме, волосы на руках встают дыбом. Кто-то ждет Харпера внутри – и это точно не труп, на который он наткнулся в коридоре.
Висящая над лестницей люстра мягко освещает темный паркет, только отполированный и блестящий. Обои тоже новехонькие, темно-зеленые, с узором из бежевых ромбов; даже Харпер понимает, насколько они изысканные. Слева располагается современная кухня прямиком из каталога «Сирс». Шкафчики из меламина, тостер последней модели, холодильник и блестящий чайник, стоящий на плите. И все ждут только его.
Орудуя костылем, Харпер перешагивает лужу крови, разливающуюся по полу ковром, и подходит к мертвецу ближе. Он сжимает в руках подтаявшую замороженную индейку, а все его бугристое серо-розовое лицо испачкано кровью. Сам мужчина приземистый, коренастый, в хорошей рубашке, серых штанах с подтяжками и удобных ботинках. Пиджака на нем нет. Кто-то ударил его по голове, но среди расквашенного месива лица видны двойной подбородок, заросший щетиной, и раскрытые в ужасе глаза с лопнувшими капиллярами.
Пиджака на нем нет.
Хромая, Харпер обходит труп, следуя за музыкой в гостиную. Он бы не удивился, если бы там его встретил новый хозяин дома, восседающий в кресле перед камином, с кочергой, которой он проломил мужчине из коридора голову.
Гостиная оказывается пуста. Но огонь в камине горит, а кочерга действительно стоит рядом с дровницей, заполненной до отказа в ожидании его прихода. Золоченый граммофон из красного дерева играет знакомую песню. На пластинке написано: «Гершвин». Ну разумеется. Сквозь приоткрытые шторы виднеются окна, забитые дешевой фанерой, перекрывающей солнечный свет. Но зачем прятать такой дом за досками и предупреждением о сносе?
Чтобы никто другой не нашел.
На столике стоит хрустальный графин, полный янтарного алкоголя, а рядом с ним – один-единственный стакан. Сам столик застелен кружевной скатертью.
«Нет уж, – думает Харпер, – это нужно будет убрать». Как и тело, валяющееся в коридоре. Бартек – так, кажется, назвала его слепая женщина, которую Харпер задушил.
«Бартек был здесь чужим», – шелестит в голове чей-то голос. Но Харпер – он свой. Дом ждал его. Сам, лично, привел его к себе. А теперь словно шепчет: «Ты дома». Никогда еще Харпер не чувствовал себя дома – ни в проклятом месте, где вырос, ни в ночлежках, ни в жалких лачугах, по которым побросала его взрослая жизнь.
Он прислоняет костыль к креслу и наливает себе полный стакан из графина. Внутри звякает лед, лишь немного подтаявший. Он отпивает, неспешно, чтобы распробовать, и лишь потом сглатывает. Обжигающее тепло приятно прокатывается по горлу. Виски, «Канадиан Клаб». Лучший из тех, что можно достать контрабандой. Он вскидывает стакан в воздух, салютуя. Давненько он не пил ничего, кроме домашней сивухи, воняющей формальдегидом. Давненько не сидел в мягких креслах.
Но он не садится, хотя нога жутко ноет. Чувство, которое привело его сюда, не успокаивается.
«Это еще не все, сэр, идите сюда, – настаивает оно как зазывала. – Давайте, не пропустите. Вы даже не представляете, что вас ждет. Ну же, Харпер Кертис, ну же, вперед».
Харпер с трудом поднимается по ступеням, цепляясь за перила, натертые до такого блеска, что после него остаются отпечатки ладоней. Жирные, призрачные следы, исчезающие на глазах. Ногу приходится переставлять чуть ли не руками, а потом подтягивать за собой костыль. От усталости дыхание начинает сбиваться.
Он пробирается по коридору дальше. На пути встречается ванная: раковина в ней залита кровью, а на полу валяется мокрое скрученное полотенце, вокруг которого по черно-белой плитке растекается розоватая лужа. Но Харпер не обращает внимания ни на ванную, ни на лестницу, ведущую на чердак, ни на гостевую комнату, кровать в которой застелена, хотя на подушке заметная вмятина.
Главная спальня закрыта. Под дверью виднеется полоска мерцающего света. Харпер дергает дверную ручку – он бы не удивился, окажись комната заперта. Но замок щелкает, и он толкает дверь костылем. Когда она открывается, в глаза неожиданно бьет яркое летнее солнце. Оно освещает и скудную мебель: простой деревянный шкаф и кровать с железным каркасом.
Харпер щурится, и вскоре яркое солнце сменяется густыми черными тучами с серебристыми проблесками дождя, а затем алыми лучами заката, как в дешевой игрушке с быстро меняющимися картинками. Только вместо скачущей лошади или девки, соблазнительно стягивающей чулочки, перед глазами мелькают сезоны. На это невозможно смотреть. Харпер подходит к окну, чтобы задернуть шторы, но сначала выглядывает на улицу.
Дома по соседству меняются. Краска слезает и восстанавливается, потом снова слезает под напором снега, солнца и ветра, гоняющего по дороге мусор и листья. Разбитые окна скрываются под фанерой, а через мгновение уже стоят целые, и только на подоконниках вянут цветы. Пустырь зарастает, покрывается бетоном, через его трещины дикими пучками пробивается трава; мусор скапливается, пропадает, собирается снова, а вместе с ним на стенах появляются агрессивные надписи в кислотных цветах. Классики появляются на асфальте, их смывает ледяной дождь, но они выскакивают снова, уже в другом месте. Брошенный диван годами гниет на обочине, а потом вспыхивает огнем.
Харпер резко задергивает шторы, а потом оборачивается – и вот она, наконец-то. Вся его судьба, изложенная в единственной комнате.
На стенах не осталось живого места. По ним развешаны какие-то безделушки; часть из них приколочена, часть – прикручена проволокой. Все они едва заметно подрагивают, и дрожь эта отдается в зубах. На стенах виднеются соединяющие их линии, вновь и вновь выведенные мелом, чернилами, выцарапанные ножом по обоям.
«Созвездия», – подсказывает голос в его голове.
Рядом с талисманами подписаны имена. Чжинсук. Зора. Вилли. Кирби. Марго. Джулия. Кэтрин. Элис. Миша. Странные имена женщин, незнакомых ему.
Вот только имена написаны рукой Харпера.
И этого хватает, чтобы пришло осознание. Словно внутри отворяется дверь. Температура подскакивает, и ураган ненависти, огня и злобы проносится по всему телу. Перед глазами мелькают лица сияющих девушек, и он понимает, как они должны умереть. Голос вопит в голове: «Убей ее. Останови ее».
Он закрывает лицо ладонями, и костыль выпадает из рук. Пошатнувшись, тяжело заваливается на кровать – та скрипит под его весом. Во рту пересыхает. Перед глазами стоит кровавое зарево. От висящих на стене предметов исходит пульсация. Имена девушек звенят в ушах молитвенным хором. Головная боль нарастает, становится невыносимой.
Харпер отнимает от лица руки и через силу открывает глаза. С трудом поднимается на ноги, цепляясь за спинку кровати, и подходит к стене. Талисманы гудят и мерцают, словно в нетерпении. Они подзывают его, манят, и он тянется к ним рукой. Один из них выделяется четче, чем остальные. Он давит, просит внимания, как эрекция, требует побыстрее с ним разобраться. Харпер должен найти его. А вместе с ним – девушку, которой он принадлежит.
Ему кажется, что вся предыдущая жизнь прошла в пьяном бреду, а теперь пелена спала. Ясность накрывает его: как в момент прямо перед оргазмом, как в ту секунду, когда из горла Джимми Грэба брызнула кровь.
«Как в танце среди зарева светящейся краски».
Он подбирает кусок мела с каминной полки и подходит к окну. Он знает, где и что должен написать: под подоконником, прямо на обоях. Там есть подходящее место. «Сияющая девушка», – выводит он косым и неровным почерком поверх практически стершихся слов, которые были там до него.
Кирби
30 июля 1984
С первого взгляда может показаться, что она спит. Но только если до этого долго смотреть на солнце, проникающее сквозь кроны деревьев. Если решить, что ее майка изначально была бурого цвета. Если не заметить кружащих вокруг нее мух.
Рука ее небрежно закинута за голову, а лицо чуть повернуто, словно она к чему-то прислушивается. Бедра обращены в ту же сторону, а ноги сведены вместе и согнуты в коленях. Единственное, что портит безмятежность картины, – зияющая кровавая рана на животе.
Мелкие луговые цветочки, которые расстилаются вокруг тела желто-синим ковром, придают девушке романтичный вид, но на беззаботно закинутой руке виднеются следы борьбы. Между указательным и средним пальцем порез – глубокий, до самой кости. Она явно пыталась выхватить у нападавшего нож. На правой руке не хватает двух пальцев: мизинца и безымянного.
Лоб разбит – девушку били каким-то тупым предметом. Скорее всего, битой, но с равной вероятностью это могла быть рукоять топора или тяжелая ветка, потому что орудия убийства на месте преступления не нашли.
Судя по ссадинам на запястьях, она была связана, но потом веревки убрали. Или проволоку – веревка вряд ли бы оставила настолько глубокие следы. Лицо покрыто черной коркой крови, как панцирем. Ее вскрыли от груди до самого таза, двумя крупными росчерками, формирующими перевернутый крест, из-за которого полиция долго винила сатанистов и лишь потом переключилась на случайных грабителей. Странным казалось то, что убийца вытащил из тела желудок, вскрыл его и выпотрошил содержимое неподалеку, а кишки развесил по деревьям, как праздничные гирлянды. К моменту прибытия полиции они давно уже высохли и посерели. Значит, убийца не торопился, а криков девушки никто не слышал. Или слышал, но не решился помочь.
К уликам также были приобщены:
Белая кроссовка, испачканная в грязи, словно девушка убегала, поскользнулась, и она слетела с ноги. Найдена в десяти метрах от тела. Совпадает с окровавленной кроссовкой на трупе.
Кружевная майка на бретельках, разрезанная до середины, некогда белая. Выцветшие джинсовые шорты, в крови, моче и фекалиях.
Рюкзак, в котором обнаружены: учебник («Основополагающие методы математической экономики»), три ручки (две синие, одна красная), маркер (желтый), бальзам для губ с виноградным вкусом, полупустая упаковка жевательной резинки («Ригли», мятная, три пластинки), квадратная золотистая пудреница (зеркальце разбито, скорее всего при нападении), черная магнитофонная кассета, судя по подписи – «Жемчужина» Дженис Джоплин, ключи от «Альфа Фи», женского университетского общества, ежедневник с указанными сроками сдачи заданий, датой приема в центре планирования семьи, днями рождения друзей и телефонными номерами, которые полиция планово проверяет. Между страницами ежедневника найдено уведомление о просроченной сдаче библиотечной книги.
В газетах убийство называют самым жестоким за последние пятнадцать лет. Полиция проверяет все возможные зацепки и активно ищет свидетелей. Они надеются, что убийца найдется быстро. У такого зверского преступления просто обязан быть прецедент.
Кирби шумиху пропускает. Ее куда больше занимает Фред Такер – брат Грейс, старше Кирби на полтора года, – и его пенис, который он пытается в нее вставить.
– Не получается, – шумно выдыхает он. Тщедушная грудь часто вздымается.
– А ты постарайся, – шипит Кирби.
– Могла бы помочь!
– Да что тебе еще от меня надо? – раздраженно спрашивает она.
Она и так стащила у Рэйчел черные лакированные туфли на каблуках и даже надела золотисто-бежевую полупрозрачную сорочку – ее три дня назад удалось умыкнуть из «Маршалл Филд», сняв прямо с вешалки, а потом запрятав пустые плечики среди всевозможной одежды. Всю кровать она завалила лепестками роз, ради которых пришлось лезть в сад к мистеру Партриджу. Даже презервативы нашла она – позаимствовала из прикроватной тумбочки мамы, чтобы Фреду не пришлось позориться и их покупать. Она на весь день спровадила маму из дома. Даже тренировалась целоваться на тыльной стороне собственной ладони. С таким же результатом, правда, она могла себя щекотать. Нет, тут нужны чужие пальцы, чужие губы. Только с другими людьми можно по-настоящему все почувствовать.
– Я думал, у тебя это не первый раз. – Фред опускается на локти, наваливаясь на нее сверху. Это приятно, несмотря на его костлявые бедра и покрывающий тело пот.
– Я так сказала, чтобы ты не нервничал. – Кирби тянется к тумбочке Рэйчел и нащупывает пачку ее сигарет.
– Не кури, это некрасиво, – говорит он.
– Да? А заниматься сексом с малолеткой – красиво?
– Тебе же шестнадцать.
– Восьмого августа будет.
– Боже, – выдыхает он и поспешно скатывается с нее.
Кирби смотрит, как он взволнованно мечется по спальне, одетый только в носки и презерватив – член у него браво стоит и рвется в бой, – и неспешно затягивается. На самом деле курить ей не нравится. Но правильный реквизит – первый шаг к крутости. Она давно выработала подходящую формулу: на две пятых держать все под контролем, но так, чтобы никто не заметил стараний, и на три пятых делать вид, что ее ничего не заботит. Да и вообще, кого волнует, потеряет она сегодня девственность с Фредом Такером или нет? (Ее. Вот кого это волнует.)
Любуясь отпечатком помады, оставшимся на сигарете, она давит рвущийся из груди кашель.
– Расслабься, Фред. Сексом ради удовольствия занимаются, – замечает она с фальшивым спокойствием, хотя на самом деле думает только одно: «Не волнуйся, я же тебя люблю».
– Тогда почему у меня сейчас инфаркт будет? – спрашивает он, стискивая грудь. – Может, останемся просто друзьями?
Ей его жалко. И себя тоже. На мгновение она крепко жмурится, а потом тушит сигарету всего три затяжки спустя, словно глаза слезятся только от дыма.
– Хочешь, посмотрим чего-нибудь? – спрашивает она.
И они смотрят. И все полтора часа целуются, развалившись на диване, под голос Мэттью Бродерика, спасающего мир через компьютер. Они не замечают, когда фильм заканчивается и экран начинает рябить статикой, потому что пальцы Фреда оказываются внутри нее, а горячие губы прижимаются к ее коже. А потом она забирается на него сверху, и ей ожидаемо больно, но приятно – на это она и надеялась. Но мир не переворачивается с ног на голову, и уже после, когда они лежат вместе, целуясь и передавая друг другу одну сигарету, Фред кашляет и говорит:
– Если честно, я ожидал чего-то другого.
Первый секс сложно представить. Как и собственное убийство.
Джулия Мадригал – так звали мертвую девушку. Ей был двадцать один год, и она изучала экономику в Северо-Западном университете. Любила ходить в походы и играть в хоккей, потому что родилась и выросла в канадском городе Банф; часто ходила с друзьями по барам на Шеридан-роуд, потому что в Эванстоуне купить алкоголь было нельзя.
Она все хотела пойти волонтером в ассоциацию слепых студентов, чтобы начитывать им учебники под запись, но руки не доходили, как и до уроков гитары, на которой она освоила один аккорд. Зато она активно пробивалась на место главы их женского общества. Всегда говорила, что станет первой женщиной, которая возглавит банк «Голдман Сакс». Она хотела жить в большом доме с тремя детьми и мужем, обязательно успешным и интересным человеком – может, хирургом или каким-нибудь брокером. Уж точно не с Себастьяном; с ним было хорошо веселиться, но не идти под венец.
Девушкой она была шумной, особенно на вечеринках – прямо как ее отец. А шутила грубо и слегка пошловато, и смех ее кто-то считал раздражающим, а кто-то – достойным славы. Слышно его было во всем «Альфа Фи». Она бывала чрезмерно дотошной. Бывала узколобой всезнайкой, не признающей ничью правоту. Но когда перед ней вставала какая-то цель, удержать ее было невозможно. Разве что проломив голову и вытащив кишки из живота.
Ее смерть оставит неизгладимый след на всех, кто был с ней знаком, – и не только.
Ее отец так и не оправится от удара. Он начнет таять на глазах, пока не станет тенью того шумного и упрямого агента по продаже недвижимости, который устраивал барбекю и спорил, кто победил в сегодняшнем матче. Продажа домов перестанет интересовать его. Он начнет замолкать прямо посреди разговора с клиентами, глядя на стены, увешанные портретами счастливых семей, и на швы между плитками в ванной. Но он научится притворяться, скрывать печаль глубоко в душе. А когда вернется домой – внезапно начнет готовить. Станет мастером по французской кухне. Но еда для него навсегда потеряет вкус.
Ее мать замкнется в себе, заперев боль внутри, как ужасного монстра, которого способна успокоить одна только водка. Она откажется есть стряпню мужа. А когда они вернутся в Канаду, сменив большой дом на маленький, она уйдет жить в комнату для гостей. Вскоре он сдастся и перестанет прятать от нее бутылки. А двадцать лет спустя, когда у нее откажет печень, он будет сидеть рядом с ней в больнице Виннипега и гладить по руке, на память зачитывая рецепты, которые зазубрил, словно формулы, потому что им не о чем будет говорить.
Ее сестра уедет так далеко, как только сможет, и никогда не найдет себе места. Сначала сбежит в соседний штат, потом пересечет всю страну, потом и вовсе покинет ее. Станет гувернанткой в Португалии. Не очень хорошей. У нее не получится подружиться с детьми. Она будет слишком бояться, что с ними что-то случится.
После трехчасового допроса подтвердится алиби Себастьяна, с которым Джулия встречалась полтора месяца. Этому поспособствует свидетель и масляные пятна на шортах: он возился со своим мотоциклом, «Индиан-1974», и вся улица видела его в нараспашку открытом гараже. Смерть Джулии потрясет его, станет знаком, что он зря тратит жизнь на изучение коммерческой деятельности. Он вступит в студенческое движение против расовой сегрегации, начнет спать с девушками оттуда. Трагедия прошлого станет для женщин магнитом, против которого они не смогу устоять. У него даже появится музыкальная тема – «Лови момент, пока можешь» Дженис Джоплин.
Ее лучшая подруга перестанет спать по ночам, терзаемая совестью, потому что, несмотря на тоску и весь ужас, она все равно будет думать о циничной статистике: раз убили Джулию, с шансом в восемьдесят восемь процентов убьют и ее.
На другом конце города одиннадцатилетняя девочка, которая прочитала о деле в газетах, а Джулию видела только на старой фотографии из выпускного альбома, откроет для себя новый способ справиться с ужасом, в который повергнет ее убийство – да и с ужасом жизни в целом. Она найдет канцелярский нож и оставит кровавые полосы на руке чуть выше локтя, так, чтобы скрыть их под рукавами футболки.
А пять лет спустя придет очередь Кирби.
Харпер
24 ноября 1931
Он спит в гостевой комнате, плотно прикрыв дверь. Она должна уберечь его от гула развешанных по стене безделушек, но они отказываются отпускать его, настойчивые, как зудящая мошкара. Сон идет плохо, словно в горячке; когда Харпер с трудом поднимается и хромает по лестнице вниз, ему кажется, что прошло уже несколько дней.
Голова пухнет, как хлеб, вымоченный в скипидаре. Чужой голос пропал из мыслей, растворившись в моменте ослепительного озарения. Талисманы взывают к нему, когда он проходит мимо двери Комнаты. «Потерпите», – думает он. Он знает, чего они требуют, но пустота в желудке бурчит.
В блестящем новеньком холодильнике он находит только бутылку шампанского и помидор, потихоньку начинающий гнить. Прямо как труп в коридоре – тот уже зеленеет, и запах от него исходит ужасный. Зато трупное окоченение спало, и тело стало податливым, мягким. Индейку из его хватки высвободить оказывается несложно. Даже не приходится ломать трупу пальцы.
Харпер отмывает ее от засохшей крови мылом, а потом варит вместе с парой старых картофелин, которые обнаружились в ящике на кухне. Жены у мистера Бартека явно не было.
Пластинка для граммофона находится только одна – та, что уже была в нем. Харпер ставит ее повторно, чтобы что-то играло на фоне, пока он жадно вгрызается в птицу, сидя перед камином. На этикет ему наплевать – мясо он отрывает руками, а виски наливает по самую кромку стакана, не обращая внимания, что лед в графине давно растаял. Ему тепло, а полный живот, приятная легкость от выпитого и безвкусная музыка заставляют гул безделушек притихнуть.
Когда виски заканчивается, он идет за шампанским и пьет его из бутылки, пока не опустошает и ее тоже. А потом так и сидит, угрюмый и пьяный, смотрит на обглоданные птичьи кости, валяющиеся на полу, пока со стороны граммофона доносятся щелчки и жалобный скрип иглы, сбившейся с нужной дорожки. Только желание сходить в туалет заставляет его неохотно подняться.
По пути в сортир он спотыкается и хватается за диван; тот со скрипом проезжается по паркету, упирается ножкой в ковер, и Харпер замечает выглядывающий угол потрепанного синего чемодана.
Опершись о подлокотник, он вытаскивает чемодан за ручку. Пытается поднять его на диван, чтобы рассмотреть получше, но алкоголь и жирные пальцы мешают. Чемодан падает, и его дешевый замок не выдерживает. Все содержимое валится на пол: несколько пачек денег, красные и желтые бакелитовые фишки из казино, а еще – гроссбух в черной обложке, из которого торчит целая куча разноцветных бумажек.
Ругаясь, Харпер опускается на колени, машинально пытаясь запихнуть все обратно. Пачки денег толстые, как карточные колоды: банкноты в пять, десять, двадцать и сто долларов перетянуты резинками, а из-под разорванной обшивки чемодана выглядывают пять купюр по пять тысяч долларов. Он никогда не видел таких денег. Неудивительно, что кто-то проломил Бартеку голову. Но почему убийца не обыскал дом? Даже сквозь алкогольную дымку это кажется нелогичным.
Он внимательно осматривает банкноты. Они рассортированы, но на каждый номинал приходится несколько пачек, и чем-то они различаются. Харпер ощупывает их и решает, что дело в размере. А еще в бумаге, цвете печати, практически незаметных изменениях в изображениях и тексте. Но самое странное он замечает не сразу: даты выпуска не вписываются в реальность. «Прямо как вид за окном», – проносится в голове, и тут же он пытается затолкнуть мысль подальше. Просто, видимо, Бартек был фальшивомонетчиком. Или готовил реквизит для театра.
Отложив деньги, он берется за цветные бумажки. Расписки с тотализаторов, датированные с 1929-го по 1952-й. Все со скачек, но места разные – Арлингтон, Хотон, Линкольн Филдз, Вашингтон-парк. И все выигрышные, но без заоблачных сумм. Харпер Бартека понимает: будешь выигрывать слишком часто и много – и привлечешь к себе лишнее внимание, особенно в городе, где заправляет Капоне.
Каждой расписке соответствует запись в гроссбухе: сумма, дата и источник, выписанные аккуратными крупными буквами. Все указаны как прибыль: где 50 долларов, где 1200. Кроме одного адреса. Рядом с номером дома, 1818, красным цветом вписано: 600 долларов. Харпер листает гроссбух в поисках соответствующего документа и находит акт о покупке дома. Зарегистрирован он на Бартека Крола. 5 апреля 1930 года.
Харпер присаживается на корточки, скользя большим пальцем по краю пачки с десятками. Может, он и правда сошел с ума. Впрочем, неважно – главное, находка оказалась впечатляющей. Неудивительно, что мистеру Бартеку не хватало времени ходить за продуктами. Жаль только, что удача повернулась к нему спиной. В отличие от Харпера. Он и сам человек азартный.
Харпер оглядывается на коридор. Нужно будет избавиться от трупа, пока он не сгнил. Но это потом. Сначала он сходит на улицу. Проверит, окажется ли он прав в своих догадках.
В шкафу он находит одежду. Черные ботинки, рабочие джинсы, простая рубашка. Все – в точности по размеру. На всякий случай он вновь осматривает стену с висящими безделушками. Воздух вокруг пластиковой лошадки дрожит. Имя одной из девушек выделяется ярче остальных. Практически светится. Она ждет его. За порогом.
Спустившись вниз, он останавливается у входной двери и нервно встряхивает рукой, как боксер, готовящийся к удару. Перед глазами стоит лошадка. В кармане лежит ключ – Харпер проверил его трижды. Он готов выходить. Даже знает, что нужно делать. Он притворится мистером Бартеком. Будет действовать осторожно и хитро. Не зайдет далеко.
Он проворачивает ручку. Дверь распахивается, и его ослепляет свет, резкий, как салют в темном подвале, до смерти пугающий засевших там кошек.
Харпер перешагивает порог – и оказывается в совсем другом времени.
Кирби
3 января 1992
– Заведи себе новую собаку, – говорит мама. Она сидит на парапете, смотрит на озеро Мичиган и расстилающийся перед ним зимний пляж. Дыхание срывается с ее рта облачками – они похожи на пузыри, которыми в комиксах обозначают прямую речь. По телевизору обещали очередной снегопад, но пока его не предвидится.
– Не, – беспечно отвечает Кирби. – Мне и предыдущая-то была не нужна.
От скуки она подбирает палочки, разламывая их на части, пока они не станут слишком уж маленькими. Нет на свете вещей, которые можно обратить в ничто. Даже атом – сколько ни расщепляй его, он не исчезнет. Что-то всегда остается. Никуда не девается, даже разбитое на осколки. Прямо как Шалтай-Болтай. Рано или поздно придется его собирать. Или уйти не оглядываясь. Насрать на королевскую конницу и королевскую рать.
– Эх, дорогая, – вздыхает Рэйчел. Кирби ненавидит этот ее тон. Он провоцирует, и ее несет.
– Мохнатая, вонючая, постоянно лезет языком в лицо. Фу, гадость! – Она морщится. Все их разговоры идут по одной и той же кривой дорожке. Знакомой до тошноты, но вместе с тем и отрадной.
После того, что случилось, она пыталась сбежать – и из города, и от самой себя. Бросила учебу, хотя ей предлагали взять академический отпуск, продала машину, собрала вещи и просто уехала. Не слишком далеко, хотя иногда Калифорния казалась такой же незнакомой и странной, какой была бы Япония. Словно она оказалась в сериале, только смех то и дело звучал в неподходящих местах. Или сама она оказывалась не там, где нужно; слишком мрачная и ненормальная для Сан-Диего, слишком нормальная – или просто не такая, как все остальные, – для Лос-Анджелеса. Там нужны люди трагично надломленные, а не разбитые напрочь. Те, кто сам режет себе руки, выпуская внутреннюю боль, а не мошенники, над которыми ножом поорудовал кто-то другой.
Она могла бы уехать в Сиэтл или в Нью-Йорк, но в итоге вернулась к началу пути. Может, потому, что переездов хватило и в детстве. Или потянуло к семье. Или ей просто нужно было вернуться на место преступления.
Нападение привлекло к ней немало внимания. Букеты присылали все, даже совершенно незнакомые люди, и в таких количествах, что некуда было приткнуть. Но зачастую с цветами шли одни соболезнования. Никто не верил, что она выкарабкается, а в газетах писали полнейшую чушь.
Целый месяц люди вились вокруг нее роем, предлагая любую помощь. Но цветы увядают, и публика теряет интерес. Ее перевели из реанимации в обычную палату. Потом выписали. Жизнь вернулась в привычное русло – для всех, кроме нее. Но что было делать, если она не могла даже перевернуться в кровати, потому что просыпалась от резкой боли? Или застывала в агонии прямо посреди душа, когда действие обезболивающих внезапно заканчивалось, и ей казалось, что разошелся шов.
Потом рана загноилась. Пришлось вернуться в больницу еще на три недели. Живот у нее вздувался, словно там сидел инопланетянин.
– Грудолом заблудился, – пошутила она, когда разговаривала с очередным доктором. Они постоянно сменяли друг друга. – Ну как в «Чужом», помните? – Но ее шуток никто не понимал.
Друзей становилось все меньше и меньше. Они просто не знали, о чем говорить. Часто все разговоры сменялись неловко затянувшейся тишиной. Тех, кого не пугали жуткие раны, Кирби всегда могла оттолкнуть разговором об осложнениях, вызванных фекалиями, которые попали в ее кишечную полость. Неудивительно, что общение не задавалось. Люди меняли тему, скрывали свое любопытство, думая, что так будет лучше, но на самом деле ей нужно было с кем-то поговорить. Вывернуть себя наизнанку, так сказать.
Новые знакомые приходили только лишь поглазеть. Она знала, что не стоит отваживать их, но это было так просто! Иногда хватало всего лишь не ответить на телефонный звонок. Более настойчивых приходилось игнорировать дольше. А они обижались, удивлялись и злились. Оставляли сообщения на автоответчике, в которых кричали – или, что хуже, расстраивались. Потом ей надоело, и она попросту выкинула его. Понимала: рано или поздно люди это оценят. Дружба с ней походила на отпуск где-нибудь в тропиках – вот только вместо пляжей и солнышка приходилось сидеть в плену террористов. И она это даже не придумала, а видела в новостях. Она вообще часто читала истории про людей, с которыми случилось что-то ужасное. Истории про тех, кто выжил.
Кирби оказывала друзьям услугу, разрывая с ними контакты. Вот только от себя не сбежишь. Она осталась одна – пленница собственных мыслей. Интересно, можно заработать стокгольмский синдром по отношению к самой себе?
– Ну так что, мам?
Лед на озере движется и мелодично трещит, словно музыка ветра, собранная из осколков стекла.
– Эх, дорогая.
– Я все верну, обещаю. Месяцев через десять, даже раньше. У меня есть план.
Она вытаскивает из рюкзака папку. В ней лежит распечатка таблицы, которую она сделала, пока сидела в кофейне, – цветная, с красивым рукописным шрифтом. В конце концов, ее мама – дизайнер. Рэйчел забирает ее, внимательно вчитывается и рассматривает, словно изучает чье-то портфолио, а не бизнес-предложение.
– Кредиты за путешествия я почти выплатила. Сейчас отдаю сто пятьдесят в месяц, плюс остается тысяча долларов студенческого долга, так что жить можно. – Потому что отсрочку оплаты за обучение никто ей не предлагал. Она понимает, что тараторит, но все равно слишком нервничает и не может остановиться. – И вообще, частные детективы обычно берут куда больше.
Обычно по семьдесят пять долларов в час, а этот сказал, что можно заплатить триста за день, за неделю – тысячу двести. За месяц всего четыре. Денег хватило бы на три месяца, хотя детектив сказал, что и за один поймет, стоит ли копать дальше. Небольшая цена, чтобы найти ответы. Найти урода, который во всем виноват. Все равно полиция перестала с ней общаться. Видимо, интересоваться собственным делом нельзя – это мешает расследованию, и нормальные люди подобным не занимаются.
– Весьма занимательно, – вежливо произносит Рэйчел, закрывая папку и протягивая ее Кирби. Но она не хочет ее забирать. Куда больше ее занимают ломающиеся палочки. Хрусь. Мама кладет папку на парапет между ними. Картон тут же мокнет от снега.
– У меня дома так сыро, – говорит Рэйчел, окончательно закрывая тему.
– Арендодателю это скажи, мам.
– Ты же знаешь Бьюкенена, – мрачно смеется она. – Он не пошевелится, даже если стены обвалятся.
– Так снеси парочку и узнаешь. – Кирби не скрывает своего раздражения. Она не знает, как еще реагировать на бред, который несет мать.
– Я тут решила перенести студию в кухню. Там больше света. Мне в последнее время его не хватает. Может, у меня онхоцеркоз?
– Я же просила выкинуть медицинский справочник, мам. Хватит искать у себя болезни.
– Хотя нет, вряд ли. Я же не хожу к реке, откуда взяться речным паразитам? Наверное, у меня дистрофия Фукса.
– Или ты просто стареешь, вот и все, – не выдерживает Кирби. Но под грустным потерянным взглядом матери быстро сдается. – Давай помогу перенести вещи? Можем заглянуть в подвал, поискать что-нибудь на продажу. Там барахло целое состояние стоит. За один только набор для печати можно выручить пару тысяч. Заработаешь кучу денег, уйдешь на пару месяцев в отпуск. Наконец-то закончишь «Мертвого утенка».
Последняя мамина работа – жутковатая история о храбром утенке, который путешествует по миру и спрашивает мертвецов, что с ними случилось. Вот, например, отрывок:
– А как вы умерли, мистер Койот?
– Знаешь, Утенок, меня сбил самосвал.
Я поспешил, перебегая дорогу,
Зато теперь воронью пищи много.
Как же жаль, что вся жизнь пройдет мимо.
Но спасибо за то, что в ней было.
Все стишки заканчиваются одинаково. Животные умирают один хуже другого, но дают одинаковый ответ. А потом Утенок умирает сам и думает, что да, ему действительно жаль, но он рад жизни, которую прожил. История мрачная, псевдофилософская, и детская книжка из нее выйдет отличная. Как та дрянь про дерево, которое постоянно жертвовало собой, пока не превратилось в гниющую скамейку, разрисованную граффити. Как же Кирби ненавидела эту историю!
Рэйчел говорит, что это никак не связано с нападением. Во всем виноваты Америка и люди, которые почему-то бегут от смерти, хотя верят в Бога и загробную жизнь.
Она просто хочет показать им, что в смерти нет ничего страшного. Кем бы ты ни был, конец один.
По крайней мере, так она утверждает. Но работать над историей она начала, когда Кирби лежала в реанимации. А потом разорвала все рисунки, всех очаровательно искалеченных зверят, и начала заново. Все сочиняла и сочиняла истории, но так и не закончила книжку. Как будто детям нужно собрание сочинений, а не десяток страничек с рисунками.
– Значит, денег не дашь?
– Лучше займись чем-нибудь полезным, дорогая. – Рэйчел гладит ее по руке. – Жизнь продолжается. Найди себе дело. Вернись в университет.
– Ну да. От него-то много пользы.
– Да и вообще, – продолжает она, обратив мечтательный взгляд на озеро, – у меня нет никаких денег.
Кирби разжимает онемевшие пальцы, и сломанные палочки падают в снег. Она понимает: матери можно сказать что угодно. Ничего не изменится. Ведь невозможно оттолкнуть от себя человека, которого никогда не было рядом.
Мэл
29 апреля 1988
Белого мужика Малкольм замечает сразу. Стоит признать, светлой кожей в этом районе никого не удивишь, но обычно они приезжают на машинах, останавливаясь буквально на мгновение – забрать товар, отдать деньги. Иногда подходят и на своих двоих, конечно: и пропащие ребята с пожелтевшими глазами и бугристой кожей, и модные адвокатши в дорогущих костюмах, выбирающиеся из центра по вторникам, а в последнее время еще и субботам. Такое вот равноправие. Но обычно надолго они не задерживаются.
Этот парень просто стоит на крыльце заброшенного дома, как будто он там хозяин. Может, и правда хозяин. Ходят слухи, что администрация хочет благоустроить район Кабрини, но это как надо двинуться, чтобы заняться облагораживанием еще и в Энглвуде, где остались одни засранные развалины?
Мэл вообще не понимает, на кой черт их до сих пор забивают досками. Все равно все трубы, бронзовые ручки и прочее викторианское барахло давно растащили. Разбитые окна, прогнившие полы да целые поколения крыс – вот что осталось; бабульки, дедульки, мамашки, папашки и их крохотные крысеночки. Которых потом перестреляет какой-нибудь торчок, которому не хватило на тир. Улица – сущий кошмар. А учитывая, в каком она районе, это о многом говорит.
«Не, не риелтор», – решает Мэл, глядя, как мужчина спускается на потрескавшийся асфальт, еще сильнее стирая тусклые классики. Мэл уже успел неплохо закинуться – дурь осела в животе, медленно превращая содержимое в цемент. Так что настроение у него неплохое, и он сколько угодно может пялиться на какого-то странного белого мужика.
Тот переходит улицу, огибая древний диван, проходит под ржавеющим столбом; раньше там висело баскетбольное кольцо, но его сдернули дети. Самовредительство, вот что это. Себе же сделали хуже, придурки.
На полицейского мужчина тоже не похож. Одет он плохо, в болтающиеся темно-коричневые штаны и старомодный пиджак, еще и опирается на костыль. Видимо, надрался где-то не в том районе и попал в передрягу. А больничную трость заложил в ломбард, не иначе – откуда еще взяться громоздкому старому костылю? Хотя кто знает? Может, он вообще не ходил в больницу, потому что от кого-то скрывается. Псих какой-то.
Но интересный. И потенциально полезный. Может, скрывается от кого-то. Хрен знает, от мафии. Или жены! Место нашел отличное. В крысиных норах только и делать, что прятать деньги. Мэл оглядывает дома, размышляя. Можно будет полазить, когда белек свалит. Избавить его от лишних богатств, а то от них только проблемы. Никто и не узнает. Мэл для его же блага старается!
Но чем дольше он вглядывается в дома, пытаясь понять, из которого вышел мужчина, тем хуже ему становится. Видимо, из-за жара, который поднимается от асфальта. Воздух колышется. Почти что трясется. Не надо было брать товар у Тонила Робертса. Пацан и сам наркоты не гнушается, явно бодяжит как может. Живот болит, как будто туда засунули руку. Небольшое напоминание, что он не ел весь день и что – ну разумеется – с наркотиками ему не повезло. Мистер Полезный тем временем идет по улице, улыбаясь и отмахиваясь от лезущих к нему уличных детей. Нет, ладно, искать сейчас дом – плохая идея. По крайней мере, пока. Лучше Мэл подождет, пока белек вернется, там и посмотрит, куда идти. А сейчас – природа зовет.
На мужика он натыкается снова пару кварталов спустя. Просто везение, ничего больше. Ну и сам он стоит перед витриной аптеки и пялится в телевизор, даже не шевелится, как под гипнозом. У него словно припадок, и ему плевать, что он не дает людям пройти. Может, какие важные новости. Да хоть третья мировая война началась. Мэл подходит поближе – сама невинность, не иначе.
Но мистер Полезный смотрит рекламу. Одну за другой. Сливочный соус для пасты. Крем для лица. Майкл Джордан, поедающий пшеничные хлопья. Как будто он этих хлопьев в жизни не видел.
– Эй, ты как, норм? – спрашивает он: не хочет уходить, чтобы не упустить его, но и смелости похлопать по плечу не хватает. Мужчина оборачивается. Улыбка у него такая кровожадная, что хочется убежать.
– Просто невероятно, – говорит он.
– Это ты еще овсяные колечки не пробовал. Но ты мешаешь пройти. Подвинулся б хоть немного, а? – Он осторожно отводит его в сторону, и мимо проносится пацан на роликовых коньках. Мужчина провожает его взглядом.
– Да уж, дреды белым не идут, – соглашается Мэл. – Фактуры им не хватает. А эта тебе как? – Он почти поддевает его локтем, но вовремя отводит руку в сторону, а потом кивает в сторону девчонки, сиськи которой явно послал сам Господь Бог. Под обтягивающим топиком они аж подпрыгивают, но мужик на нее даже не смотрит.
Мэл чувствует, что он теряет интерес.
– Что, не нравится? Ну ничего, – говорит он, а потом добавляет, потому что ломка дает о себе знать: – Слушай, а доллара лишнего не найдется?
Мужик смотрит на него так, словно только сейчас заметил. Он, конечно, белый, но взгляд у него не презрительный. Он словно видит Мэла насквозь.
– Сейчас, – говорит он и вытаскивает из кармана пачку денег, перетянутую резинкой. Протягивает купюру с видом какого-то желторотика, который пытается впарить соду, а не нормальный товар, и Мэлу даже не нужно смотреть на деньги, чтобы почувствовать: что-то не так.
– Ты че, серьезно? – кривится он, когда замечает пять тысяч. – Мне что с ней делать, по-твоему?
Зря он вообще к нему подошел. Придурок просто отбитый.
– Так лучше? – Он находит среди купюр сотню, протягивает ему и внимательно смотрит. Хочется просто уйти, но, черт, если порадовать мужика – может, он еще немного расщедрится. Правда, Мэл понятия не имеет, что ему нужно.
– Да, еще как.
– В какую сторону Гувервилль? Он до сих пор у Грант-парка?
– Я даже не знаю, что это. Но дашь еще денег, и буду водить тебя по парку, пока не найдем.
– Просто скажи, как дотуда добраться.
– По зеленой ветке прямо до центра, – говорит Мэл, указывая на железную дорогу, которая виднеется между домов.
– Спасибо за помощь, – говорит он, а потом, к большому неудовольствию Мэла, убирает деньги в карман и явно собирается уходить.
– Эй, эй, погоди. – Он бежит за ним следом. – Ты же не местный, да? Могу устроить экскурсию. Покажу достопримечательности. Даже кисок раздобуду, каких захочешь. По-дружески, так сказать.
Мужик оборачивается к нему, улыбается – спокойно, как будто у него спросили погоду.
– Заканчивай, друг, а то я тебя прямо тут выпотрошу.
И это не пустые угрозы, как в гетто. Просто факт жизни. Он так легко это говорит – как шнурки завязывает. Мэл застывает на месте и больше за ним не бежит. Нет, пусть мужик катится ко всем чертям. Сумасшедший. С такими лучше не связываться.
Он смотрит на мистера Полезного, который хромает прочь, а потом опускает взгляд на фальшивую пятитысячную. Оставит ее себе на память. Может, даже сходит к тем развалюхам, поищет еще, пока мужик не вернулся. Но при мысли об этом внутри все сжимается. Ну, или не сходит. Особенно пока он под кайфом. Лучше побалует себя. Закупится грибами. Хватит с него говна, которое продает Тонил. Даже отсыпет чутка Рэддисону, братишке, если его встретит. Почему нет? Он сегодня щедрый. Да и денег хватит надолго.
Харпер
29 апреля 1988
Смириться с шумом оказывается тяжелее всего. Харпер вспоминает, как лежал в чавкающей грязи окопов, вслушиваясь в высокий свист очередного артобстрела, в глухие взрывы бомб где-то вдалеке, в скрипучий грохот проезжающих танков – но даже там было лучше. Будущее не такое шумное, как война, но в нем есть своя беспощадная ярость.
Плотность населения удивляет. Все вокруг – нагромождение домов, магазинов, людей. И машин. Город подстроился под них, и целые здания отводятся под парковки, поднимаясь этаж за этажом. Они пролетают мимо, слишком быстрые, слишком шумные. Железная дорога, когда-то связывавшая Чикаго со всем миром, теперь утихла, заглушенная ревом скоростной автострады (хотя это слово Харпер узнает позже). Бушующая река автомобилей несется вдаль, из неизвестности в неизвестность.
Гуляя по городу, он замечает проглядывающие тени прошлого. Выцветшие вывески, нарисованные от руки. Старый дом, разбитый на несколько квартир, а потом снова заброшенный. Заросшая прореха на месте бывшего склада. Разруха, но вместе с ней – обновление. Ряд магазинов, сменивших старый пустырь.
Товары за витринами удивляют. Их цены – шокируют. Он забредает в продуктовый магазин, но быстро уходит. Сбегает от длинных белых полок, флуоресцентных ламп и переизбытка коробок и банок с цветными фотографиями содержимого. Его подташнивает от одного только их вида.
Все это непривычно, но предсказуемо. Просто экстраполяция прошлого. Раз концертный зал можно уместить в граммофоне, то и кинотеатр поместится на экран в магазинной витрине; люди настолько привыкли к нему, что просто проходят мимо. Но встречаются и диковинки. Харпер долго зачарованно смотрит на гудящие крутящиеся щетки на автомойке.
Только люди остались прежними. Все те же жулики и засранцы, как бездомный парнишка с глазами навыкате, который счел его легкой добычей. Харпер прогнал его, но сначала убедился в том, какие деньги сейчас используются и куда его забросила жизнь. Точнее, «когда». Он нащупывает ключ в кармане. Его путь назад. Если он захочет вернуться.
Как и сказал мальчишка, Харпер садится на электричку до Рейвенсвуда. Она такая же, как и в 1931-м, только быстрее и безрассуднее. В повороты она бросается так резко, что Харпер цепляется за поручень даже сидя. Пассажиры стараются не смотреть на него. Иногда даже отсаживаются подальше. Две девки, похожие на потаскух, хихикают и показывают в его сторону пальцем. Он понимает: дело в одежде. Они одеты ярко, в блестящие вульгарные курточки и туфли с высокой шнуровкой. Но когда он встает, чтобы подойти к ним, их улыбки увядают, и они сходят на следующей же остановке, бормоча что-то между собой. Ему нет до них дела.
По пути на улицу ему встречается лестница. Костыль лязгает о металл, и какая-то негритянка в форме бросает в его сторону жалостливый взгляд, но помощи не предлагает.
Остановившись у металлических колонн железной дороги, он замечает светящиеся неоном вывески делового района. Они на порядок ярче, чем были, мерцают и перемигиваются, словно кричат: «Смотри сюда, нет же, сюда!» Перетягивание внимания – такой теперь новый порядок.
На то, чтобы понять, как работает светофор, уходит всего минута. Человечек красный, человечек зеленый. Поймут даже дети. А кем еще могут быть эти новые люди, всюду спешащие, шумные, хватающиеся за игрушки?
Палитра города изменилась – грязно-белый и бежевый сменился коричневым в сотнях оттенков. Как ржавчина. Как дерьмо. Он пробирается через парк и собственными глазами видит, что Гувервилля действительно нет – он пропал, не оставив за собой и следа.
Вид, открывающийся отсюда, нервирует. Городской пейзаж непривычный, неправильный. Сверкающие башни взмывают так высоко в небо, что их верхушки скрыты за облаками. Как в каком-то аду.
Потоки машин и людей напоминают ему жуков-короедов, копошащихся в дереве. Они вытачивают его сердцевину, оставляя за собой червоточины, и дерево умирает. И это прокаженное место тоже умрет – загниет и рухнет под собственным весом. Возможно, Харпер даже посмотрит на это. Зрелище выйдет что надо.
Но пока у него есть другая цель. Она пылает в его мыслях огнем. Он знает, куда идти, словно уже проходил этой дорогой.
Пересев на другой поезд, он погружается в недра города. В тоннелях лязг колес о рельсы усиливается. В окнах мелькают огни, на мгновение выхватывая лица пассажиров.
В конечном итоге дорога приводит его в Гайд-парк, к университету – отдушине розовощекого богатства среди чернокожей рабочей деревенщины. Предвкушение отдается в теле нервной дрожью.
Он покупает в греческой закусочной на углу кофе: черный, с тремя ложками сахара. Потом проходит мимо общежитий и устраивается на ближайшей скамейке. Его цель где-то рядом. Все так, как должно быть.
Щурясь, он приподнимает голову, будто наслаждается солнечными лучами, а не разглядывает лица проходящих мимо девушек. Блестящие волосы, яркие глаза, скрытые под густым макияжем и высокими прическами. Они вольны делать что захотят и носят это право так, словно каждое утро натягивают его вместе с носками. Но оно притупляет их.
А потом он видит ее. Она выходит из большой белой машины с вмятиной на двери, которая остановилась у здания всего в нескольких метрах от занятой им скамейки. Он не ожидал увидеть ее, и электрический разряд удивления пробирает до самых костей. Как любовь с первого взгляда.
Она совсем маленькая. Азиатка в голубых джинсах с белыми пятнами, с черными волосами, взбитыми в прическу, похожую на сахарную вату. Она открывает багажник и начинает вытаскивать оттуда картонные коробки, и вскоре к ней присоединяется мать, с трудом выбравшись из машины. Коробки тяжелые – одна из них лопается под тяжестью книг, но девушка лишь смеется, и становится видно: она не похожа на пустышек, расхаживающих по улицам. В ней бурлит жизнь, резкая, как хлыст.
Харпера никогда не тянуло к каким-то конкретным женщинам. Кому-то нравятся осиные талии, рыжие волосы, большие ягодицы, в которые можно впиться пальцами; но он довольствовался тем, что имел, когда подворачивалась возможность. Обычно он за нее платил. Но Дом требует большего. Ему нужен потенциал; он хочет погасить пламя, пылающее в глазах. Харпер знает, как ему угодить. Для этого понадобится нож. Острый, как штык.
Он откидывается на скамью и принимается скручивать сигарету. Делает вид, что смотрит на голубей, дерущихся с чайками за вытащенный из мусорки кусок бутерброда – каждый сам за себя. Он не смотрит на дочь с матерью, суетящихся над коробками. Но он слышит их разговоры, а когда задумчиво опускает взгляд в землю – косится на них краем глаза.
– Все, это последняя, – произносит девушка – его девушка, – забирая из багажника открытую коробку. Что-то внутри привлекает ее внимание, и она за ногу вытаскивает оттуда куклу. Полностью голую. – Омма!
– Ну что? – спрашивает мать.
– Омма, я же просила отнести ее в Армию спасения. Зачем мне весь этот хлам?
– Это же твоя любимая кукла, – ругает ее мама. – Не выбрасывай ее. Оставишь внукам. Только не спеши с ними. Сначала найди хорошего парня. Врача или адвоката. Ты же у нас учишься на социопата.
– На социолога, омма.
– Какая разница. Все равно ты постоянно шляешься по злачным местам. Напрашиваешься на неприятности.
– Не преувеличивай. Там же люди живут.
– Конечно. Плохие люди, с оружием. Лучше бы ты изучала певцов. Или официантов. Или врачей. Вот и встретила бы хорошего доктора. Или их изучать неинтересно? Что, бедняцкие трущобы лучше?
– А давай я буду исследовать разницу между корейскими мамами и еврейскими? – Она рассеянно зарывается пальцами в длинные светлые волосы куклы.
– А давай я влеплю тебе пощечину, нахалка! Не смей дерзить матери, которая тебя вырастила! Слышала бы тебя бабушка…
– Прости, омма, – виновато говорит девушка. Разглядывает волосы куклы, накрученные на палец. – Помнишь, как я пыталась покрасить Барби в брюнетку?
– Гуталином! Пришлось ее выбросить…
– Тебя это не волнует? Единообразие человеческих устремлений?
Ее мать раздраженно машет рукой.
– Вот научилась заумным словам! Раз тебя это так волнует, бери детей, с которыми работаешь, и делайте черных Барби.
Девушка возвращает куклу в коробку.
– Неплохая идея, омма.
– Только не красьте их гуталином!
– Это не смешно. – Она перегибается через коробку и целует мать в щеку. Та отмахивается, стыдясь демонстрации чувств.
– Веди себя хорошо, – наказывает она, забираясь в машину. – Учись. Никаких мальчиков. Но врачей можно.
– И адвокатов. Ага, поняла. Пока, омма. Спасибо за помощь.
Девушка машет машине вслед. Та движется к парку, но потом резко разворачивается и возвращается. Мама опускает стекло.
– Чуть не забыла, – говорит она. – Это важно. В пятницу приезжай на ужин. И пей ханьяк. И позвони бабушке, когда закончишь разбирать вещи. Не забудешь, Чжинсук?
– Да, да, я помню. Пока, омма. Серьезно. приезжай же уже.
Она дожидается, пока машина скроется за поворотом. Потом беспомощно смотрит на коробку в руках и оставляет ее у мусорки, а сама скрывается в здании.
Чжинсук. Ее имя расходится по всему телу жаром. Харпер мог бы наброситься на нее прямо сейчас. Удушить в коридоре. Но вокруг слишком много свидетелей. И где-то в глубине души он понимает: нельзя. Не время.
– Эй, мужик, – не слишком дружелюбно окликает его какой-то блондин. Он нависает над Харпером, высокий и из-за этого излишне самоуверенный. На нем надеты футболка с номером и шорты до колен. Он явно обрезал их сам, и из них торчат белые нитки. – Долго еще сидеть будешь?
– Докурю и уйду, – отвечает Харпер, прикрывая ладонью эрекцию.
– Давай побыстрее. Охрана кампуса не любит, когда тут болтаются посторонние.
– Это свободный город, – замечает Харпер, хотя не знает, правда ли это.
– И что? Советую уйти, пока я не вернулся.
– Сейчас. – Харпер затягивается, словно доказывая свои слова, но не шевелится. Парню этого достаточно; он коротко кивает и уходит в сторону магазинов, только разок оглядывается через плечо. Харпер бросает сигарету на землю и встает со скамейки, словно намереваясь уйти. Но останавливается у мусорки рядом с коробкой Чжинсук.
Присев, он зарывается в гору игрушек. Он здесь ради них. Его ведет карта. Все должно сложиться воедино.
Когда он находит лошадку с желтой гривой, Чжинсук (имя песней звенит в голове) выходит из здания и виновато бежит к коробке.
– Эм, эй, простите, я передумала, – начинает извиняться она, а потом растерянно склоняет голову. С такого близкого расстояния Харпер замечает, что в одном ухе у нее болтается сережка – длинные серебряные цепочки с желтыми и синими звездочками. Они колышутся, когда она двигает головой. – Это мои вещи, – настойчиво произносит она.
– Знаю. – Он насмешливо отдает ей честь и отходит, опираясь на костыль. – Я принесу тебе что-нибудь еще.
Он сдержит свое обещание, но только в 1993-м, когда она давно уже будет работать в чикагском жилищном управлении. Она станет второй его жертвой. Полиция не найдет подарок, который он ей оставит. И не заметит бейсбольную карточку, которую он заберет.
Дэн
10 февраля 1992
Шрифт в газете «Чикаго Сан Таймс» отвратительный. И здание редакции не лучше: низкоэтажное страшилище, пристроившееся в тени небоскребов на набережной реки Чикаго на Уобаш-авеню. Внутри – та еще дыра. Столы старые, тяжелые и металлические, времен Второй мировой; они предназначены для печатных машинок, которые заменили компьютерами. Вентиляция забита чернильной пылью, которая поднимается в воздух от грохота печатных станков. Когда они работают, трясется все здание. У некоторых журналистов чернила бегут вместо крови; у работников «Сан Таймс» она оседает в легких. Иногда они жалуются в управление по охране труда.
В этом уродстве есть гордость. Особенно по сравнению со зданием «Трибьюн», стоящим через дорогу, – из-за своих неоготических башенок и подпорок оно похоже на храм новостей. «Сан Таймс» – один огромный офис, большое пространство, впритык заставленное столами. В самом их центре сидит редактор новостного отдела, а колумнисты и спортивные журналисты задвинуты на окраину. Повсюду бардак, суета. Народ перекрикивается, заглушая друг друга и потрескивающий радиоприемник, настроенный на полицейскую частоту. Голосят телевизоры, разрываются телефоны, пикают факсы, выплевывая будущие новости. В «Трибьюн» столы разделены перегородками.
«Сан Таймс» – газета рабочих, газета полицейских, газета сборщиков мусора. «Трибьюн» читают миллионеры, профессора и жители пригородов. Одни представляют юг, другие – север, и вместе им не сойтись. По крайней мере, пока богатые наглые студентики со связями не сваливаются им на головы в пору университетских производственных практик.
– А вот и мы! – нараспев кричит Мэтт Харрисон, шагая между столами. За ним, как утята за мамой-уткой, тянется молодежь с горящими глазами. – Грейте копиры! Готовьте документы! Думайте, какой кофе хотите заказать!
Дэн Веласкес с ворчанием утыкается в экран компьютера, игнорируя крякающих утяток, которых приводит в восторг настоящий офис редакции. Сам он восторга не испытывает. Он даже не понимает, зачем его вызвали. В принципе, он мог бы вообще сюда не являться.
Но редактор захотел лично обсудить планы на ближайший сезон, потому что потом Дэн улетит в Аризону на весенние сборы. Как будто его команде это поможет. Фанатеть от «Чикаго Кабс» могут только оптимисты без логики и здравого смысла. Они как истинно верующие. Может, он так и напишет. Обойдется намеком. Он ведь давно просил Харрисона дать ему нормальную колонку, а не спортивные новости. Авторские статьи – вот настоящая журналистика. Спорт (да даже кино!) мог бы стать аллегорией, отражающей состояние мира. Он мог бы поучаствовать в культурном дискурсе, высказать свое ценное мнение. Дэн думает об этом; ищет в себе ценное мнение. Хоть какую-нибудь мысль. Но не находит.
– Эй, Веласкес, я с тобой разговариваю, – говорит Харрисон. – Решил, какой кофе будешь?
– Что? – Он глядит на него из-под новых очков с бифокальными линзами. Они сбивают его с толку так же, как и новый текстовый редактор, установленный на компьютере. Чем им не угодил «Атекс»? Дэну он очень нравился. Как и печатные машинки «Оливетти». И его старые хреновы очки.
– Вот тебе практикантка, можешь заказывать. – Харрисон с апломбом указывает на девчонку, которой самое место в детском саду. Прическа у нее точно детсадовская: волосы взъерошенные, лезут повсюду, падают на шарф в разноцветную полоску. Перчатки точно такие же, без пальцев, на плечах болтается черная куртка с сильным излишком молний, и самое ужасное – нос у нее проколот. Она раздражает его чисто из принципа.
– Нет. Не-а. Никаких практикантов.
– Она сама к тебе попросилась. Прямо по имени назвала!
– Тем более. Ты посмотри на нее, она явно не увлекается спортом.
– Рада знакомству, – говорит девушка. – Меня зовут Кирби.
– А меня не волнует, потому что мы разговариваем в последний раз. Я тут вообще случайно. Сделай вид, что меня нет.
– Зря стараешься, Веласкес, – подмигивает Харрисон. – Она твоя. Не делай ничего, за что нас могут засудить. – Он уходит назначать практикантов остальным журналистам, которые, в отличие от него, хотят и умеют с ними работать.
– Садист! – кричит Дэн ему вслед, а потом неохотно поворачивается к девчонке. – Чудесно. Добро пожаловать. Ну, садись, что стоишь? Подозреваю, никаких мыслей на тему нынешнего состава «Чикаго Кабс» у тебя нет?
– Простите. Я не особо слежу за спортом.
– Так и знал. – Веласкес сверлит взглядом мигающий на экране курсор. Он над ним издевается. На бумаге хотя бы можно порисовать, написать что-нибудь, а потом скомкать и бросить редактору в голову. Но экран компьютера неприступен. Как и голова его редактора.
– Меня больше интересует криминалистика.
Он медленно поворачивается к ней в крутящемся кресле.
– Правда? Ну, у меня для тебя плохие новости. Я пишу про бейсбол.
– Но раньше вы занимались убийствами, – не уступает девчонка.
– Да, а еще я курил, пил, ел свинину, и шунта в груди у меня не было. Результат работы в криминальной хронике, кстати. Забудь об этом. Несостоявшимся панкушкам там не место.
– Туда не берут практикантов.
– И правильно делают. Ты просто представь, что будет, если выпустить толпу детей на место преступления? Господи!
– Поэтому вы – наилучший вариант из возможных. – Она пожимает плечами. – Кстати, именно вы освещали мое убийство.
Ее слова ошарашивают, но лишь на мгновение.
– Ладно, ладно, раз ты так хочешь освещать преступления, сначала нужно подучить терминологию. Не убийство, а попытку убийства. Неудачную. Так?
– Не уверена.
– Господи боже! – Он делает вид, что дергает себя за волосы. Их и так немного осталось. – Напомни, кто ты из вереницы безуспешных чикагских убийств?
– Кирби Мазрахи, – отвечает она, и он все вспоминает. Она снимает шарф; под ним – рваный шрам, оставленный маньяком. Нож задел артерию, но не перерезал ее – так, кажется, говорилось в отчете судмедэксперта.
– Девушка с псом, – говорит Дэн. Он тогда брал интервью у свидетеля, кубинского рыбака с трясущимися руками. Мелькает циничная мысль: перед телевизионщиками-то он сумел успокоиться.
Рыбак видел ее, когда она вышла из леса. Из ее горла хлестала кровь, серо-розовые кишки высовывались из-под рваной футболки, а в руках она держала собаку. Все думали, что она точно умрет. Некоторые газеты сразу так и писали.
– Хм, – произносит он впечатленно. – И что, ты хочешь раскрыть преступление? Привлечь убийцу к ответственности? Заглянуть в материалы своего дела?
– Нет. Я хочу узнать про остальных жертв.
Он откидывается на спинку скрипящего кресла. Вот теперь он действительно впечатлен – и заинтересован.
– Знаешь что, девочка? Позвони-ка Джиму Лефевру. Ходят слухи, что «Чикаго Кабс» хотят отправить Бэлла на скамью запасных – узнай, что он думает по этому поводу. А я пока подумаю, что делать с этими твоими «остальными».
Харпер
28 декабря 1931
«Чикаго Стар»СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ СИЯЮЩЕЙ ДЕВУШКИЭдвин СуонсонЧИКАГО, ИЛЛИНОЙС – В момент написания данной статьи полиция прочесывает город в поисках убийцы Жанетт Клары, также известной под псевдонимом Сияющая девушка. Выступления юной танцовщицы из Франции пользовались скандальной славой: в своих номерах она пользовалась не одеждой, но веерами из перьев, прозрачными вуалями, воздушными шарами и прочими мелочами. Ее изуродованное тело было обнаружено утром воскресенья за клубом «Канзасский Джо», который специализируется на удовлетворении публики сомнительных вкусов.
Однако безвременная кончина уберегла ее от неминуемой медленной и мучительной смерти. Доктора, у которых наблюдалась мисс Клара, подозревали, что она страдает от отравления радиевой пылью, которую танцовщица использовала в номерах, чтобы придавать коже сияние светлячка.
«Я уже уста-а-ала слушать про радиевых девушек», – с больничной койки сообщила она в интервью с прессой на прошлой неделе. Ее ни капли не тронула история про фабричных работниц, которые отравились радиоактивными веществами, занимаясь окрашиванием светящихся циферблатов на предприятии в Нью-Джерси. От радиации пострадали пять женщин: излучение повредило их кровь, а затем проникло в кости. Суд обязал «Юнайтед Стейтс Радиум» выплатить штраф в 1 250 000 долларов, а также назначить 10 000 долларов единовременной компенсации каждой работнице и 600 долларов ежегодной пенсии. Однако вскоре девушки умерли, и нет ни одного свидетельства, что они были довольны выплатами за собственную смерть.
«Че-е-епуха-а-а, – фыркнула мисс Клара, постукивая красным ноготком по жемчужно-белым зубам. – По-вашему, у меня выпадают зу-у-убы? Я не умира-а-аю. Я даже не больна-а-а».
Однако она созналась, что на ногах и руках у нее иногда появляются «ма-а-аленькие волдыри-и-и» и что после каждого шоу она просит прислугу поскорее набрать ванну, поскольку у нее «горит» кожа.
Однако она отказалась обсуждать такие «ме-е-елочи», когда я посетил ее частную палату, заставленную букетами от поклонников. За лучшую медицинскую помощь (и, как поговаривают в больнице, за некоторые букеты) она заплатила деньгами, заработанными выступлениями.
Вместо этого она продемонстрировала мне крылья бабочки, которые сшила из газовой ткани и украсила блестками и радиевой краской – в них она планировала выступать.
Чтобы понять ее мотивы, нужно вспомнить, чем она занимается. Все артисты мечтают найти свою нишу, что-то особенное, что отличало бы их от легиона подражателей – или как минимум сделало бы первопроходцем. Став Сияющей девушкой, мисс Клара поднялась над морем заурядности, которое затягивает даже самых гибких и умелых танцовщиц. «А теперь я стану Сияющей ба-а-абочкой», – сказала она.
Также она выразила сожаление из-за отсутствия в ее жизни мужчины. «Они слышат про кра-а-аску и думают, что отра-а-авятся. Вы напишите в газете, пожа-а-алуйста, что я опьяняю, а не отравляю».
Врачи многократно предупреждали, что радиация проникла в ее кровь и кости и что она может лишиться ноги, однако молодая соблазнительница, которая когда-то танцевала в парижском кабаре «Фоли-Бержер» и в лондонском театре «Уиндмилл» (пусть и не в неглиже), а ныне приехала покорять Америку, заявила, что будет «танцева-а-ать, пока не умрет».
Увы, ее слова стали пророчеством. В субботу, закончив выступление в «Канзасском Джо», мисс Клара в последний раз вышла на бис, привычно послала воздушный поцелуй Бэну Стейплсу, вышибале, который охранял черный вход от чрезмерно активных фанатов, и больше несчастную никто не видел.
Следующим утром ее тело нашла Тэмми Херст, которая возвращалась домой после ночной смены на фабрике. Ее внимание привлекло необычное сияние, исходящее из переулка. Обнаружив изувеченный труп юной танцовщицы, под одеждой которой до сих пор светилась краска, мисс Херст сразу же поспешила в ближайшее отделение полиции, где в слезах сообщила о местонахождении тела.
Множество людей видело его в баре в ту ночь. Но Харпер не удивлен человеческому непостоянству. Особенно когда речь идет про богатеев из высшего общества, которые решили на одну ночь снизойти до трущоб. Их сопровождал скучающий полицейский; не по работе – он просто халтурил, одновременно играя роль телохранителя и гида, знающего места, где можно вкусить немного греха и разврата. Забавно, что в газетах не написали про это.
Затеряться в толпе было несложно, но костыль он оставил на улице. Он оказался удобной вещицей. Люди отводили взгляд. Недооценивали Харпера. Но в баре костыль бросился бы в глаза.
Харпер стоял у дальней стены, попивая пародию на джин – дитя сухого закона. На случай облавы он даже был налит в чайную чашку.
Богачи толпились у сцены, восторгаясь окружающими их плебеями, но только пока те не приближались к ним без разрешения. Для этого и нужен был полицейский. А сами они свистели и вопили, требуя поскорее начать выступление, и распалились только сильнее, когда на сцене появилась не «Мисс Клара Жанетт – сияющее чудо ночи, ярчайшая звезда на небосводе, лучезарная повелительница блаженства, эксклюзив этой недели!», а миниатюрная китаянка в скромном платьице, расшитом узорами. Она вышла из-за кулис и присела у края сцены, скрестив ноги, перед деревянным струнным инструментом. Свет померк, и даже самые пьяные и буйные толстосумы притихли в ожидании.
Девушка коснулась струн легкими щипками, забренчала звенящей мелодией, зловещей в своей необычности. Среди белой драпировки, свитой на сцене искусными кольцами, мелькнула тень – силуэт, с головы до пят укутанный в черное, как у арабов. Только глаза девушки на мгновение ярко блеснули, выхваченные светом улицы, когда коренастый вышибала неохотно впустил опоздавшего посетителя. Холодные, дикие – глаза животного, попавшего в свет фар. Харперу вспомнились ночные поездки с Эвереттом в Янктон, на ферму, куда они частенько наведывались.
Часть аудитории даже не заметила чужого присутствия. Но потом, подчиняясь почти неслышному музыкальному переливу, Сияющая девушка стянула длинную перчатку, открывая светящуюся руку. Зрители ахнули; какая-то женщина у самой сцены взвизгнула от восторга, и полицейский тут же завертел головой, проверяя, все ли ведут себя пристойно.
Протянув руку, девушка в изящном, чувственном танце изогнула запястье. Игриво скользнула ладонью по балахону, на мгновение оголяя плечико, животик, накрашенные губы, яркие, как светлячок. Потом медленно стянула вторую перчатку и бросила ее в толпу. Теперь на сцене сияли две руки, обнаженные до локтя. «Идите сюда», – манили они завороженных зрителей. И те подчинялись, как дети, толпились у сцены, толкались, выискивая местечко получше, бросали перчатку в воздух, передавали ее из рук в руки, как сувенир. Она приземлилась у ног Харпера – вся измятая, с извилистыми потеками радиоактивной краски, похожими на кишки.
– Так, ну-ка, забирать ничего нельзя, – сказал коренастый вышибала, выдергивая ее из рук Харпера. – Дай сюда. Это собственность мисс Клары.
На сцене руки добрались до вуали, отстегнули ее, и на плечи девушки упали кудри, обрамив островатое личико: губки бантиком, огромные голубые глаза с пышными ресницами, тоже светящимися от краски. Прелестная отрубленная головка, зловеще плывущая над сценой.
Мисс Клара повела бедрами, изгибая руки над головой, дождалась напряженного пика мелодии и резкого звука пальцевых тарелок в ее руках, а потом избавилась от еще одного предмета одежды – как бабочка, сбрасывающая очередной слой черного кокона. Но движения напоминали Харперу скорее змею, которая выворачивается из кожи.
Под балахоном скрывались изящные крылышки и костюм, расшитый бисером, как у узорчатой бабочки. Ее пальцы задрожали, ресницы прикрыли большие глаза, и она рухнула в драпировку, словно умирающий мотылек. А когда появилась снова, руки ее были вдеты в свободные рукава из газовой ткани. Над баром замерцал прожектор, отбрасывая на сцену расплывчатые силуэты бабочек. Жанетт окрыленно порхала по сцене, кружась среди иллюзорных насекомых – а Харпер думал о чуме и нашествии паразитов. Пальцы нашли в кармане сложенный нож.
– Зпасибо! Зпасибо! – тонким голоском юной девочки произнесла танцовщица в самом конце, когда осталась в одеянии из одной только краски и высоких каблуков. Руки она держала скрещенными на груди, как будто до этого не демонстрировала всем свои прелести. А потом она послала толпе воздушный поцелуй, под бурные возгласы одобрения оголяя розовые соски, и тут же захлопала ресницами, кокетливо хихикнув. Притворно смутившись, она поспешно прикрылась и убежала за кулисы, высоко закидывая высокие каблуки. А спустя мгновение вновь вышла на сцену, обошла ее кругом, высоко вскинув руки в триумфе. Она запрокидывала голову, и глаза у нее блестели – всем своим видом она требовала внимания, требовала упиваться ею, пока была такая возможность.
Ее жизнь стоила дешевых карамелек в помятой коробке, которую он весь вечер держал под пальто. Вышибала его не заметил – отвлекся на богатую даму, блюющую у главного входа под презрительный хохот мужа и друзей.
Он поджидал ее у задней двери. Она тащила за собой чемодан с реквизитом, кутаясь в теплое пальто, надетое на блестящий костюм, а на лице ее до сих пор светилась не до конца смытая краска, прочерченная дорожками пота. Свет от нее отбрасывал резкие тени, выхватывая впалые щеки. Угрюмая, вымотанная – она растеряла все силы, что демонстрировала на сцене, и на мгновение Харпер засомневался в себе. Но потом она увидела подарок, и лицо ее просияло ломкой жаждой. «Вот теперь, – подумал Харпер, – она обнажена до предела».
– Это мне? – спросила она, в своем очаровании позабыв про французский акцент, но быстро исправилась, скрывая бостонский выговор. – Как это ми-и-ило! Вы смотрели мой танец? Вам понра-а-авилось?
– Не особо, – ответил он, наслаждаясь мгновением разочарования, которое быстро скрылось под болью и удивлением.
Сломать ее было не сложно. И если она кричала – он не слышал, потому что весь мир сузился до единой точки, как будто он смотрел на него через замочную скважину, – никто так и не пришел к ней на помощь.
Уже позже, когда он склонился вытереть нож о пальто танцовщицы, сдерживая азартную дрожь в руках, то заметил ожоги: крохотные волдыри вздулись на нежной коже под глазами и вокруг губ, на запястьях и бедрах. «Смотри внимательно, – сказал он себе, продираясь через статику в мыслях. – Запоминай. Все до мельчайшей детали».
Он не стал трогать деньги – жалкую пачку купюр номиналом в один или два доллара, – но забрал крылья бабочки, завернутые в сорочку, и пошел, прихрамывая, за костылем, который спрятал за мусорным баком.
Вернувшись в Дом, он долго стоял под душем и мыл руки, пока они не покраснели, пока не заныли от трения; что угодно, лишь бы не заразиться. Пиджак он бросил отмокать в ванной – ему повезло, что на темной ткани не было видно крови.
Крылья он хотел повесить на столбик кровати. Но когда пришел – они уже висели на нем.
Знаки и символы. Как мигающий зеленый человечек, разрешающий перейти улицу.
Будущего и прошлого не существует.
Есть настоящее – и только оно.
Кирби
2 марта 1992
Вся ось коррупции вертится на пончиках с глазурью. По крайней мере, именно благодаря им Кирби получает доступ к файлам, которые не предназначены для ее глаз.
Она уже просмотрела все микрофиши в библиотеке Чикаго – двадцать лет новостей, мелькающих под щелкающей и трещащей линзой проекционного аппарата, собранные в отдельные бобины и убранные в соответствующие шкафчики.
Но архивы «Сан Таймс» значительно старше, а люди, которые там работают, способны найти что угодно – иногда кажется, что их таланты граничат с магией. Марисса, которая носит очки-«кошечки», свободные длинные юбки и питает тайную нежность к рок-группе «Грейтфул дэд»; Донна, которая никому не смотрит в глаза, и Анвар Четти, или попросту Чет, извечный любитель комиксов – с волнистыми черными волосами, падающими на лицо, серебряным перстнем в форме птичьего черепа, закрывающим половину кисти, и гардеробом в одних только черных оттенках.
Они все изгои, но лучше всех Кирби ладит с Четом, потому что он полная противоположность своим устремлениям. Низенький, полноватый парень из Индии – он никогда не сможет выбелить смуглую кожу до мертвецкой белизны, которая присуща его субкультуре. Иногда Кирби задумывается, насколько тяжело ему было влиться в сообщество готов-геев.
– Это не спортивные новости, – сообщает очевидное Чет, облокачиваясь на стойку.
– Да, но пончики… – Кирби открывает коробку и поворачивает ее этикеткой к нему. – И Дэн разрешил.
– Ну ладно, – говорит он, вытаскивая пончик. – Учти, мне просто интересно попытать силы. Не говори Мариссе, что я взял шоколадный.
Он скрывается в архиве, а обратно выходит с газетными вырезками в коричневых конвертах.
– Вот, как ты и просила. Все статьи Дэна. Если хочешь, чтобы я нашел всех женщин, которых зарезали за последние тридцать лет, придется подождать подольше.
– Хорошо, – говорит Кирби.
– В смысле, как минимум пару дней. Просьба серьезная. Но самые громкие дела я откопал. Держи.
– Спасибо, Чет. – Она пододвигает к нему коробку, и он берет еще один пончик. Он заслужил. Забрав конверты, Кирби скрывается в конференц-зале. На доске у двери нет записей о запланированных совещаниях, так что у нее есть время разобраться с добычей. И правда: она сидит над ней добрых полчаса, пока Харрисон не находит ее сидящей на столе, скрестив ноги, в окружении разложенных вырезок из газет.
– Привет, – невозмутимо бросает редактор. – Ноги со стола сними. Не хочу расстраивать, но твоего начальничка сегодня не будет.
– Знаю, – отвечает она. – Он попросил меня кое-что отыскать.
– Серьезно, он отправил тебя копать материалы? Практиканты существуют не для этого!
– Да я решила, что отскребу с папок плесень, засыплю ее в кофемашину. Всяк будет лучше, чем дрянь из кафетерия.
– Добро пожаловать в славный мир журналистики. Так что этому балаболу понадобилось?
Он оглядывает валяющиеся вокруг конверты и папки. «Официантка найдена мертвой», «Мать зарезали на глазах дочери», «В убийстве студентки замешаны бандиты», «Чудовищная находка в гавани»…
– Как-то мрачновато, – хмурится он. – Не совсем ваша тема, не находишь? Или в бейсболе правила поменялись?
Кирби не ведет даже бровью.
– Это к статье про то, что спорт помогает молодежи выплеснуть эмоции, которые могли бы привести к наркомании и бандитизму.
– Ага, ну да, – хмыкает Харрисон. – Вижу, статьи Дэна ты тоже изучаешь? – Он стучит пальцем по вырезке: «Полиция скрывает убийство».
Вот теперь Кирби ежится. Вряд ли Дэн думал, что она доберется до статьи, испортившей его отношения с полицией. Оказывается, в управлении не особо любят истории про собственных офицеров, которые под кокаином разряжают обойму табельного оружия в лицо уличной шлюхи. Чет сказал, что коп потом досрочно вышел на пенсию, а Дэн не мог даже припарковаться у участка, чтобы ему не порезали шины. Это приятная неожиданность: Кирби думала, что только она способна настроить против себя все полицейское управление Чикаго.
– Его не это добило, кстати. – Харрисон присаживается на стол рядом с ней, позабыв про собственные запреты. – И даже не статья про пытки.
– Чет мне про нее ничего не сказал.
– Потому что Дэн ее не закончил. Три месяца потратил на расследование в 1988-м. Жуткое дело. Подозреваемые в убийстве сознавались все как один, только вот покидали комнату для допросов с электрическими ожогами на гениталиях. По имеющимся сведениям. Это, кстати, самые важные слова в лексиконе журналиста.
– Я учту.
– С подозреваемыми никогда не церемонились, это почти что традиция. От полиции требуют результаты. Да они и сами уроды, что тут сказать. Все поголовно в чем-то да виноваты. Главное управление явно хотело закрыть на это глаза. Но Дэн не отступил. Он хотел узнать правду, а не «имеющиеся сведения». И что ж ты думаешь? Ему повезло, он нашел хорошего копа, который согласился обо всем рассказать. Прямо под запись, в открытую. А потом ночью у него зазвонил телефон. Сначала – просто молчание. Для большинства бы этого хватило. Но Дэн упрямец. Он не отвалит, пока его не заставят. Так что они перешли на угрозы. Только угрожали не ему, а его жене.
– Я не знала, что он был женат.
– «Был», в этом и дело. И звонки по ночам тут ни при чем. По имеющимся сведениям. Дэн не хотел уступать, но угрожали не только ему. Подозреваемый, который говорил про ожоги и побои, внезапно изменил показания. Утверждает, что тогда был под кайфом. А у дружка Дэна из полиции есть не только жена, но и дети, и он не мог ими рисковать. Так что двери захлопнулись у Дэна перед носом, а мы не могли выпустить в печать статью без надежных источников. Он не хотел сдаваться, но ему не оставили выбора. А потом от него ушла жена и начались проблемы с сердцем. Стресс. Разочарование. Когда он вернулся из больницы, я пытался перевести его в другой отдел, но он продолжил следить за появляющимися трупами. Кстати, забавно, но это ты стала последней каплей.
– Он мог бы и не сдаваться, – произносит Кирби со свирепостью, которая удивляет их обоих.
– Он не сдался. Просто выгорел. Справедливость – штука сложная. В теории она хороша, но на деле есть только практика. Когда каждый день с этим сталкиваешься… – Он пожимает плечами.
– Снова забалтываешь практикантов, Харрисон? – Виктория, фоторедактор, прислоняется к дверям, скрестив на груди руки. Как и всегда, она одета в мужскую рубашку, джинсы и туфли на каблуках; немного небрежно, но ей наплевать.
Редактор виновато втягивает голову в плечи.
– Ты ж меня знаешь, Вики.
– О да. Ты любишь вгонять всех в тоску своими историями и умными мыслями. – Но глаза у нее блестят, и Кирби неожиданно понимает, что шторы в комнате задернуты не просто так.
– Да мы все равно закончили, да?
– Да, – отвечает Кирби. – Не буду вам мешать. Только соберу вещи. – Она сгребает папки в кучу и бормочет: – Простите.
Не стоило этого говорить – словно она признается, что ей есть за что извиняться.
Виктория хмурится.
– Ничего, у меня все равно горы работы. Можем перенести встречу. – Она уходит, шагая легко, но быстро. Они смотрят ей вслед.
Харрисон шмыгает носом.
– Знаешь, ты хоть предупреждай, что лезешь искать материал для статьи.
– Хорошо. Можно считать, что я вас предупредила?
– Повремени с этой историей. Вот поднакопишь опыта, и можем поговорить. А пока запомни еще одно важное для журналиста слово: конфиденциальность. В общем, не рассказывай Дэну про наш разговор.
«И про то, что вы спите с фоторедактором», – думает Кирби.
– Ладно, я побежал. Давай в том же духе, пчелка. – Он уходит, явно намереваясь догнать Викторию.
– Конечно, – бормочет себе под нос Кирби и прячет папки в рюкзак.
Харпер
Любое время
Он раз за разом прокручивает ту ночь в голове, разлегшись в хозяйской спальне; водит кончиками пальцев по узорам пайеток на крыльях, пока мастурбирует, вспоминая мимолетное разочарование в ее глазах.
Этого Дому хватает. Пока что. Талисманы на стене успокоились. Давящая головная боль отступила. У него есть время освоиться и обжиться. И избавиться от пшека, гниющего в коридоре.
Он экспериментирует с днями, но после встречи с лупоглазым бездомным парнишкой старается не попадаться никому на глаза. Каждый раз город меняется. Районы появляются и пропадают, прикрываются симпатичным ремонтом, сбрасывают его, открывая истинную гниль. В городе появляются симптомы разрухи: уродливые рисунки на стенах, битые окна, копящийся мусор. Иногда получается найти дорогу, а иногда местность меняется настолько, что приходится строить путь от озера и ориентиров, которые получилось запомнить. Черный шпиль, похожие на кукурузу башни-близнецы, изгибы и повороты реки.
Даже в прогулках у него есть цель. Для начала он покупает еду в магазинах и закусочных, где никто его не узнает. С людьми он не разговаривает: не хочет запомниться. Ведет себя дружелюбно, но неприметно. Внимательно наблюдает за людьми, копируя их повадки. Вступает в диалог, когда нужно поесть или воспользоваться уборной, но уходит, как только получает то, что хотел.
Большое значение имеют даты. Он тщательно проверяет деньги. Легче всего ориентироваться на газеты, но внимательный глаз замечает и другие подсказки. Количество машин на дорогах. Таблички с названиями улиц, меняющиеся с желтых на зеленые. Избыток товаров. Отношение прохожих друг к другу: насколько враждебно или дружелюбно они настроены, насколько сторонятся незнакомцев.
В 1964-м он два дня проводит в аэропорту: спит на пластиковых сиденьях в зале ожидания, смотрит, как взлетают и приземляются самолеты; металлические чудовища пожирают людей с чемоданами, а потом выплевывают их обратно.
В 1972-м любопытство пересиливает, и он заговаривает со строителем, который спустился на перекур с лесов железного скелета Сирс-тауэр. Он возвращается через год, когда башню достраивают, и поднимается на самый верх. Смотрит на город – и чувствует себя богом.
Харпер аккуратно прощупывает границы. Стоит всего лишь подумать, и двери распахиваются в нужное время – хотя он не всегда понимает, подчиняется Дом его желаниям или сам навязывает их.
Возвращаться назад ему не нравится. Он боится остаться в прошлом, да и уйти дальше 1929-го не может. Будущее ограничено для него 1993-м: к этому времени район уже полностью разрушен, а дома пустуют, и никто не встает у него на пути. Может, это день Откровения, когда мир распадется на пламя и самородную серу. Он бы не отказался взглянуть.
Для мистера Бартека это предзнаменует конец пути. Харпер решает оставить его как можно дальше от времени, в котором он жил. Избавляться от трупа непросто. Он обвязывает его веревкой, протягивает ее под мышками и между ног. Сквозь одежду сочатся разлагающиеся внутренности, и когда он тащит тело к дверям, тяжело опираясь на костыль, за ним остается дорожка слизи.
Сосредоточившись на далеком будущем, Харпер вступает в предрассветные часы летнего дня 1993 года. На улице темно, птицы до сих пор не проснулись, но где-то недалеко брешет собака, разрывая безмолвие резким лаем. Какое-то время Харпер стоит на пороге, осматриваясь, а потом спускается на улицу, неряшливо дергая за собой труп.
Еще двадцать минут он потеет и загнанно дышит, волоча его к мусорке, которая стоит в переулке за пару улиц от дома. Но когда откидывает тяжелую металлическую крышку, то видит внутри другой труп. Его синеющее лицо опухло от удушения, между зубов виднеется розовый язык, затянутые поволокой глаза краснеют разорванными капиллярами, но Харпер узнает гриву волос. Это доктор, который лечил его в больнице Милосердия. Стоило бы удивиться, но воображение пасует. Тело доктора оказалось здесь, потому что так должно было быть, и этого достаточно.
Он забрасывает Бартека сверху и закидывает их мусором. Пусть вместе кормят червей.
