Мастер жестокости бесплатное чтение
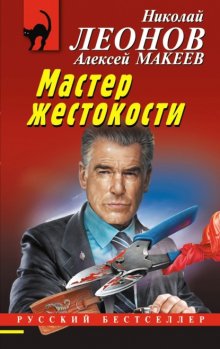
Оформление серии В. Щербакова
Иллюстрация на переплете И. Варавина
© Макеев А. В., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Глава 1
В лабиринтах хитровских трущоб царили сумерки, сырость и мертвая тишина. Куда запропала вся шваль, которая испокон веку жила и процветала тут? Подозрительная тишь.
Квартал оцеплен милицией вот уже вторые сутки, о предстоящей облаве заранее пустили слух по всем ночлежкам, притонам, малинам. Мол, не волнуйтесь, граждане уголовники, всех выпускают – никого не впускают. Кое-кто воспользовался возможностью уйти и свалил, но этих, которых выпустили, мало, очень мало.
«Не может такого быть, чтобы это были все! Однако вот прочесываем, обнюхиваем все углы, шатаемся по всем помещениям – пусто, никого!»
Крысы, тараканы и прочие безобидные твари, разумеется, не в счет. Они-то не в состоянии до такой степени испоганить все вокруг, как испоганили люди. Под ногами чавкало, с потолка свисали мерзкие седые сопли, ветер, проникающий сквозь окна, заткнутые одеялами и газетами, спешил покинуть вонючее помещение. Какие-то твари с урчанием расползались по углам, подвывая, шелестели человекообразные тени.
Вот, держа наган наготове, проклиная лед, намерзший на полах тяжелой шинели, народный следователь Мария Арапова пробирается вдоль осклизлой кирпичной стены, по узкому переулку между доходными домами Румянцева и Псакиса.
Отовсюду несло гнилью, водкой, капустой, испражнениями и… порохом?
Бесспорно, новая струя запаха – это сгоревший порох.
Мария, как ищейка, сделала крюк, принюхалась, подняла голову – точно, вот они, пропащие! Вверху, там, где под блеклым небом почти сходились крыши ночлежек, замелькали тени, пронесся быстрый шепоток, послышались шорохи, скрежет, топот по черепице.
«На крыше они, на крыше!» – хотела крикнуть Маша, но тут впереди, как в прицеле, замаячила знакомая черная фигура.
Нелепая, корявая, перекошенная, припадающая на одну ногу, она слепо тыкалась из стороны в сторону, шарила ладонями по кирпичам, точно пытаясь нащупать выход в сплошной стене.
Мария прицелилась, опустила оружие, со злостью куснула руку, чтобы не дрожала. Снова аккуратно, как на занятиях по стрельбе, подняла наган, поймала в прицел тень, мечущуюся по длинному проходу. Приказала:
– Сапог, стоять! Руки вверх!
И в этот момент сзади грохнул выстрел, другой, третий. Будто что-то разорвалось в левой стороне груди, под лопаткой, по телу полоснуло горячее, раскаленное лезвие.
– Мамочки, как больно, – прошептала она, оседая на снег.
Перед потемневшим взором завертелись крыши, небо свернулось в воронку, властно затягивая Марию в никуда, в пустоту…
– Прекратить отсебятину! – взвизгнул кто-то таким голосом, словно провел железом по стеклу. – Перерыв! Да откопайте же ее!
– Вообще, это было подло и непрофессионально, – как могла, деликатно заметила Мария.
Голова гудела, половина лица не ощущалась вовсе, пострадавшее ухо ничего не слышало.
– Почему бы не напомнить про беруши? Понимаю, новичок, но…
– Простите, честное слово, не знаю, как получилось! – с глупой улыбкой каялся пиротехник, выковыривая из изрешеченной шинели подсадки, имитирующие попадание пули. – Не обижайтесь, я же не специально.
– Еще бы специально.
– Зато смотрите, как кучно прошли, аккурат под сердце!
– Спасибо, – по-прежнему сдержанно произнесла Мария, прижимая компресс к пострадавшему уху.
«Конечно, он же пиротехник, у него, не иначе, ежедневно по десять сотрясений мозга. Вряд ли у этого глупца что-то там осталось, за его чугунным лбом. Мамочки, как больно…»
– Я ж так старался, чтобы все красиво сделать. Правда натурально получилось?
– Весьма, – съязвила врач, показывая Марии жестами, что надо пошире раскрыть рот.
Та огрызнулась:
– Да слышу я! Одним ухом.
Врач, не обращая внимания на грубость, продолжала:
– Только ты ее чуть, натурально, не угробил. На больничный пойдет недели на три, не меньше, это если без госпитализации обойдемся.
– Никаких больничных! – снова встрял визгливый голос.
Ах да. Юное дарование. Соловьев, старый добрый режиссер, слег с инфарктом, и вместо него рулил процессом съемок невыносимый субъект, ходячая пропаганда радужного движения. У этого сокровища имелось особое мнение по любому поводу, в том числе относительно всех видов революций. Особенно в той части, что касалось тотального уничтожения всего, что принято считать нормальным.
Вот и сейчас он, хлопая нарощенными ресницами, пищит, возмущая вселенную и окружающих своей аномальностью:
– У нас план, съемочный процесс и бюджет! А если вы не в состоянии обеспечить соблюдение этих требований, то всегда найдутся могущие! Между нами, я вас, Мария, по-прежнему в этой роли не вижу. Дайте же мне Арапову! Дайте мне инферно, сияющую молнию, Дзержинского в юбке! Рожденную революцией, черт подери, а не гламурную феечку! Неталантливо!
– А тебе все, что без кожаных трусов и не мужик, неталантливо, – чуть слышно пробормотала врач.
Мария, не сдержавшись, прыснула и тотчас зашипела от боли.
– Тихо-тихо. Только не напрягайся. Давай-ка прямо сейчас в клинику, а если этот, мать его, фей попробует хвост поднять – настучу на него в профсоюз. Совсем опух, людей живьем убивать.
Дома Мария продолжала переживать.
– Наверное, он в чем-то прав, – говорила она мужу, прижимаясь компрессом к дивану и прикрывая глаза. Голова гудела, как котел. – Ну, в самом деле, какой из меня следователь? Зря только вышла из своего амплуа.
– Ты разноплановая актриса и не по своему хотению вышла. Соловьев сказал, что Маша Арапова отличная и другую он в этой роли не видит, – напомнил Лев Иванович, преподнося расстроенной супруге чай и обнимая ее. – А раз мэтр сказал, этому дециметру помалкивать бы в тряпочку.
Он ласково, как маленькую, погладил жену по голове – и с немалым удивлением увидел, что у Марии дрожат губы.
– Перестань! Что ты, в самом деле, распереживалась. Отдохнешь. Как раз к тому времени, как выздоровеешь, поправится и нормальный режиссер. Все пойдет как по маслу.
– Мне уже сейчас не на что опереться. Должен быть какой-то смысл в фильме, а не бегание с наганом. К чему все это? Я не понимаю сути этого исторического процесса в кинокартине, – раздраженно ответила она.
– Сути того процесса многие современники не понимали, – успокоил супругу Гуров, – а теперь еще и историки. И потом, тебе же не суть надо изобразить, а процесс. Вот тут большого ума-то и не надо: выкатывай глаза, надувай щеки и божись именем революции. Да, и не забывай упоминать революционную же целесообразность и повстанческих подпольных черносотенцев.
Мария попыталась рассмеяться и снова застонала.
– Все, все, не буду больше, – пообещал Лев Иванович, хлопая себя ладонью по губам. – Не знаю, я не специалист, но мне лично роль твоя понравилась. Хотя в целом показалась необычной Мария в виде следователя Араповой. Кстати, кто это?
– Кто ж ее знает. Сценариста спроси.
– Нет, кто такие Араповы, я, конечно, помню. Целая эпоха, династия оперативников. Владимир Арапов маньяка Мосгаза брал. Если ничего не путаю, с ним один из Вайнеров служил, с него, говорят, и списал то ли Жеглова, то ли Шарапова, то ли обоих сразу. Ну а ты, наверное, его мама или тетя.
– Не знаю кто. Неважно, – по-прежнему раздраженно отрезала Мария, постукивая пальчиками по планшету. – Кому вообще нужны эти ностальгические движущиеся картинки. И ах ты, какие все честные, открытые, самоотверженные, Павка Корчагин и внуки! Один раз прокатят под седьмое ноября – и давай – до свидания!
– И из дерьма можно сделать конфетку, если человек с талантом, – авторитетно заявил муж. – Не переживай. Все будет хорошо. Просто пиротехник склеротик, у тебя теперь ухо болит. И этот старый хрыч Соловьев не вовремя вздумал хворать. И, кстати, о хрычах…
В этот момент запиликал телефон.
Старый генерал по привычке представился:
– Орлов.
– Слушаю вас внимательно, – отозвался Гуров.
– Лева, с утреца завтра загляни ко мне, по архиважному делу.
Полковника передернуло от этого «архи». Вспомнились студенческие годы и преподаватель, частенько именно так говоривший.
– По какому-какому? – переспросил он, ежась.
– Архи… – Тут уже сам Орлов поперхнулся, видимо, вспомнив вождя мирового пролетариата, употреблявшего слово «архиважно», и сказал раздраженно, но проще: – Короче, важному. У меня все.
Лев Иванович отложил телефон, походил по комнате, держа руки за спиной, и задумчиво протянул:
– Кстати, о хрычах, господа…
– Гуров, если ты не перестанешь меня смешить, у меня ухо взорвется, – предупредила Мария.
– Извини, пожалуйста. Чудно́, генерал хочет меня видеть по одному архиважному делу. Точь-в-точь так выражался не только вождь мировой революции, но и еще один хрыч, исключительной поганости.
– Еще один хрыч. А первый, стало быть… Орлов. А ну как доложу генералу, как ты его за глаза зовешь, – пообещала супруга.
– Не сдашь же ты собственного мужа. И потом, я с любовью и уважением называю. Хрыч разный попадается, – заметил Гуров солидно и со знанием дела. – Тот, второй, о котором лично я говорю, был хрыч еще тот. Пробы ставить негде. На его счету не одна цистерна выпитой крови студентов.
– Ну, понеслось. Давай без студенческих триллеров, – попросила Мария, морщась. – Все преподы во всех вузах одинаковые. Ты ведь с моими наставниками не был знаком.
Гуров, подумав, признал, что всех он действительно не знал, знал лишь тех, что видел на экране и сцене.
– Я почему не люблю фильмы про вампиров? Мне нашего пана Ректора хватило…
– Пана Ректора?
– Это был особый фрукт. Он перешел к нам из одного маленького психиатрического заочного юридического института, а потом в него же и вернулся. Этот пан Ректор руководил юринститутом, да так умело и до такой степени чутко, что педагогический состав поднял бунт. В этой связи он и укрылся в универе. За ним так и осталось прозвище пан Ректор. О, как он валил студентов! Это «Кармен», Бизе! Бой опытного тореадора с новорожденными телятами.
– Ну-ка?
Видя, что супруга увлеклась его рассказом и позабыла об огорчениях, Гуров почувствовал вдохновение.
– Рассказываешь все, что добросовестно выучил! О чем прочел от и до, курсовики самолично настрочил, о том, в чем считаешь себя сведущим. А этот… пардон. Ну или ногти чистит, или зевает, а на закуску обязательно выдает со скучающим видом: «Ну это все понятно…»
– Подлец, – искренне посочувствовала жена. – А дальше?
– Дальше в зависимости от настроения. Говорит банальное: «…и что из того?», или умное: «…а вот чем отличается система от совокупности?».
Мария, поразмышляв, спросила, к чему пан Ректор задавал последний вопрос. Гуров признался, что не знает, но отличия выучил наизусть, на всякий случай.
– Да, пожалуй, соглашусь, что до такой степени злобных преподов у меня не было, – заявила Мария. – Смотри, сколько лет прошло, а тебя до сих пор гложет.
– Ну что ты, я великодушен и не злопамятен.
– Ага. А про старого хрыча-то вспомнил?
– Так это по аналогии. Видишь ли, генерал один в один по-Ректорски сообщил, что жаждет меня видеть по «архиважному» делу. Еще бы «р» не выговаривал – точь-в-точь пан Ректор. Вот и навеяло.
– Он что, еще и картавил? – давясь от смеха, уточнила Мария.
– Да еще как, прямо по-ленински, – подтвердил Гуров и с облегчением подумал: «Ну слава богу, успокоилась».
Глава 2
Прибыв в управление и поднявшись на этаж, уже у кабинета Орлова Гуров обнаружил непривычно мрачного Крячко. Оказалось, что полковника тоже мучили воспоминания о пятне, омрачавшем его светлые студенческие времена. То есть о пане Ректоре.
– Всю ночь чертовщина снилась. Будто я в очередной раз в родной аудитории заваливаю у этого кровососа теорию государства и права, – признался Станислав, понизив голос, – нормально? А сколько лет-то прошло. С чего бы это?
– Как с чего. Генерал приглашал пошептаться по архиважному делу? – уточнил собрат Гуров.
– Точно. Вот с этого, значит, чертовщина и снилась.
Вскоре выяснилось, что зловещая тень пана Ректора была вызвана к жизни не только его любимым словом «архиважно»…
Верочка радушно распахнула дверь, но на этом испытываемые сыщиками положительные эмоции и закончились. Генерал был задумчив и мрачен, как туча, и долго собирался с мыслями, решая, с чего начать разговор. Эти приготовления ничего доброго не сулили.
Наконец, тяжело вздохнув, он полез в сейф и извлек коробку:
– Вот, смотрите, какая штукенция.
– Пальчики сняли? – пошутил Крячко, на что генерал сказал вполне серьезно, что сняли, равно как и пробы для экспертизы.
– Пробы-то зачем? – спросил Гуров несколько озадаченно.
– Вот как раз это пока тебя не касается. Неважно. Смотрите да рассматривайте. Даже можете потрогать, если есть желание.
Лев Иванович пожал плечами и послушно принялся рассматривать коробку. Она была клееная, покрытая качественным шпоном, нарочито грубо отполированным, на крышке красовалась выжженная стилизованная литера «Д@». Внутри, в гнезде из древесной стружки, покоилась «штукенция» – продолговатая ключница из кожи цвета густого красного вина. С первого взгляда видно, что сделано не в Китае, сработано на совесть, с исключительным изяществом. Благородно мерцали металлические детали, цепочка и клепки, точь-в-точь состаренное серебро. Но самое главное – это рисунок на ключнице, чуть выступающий над поверхностью. Крест, роза и готическая надпись: «Der Mutter die mich nie geboren», рисунок черно-белый, несмотря на отсутствие цветов, выглядел объемным, мастерски исполнен короткими, нервными штрихами, как на полотнах Ван Гога.
Станислав, повертев вещицу в руках, протянул:
– Красивая вещь. Мне бы такую на день угро. Если вот сюда монеток натолкать, то кистень получится.
– Не знаю, что там у тебя получится, – ворчливо заметил Орлов, постукивая карандашом, – и подарок не тебе. Один уважаемый человек уже получил эту вещь на День юриста, после чего угодил прямиком в реанимацию.
– Растрогался, – предположил Крячко. – Или вещь отравлена?
Гуров взял у коллеги вещицу, повертел, осмотрел со всех сторон, потянул носом:
– Ну что, интересно. В основе-то кожа толстая, судя по рыхлой и грубой структуре, скорее всего, крупный рогатый скот, бык.
– А картинка?
– А картинка на накладке, кожа накладки другая по фактуре, тонкая, и оттенок отличается. Красиво, но быстро вытрется. Жалко.
Генерал усмехнулся:
– Не вытрется. Набито на совесть.
– Да, странно, это не рисунок на поверхности и не тиснение. – Гуров постучал пальцем по надписи. – А что сия надпись значит?
– Я в последнее время по-немецки не говорю, – посетовал Крячко. – Возможно, вот Вера знает.
Верочка, которая стояла рядом с генералом, держа папки с документами и стакан чая, немедленно отозвалась:
– Разумеется, знаю. Еще бы не знать. «Матери, которая меня не родила».
Крячко поперхнулся.
– Ничего себе, пошутил.
– Верочка, ты, оказывается, полиглот, – с уважением заметил Лев Иванович.
Вера сморщила носик:
– Да бросьте. Ерунда. Младший племянник замаял своим «Раммштайном», к тому же учит немецкий. Вот кое-что и запомнила.
– Вот оно что…
Орлов, хмыкнув, быстро проставил подписи на документах и отправил Верочку обратно в приемную. Подождав, пока секретарь плотно прикроет за собой дверь, Лев Иванович продолжил:
– Ну, хорошо. Пока не понимаю, чем такой милый, пусть и непрактичный, подарок может привести в реанимацию, тем более отца, а не мать.
– И что за архиважное дело нам с вами следовало обсудить? – осведомился Крячко.
Генерал потер лицо, собираясь с мыслями.
– Да вот, собственно, по поводу этой ключницы. Ситуация, знаете ли, складывается некрасивая и скользкая… – Он замолчал.
Стремясь ускорить мыслительный процесс генерала, Крячко задал наводящий вопрос:
– Ситуация со Счастливым? С паном Ректором?
Генерал дернул бровями:
– В общем, да, с ним. Вы же у него оба учились?
– Я так и знал, – сокрушенно произнес Станислав.
– И я, – вставил Гуров.
– Недаром всю ночь библиотека снилась.
– Какая библиотека, что ты городишь? – недовольно спросил Орлов.
– Большая. В основном книги Достоевского, и особенно «Бесы».
– Ладно вам. Не надо нагнетать обстановку. Вот вы передо мной, здоровые, румяные, с высшим образованием и в чинах, а ваш наставник…
Станислав открыл было рот, но генерал сделал знак, и возражений не последовало.
– В любом случае ситуация такова: третьего декабря, получив эту вещицу в подарок, пан Ректор загремел в реанимацию. В настоящее время Олег Емельянович пребывает в кардиоцентре, в Бакулевке. Его откачали и перевели из реанимации в палату. Состояние пусть и стабильное, но тяжелое. Так вот, он очень просит вас, цитирую: «дорогих мальчиков», навестить его.
Станислав с надеждой осведомился:
– Нельзя ли в письменной форме передать, что мы ему все прощаем? И другие тоже, уверен. Мы, правоведы, народ великодушный.
– Я подписываюсь, – поддержал Лев Иванович.
Генерал с укоризной напомнил:
– Слушайте, не за горами Новый год, Рождество, полагается раздавать подарки, излучать радость и свет. Съездите, сделайте доброе дело, чтобы на старости лет совесть не заела.
– Кого? – требовательно спросил Крячко.
– Вас. Ну и меня. И потом, не забывайте: Олег Емельянович не абы кто, а руководство одного из ведущих вузов страны. Выпустил не одно поколение правоведов, готовит кадры и для нас, причем в основном. И насчет диссертаций тоже, того…
– Есть, – кивнул Гуров. – Штукенцию можно взять или лучше сфотографировать?
– Да, забирайте.
Уже на пороге Станислав уточнил насчет пальчиков, не нашлись ли на коробочке.
– Ничего особенного. Отпечатков пальцев взрослых нет, возможно стерты, только какой-то ребятенок залапал. Наверное, домой работенку эксперты таскали, неряхи.
Глава 3
Чтобы не стоять в пробках и не тратить зря время, поехали на метро, и всю дорогу до Бакулевки Крячко предавался недостойному занятию, то есть вспоминал старые обиды:
– Вот умеет генерал уговаривать. «Сделайте доброе дело», «совесть, ум, честь». Сказал бы прямо: не поедете – пан Ректор назло с того света вернется сожрать наших студентиков. А заодно и соискателей запорет.
– Ясное дело, – согласился Лев Иванович.
– Сколько раз тебя этот аспид на переэкзаменовку отправлял?
– Да был казус. Как только пан Ректор из вашего института к нам в универ перешел, он был очень зол. Он прямо сказал, что пятерки таким, как я, не ставит. Чем я ему не потрафил – не ведаю. Я пересдал, правда, уже после того, как он вернулся к вам.
– Во, а на нас он ездил, как панночка на Хоме Бруте, – угрюмо сообщил Крячко. – По-подленькому. Сам понимаешь – вечернее отделение, да еще если уже на следствии трудишься, ну какие тут семинары-лекции? Нет-нет да пропустишь что-то и не особо паришься по этому поводу. Ведь повсюду только и разговоров: юные специалисты, вечерники-практики – это наше все. Ну а как до дела доходит, что ты! Меня он чуть не вышиб за прогулы, только представь себе. А как-то раз еще и за опоздание.
– Какое опоздание? – недоуменно спросил Гуров. – Он что, ночевал в академии? У тебя ж занятия начинались…
– Ну да, вечером, в семь тридцать. А вот слушай. Попросили меня заскочить в академию, за заключением экспертизы, около десяти я туда прихожу, чтобы удостоверением не светить, показываю студенческий… а этот гад стоит на проходной, отбирает у меня билет и картавит: мол, вы исключены, документы получите у секретаря. Опаздывать не надо, молодой человек! Если бы не Лиля… Ивановна…
– Кто-кто? – машинально переспросил Гуров.
– Ну, неважно, – отмахнулся тот, – я бы его порешил бы прямо в рабочем кабинете.
Льву Ивановичу постепенно становился ясным источник нежной ненависти, которую его друг испытывал к уже дряхлому, но некогда весьма деятельному преподавателю с оригинальным взглядом на методы обучения. Станислав же продолжил изливать израненную в студенческие годы душу:
– Еще у него была страсть к конспектам своих тухлых лекций. В последнюю ночь, как и положено, все доучиваешь, с билетом фартит, все отвечаешь, а он так, с ленинским прищуром: «Очень хогошо, а теперь конспектики попгошу, да еще чтобы обязательно газными пастами». Коли нет или все одного цвета ручкой написано – то все, лети на переэкзаменовку. А для рабочего человека переэкзаменовка – швах!
– Да вообще черт картавый, – согласился Гуров, окончивший дневное отделение. Вечерникам и заочникам он всегда сочувствовал, а другу надо было выговориться. Нельзя же в таком состоянии заваливаться в палату к старому, больному сердечнику, пусть и упырю со стажем.
…Строгая медсестра с могучими руками, запустив их в одноместную палату, проверила капельницу и подкрутила на ней колесико. Глянув на часы, предписала не волновать больного, не засиживаться и, вообще, не сметь.
Сыщики пообещали. Выгрузив на тумбочку апельсины, пакеты с соком и бутылки с минералкой, они присели у скорбного ложа у окна.
То ли из-за того, что стены в палате были выкрашены в синий цвет, что премерзко отражалось на цвете кожи пана Ректора, то ли из-за опущенных штор, то ли из-за того, что пациенту в самом деле было дурно, смотреть на него было больно.
Травмированная студенческая память навсегда запечатлела того самого, прежнего пана Ректора – диктатора, сработанного из цельного куска гранита, с благородной сединой, мощными брылями и тяжелым, волевым взглядом. А тут на койке под казенным одеялом лежал дряхлый немощный старик. Его грудь судорожно поднималась и опадала, ключицы торчали из ворота, порядком поредевшие волосы прилипли ко лбу. Впрочем, взгляд пана Ректора сохранил пронзительность и властность, руки не дрожали, и он не спрашивал с трогательной старческой наивностью, где он и кто они.
Пан Ректор перешел прямо к делу, и голос у него был точь-в-точь как прежде твердым, разве что картавость стала отчетливее:
– Видите ли, дгузья мои, дело до такой степени агхи… необычное, что я не могу довегиться кому-то, кгоме своих.
Гуров и Крячко всем своим видом показали, что оценили его доверие и гордятся тем, что пан Ректор им доверяет.
– Полгода года назад пгопал мой сын…
– У вас есть сын? – удивился Крячко и лишь чудом не прибавил «откуда».
Абсолютно всем было известно, как пан Ректор ненавидит женский пол – даже более отсутствия конспектов своих лекций. Его мизогиния носила характер одержимости и простиралась – за редкими исключениями, – абсолютно на всех, кто мог носить юбки и платья. Сдать пану Ректору его предмет, будучи дамой, было практически нереально, даже зная материал вплоть до запятой. Студентки предпочитали идти в декрет или сразу на комиссию.
Однако пан Ректор не обиделся на реакцию Станислава, а лишь кротко подтвердил, что, мол, да, есть. Точнее, был.
– Да. Мой сын, Данилушка, пгопал, из… санатогия. Он находился на лечении, в Подмосковье, под городом Т. С тех пог ничего о нем не знаю… вот, на День юриста я получаю с кугьегом вот эту пгоклятую штуку… ключницу. А на ней… в общем, это татуиговка… – Он с трудом сглотнул, попросил воды. – Такая была у Данилушки, на пгавом пгедплечье.
Он сглотнул снова, потянулся к глазам и потащил за собой трубку капельницы. Крячко едва успел перехватить конструкцию, подал старику стакан воды и салфетку.
– Олег Емельянович, ну а просто совпадение?
– Спасибо. Я абсолютно увеген, что нет никакого совпадения. Гисунок тот самый. По поводу этой татуиговки мы кгупно повздогили с Данилушкой. Вообще, в последнее вгемя мы часто с ним ссогились, к сожалению, потому я думал, что сын обиделся и не желает меня видеть. Тепегь я увеген, что он убит, и не пгосто… кто-то сделал из него… издеваясь, посылают мне эту… это…
– Кто это – «они»? – мягко спросил Гуров.
– Если бы я знал. Потому я и попгосил вас навестить меня. Людей, котогые желали бы мне зла, слишком много. Вы ведь тоже от меня натегпелись, а, Кгячко?
– Ну что старое поминать, – начал было Стас, отводя глаза.
– Бгосьте, – велел полуживой пан Ректор. – Я все помню. Будь у вас тогда табельное… да что там. Понимаю. А тут, как дошло до дела, выяснилось, что сгеди моих выпускников масса начальства, а сыскагей, настоящих сыщиков, пгактически нет. Я двадцать лет отдал следственной габоте, а кого я воспитал? Болтуны… законодатели… тгепачи. На исходе жизни оказалось, что я ничего полезного так и не сделал. Так что теперь мне и обгатиться больше не к кому. Так вот, милые мои. Мне не так важно, кто это сделал. Только бы выяснить, что с Данилушкой…
Тут немощь все-таки взяла верх, синеватые губы затряслись, из-под полуопущенных век потекли слезы – зрелище было жалкое. Хорошо, что в этот самый момент вошла медсестра и, увидев сцену вопиющего нарушения режима, без лишних слов выдворила обоих полковников из палаты.
Глава 4
От подобного обращения медсестры с сыщиками Лев Иванович и Станислав приходили в себя уже в метро. Гуров заметил, переводя дух:
– Хорошо, что не спустила с лестницы. Вот это харизма у медперсонала. Да, медик сейчас в цене и силе.
В глубине души Лев Иванович надеялся, что подобная демонстрация отцовского горя смягчила друга, но вскоре выяснилось, что Станислав продолжает испытывать недостойные мыслящего человека чувства:
– Не, ну вот неплохо сейчас было, Лева. Пан Ректор, упырь лихой, даже не извинился. Еще и с издевкой: «Бгосьте, все я помню!». Он помнит! Каково?
Лев Иванович примиряющим тоном предположил, что извиняться старый препод считает непедагогичным.
– Ага! А как только приспичило, так и не к кому «обгатиться»! Это ему-то не к кому? Обращался бы сразу… к самому! Вам-то он талдычил, кого учил и заваливал еще в Ленинграде?
– Талдычил, талдычил, – успокаивающе подтвердил Гуров. – Что ты завелся-то так, Стас? Сколько лет прошло, а ты все как маленький обиды вспоминаешь.
– Прошло-то много лет, а с мозгами-то у него по-прежнему швах. Видите ли, все бросайте и отправляйтесь выяснять, где его мальчик. Позвольте спросить: куда, для чего, зачем? И был ли мальчик?
– Ну ты уже совсем утрируешь, – с укоризной заметил Гуров. – Ну а что-куда-зачем, то это легко проверить, если заявлял в розыск…
– Это если заявлял, – продолжал Крячко. – Ты, верно, не в курсе, какой пан Ректор забавник и трус, как не любит сор из избы выносить! Вот если бы, скажем, пол-института грохнули и освежевали, то он бы просто объявил субботник и послал уцелевших кровь замывать – и только!
Гуров представил апокалиптическую картину и невольно хмыкнул и подумал: «Интересно. Если найдется хотя бы еще с десяток бывших студиозусов, которые так же относятся к пану Ректору, как Стас, то я бы не рискнул строить предположения, кому из них может быть выгодно ему насолить».
– Что, если у него ум за разум зашел на старости лет? Профессиональная деформация, не скажу – деменция. Может, и сына-то никакого нет. Может, он воображаемый?
«Вот разошелся», – подумал Лев Иванович и пытался воззвать к разуму, а не мстительности друга:
– Это как раз легко проверить. Если, конечно, сын законнорожденный, признанный. Полагаю, что так оно и есть, иначе с чего уж так ему убиваться? Тем более что врачи говорят: опасности для жизни пана Ректора нет, рановато ему исповедоваться. Пара запросов, и мы про его сына кое-что узнаем.
Убедившись, что друг и коллега пребывает в предновогоднем, благодушном и всепрощающем настроении и не желает проклинать старого людоеда, Станислав безнадежно махнул рукой:
– Да понял я, понял. Ладно. К чему формальности, больно надо время тратить. Один звоночек, пара стаканов чаю… ты чай будешь?
– Нет.
– Тогда три стакана, – мстительно пообещал Крячко и набрал номер телефона:
– Лилечка Ивановна, душа моя! Как твои дела?
В ответ прозвучал мощный бас:
– Вашими молитвами. Что, Крячко, по рюмочке чаю?
– Что мелочиться нам, взрослым людям. Сразу по стаканчику.
– Подваливай.
Поскольку до института (теперь уже академии), который окончил Крячко, было недалеко, поэтому загадка личности Лилии разрешилась скоро. Бас, звучавший в трубке, принадлежал миниатюрной и изящной, как китайская статуэтка, женщине, похожей на младшую сестрицу Майи Плисецкой. По факту женщина являлась бессменным секретарем пана Ректора последние лет сто. Крячко, немедленно трансформировавшийся из старого злопамятного ворчуна в галантного рыцаря средних лет, преподнес женщине цветы и припал к ручке.
Царила Лилия Ивановна в приемной Ректора, которая совершенно не выглядела как положено, то есть безлико и официально. Здесь было уютно и даже как-то приветливо, стулья для посетителей, почему-то не стандартного черного, а теплого кофейного цвета, в цвет обивки ректорской двери, так и тянули присесть и поболтать. Два огромных, под потолок, беспрерывно цветущих китайских розана повышали настроение не у одного поколения учащихся. Пахло кофе и почему-то выпечкой.
У секретаря пана Ректора были карие глаза с острым взглядом, черные ломаные брови, явно без жалости и много лет формируемые по определенному шаблону, строгая, ни волоска в сторону, прическа, безупречная фигура без грамма лишнего жира. Интересно, что сама по себе она не производила впечатления доброй, душевной особы, но, по-видимому, под этой неприступного вида оболочкой скрывалось отзывчивое сердце.
Усадив гостей, она открыла специальный шкаф, быстро и со вкусом превратила рабочий стол в чайный, расположив в идеальном порядке стаканы в подстаканниках, угощения, сахарницы и все прочее, что всегда припасено у хорошей хозяйки для всегда желанных, пусть и нежданных, гостей.
– Как всегда, в своем репертуаре, – пророкотала Лилечка Ивановна, разливая чай в стаканы, – хватай тару и излагай свое дело. Станислав Васильевич просто так своей душой не назовет, – со знанием дела пояснила она Гурову ласковое к ней обращение Крячко по телефону.
Станислав, к удивлению коллеги, с огромным удовольствием отхлебнул чаю.
– Лилек, твой чай… спиртного не надо. А теперь расскажи, пожалуйста, откуда у пана Ректора сынок Данилушка.
Лилия Ивановна с кокетливым видом поморщилась:
– Бога ради, не заставляй интеллигентную женщину прямо отвечать на подобные вопросы. И потом, тебе-то что за дело? Метишь на панское наследство?
– Ну что ты, что ты, – сказал Крячко, утирая «чайный» пот со лба.
– Ладно, не хочешь говорить – не надо, дело твое. Потом сам прибежишь и будешь упрашивать, а я еще подумаю, разговаривать ли с тобой.
Лилия Ивановна извлекла из длинного полированного ящичка сигарету необычного цвета и аромата и закурила, пуская дым в табличку «Не курить!». Сразу запахло тропиками и морем.
– Если вкратце, то трудная защита, бурное отмечалово и божественно рыжая соискательница, – сказала она.
– Ишь ты.
– Но, конечно, это было давно и неправда, – немедленно открестилась от своих слов изысканная сплетница. – Даниил ибн Олегович, он как-то сам – фух! – и появился в институте, чтобы смущать студенточек.
– Фото есть? – осведомился Крячко.
– Студенточек? – сострила Лилия Ивановна, открыла своим ключом дверь в кабинет начальства, по-хозяйски вошла и вышла, уже имея при себе фото в рамке.
– У вас что же, от всех замков в учебном заведении ключи имеются? – с немалым удивлением спросил Лев Иванович.
– Конечно, – просто отозвалась секретарь, пожав плечами. – Как же иначе.
Станислав, разглядывая портрет ректорского сына, заметил:
– Мама-то и в самом деле была красавица. И в самом деле рыжая. А кто такая?
Чуть опустив веки, Лилия Ивановна выпустила струйку дыма и скривила губы:
– Помилуй, мне-то откуда знать. Шеф со мной не секретничает, все приходится устанавливать самой. Единственное, что скажу совершенно определенно: в свидетельстве о рождении Даниила Олеговича в соответствующей графе проставлен жирный прочерк.
– Так у вас и доступ ко всем документам имеется? – снова подивился Гуров.
– Разумеется, – уже несколько колко подтвердила она и затушила в пепельнице окурок. – Для чего еще нужны секретари. Для красоты?
– И для этого тоже, – вставил Крячко. – Эва как, прочерк. Какой нюанс! Ну, у пана Ректора, само собой, алиби железное? Никаких рук-ног в хозяйственных сумках и обводных каналах…
– Фи, неостроумно, – не одобрила шутку секретарь, – и нехорошо.
Станислав сделал вид, что засмущался, и сменил тему:
– Лилек, фото-то явно старое. Поновее нет?
– В личном деле есть кое-что, но и они не из последних.
Лев Иванович уточнил:
– То есть вы считаете, что он сильно изменился? Были предпосылки?
– Были, – подтвердила она, – изменился, полагаю, сильно.
– Ну а если говорить спокойно и беспристрастно, то что в целом вы, Лилия Ивановна, могли бы сказать о Данииле Олеговиче? Хотя бы образца того периода, когда вы с ним общались.
– Я пристрастна, – без малейшего раскаяния покаялась Лилия Ивановна, – поскольку знаю его с детства. Ничего плохого про него не скажу, он всегда был очень милым ребенком. Но если абстрагироваться… – Она задумалась, потом спокойно и методично принялась перечислять: – Скрытен, себе на уме. Сильно зависим от отца, хотя и сам по себе имеет немалый вес в научном мире. Поздний, болящий ребенок…
– В каком смысле? – уточнил Крячко.
Лилия Ивановна скособочилась:
– Позвоночник искривлен, прихрамывает. Последствия легкой формы детского паралича.
– То есть он ограничен в движениях? – спросил Гуров.
– Нет, – возразила Лилия. – Отец потратил массу денег на его реабилитацию. Лечебная физкультура, диета, санатории, в том числе за границей. Прихрамывал, конечно, но некритично. При обострении болезни ходил с тросточкой.
– Но мыслительные способности, надо полагать…
– С ними полный порядок, – твердо заявила секретарь. – Превосходные знания английского, немецкого, итальянского языков, плюс латыни, это не считая отличной учебы. Великолепно рисует. Вот, это его работа, подарок мне на мой день рождения.
Женщина сняла со стены рисунок в овальной металлической рамке, выполненный пером. На первый взгляд на нем была изображена Кармен с папироской в зубах. Со второго взгляда становилось очевидно, что это Лилия Ивановна образца десятилетней давности. Возможно, с оригиналом у копии было много расхождений, но личность узнавалась безошибочно, как если бы художнику удалось показать не столько внешность, сколько внутреннюю сущность.
К тому же, несмотря на отсутствие цвета, одними черно-белыми штрихами изображены были все непременные атрибуты и самой Кармен, как персонажа – страсть, гордость, ветреность, – и даже летящие косы, алые ленты и роза в волосах.
«Еще немного – и послышатся фламенко и кастаньеты, – подумал Лев Иванович, рассматривая рисунок, переданный ему Станиславом. – В самом деле, великолепный рисунок. Лаконично и талантливо».
Лилия Ивановна, подождав некоторое время, деликатно изъяла из рук Гурова рамку с рисунком, снова повесила ее на стену и завершила анамнез:
– В общем, любимый сын Ректора.
– Интрижки? Женщины? – поинтересовался Станислав.
– Вообще ничего, от слова «абсолютно».
– Ты сказала, что он скрытен.
– Разве можно что-то скрыть так, чтобы никто не знал, тем более я? – задала она риторический вопрос. – Вот здесь, – Лилия Ивановна показала на другой шкаф, запертый на ключ, – запротоколирован практически каждый день его жизни. Кто-то бездельничает, кто-то занимается спортом, кто-то увлекается музыкой. Даниил посвятил себя науке. Он все время учился. Не просто на одни «отл.». Сокурсников он опережал в учебе на год, по некоторым дисциплинам – на два. Отец не особо баловал его деньгами – и Даниил подрабатывал репетиторством. Жил по строгому распорядку дня. Подъем в шесть, отбой в одиннадцать. Получил красный диплом, окончил аспирантуру, защитил диссертацию, стал преподавать у нас на кафедре… – Лилия несколько снизила пафос повествования и закончила: – И потом, узнай папаша о посторонних занятиях – последовало бы наказание. Это только со стороны казалось, что отец им не руководит, сынок был под колпаком хлеще мюллеровского.
– Да, интересно, – протянул Лев Иванович.
– Лилечка, теперь давай про пропажу.
Лилия Ивановна с веселыми искорками в глазах прищурилась:
– Ишь ты, сыскарь. Сам не желаешь трудиться?
– Я?! – возмутился Крячко, театрально хватаясь за сердце. – Да я самый трудящийся из всех трудяг, просто…
– А тебе не кажется, Стас Васильич, что это ты лучше меня можешь выяснить необходимые тебе сведения?
Полковник с готовностью заныл:
– Ну, Лилек, покуда мы, убогие, будем выяснять и вникать, что, да как, да почему, это же столько времени пройдет. А ведь ты и так уже все на свете знаешь.
Ничуть не смутившись, секретарь согласилась:
– Да, это факт. Не плачь, так и быть, расскажу. – Лилия Ивановна помолчала, собираясь с мыслями, потом принялась излагать: – Итак. Счастливый-младший пропал порядка шести месяцев назад. Он самовольно покинул клинику…
«Старый лис, а втирал-то про «санатогий», – припомнил Гуров, – врет по любому поводу, даже если это и ни к чему – какая разница, кто где лечился?»
И переспросил:
– Извините, Лилия Ивановна, клинику? Не санаторий?
– Нет, наркологическую клинику.
– Как это – наркологическую? – удивился Крячко.
– Ну да, – нетерпеливо повторила секретарь, изобразив длинными пальцами по столешнице дробь – точь-в-точь кастаньеты, – частную наркологическую клинику.
Сыщики переглянулись. Всезнающая Лилия Ивановна явно не испытывала снисхождения к тем, кто соображал медленнее ее. И с раздражением осведомилась:
– А что конкретно удивляет, господа? Что же, отпрыск такого родителя имел шанс не спиться?
– Разве Даниил Олегович пьет? – по-простецки уточнил Гуров.
Лилия Ивановна поджала губы и качнула головой в знак согласия.
– Весь из себя положительный, усердно учится, находится под постоянным присмотром – и спивается? – удивился Лев Иванович.
Секретарь вновь кивнула.
– Неувязочка какая-то. Чтобы кукушка поехала, нужны предпосылки, – заметил Станислав напрямую. – Так нас учит криминология.
Секретарь согласилась, что какие-то предпосылки наверняка были:
– Иначе с чего папа – после красного диплома, защиты диссера, преподавания – вышибает любимого сына из академии, да к тому же по собачьей статье: пункт восьмой восемьдесят первой Трудового кодекса.
– Иначе говоря?
– Аморалка.
– О как. То есть отец его уволил?
– Ну, скажем так: Счастливый-младший написал заявление об увольнении по собственному желанию. Но иного выхода у него не было.
– Грешен был Данилушка? – уточнил Станислав.
– Ничего подобного. Не было греха за ним и быть не могло. Помимо прочего, сын унаследовал хворь папы, женоненавистник еще тот, разве что вежливый. Вот после этого-то изгнания из рая Данилушка отправился на землю. Участковым, – уточнила она, выдержав паузу.
Получилось эффектно: Лев Иванович сначала решил, что ослышался, Станислав, судя по выражению лица, был просто сражен.
– Кем?!
– Участковым инспектором, – повторила Лилия Ивановна, явно наслаждаясь произведенным впечатлением.
Гуров потер лицо ладонью, вздохнул:
– Жестоко. Прямо-таки бесчеловечно.
Лилия Ивановна вновь закурила и согласилась:
– Я разделяю вашу точку зрения. И тоже считаю, что отец поступил, руководствуясь ложной идеей о шоковой педагогике. В целом мальчик-то жизни настоящей не видел, и, понятно, карьера не заладилась. К тому же подобная работа не способствует трезвости и психологическому здоровью.
И, поскольку сыщики молчали, Лилия выразилась точнее:
– Спился, короче говоря.
– Вот так и происходит утечка мозгов, – посетовал Станислав, сокрушенно качая головой. – Что творится на белом свете! Отличник, ученый, кандидат…
– Доктор, – поправила Лилия Ивановна.
– Даже так?
– Так. Его диссер по ходатайству комиссии был представлен сразу же и на докторскую степень.
Лев Иванович заметил, что ничего подобного не припоминает. Лилия Ивановна, смерив его взглядом, вежливо, но колко сообщила, что это ее не удивляет. Крячко прервал эту светскую перепалку по отвлеченному поводу, вернув беседу в интересующее его русло:
– Ладно, тем более – доктор наук. Вопрос практического характера: когда он все это успевал, бухая? И на каком отделении он изначально учился?
– На вечернем.
– Почему на вечернем? – удивился Гуров.
– Так решил отец, – пожала плечами Лилия Ивановна. – Чтобы ни у кого не сложилось впечатления, что он хотя бы в чем-то помогает сыну. Так что сначала на вечернем, потом на заочном.
– Нереально, – решительно заявил искушенный в вопросе учебы Станислав, прикинув количество часов в сутках.
– Очень даже реально. Если только учиться, а не терять время на гулянках.
– Как же, ты говорила…
– Ничего я не говорила. Пока в академии был – не увлекался. Хотя…
– Что «хотя»?
– Сейчас припоминаю. – Лилия Ивановна потерла висок. – Единственный раз, если память не изменяет, как раз на шестом курсе, мне кажется, имел место именно запой.
– Из чего сие следовало? – невинно осведомился Крячко.
– Необъяснимо пропал сразу после новогодних каникул, вернулся осунувшимся, довольно быстро взял академотпуск, потом перевелся на заочку…
– Но окончил с красным дипломом.
– Да, конечно.
– Аспирантура заочная?
– Верно.
– И все это время он трудился только в академии, правильно я тебя понял?
– Именно.
– Сколько конкретно Даниилу было лет, когда отправился в участковые? – спросил Гуров.
Лилия Ивановна, прикинув в уме, сообщила, что где-то тридцать три. Полковник удивился еще больше: «После десяти лет чисто научной и преподавательской деятельности, да еще в таком возрасте, да еще инвалиду… поздновато начинать карьеру с низов».
– Кстати, как же его на службу взяли-то со справкой об инвалидности?
– Не могу тебе сказать, Стасик. Разные версии могут быть, выбирай, какая больше нравится. Острый кадровый голод, просто по звонку Ректора. А скорее всего, просто затерли этот факт, никому не интересный.
– Так видно же, ты говоришь, кривой, хромает…
– Ой, да перестань! – отмахнулась секретарь. – Это же не столица. Мало ли, ногу отсидел или ушибся. Не охаешь, кровью не харкаешь – стало быть, годен.
– Лилия Ивановна, правильно ли я понимаю, что в розыск его не объявляли? – уточнил Лев Иванович.
– Нет, – решительно ответила она. – Совершенно точно могу сказать.
– Что же, на пана Ректора не распространяется обязанность всех нормальных близких – сообщать о пропаже родного человека?
Секретарь вздохнула терпеливо, как несмышленышу, разъяснила Гурову:
– Распространяется. Формально, то есть, распространяется. А на практике, уважаемый Лев Иванович, как вы бы себе это представили? Имеется сын Ректора одного из лучших вузов страны, преподаватель, ученый с мировым именем. И вдруг ни с того ни с сего сначала попадает в частную, закрытую клинику, в которой лечат высокопоставленных алкоголиков и психов, а потом еще и сбегает оттуда. Ну и кому нужны подобные сообщения в прессе? Пану Ректору? Академии? Клинике? Сразу нет, по всем пунктам.
– Логично, – поддакнул Крячко.
– Это, как говорится, раз. Не исключено, что и два. Отношения у них с отцом окончательно испортились. Олег Емельянович, между нами, наделал сыну массу пакостей…
– Как и многим иным, – не вытерпев, сказал Станислав.
– Друг мой, своим мы гадим с бо́льшим удовольствием, охотой и в большем объеме, – назидательно напомнила Лилия Ивановна. – Не замечал?
Крячко открыл было рот, чтобы возразить, но, видимо, что-то припомнив, промолчал.
– Вот-вот, – кивнула секретарь, – верно. В общем, имел он все основания полагать, что сынуля не желает с ним общаться. С чем идти в отделение? Сами понимаете, искать того, кто утратил связь с родственниками…
Гуров с уважением подумал, что этой даме не откажешь ни в логике, ни житейской мудрости. Грех не воспользоваться таким бесценным источником информации:
– Лилия Ивановна, скажите, а вот третьего декабря, в День юриста, вы работали?
– В каком смысле? – прищурилась она.
Станислав перехватил инициативу, желая предотвратить очередной интеллектуальный спарринг:
– Лев Иванович имеет в виду, что именно ты, Лилек, несла службу в приемной, когда пану Ректору вручили коробку с буквой «Д» на крышке?
Лилия подняла брови:
– Конечно, кто же еще? Более того, преподнесла первую таблетку валидола и вызвала «Скорую».
– Вы не заметили, кто принес коробочку?
На ее лице ясно отобразилось недовольство, и Гуров понял, что они с этой женщиной, увы, точно не поладят:
– Помилуйте, друг мой. Как же не приметить, не слепая. Явилась курьер, девушка в дымчатых очках, лет двадцати.
– Приметы, рост, цвет глаз, волос?
– Повторяю: дымчатые очки. Волосы убраны под кепку, кепка желтая, надпись «Ди-Эйч-Эль».
– И она передала именно эту коробку, – уточнил Станислав.
– Именно эту коробку я у нее в руках не видела, как ты понимаешь, была просто коробка, перетянутая скотчем.
– Просто скотчем? – быстро спросил Гуров.
– Да, просто прозрачным скотчем… кстати, а ведь вы правы. Почему-то не брендированный скотч, не фирменный пакет, обычный скотч.
– Ну а ключницу-то видела? – прямо спросил Крячко.
– Само собой, Стасик. Она на полу валялась, упала, когда Емельяныч за сердце схватился. Я ее в коробку обратно и положила.
Гуров быстро глянул на ее руки – изящные и миниатюрные, но на детские совершенно не похожие.
Крячко, едва заметно кивнув, спросил:
– В перчатках орудовала?
– Ну а как же! За кого ты меня принимаешь, – с шутливым негодованием отозвалась секретарь.
– А нечто особо странное, то, что бросилось бы в глаза, не заметили? – спросил Лев Иванович.
– Как же, заметила. Картинка очень похожа на рисунок Дани.
– В каком смысле?
– В том, что его стиль штриховой, одноцветный. Крест, розы, надпись эдакая квазиготическая. Пожалуй, картинка-то самый красивый элемент на ключнице. Остальное – кожа бордо, цепочки-молнии, – аккуратно, но уж простовато, грубовато, без выдумки. Ученический уровень, хотя выделка неплоха. Ну и, само собой, удивила реакция Ректора, да и непонятно, кому в голову пришло такое ему преподносить. Ключница. Крест с сердцем. Что за намеки?
– Ты ей не понравился, – сообщил Крячко, когда они шагали обратно к метро, – у Лилечки звериный нюх на своих и чужих. Не любит она университетских.
Гуров усмехнулся:
– Классовое чутье всегда полезно. И все-таки заметь: такие чуткие людоведы обычно всегда имеют в запасе пару тонких, эксклюзивных наблюдений. А тут ничего подобного. Даже рисунок не показался странным – ну, похож на Данилушкину мазню, не более того. А что, может она что-то скрывать?
Станислав решительно отверг подобное подозрение:
– Нет, что ты. Мы с ней сто лет знакомы, подружились знаешь когда? С тех пор, как она мне списать дала на вступительных. Полное доверие.
– Так-то оно так…
– Борись с подозрительностью, Лева: татуировка-то была на предплечье, а отличники – небось сам такой, в курсе, – в футболках не ходят. Вот и не видела. А может, он ее позже набил.
– Защищаешь нежную Лилию? – съязвил друг.
– Само собой, – без колебаний ответил Крячко, – бережно охраняю этот бесценный и бесплатный источник информации. А ты заруби на своем классическом носу: помимо совсем уж интимных подробностей, если секретарь Ректора что-то не знает, то этого не знает никто. Можно быть уверенным!
Глава 5
За окнами тихо и торжественно шел рождественский снег, кружились снежинки. Мирно и безмятежно было на свете, и лишь Мама Зоя – раскрасневшаяся, пухлая и в кружавчиках – пребывала в расстроенных чувствах и сомнениях. И в эйфории тоже.
Вот лежит она, натянув ломкую хрустящую простыню до круглого подбородочка, спрятав под нею огромные груди, хлопая синими глазами. И состояние у нее эдакое, как у того, кто пинал себе камушки, плетясь по пыльной бесконечной дороге, – и вдруг на него прямо с неба обрушилось Счастье. Ну а поскольку сеансы счастья повторялись не один раз, то Мама Зоя была уже в состоянии контузии.
Ее расфокусированный взгляд скользил, как по маслу, по окружающей роскоши, блуждал по витой ретропроводке, по дубовому потолку с бронзовым крюком на нем и остановился на том, кто голым восседал у антикварного трюмо.
– Привет, соня, – произнес Даниил, улыбаясь в зеркало. Поворачиваться он не собирался, был занят аннигиляцией новорожденной щетины опасной бритвой – занятие, в отличие от созерцания пухлой девушки утром в кровати, требующее внимания и полной концентрации.
Мама Зоя издала вздох и зажмурилась.
Все восхищало ее в Первом Мужчине: бархатные иконописные глаза, рыжие локоны, золотистая кожа, застенчивая улыбка, даже перекошенное тело и хромота. А что? Очень даже ничего, если хромающий опирается на трость с серебряной бульдожьей головой… если часы у него – прадедушкин «Золинген» в кожаном несессере, а гребень – с впаянной серебряной бляхой. Ежедневно – свежая сорочка… Если дача – фамильная, отделанная благородным деревом, мебель антикварная, тяжелые портьеры, льняное постельное белье…
Но, конечно, не это главное.
Главное – это Даниил, молчаливый, легко краснеющий, гладкий, мускулистый, чистенький и славный. Никого подобного Мама Зоя, рожденная и выросшая в заштатном городке, не видела, ни о ком подобном и мечтать не могла.
Они вместе учились в лучшей юридической академии города, а то и страны, знакомы были почти шесть лет, из коих лично общались от силы месяца полтора.
Начало их отношениям положила предсессионная суматоха, когда конспекты передаются туда-сюда из рук в руки, рефераты и курсачи строчатся методом автоматического письма. Тогда и чмок в щечку за вовремя подсунутые конспекты легко преобразуется в куда более чем дружеские отношения. Но у них все было не так, как у других людей. Случилось так, что все спаренные и единственные лекции по одному и тому же предмету приходились на пятничные вечера. Как раз на то время, когда душа вечерника требует гулянки, а никак не прозябания в вечерних аудиториях. Более того, препода по данному предмету бросила молодая жена. И безобидный представитель педсостава, слетев с катушек, стукнул в аудитории по столешнице кулаком и возопил прямо по-Ректорски, что принимать экзамен будет исключительно по своим лекциям! «Записанным собственноручно!», «И разными чернилами!», «И одним почерком!».
Он, зараза, несколько раз уходил из аудитории и возвращался, чтобы дополнить свои последние ультиматумы новыми, и каждый раз орал и хлопал дверью. Так, минуточку, вот еще его угроза:
«И горе тому, у кого данных манускриптов не окажется! Таковые могут сразу отправляться на… то есть комиссию!»
Правоведы подумали и решили, что где-то в природе все-таки имеются эти конспекты, следовательно, их вполне можно размножить и переписать одинаковыми почерками. А конспекты оказались у Зои по фамилии Вестерман, методиста курса, прозванной Мамой за толщину, кудряшки и многозаботливость. Конспекты ей достались без особого труда, поскольку ей на работе все равно особо делать нечего, можно и на лекции походить… В общем, выходило, что на тех лекциях в те дни присутствовала лишь она одна.
Казалось бы, что проще: выпросить конспектики у милейшей Мамочки Зоечки, очаровательной, милой и чуткой методистки, которая, к слову, все эти годы всем без звука писала рефераты, делала презентации и курсачи за символические суммы. Вот и сейчас наверняка можно было договориться… Но эта белобрысая ренегадина в ответ на просьбу поделиться конспектами вдруг пропищала, что ни одна сволочь не получит ни листочка. Мол, пусть всем будет так же страшно и одиноко, как было ей в той темной пустой аудитории, наедине с разгневанным каннибалом-лектором. Подняв хвост и обозначив свою возмутительную позицию, она повела остреньким носиком, еще что-то пискнула и спряталась в кабинете, запершись на ключ.
Так, время шуток кончилось. Студенчество было возмущено и уж собралось было ломиться в закрытую дверь, за которой притаилась девица, но в этот момент из читального зала появился, прихрамывая, Даниил. Под два метра ростом, молчаливый, застенчивый и очаровательный. Даниил, имеющий в этой жизни все, кроме авто, которое ему и не особо было нужно, ибо до его дома было ровно двадцать минут ходьбы даже его шагом. Даниил – и его тросточка, цена которой в разы превышала бюджет ординарного райцентра.
В общем, появился Даниил Счастливый, староста группы, без пяти минут краснодипломник и любимый сын пана Ректора, Олега Емельяновича.
Какого рожна он вообще учился на вечернем – это был вопрос, на который отсутствовал ответ. В среде честных работяг он был лишним и, к его чести, понимал это. Вот почему все эти годы он держался в сторонке, как положено хорошему ребенку из хорошей семьи, общался с сокурсниками лишь в силу своей должности и крайней необходимости, а на предложения нажраться или что-нибудь учудить лишь виновато улыбался и разводил руками.
В то же время буквально всем было известно – Даниил чуткий и отзывчивый староста, у которого есть все, что душа пожелает – штука до зарплаты, запасная ручка, билеты и методички, Тот-Самый-Учебник и прочее.
Его появление было встречено восторженными криками, и студенты кинулись ему навстречу. Однако, выслушав их, Даниил лишь развел руками:
– Коллеги, я бы рад, так ведь у меня «автомат». А свои конспектики я уже отдал.
– Кому?! – взвыли все.
– Зоечке.
Повисла погребальная тишина, лишь кто-то выдохнул: «Ах ты ж сука!» и клацнул зубами.
– Ну-ну, по́лно, – мягко попенял сокурсникам Даниил. – К чему нервы и конфликт? Сейчас.
Бушующее море негодования расступилось перед ним, и он аки посуху прошел в методкабинет. Просто постучал – и был просто впущен. Все притихли, прислушиваясь. Ну, ясно дело, все взрослые, половозрелые, никому не интересно, чем там другие люди детородного возраста занимаются в запертых кабинетах… но ведь страсть как интересно! И любопытство в целом не такой уж порок. («Ну, чё там, чё?»)
А ничего.
Не прошло десяти, максимум пятнадцати минут, как Даниил явился вновь (как и был, при полном параде, разве что чуть покрасневший), но это все ерунда, главное, что у него имелись вожделенные конспекты.
О чем там шла речь, о чем они столковались, осталось неведомым, да и неважным, – надо было срочно размножать и переписывать конспекты. Тем более что внешне все осталось по-прежнему. Мама Зоя продолжала круглой луной плавать по коридорам со стопкой бумажек, ведомостей и в облачке своих духов с резким запахом подгнивающих цитрусов. Даниил снова ушел в тень. Появлялся он на горизонте лишь изредка, только для того, чтобы исполнить свои обязанности старосты, а если открывал рот, то исключительно для того, чтобы получить очередное «отл.». Они по-прежнему были на «вы».
И, разумеется, ни одна живая душа не ведала, что с тех пор они ежедневно торопливо встречались, причем не по разу, и где попало – в пустых аудиториях, на темных лестницах, среди стеллажей в библиотеке, на столе в методкабинете.
У Мамы Зои, как заметили некоторые зоркие студенты, появилась тайна. Она регулярно впадала в счастливую каталепсию, сыто улыбаясь аппетитным розовым ртом, глядя синими глазами куда-то внутрь непривычно пустой головы.
Женский пол отказывался верить в то, что завидный староста может запасть на «эту» (с оттопыренной губой). А «этой» ночами не давали покоя блаженные мысли, а днем – сообщения с текстом: «Осчастливьте меня, Зоечка. Не пожалеете».
Потом все кончилось так же неожиданно, как началось. Даниил пропал. То есть не то что пропал. Просто свидания прекратились.
…Так прошло немало долгих ночей и дней, вот уже и год близился к концу. Умница Зоя, глядя на свой портрет, написанный за пять минут во время их самого первого рандеву в кабинете, глотала невыплаканные слезы.
Она урезонивала себя: где ты и где Он? Что Он – это Он, а она – толстая белобрысая голытьба без кола и двора, с прочерком в графе «Отец». И что с Ректором шутки плохи, и очень хорошо, что все так плохо, потому что если бы было хорошо, то ее сначала бы повесили, потом отрубили бы глупую голову, а потом еще для верности повесили и утопили бы в дачном нужнике.
Глава 6
– Как день прошел? – поинтересовалась Мария, наваливая мужу полную тарелку телятины, тушенной с грибами.
– Да в целом продуктивно, – вооружаясь вилкой и вдыхая божественный аромат блюда, отозвался Лев Иванович. – А ты что не ешь?
– А я уже поела, – отозвалась супруга, усаживаясь с бокалом вина в кресло.
– Ну-с, тогда приступим, – пригласил сам себя к трапезе Гуров. – Я пообщался с рядом чутких, интеллигентных людей, один из которых не в себе.
– То есть виделся со своим паном Ректором? – перевела на обычный язык речь супруга Мария.
– Вот про него-то и разговор. Он, видишь ли, в Бакулевке, старикана после реанимации положили в обычную палату, оправляется после инфаркта. Оказывается, полгода назад пропал без вести его сынок, и теперь пан Ректор по этому поводу чрезвычайно расстроен.
– И кто его в этом упрекнет, – с пониманием кивнула Мария. – Стало быть, пропал бедный мальчик.
– Ну, насколько он бедный, мне неведомо, – заметил Лев Иванович, аккуратно, но быстро поглощая деликатес и размышляя над тем, что если уж и стоит жениться, то лишь на женщине, которая знает, что делать с куском мяса.
– Известно лишь, что мальчику то ли тридцать, то ли уже сорок, и исчез он из клиники, в которую попал на почве алкоголизма.
Мария сдвинула брови и помотала головой:
– Бр-р-р-р, стой-постой. Что-то я недопонимаю. Сынок пропал шесть месяцев как, а папа только сейчас это заметил? Или осознал? Бухал на радостях полгода?
– Что ты, нет, конечно, – возразил Гуров. – Просто именно сейчас кто-то прислал ему на День юриста подарок, сделанный, как считает пан Ректор, из куска кожи любимого сына.
Мария попросила повторить, подумав, что ослышалась. Гуров повторил, и Мария изумилась:
– Что за дичь ты несешь?
– Ничего я не несу! Точнее, несу не я, а опытный ученый-криминалист. И, вообще, что я с тобой дискутирую – на́ вот подарочек, сама посмотри.
Мария взяла протянутую коробку с литерой «Д», повела плечиками, но все-таки открыла ее и поморщилась:
– Фу. Мне что, к этой вещи без перчаток прикасаться?
– Что, брезгуешь, киноследователь? – съехидничал муж. – Ну натяни перчатки. Ничего там эдакого нет.
Мария, которая сначала брезгливо рассматривала произведение кожевенного искусства, вдруг с уверенностью заявила:
– А знаешь ли, господин полковник, вот кроме шуток. Это очень трендовая вещица.
– Что сие значит, что ты имеешь в виду?
– Не более того, что такие сувенирчики а-ля Кох продаются за бешеные деньги и лишь на специализированных сайтах.
– Кто такой Кох?
Мария, подняв красивые брови, сморщила носик:
– Вот темнота. Не знаю, кто у тебя историю преподавал, но кол с минусом ему. Кох – это не «такой», а «такая»… или нет, даже «такие». А именно – комендант «Бухенвальда», потом концлагеря «Майданек» Карл Кох и его и супруга Ильза Кох. Бывший библиотекарь, что интересно.
– Вот это парочка, баран да ярочка. Комендант концлагеря и библиотекарь. Нашли же друг друга, – вставил Гуров.
– Классический немецкий дуэт под названием «Мясники-интеллектуалы», – фыркнула Мария, – спелись они знатно. Чего уж она там начиталась и что вычитала – не ведаю, но тетка просто не могла пройти мимо хорошей татуировки. Кличка «фрау Абажур» тоже ничего не говорит?
– После вводной, которую ты мне сейчас дала, говорит о многом. Видимо, сдирала с заключенных кожу и делала из нее сувениры.
– Ну вот, испортил интригу, – посетовала Мария. – Но на то ты и сыскарь, да?
– В целом, да, – солидно согласился Гуров.
– Года три назад, если не путаю, творили российско-немецкий сериал и как раз отсняли эпизод в ФРГ. Вот тогда я и побывала в этом развеселеньком местечке. Для нас специально открыли музей во внеурочное время. Уже смеркалось, ранняя весна, холод собачий, ветер – и бараки, бараки, плац для построения. Адский лагерь. Все, что тамошний экскурсовод рассказывал, помню почти дословно, ибо спать не могла толком несколько недель. Ты доел уже, Лева? Давай тарелку.
Зарядив посудомойку, Мария плеснула себе и мужу вина и продолжила:
– Особенно, помню, поразило то, как дело с изготовлением вещей из человеческой кожи с татуировками было поставлено на деловитый немецкий поток. Фрау Кох, используя свое положение, мониторила поступление «материала» с татуировками, людей под предлогом медосмотра доставляли в лазарет, где ему или ей делали смертельный укол…
– Чтобы шкуру не портить? – мрачно уточнил муж, делая большой глоток вина.
– Именно так, чтобы пуля случайно картинку не попортила, – подтвердила Мария так же мрачно. – Потом кожу срезали, выделывали…
– Кто же такими делами-то занимался?
– Да были спецы, тоже из заключенных.
– Неплохо устроились. Небось за дополнительную пайку.
– Ох, Левушка, не нам судить. С голодухи-то все возможно. Ну а на выходе чего только не было – и абажуры, и перчатки с сумочками, которыми щеголяла эта сука на офицерских собраниях.
– Хорош уже.
– …и переплеты, и картины, и даже, как утверждали свидетели на судебном процессе, скатерть из спины парижской певички.
– Все, хватит подробностей, а то и я не усну. А как же их списывали?
– В смысле?
– Насколько я помню, в системе концлагерей была серьезная система учета и контроля. По какой строке проводили этот массовый расход татуированных?
Мария показала язык:
– А вот, представь, и это знаю. Комендантша подкупила врача, и тот указывал, что все умерли от инфарктов.
– В самом деле, продумано, не придерешься. Так ты говоришь, эдакие вещицы и сейчас продают? Неужто те самые?
– Что ты, конечно, нет. Те самые небось давно уж в частных коллекциях, приобретенные за мильоны на мировых аукционах. Стилизации продают, конечно. Для любителей пофорсить на грани фола. Давай сюда перчатки.
Мария, натянув средство защиты, достала ключницу.
– Интересно, конечно. Ну, конечно, ни минуты не Китай, это видно и слепому, хотя сделано довольно примитивно.
– Неужели? – пробормотал Гуров, тотчас вспомнив Лилию Ивановну. Что они там все видят?
– Причем по форме это скорее не ключница, а слеппер… видел такой? От английского «слейп» – пощечина. В конце девятнадцатого века в Англии работяги такие на поясе носили, отбиваться от злодеев. Монетница-кастет. Вот сюда, – она показала пальчиком, – монетки или дробь кладут, для тяжести.
– Тактическая мухобойка, – заметил Гуров, – ну, допустим. Висит такая фигня на поясе, и как ее быстро выхватить-то? Если тугая заклепка, то быстро не получится, мягкая – недолго это штука на поясе провисит. Да и потом, несется на тебя бычара под центнер весом, а ты его этой ромашкой по лицу, по лицу.
Мария кивнула, думая явно о другом:
– Ну да… А вот рисунок здесь какой интересный… тонкая, ювелирная работа. И основа, не менее кожи буйвола, толстая, хорошая, а вот слой с рисунком как-то вживлен прямо на него, как будто на самом буйволе татуировка. Элегантная имитация.
– Имитация, говоришь?
– А что же?
– После твоего рассказа версия пана Ректора о том, что вещица сделана из кожи его сына, уже не кажется постинфарктным бредом, – признал Лев Иванович. – И, сдается мне, Орлову эта версия сразу показалась рабочей. Очень грамотно экспертизу назначил.
– А пальчики что, сняли? – небрежно осведомилась жена, аккуратно укладывая ключницу в коробочку.
– Ох ничего себе. Вживаешься.
– С кем поведешься. Конечно, почитываю и просвещаюсь. – Мария помахала книжкой «Век криминалистики».
– Так держать, народный следователь Арапова. Как ухо?
– Вполне терпимо, – сообщила жена, машинально морщась и дотрагиваясь до пострадавшего органа слуха. – В скором времени можно будет приступать к борьбе за правопорядок в отдельно взятом концлагере в масштабах страны. Тем более что Соловьев снова в седле.
– Это хорошо, а пока не отвлекайся, помогай мужу. Прежде всего, поведай, на каких сайтах продают такие сувениры?
Мария взялась за планшет, немного порыскала в интернете и передала гаджет мужу.
– Вот, примерно так это выглядит, – сказала она и покровительственно похлопала мужа по плечу: – Учись, сыскарь архаичный. Скоро вы станете откровенно не нужны, все можно будет выяснить быстро, эргономично, с помощью трех щелчков.
Гуров пропустил наезд мимо ушей, тем более что найденный супругой ресурс был примечателен.
На портале народных умельцев «Живые ремесла» материал был интересным и разнообразным. Раздел, на который указывала Мария, казался не особо востребованным и был отмечен нейтральным – оранжевого цвета – рейтингом популярности. Не исключено, впрочем, что лишь по причине высоких цен.
Однако и вещи, выставленные в этой интернет-витрине, были, даже судя по посредственным фото, высочайшего класса – портмоне, ремни, сумочки, шляпы и масса прочей кожгалантереи.
– Ну это все понятно, а дальше что? – спросил Лев Иванович, отрывая взгляд от планшета. – Обычная барахолка, красивая, но все как у всех, разве что подороже. И что?
– Да куда-то запропал этот раздел. Буквально недели полторы назад он был. А ведь там как раз и выставлены вещицы менее высокого класса производства, зато с картинками. Аналогично твоей ключнице. Слушай, попробуй набрать в поиске «мастер Даня».
– Мастер Даня… Уездный город Т.? – спросил Лев Иванович. Последовав совету супруги, он набрал в поисковике предложенные супругой слова.
– Что еще за «Т»? – не поняла жена.
– Из города Т. Мастер Даня? Вот, подсказка вылезает.
– Не знаю. А что, их там много, мастеров?
– Нет, – утешил Гуров, – только три десятка. Да и мастер Даня среди них только один, причем именно из Т., остальные – вполне традиционные Данилы-мастера, разбросанные по регионам, коих много по Расее-матушке… Да, вот страница та же вылезла.
– Уездный город Т., – повторила Мария. – Ну да, кожевенная столица чего-то там. Забавно, я как раз по Сапогу палила, перед тем как оглохнуть. Он был как раз оттуда, негодяй, убийца, вор, но сапоги невероятные тачал.
– На картонной подошве?
– Нет, на картонной для тех, кто попроще. Для солидной публики он творил сверхсапоги всмятку, с каким-то особым – одним – швом.
– Мастер, стало быть, хотя и не Даня. И земляк к тому же, – поддакнул Гуров, изучая выскочившую на планшете страницу мастера.
На ней ничего особенного не было. Товары как товары, пусть и добротные, дорогие. Какие-то новости, фото с «хвостами» восторженных комментариев и благодарностей. В разделе «Блог» присутствовали какие-то видео с пояснениями, рекламные ролики кожевенного инструмента, несколько исторических баек. В основном же фото, и фото, ничего общего не имеющие с вещицами, наподобие ректорской ключницы.
– Видишь, далеко не все можно найти, просто войдя в интернет, – не удержавшись, съязвил Лев Иванович.
– Ладно, нет – так нет. Отдай планшет, мне еще «Рожденную революцией» пересматривать. – Мария отобрала у мужа гаджет и погрузилась в изучение названного ею видеоматериала.
Супруг принялся потихоньку удаляться в сторону холодильника и бара, но как только он, подлив себе в бокал вина, сделал первый глоток, позвонил Орлов:
– Лева, у нас новости. Ключница Счастливого при тебе?
– Да, при мне.
– Смотри: не потеряй, припрячь, не свети лишний раз. Основа-то в самом деле буйволовая кожа, а рисунок – на человечьей.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», – подумал сыщик, механически делая еще один глоток вина.
– Ты меня слышишь? – уточнил генерал и, получив уверение в том, что его внимательно слушают, продолжил свое сенсационное сообщение: – В общем, это татуировка, выполненная на коже хомо сапиенса. Не менее погано то, что ДНК более чем на девяносто восемь процентов совпадает с ДНК Олега Емельяновича. Рисунок, иными словами, выполнен на коже его близкого родственника, не исключено, что и сына.
Гуров признал, что впечатлен услышанным, и, скорее всего, не стоит Ректору сообщать эту новость сейчас.
– Согласен, – проговорил Орлов. – Несмотря на то что первым эту версию озвучил он сам, вряд ли он ждет ее документального подтверждения.
– Да, не стоит добивать старика-сердечника, хотя поворотец эффектный, – признал Гуров. – А по поводу свежести материала соображения имеются?
– Ах, материал… – Генерал запнулся. – Он, по словам эксперта, подвергся серьезной обработке, установить возраст при стандартных условиях со стопроцентной точностью не представляется возможным. Может, месяц, может, год…
– А то и полгода. Понимаю. Завтра вплотную к работе над этим делом приступим.
– Да, видишь ли, какая ситуация. Приступать-то пока не к чему, Лева. Пан Ректор-то не заявлял о пропаже отпрыска.
– Да, мы об этом знаем, в окружении говорили, что у них был конфликт, папа типа полагал, что сын не желает с ним общаться. Муть какая-то. Я бы скорее предположил, что это папа не настроен общаться с единственным отпрыском, скорее всего, полагая его таким образом… воспитать, что ли.
– Ну а теперь папа полагает, что сына убили.
– Да, и это помню. Довоспитывался. Заявление-то он подавать собирается? И если да, то куда? Сразу в главк или все-таки постесняется и обратится по месту последнего проживания?
Генерал подавил вздох:
– Лева, я за него ручаться не могу. Но точно знаю, что он не постесняется сделать пару звоночков другим своим «дорогим мальчикам», а потом нагадить нам. Это в том случае, если посоветовать ему обратиться к простым смертным по месту проживания. Согласен?
Гуров был вынужден признать, что эта версия вполне жизнеспособна.
– Мы имеем дело с человеком большого влияния, способным нагадить, даже пребывая в коме, не то что в полумертвом состоянии. Ты ведь, надо полагать, знаешь, кого он образовывал на юрфаке Ленинградского универа?
– Как не знать, он всем уши этим фактом прожужжал.
– Ну вот. Давай детали обсудим завтра, ну а пока подумай, имея в виду то, что…
В это время застучали каблучки домашних туфель, и в столовой возникла Мария. Она была явно чем-то взволнована. Увидев, что муж разговаривает, она от нетерпения аж зубами клацнула и пристукнула каблуком.
Гуров приложил палец ко рту.
– …и потом, сын пана Ректора – это не дворник при Дворце пионеров, – продолжал в это время говорить Орлов. – Даже если папа жил без него полгода, теперь эта ключница спокойно жить не даст ни ему, ни нам. В общем, обмозгуй пока, что да как, а завтра обсудим.
– Есть, – сказал Гуров.
– У меня все. – Орлов разъединил связь.
– А ты все? – требовательно спросила Мария.
– Я готов тебе внимать, – сообщил муж, приглашающе похлопывая по колену.
– Прекрати! Я серьезно. Читай. – Она сунула ему под нос планшет.
– «Откуда взялось выражение «драть три шкуры»?», – послушно прочитал Гуров. – Интересно. И откуда же?
– Ох, тундра, ну при чем тут это? – вздохнула Мария и перемотала страницу на самый конец сенсационного материала.
Внизу этого пространного, пересыпанного ссылками на фактологию, весьма скучного поста имелась ссылка, забранная в рамочку, под заголовком «Партнерский контент».
Мария щелкнула по ней, открыв стандартный одностраничный сайт. На нем присутствовали малохудожественные изображения: озадаченных пар в состоянии конфликта; рыдающих женщин; их же с детьми, с тоскливой требовательностью взирающих в окно; плачущими младенцами и детьми постарше; тощими – и вскоре полными кошельками; пометками «Дорого, эффективно, на совесть».
Суть уникального торгового предложения, насколько можно было сообразить, сводилась к эффективному взысканию долгов по алиментам инновационными методами.
– Мне кажется, таких уникальных предложений в любой подворотне хоть отбавляй, – деликатно заметил Гуров. – Эти люди коллекторами называются.
– Да? И что же, все, кто из подворотни, связаны с неким мастером-кожевником? Увлеченно рассказывающим, откуда взялось выражение про сдирание шкур? – колко ответила жена, явно уязвленная тем, что значение ее открытия принижают. – И потом, смотри сюда.
Мария вышла в поисковик, начала набирать «взыскать долг по алиментам…», и уже со второго слова программа услужливо выдала подсказку: «Мастер Даня город Т.».
– Ну, а теперь что скажешь? – требовательно спросила она. – Тоже просто так и совпадение?
Гуров улыбнулся и, притянув жену, усадил к себе на колени:
– Скажу, что ты редкостная умница и я тебя люблю. Пошли досматривать «Рожденную революцией» или реализуем что поинтереснее?
– Знаешь, Лева, есть в тебе этот, как бы сказать. Мужской шовинизм! – с горечью заметила Мария.
– Ну извини. Как же иначе-то? Я же соответствующего полу вроде бы.
Она дернула мужа за ухо.
– Безо всякого сомнения. Только иной раз мне кажется, что ты никак не возьмешь в толк масштабов подлостей, на которые способны обиженные, особенно женщины.
– Если ты о себе, то я прямо сейчас приступаю к активным извинениям.
Глава 7
Даниил прислал сообщение: «Зоечка! Если не заняты, хочу пригласить вас на дачу. Будет скучно: снег, шампанское и я. Вы как?» Чтобы убедиться, что она не спит, Мама Зоя как следует ущипнула пухлыми пальчиками пухлую ручку, – нет, не спит. Внутри стремительно разливалось ощущение счастья.
Мама Зоя не верила в происходящее. Тем не менее он элегантно, с алой розой в руке, встретил ее на вокзале. Они ехали и целовались в пустой электричке, затем шли по тропкам, рука об руку среди старых фонарей и елок с нахлобученными снежными шапками. И ей все никак не верилось в неожиданно свалившееся на нее счастье. И лишь когда на долгие счастливые семьдесят два часа за ними закрылась краснокожая дверь – лишь тогда Мама Зоя поверила: то, что случилось с нею, происходит на самом деле. Часы летели незаметно, одинаково сладкие, обволакивающие, будто липкая сахарная вата. Укачанная и оглушенная, она проваливалась в радостный и обессиленный сон, просыпалась, ощущая аромат кофе и слыша скрежет лопаты – Даниил, облаченный в ватные штаны, куртку и ушанку, чистил снег.
Он рисовал ее во всех видах, по желанию – портрет, в полный рост, шарж, в стиле толстушки Хильды. У постели в сияющем ведерке неизменно присутствовала бутылка шампанского и необычные легкие закуски. Например, засахаренные лепестки роз, им собственноручно приготовленные. Мама Зоя, которая состояла, казалось, теперь целиком из пульсирующего, горячего сердца, заливалась счастливыми слезами.
И совершенно было непонятно, как сообщить ему о том, что месяцев через восемь он станет папой.
…Даниил добрился, увенчал священнодействие похлопываниями ладонями по щекам и принялся облачаться. Ну а поскольку хромой мужчина, пытающийся угодить в собственные штанины, неизбежно теряет в респектабельности, то Зоя расслабилась, набралась смелости и сказала:
– Данечка, тут такое дело…
– Да?
Известие о грядущем событии он выслушал, на ясном челе отобразилось удивление. Уточнил, серьезно ли она говорит, получил уверение, что серьезно, и весьма, а потом вдруг улыбнулся своей невероятной, застенчивой, обезоруживающей улыбкой и сказал:
– Ну так это же поправимо.
– Что-что?!
– Поправимо, говорю. Ну не куксись, пышечка. Что тут поделаешь, надо – значит, надо. – Он посмотрел на часы. – Такси через час, раньше вряд ли прибудет, много вызовов. Не залеживайся и приберись немного, ладно? Папа собирался нагрянуть. Ключ повесь на крючок. А насчет этого, – он изобразил руками выпирающий живот, – этого хватит?
И он ушел, оставив на столе толстую пачку в банковской обертке.
Мама Зоя осталась лежать, глотая слезы и рассматривая потолок с бронзовым крюком. Теперь она ощущала себя как человек, который, испытывая радость и восторг, собирал на лугу маргаритки и вдруг был сбит ударом поезда в спину.
…Приехав домой, Даниил принял в очередной раз душ, надел неформальный костюм и, очинив карандаш, засел за перевод Тертуллиана. Столько времени потрачено с Мамой Зоей, надо торопиться…
Он с детства писал только от руки, старательно развивая мелкую моторику, – сначала по настоянию врачей, потом по доброй воле. Ну а после художественной школы вообще лучше обращался с карандашом и пером, чем с ножом и вилкой.
Итак, Счастливый работал, забыв обо всем на свете, до тех пор, пока на него неожиданно не обрушился град оплеух и ругательств.
Никогда раньше он от отца ничего подобного не видывал и не слыхивал.
– Папа! – улучив момент между ударами, крикнул сын. – За что?!
– Гнида! – выл пан Ректор, нанося сыну телесные повреждения, да еще какие! Он хлестал по породистому носу отпрыска растрепанной, но не вскрытой пачкой денег. – Мгазь, пачкун, сволочь!.. – продолжал Счастливый-старший излагать обидные тезисы, и от Ректора, академика несло банальной водкой.
Даниил, наловчившись ставить блоки, попытался перевести диалог в цивилизованное русло:
– Да в чем дело-то? Плохо убралась? Или вообще не убралась? Не вопрос, убью мерзавку.
Ректор взвыл волком, но вдруг сник, упал в кресло – и, о ужас – зарыдал:
– Своими гуками… двадцать лет в следствии… своими же гуками! Болталась под потолком… зачем люстгу снял?
– Ну как же. Бра же есть… для интима, – машинально ответил Даниил и вдруг понял все и сразу. Тогда же впервые в жизни осознал, что волосы, шевелящиеся на голове, никакая не фигура речи, а реальность. Выходит, Мама Зоя того… на крюке повесилась!
Пан Ректор протрезвел, но сыну от этого легче не стало. Ему в ультимативной форме была предписана немедленная ссылка на проклятую дачу, «пока все не уляжется». Шофер папы довез на дачу его, неоконченный перевод Тертуллиана, пожитки, сумки с продуктами и собрался уже ретироваться, как Даниил удержал его.
– Голубчик, Сергей Николаевич, – сказал он жалко, косясь на разверстую перед ним темноту за открытой красной дверью, – нельзя ли мне немного… того? – Ибо спиртное было единственной вещью, которую он просто так достать не мог.
У шофера немедленно потеплели глаза, он понимающе кивнул и уточнил: «Ящичек? Парочку?» и, немедленно сгоняв туда и сюда, умчался обратно в город.
К вечеру поднялась метель. Работать Даниил не мог. Он слонялся как заведенный по пустым комнатам, вздрагивая от шорохов и тресков подсыхающего дерева, которые заставляли топорщиться волосы по всему телу. В проклятом трюмо он неожиданно увидел свое отражение и чуть не тронулся умом. Потом вдруг хлопнуло что-то, дверь скрипнула и начала медленно, неумолимо открываться – вот-вот сейчас, как в плохом триллере, отворится дверь, войдет Мама Зоя, с синим отекшим лицом, выпавшим опухшим языком, странгуляционной бороздой, петлей на вытянувшейся шее, воняя формалином и своими гадкими духами. И с пачкой ведомостей.
Он бросился к двери, запер ее на ключ, прислонился к ней спиной и сполз на пол.
На старой даче царила мертвая тишина, лишь ветер завывал снаружи и плаксиво скрипели, раскачиваясь туда-сюда, старые ели. Потом Даниилу вдруг почудился тихий шорох, скрип, как будто нечто тяжелое раскачивалось туда-сюда на антикварном бронзовом крюке, потом что-то как будто упало, ударившись о паркет. Туфля с мертвой ноги.
Испытывая ужас, Даниил схватил первую попавшуюся бутылку со спиртным, вытащил пробку и принялся глотать.
…По истечении двух недель, когда пан Ректор выяснил, что в этом маленьком житейском дельце и улаживать-то нечего и что сосланного можно вернуть в город, и он за ним приехал на дачу, было установлено, что случилось непоправимое.
Нет, внешне все было весьма благопристойно, в доме чистенько, Даня выбрит, ибо отец позвонил и предупредил сына о своем визите. А о том, что на даче неладно, говорили Данины горящие адским пламенем глаза, стоящая колом, чрезмерно накрахмаленная сорочка при полном отсутствии каких-либо штанов.
Бутылок нигде видно не было, но, когда отец зашел помыть в ванную комнату руки, выяснилось, что вся ванна густо залеплена мокрыми наклейками – «Агдам», «777», «Арарат» (три звезды) и «Столичная». Разразилась культурная катастрофа: сын, двадцать четыре года в рот крепкого не бравший, пребывал в запое.
Ректор, вызвав знакомого нарколога и медсестру с капельницей, вышел успокоить нервы на крыльцо – и в очередной раз схватился за сердце и сунул в рот таблетку валидола.
Ветер завывал, мертвенный свет луны заливал участок, вокруг чернели сосны и ели, и насколько хватало глаз, снежное поле пузырилось холмиками, из которых торчали кресты.
– Это что?
– Это не я, это она, – ворочая опухшим языком, промямлил сын. – Это она все. Не поверишь: каждый день хороню, а она все ползает и ползает…
…Потом Даниила, ставшего буйным и слезливым, скрутили, кинули на антикварный диван, подвергли чистке кишечника и установке капельницы, а Ректор, перекрестившись, сковырнул один из холмиков. Под ним оказалась удавленная кошка.
В старый дачный нужник в глубине сада – последнее Зоино пристанище – Ректор заглядывать побоялся, тем более что от него шла заметенная снегом, но ясно видная, отчетливая цепочка следов, которая, пропетляв вокруг дома, удалялась в сторону шоссе.
Сзади похлопали по плечу. Пан Ректор вздрогнул.
– Олег.
– А, что? Фу!
– Дела плохи, – серьезно сообщила нарколог, закуривая, – можем не справиться. Как бы чего не вышло.
– Уверена?
Она хмыкнула:
– Олег, огорчу я тебя сейчас до невозможности. У твоего сына открытая алкогольная тропность.
– Откуда ей взяться, тропности? – угрюмо спросил Ректор. – Ты меня хоть раз пьяным видела?
– Тебя – нет, – ответила она и со значением посмотрела ему прямо в глаза.
Ректор отвел взгляд.
– Но он же на дух спиртного не переносил, даже парфюмом почти не пользовался – тошнило от запаха…
– Возможно, до поры до времени, пока все хорошо и благополучно, пока нет предпосылок, ему алкоголь был безразличен. А как только складывается, как бы это сказать… длительная психотравмирующая ситуация, то человек моментально хватается за стакан, приучается – и спивается. В считаные дни формирует у себя состояние полной зависимости от алкоголя.
– И что же, ты хочешь сказать, что мой сын полный алкоголик? – вскинулся Олег Емельянович.
Она щелчком отправила окурок в снег и повысила голос:
– Ты меня учить будешь? Или будем человека спасать? Слушай внимательно, если не хочешь, чтобы твой сын закончил жизнь в психушке…
– Не может быть, он же до двадцати четырех в рот спиртное не брал, и не тянуло его…
– За-мол-чи! – отчеканила она. – Теперь все по-другому. С такой-то наследственностью ему крепче кефира ничего нельзя было даже нюхать. И теперь я лично вижу, что он будет заливать каждый день, и завязать он не в состоянии. Понял?
Олег Емельянович судорожно соображал: «Все. Приплыли. Что же делать-то? Узнают в академии, в министерстве… сначала эта дрянь, теперь сын… алкоголик. Понимающие взгляды, подмигивания, подлые булькающие подарки с намеком… Что делать?!»
– По-моему, очевидно, что делать, – как бы прочитав его мысли, продолжила она. – Сейчас мы кладем его больницу.
– Нет, никогда! Что ты?!
– Еще раз повторю, для особо одаренных, – терпеливо говорила врач, – только госпитализация. Пока не поздно, мухой к нам, ближайший центр неподалеку, под городом Т. Тихо, спокойно. Откачаем, поставим на рельсы. А дальше: никаких предпосылок для рецидива, никаких потрясений. Его задача: забыть обо всем, что содержит даже толику спирта. Вплоть до зеленки и валерьянки. Ни в каком виде. Ни в какой дозе. Иначе – день сурка, он каждый раз будет возвращаться к сегодняшнему состоянию, только вниз по спирали. Далее – шизофрения, паранойя, мании, что похлеще. Мы его откачаем сейчас, а дальше тебе придется бороться самому.
– Ну а как узнают? Вспомни, как это было, – уже явно сдаваясь, умоляюще прошептал он.
– Кто узнает? Мы же не в государственную, не в наркологию, мы в частную клинику. Полная, стопроцентная конфиденциальность. Бывшая электростанция на торфе, среди болот. Случайных людей нет, все свои. Если угодно, диагноз придумаем, а то и вовсе светить вашу фамилию в списках не будем.
Пан Ректор молчал.
– Решайся, Олег, время дорого, – поторопила она. – Сейчас еще не поздно. Диета, успокоительные, физические нагрузки, чистка-витамины – вернется как новенький.
– А если…
– Никаких если. Ну?
Молчание.
– Все, едем, – решительно подвела врач черту под их разговором.
Глава 8
Злосчастная ключница отправилась в сейф, сыщики сидели и ждали указаний от начальства. Внутренний червяк ненависти к преподам, все это время дремавший в душе полковника Крячко, активизировался, глодал активно и с аппетитом.
– Нет, Лева, только подумай, каков упырь! Родной сын, больной, инвалид даже, пропал, как и не было, а папаша вола пинает. До того свихнулся на своей конфиденциальности, что до сих пор даже в розыск не подал. Одно слово – живодер!
Гуров, сочувственно кивая, подождал продолжения монолога и, убедившись, что его не последует, заметил:
– Как совершенно верно отметила всеведущая Лилия Ивановна, пан Ректор не желает никакой огласки, клиника тоже не желает огласки, и совершенно очевидно, что никто не желает ворошить некое прошлое. И кого-то это в корне не устраивает. Иначе к чему петрушка с ключницей? – Он хмыкнул: – Вообще, символично. То ли намек на спиртное, «ключница водку делала?», то ли из серии «вот вам ключ к разгадке»…
– То ли хлоп по морде, – предположил Крячко. – Все-таки ключница очень на кастет похожа.
– И плюс еще цитата из ВИА «Раммштайн», посвященная некой матери, которая кого-то не родила… к слову, вспоминается прочерк в свидетельстве о рождении Счастливого-младшего.
– Что, думаешь поискать эту божественно рыжую соискательницу? – с сомнением осведомился Станислав. – Во-первых, сколько лет прошло…
– Во-вторых, что мы ей предъявим? Прочерк на месте ее имени? Бессмысленно. Да и что это даст, кроме того, что будут переживать из-за пропажи Даниила оба родителя, а не один.
– Ну, допустим, сынок, обиженный папой, мог свалить к маме.
– Ему за тридцать, о чем речь. Единственная более или менее внятная версия: шантаж, – предположил Лев Иванович. – Кому-то насолило святое семейство Счастливых.
– Мне они тоже насолили, я ж молчу.
– Ты молчишь? – с иронией переспросил друг.
Станислав смутился.
– Ладно, ладно, не молчу. В любом случае, кто-то не желает, чтобы нечто нам неизвестное оставалось шито-крыто. Иначе к чему прислали ключницу? И еще. Зачем он именно нас-то к себе вызывал? Ему что, позвонить некому? Почему не напишет заявление, как полагается?
– И, обрати внимание, довольно быстро провели необходимые дорогостоящие экспертизы, – заметил Лев Иванович. – На каком основании, из каких средств, кто оплачивал – бог весть.
Стас еще более помрачнел:
– Вот именно. По реальным делам жди-дожидайся, а тут как по щучьему велению все необходимое сделали, вплоть до теста ДНК, да дважды… понимаю, теперь это не так дорого, но все равно, что-то да стоит.
– Я что предлагаю? Что, если поставить вопрос ребром, занять твердую позицию и отказаться от этого дела, – предложил Гуров. – В самом деле, своих дел навалом, рук и людей не хватает, а тут еще и домыслами заниматься. Хотя, конечно, насчет домыслов не все так однозначно.
– Что такое?
– Да вот, видишь ли, какое дело. – И Гуров вкратце изложил историю частного расследования, предпринятого Марией.
Крячко от души рассмеялся и хлопнул по колену:
– Да, Лева, теперь и жена твоя знает, каково это: искать там, где надо, а не под фонарем. И остается открытым вопрос: помимо старческого бормотания, есть что осязаемое? Трупы, например, есть али как?
– Трупы всегда есть, – заметил Гуров. – Заявлений нет.
– Думаю, и правда, от дела можно отказаться. Ведь нет же в данном конкретном случае ни преступных групп, ни экстремизма, ничего криминального, так что нам тут делать нечего, – резюмировал Станислав.
В этот момент в кабинет вошла Верочка, осчастливив сыщиков своим появлением.
– Раз вам тут делать нечего, то идите-ка вы к Шефу, – услышав последнюю фразу Крячко, заявила секретарь Орлова. – Оне в нетерпении.
…Все благие намерения и попытки бунта были задушены в зародыше. Генерал и слова не дал сказать, заявив, как только они возникли на пороге:
– Задача: доложить о мерах, предпринятых для поиска Даниила Олеговича Счастливого. В течение дня попрошу представить соображения по этому делу и план действий.
– А ничего, что…
– Без возражений относительно того, что это не наше дело.
– Но ведь…
– Работайте.
– Заявления нет.
– Работайте без заявления, – предписало начальство. – В рамках оперативно-разыскных мероприятий. Когда и если найдется что-либо, тогда подумаем о заявлении.
– Ректор подаст? – ехидно осведомился Крячко.
– Не обязательно он. Есть еще соседи, коллеги по работе, пропавший трудился где-то? Он исчез из санатория, что за санаторий, когда пропал, обстоятельства, что предпринимали? Мне вас учить? Мы, как сотрудники правоохранительных органов и сознательные граждане, не вправе оставлять без внимания факт бесследного исчезновения гражданина с особенностями развития, особенно если имеются основания полагать, что он был убит.
Воцарилась благоговейная тишина.
Убедившись, что возражений не последует, Орлов спросил, где ключница. Лев Иванович молча выложил на стол коробочку. Стас также хранил молчание, понимая, что возражать начальству сейчас бесполезно.
– Вот! Обнаружен фрагмент кожных покровов с характерными отличительными особенностями, – веско продолжал генерал. – Налицо особая примета, которая, по сообщению близкого родственника, имелась у пропавшего, а именно – татуировка.
Завершив тираду, Орлов снова замолчал и принялся перебирать бумаги.
Крячко с сочувствием спросил:
– Сверху звонили?
– Да, – мрачно ответил генерал, – и не один, и не по разу, и не только сверху…
– А с виду казалось, что этой гниде жить осталось пару часов.
– Полковник Крячко, извольте выбирать выражения.
– Есть!
– Жди-дожидайся. Этот старый дуб и сам пошумит, и по всему свету бурю поднимет.
Когда приятели вышли из кабинета генерала, Крячко съязвил:
– Ну что, господин полковник, не получилось занять твердую позицию.
– Все как всегда.
– Я тогда сгоняю до Лилечки…
– Что, под фонарем будем искать?
– А почему бы и нет? Так поступают лучшие люди современности. Ну а если серьезно, то пока пан Ректор в больничке, надо из нее по максимуму сведения вытрясти.
– Договорились.
За текучкой и повседневными делами прошли сначала несколько часов, потом и рабочий день подошел к концу. Заявился Крячко – измученный, но довольный, с пачками отксерокопированной документации.
