Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции бесплатное чтение
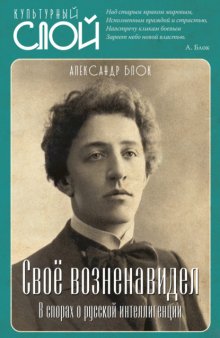
Предисловие
Рубеж XIX–XX веков был трудным временем для русского общества, власти, церкви.
Это потом, в неизбывной тоске по «прекрасному прошлому», в горечи изгнания сложную и смутную эпоху назовут Серебряным веком. А тогда, несмотря на все внешние успехи и достижения российской экономики, политики, культуры, люди жили с гамлетовским ощущением: «Не ладно что-то в Датском королевстве».
«Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа» – эта фраза из статьи А. Блока «Безвременье» стала символичной для всей эпохи.
Стремительно менялась жизнь, в дерзких умах рождались или приходили извне новые идеи, другое понимание мира и человека. Ломались «незыблемые» устои жизни, выстраивалась иная система отношений между людьми, слоями общества, обществом и властью. Развитие промышленности, новые технологии преображали города и ландшафты, срывали таинственный покров с отдаленных уголков мира, ставших вдруг доступными.
Потрясающе точную и пророчески-страшную характеристику ХХ века дал в своей поэме «Возмездие» Александр Блок:
- Двадцатый век… Еще бездомней,
- Еще страшнее жизни мгла
- (Еще чернее и огромней
- Тень Люциферова крыла).
- Пожары дымные заката
- (Пророчества о нашем дне),
- Кометы грозной и хвостатой
- Ужасный призрак в вышине,
- Безжалостный конец Мессины
- (Стихийных сил не превозмочь),
- И неустанный рев машины,
- Кующей гибель день и ночь,
- Сознанье страшное обмана
- Всех прежних малых дум и вер,
- И первый взлет аэроплана
- В пустыню неизвестных сфер…
- И отвращение от жизни,
- И к ней безумная любовь,
- И страсть и ненависть к отчизне…
- И черная, земная кровь
- Сулит нам, раздувая вены,
- Все разрушая рубежи,
- Неслыханные перемены,
- Невиданные мятежи…
Понятие «возрождение» чрезвычайно близко Серебряному веку: оно осознавалось изнутри и как подъем, бурное развитие, и с привычным семантическим аспектом возврата, повторности, восстановления после катастрофы. В философии параллельно развивались славянофильские и западнические идеи, в культуре возрастал интерес как к русской, славянской культуре, фольклору, народному искусству, так и к европейской культурной традиции, Средневековью, античности, ориентализму.
Суть этого двуединства удачно сформулирована Н. А. Бердяевым: «К слишком временному и тленному в прошлом нельзя вернуться, но можно вернуться к вечному в прошлом».
Философ ощущает Серебряный век одновременно возрождением и концом ренессанса: «В религиозных и мистических движениях конца XIX и начала ХХ века, которые для этой эпохи очень характерны и идут на смену течениям позитивным и материалистическим, также обнаруживается характер антиренессансный и антигуманистический».
Более того, Бердяев не просто осознает антиренессансность ряда течений в культуре эпохи, например, религиозного сектантства, но и прямо определяет ее упадочность: «Упадочность культуры есть ее истончение и усложнение, есть все увеличивающаяся дифференциация, уводящая от первоначальной органической цельности, возрастающая оторванность от жизненных источников».
Феномен возрождения-декаданса Бердяев рассматривает как один из основных и самых острых вопросов философии культуры. Он прямо указывает на амбивалентность этих феноменов: «Человек упадочный вдруг оказался способным проявлять силу, которую привыкли ждать лишь от человека варварского, со всеми положительными и отрицательными свойствами варварства».
«Нет больше домашнего очага. Необычайно липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золотого века. Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера – все заткано паутиной, и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь» – такой, потрясающе выразительный образ безвременья дает Александр Блок в статье с соответствующим названием.
Раскрывая дальше суть безвременья, поэт дает еще один удивительный образ: «Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом. И странные люди приплясывают по щебню вдоль торговых сел. Времени больше нет. Вот она русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний».
Блок ощущает эпохальную значимость своего времени: «Значительность пережитого нами мгновения истории равняется значительности промежутка времени в несколько столетий».
К. Маковский. Оленька (Портрет дочери)
И на фоне всего этого, на фоне политического террора, первой русской революции образованная часть общества возвращается к вечному русскому вопросу «Кто мы?».
Спор этот, спровоцированный, прежде всего, ужасами революции 1905–1907 годов, в которой и общество, и власть проявили себя отнюдь не с лучшей стороны, возвращает русских мыслителей к давнему вопросу о природе и сути русской интеллигенции, о ее роли в жизни общества, истории страны.
Не секрет, что интеллигенция в России никогда не рассматривалась просто как некий социальный слой или группа людей, объединенных определенным родом занятий (умственным трудом), невозможно к ней было применить и принятое на Западе обозначение «интеллектуалы».
У нас интеллигенция, чрезвычайно пестрая по социальному составу, трансформировалась в своеобразную субкультуру, в которой занятие интеллектуальным трудом, как главный признак группы, отошло на второй план. Более того, понятия «образованный класс» и «интеллигенция» в понимании русского общества почти сразу разошлись и даже стали во многом противопоставлены друг другу. Достаточно быстро, еще в первой трети XIX века одним из основных (если не самым основным) признаком русского интеллигента стало ярко выраженное социальное мессианство. Всякий русский интеллигент непременно был озабочен судьбами Отечества, мнил себя носителем общественной совести, активно сопереживал «униженным и оскорбленным» и непременно находился в оппозиции к государству. Без этого называться интеллигентом было немыслимо.
Русским интеллигентом мог стать кто угодно: дворянин, разночинец, мещанин, выбившийся «в люди» крестьянин или рабочий, главное, чтобы соблюдались вышеназванные условия и вся его деятельность (в основном, графоманско-демагогического толка) имела ярко выраженный оппозиционный характер и критиковала так или иначе «реакционное» и «отсталое» государство.
Столь однобокий подход был еще более-менее приемлем в середине и второй половине XIX века на фоне увлечения позитивизмом, идеей прогресса, либеральных реформ. Однако к рубежу веков нарастала реакция, позитивизм сдавал свои позиции, а вера в идею прогресса и прекрасного «завтра» угасала.
«Никогда еще не было такого разочарования в научности, такой жажды иррационального. Ныне и позитивизм признают дурной метафизикой, и в научности самой науки готовы усомниться. Повсюду есть глубокая неудовлетворенность рационализмом и стремление освободить иррациональное в жизни» – это цитата из работы Бердяева «Смысл творчества».
Далее в этом же труде философ дает характеристику позитивизма через его отношение к человеку: «Позитивизм был крайним выражением стремления не только постигнуть мир внешним путем, уходящим как можно дальше от внутреннего человека, но и самого человека поставить в ряд внешних вещей мира».
Он пишет далее, что кризис позитивизма обращает человеческое сознание к сокровенным дорационалистическим истокам и связывает этот кризис с усилением религиозных мистических исканий, с распространением сектантства в самых разных слоях русского общества – от крестьянства до императорской семьи, с оккультными увлечениями.
Нарастание мистических исканий связано с кризисом официального православия, с языческим космизмом, сохранившимся к началу ХХ века в качестве обрядовой составляющей православия народного.
«В ренессансе был элемент антиперсоналистический. Языческий космизм, хотя и в очень преображенной форме, преобладал над христианским персонализмом» – пишет Бердяев в работе «Русская идея».
На фоне этого возникали обоснованные сомнения и вопросы о сути и роли русской интеллигенции, по-прежнему претендовавшей на роль общественной совести, нравственного камертона и лидеров общественного развития. Особенно эти настроения усилились на фоне русской революции 1905–1906 годов, в которой интеллигенция подчас играла сомнительную роль.
Наиболее ярким выражением этой необъявленной дискуссии стал сборник «Вехи», вышедший в 1909 году и сразу получивший огромный общественный резонанс. Популярность его была столь велика, что он выдержал еще четыре переиздания и остался одним из наиболее ярких литературно-общественных явлений Серебряного века.
Сразу же после своего появления сборник вызвал шквал критики и яростные споры.
Ни до, ни после «Вех» не было в России книги, которая вызвала бы такую бурную общественную реакцию и в столь короткий срок (менее чем за год!) породила бы целую литературу, которая по объему в десятки, может быть, в сотни раз превосходит вызвавшее ее к жизни произведение… Лекции о «Вехах» и публичные обсуждения книги собирали огромные аудитории. Лидер партии кадетов Милюков совершил даже лекционное турне по России с целью «опровергнуть» «Вехи», и недостатка в слушателях он, кажется, нигде не испытывал.
В.И. Ленин назвал «Вехи» «энциклопедией либерального ренегатства» и «сплошным потоком реакционных помоев, вылитых на демократию».
Официальная советская критика и современные представители коммунистических течений дали этому сборнику крайне негативную оценку:
«…пресловутый сборник статей либерально-октябристской профессуры и интеллигенции, вышедший в эпоху реакции, в 1909 г.… В этом сборнике оплевывалась революционная деятельность интеллигенции в прошлом, революционеры третировались, как худшие враги страны и народа… В свое время «Вехи» встретили резкий отпор со стороны революционных кругов, в первую голову, разумеется, со стороны нашей партии».
Причина столь бурной реакции общества была в том, что семеро авторов сборника выразили в развернутых статьях свое видение русской интеллигенции и ее общественной роли, нарисовали портрет «типичного» интеллигента, очень и очень далекий от того благостно-героического образа, который был привычен русскому обществу. Авторы не стремились унижать или судить. Они просто ставили вполне обоснованные вопросы и подвергали сомнению «незыблемое» убеждение образованной части общества в том, что интеллигенция имеет право и должна претендовать на ту мессианскую роль, которую она сама себе избрала.
Сборник породил целую литературную традицию. Мыслители различных убеждений, представители всех партий подхватили волну дискуссий, с энтузиазмом в диспут включились даже далекие от политики литераторы, такие, как Александр Блок, Андрей Белый. А замечательный мыслитель и публицист Василий Розанов горячо приветствовал выход сборника, так как идеи его авторов были достаточно близки к его взглядам, выражаемым не менее смело и ярко в небольших газетных и журнальных заметках.
С той поры споры о роли интеллигенции в нашем обществе не утихают. Да и само понятие «интеллигент» стало чем-то сугубо российским, чью суть невозможно адекватно передать ни на каком другом языке.
Сегодня эти споры и статьи наших мыслителей о русской интеллигенции актуальны, как никогда. И сколь же злободневно звучат тезисы, написанные более ста лет назад.
«Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь, и противоречивые чувства к себе возбуждает… Рядом с антихристовым началом в этой интеллигенции чувствуются и религиозные высшие потенции, новая историческая плоть, ждущая своего одухотворения. Это напряженное искание Града Божия, стремление к исполнению воли Божией на земле как на небе, глубоко отличаются от влечения мещанской культуры к прочному земному благополучию» (Николай Бердяев).
«Проклятые вопросы» Достоевского в условиях стремительно меняющейся жизни, духовного кризиса и кризиса официальной церковной доктрины, в атмосфере декаданса и предощущения катастрофы, глобального перелома стали знаковыми для эпохи. В них – ее суть, даже в своем роде, духовный диагноз.
«… основным проявлением интеллигентского сознания, приводящим его к крушению, является рационалистический утопизм, стремление устроить жизнь по разуму, оторвав ее от объективных начал истории, от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия»;
«… когда, увлекаясь своим полетом, мысль человеческая отрывается от своих жизненных корней, когда она стремится сама из себя воссоздать всю деятельность, заменив ее органические законы своими отвлеченными требованиями, тогда вместо того, чтобы быть силой созидательной и прогрессивной, она становится началом разрушительным и революционным» (П. Новгородцев).
Не это ли произошло в 1917?
Михаил Осипович Гершезон. Карандашный набросок работы В. Ходасевича
Михаил Гершензон. Предисловие к сборнику «Вехи»
Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи, из которых составился настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905–6 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений; с другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которыми оно было вызвано. Таким образом, по существу поражение интеллигенции не обнаружило ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно, во-первых, глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру; во-вторых, подробности события, т. е. конкретные формы, в каких совершились революция и ее подавление, дали возможность тем, кто в общем сознавал ошибочность этого мировоззрения, яснее уразуметь грех прошлого и с большей доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесознанной потребности в такой проверке.
Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко расходятся между собою как в основных вопросах «веры», так и в своих практических пожеланиях: но в этом общем деле между ними нет разногласий. Их общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе – на признании безусловного примата общественных форм, – представляется участникам книги внутренно ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, – к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками нет разногласий. Исходя из нее, они с разных сторон исследуют мировоззрение интеллигенции, и если в некоторых случаях, как, например, в вопросе о ее „религиозной» природе, между ними обнаруживается кажущееся противоречие, то оно происходит не от разномыслия в указанных основных положениях, а оттого, что вопрос исследуется разными участниками в разных плоскостях.
Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность, но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы: то же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса.
Петр Струве. Интеллигенция и революция
Россия пережила до новейшей революции, связанной с исходом русско-японской войны, два революционных кризиса, потрясших народные массы: смутное время, как эпилог которого мы рассматриваем возмущение Разина, и пугачевщину. То были крупные потрясения народной жизни, но мы напрасно стали бы искать в них какой-либо религиозной и политической идеи, приближающей их к великим переворотам на Западе. Нельзя же подставлять религиозную идею под участие раскольников в пугачевском бунте? Зато в этих революциях, неспособных противопоставить что-либо исторической государственности и о нее разбившихся, с разрушительной силой сказалась борьба социальных интересов.
Революция конца XVI и начала XVII вв. в высшей степени поучительна при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. Смута начала XVII века представляет ту оригинальную черту, что в этой революции как таковой, как народном движении непосредственно, минуя реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы общества. И с этой чертой связана другая, не менее важная: «смута» была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть, но огромным движением национально-религиозной самозащиты. Без польского вмешательства великая смута 1598–1613 гг. была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную борьбу, в которой во главе нации стали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались низы. Их бунт не дал ничего.
Таким образом, в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного и национального начал. С этой точки зрения особенно важен момент расхождения и борьбы государственных, земских элементов с противогосударственными, казачьими. За иллюзию общего дела с «ворами» первый вождь земства Прокопий Ляпунов поплатился собственной жизнью и полным крушением задуманного им национального предприятия. Те «последние люди московского государства», которые по зову патриарха Гермогена встали на спасение государства и под предводительством Минина и Пожарского довели до конца дело освобождения нации и восстановления государства, совершили это в борьбе с противогосударственным «воровством» анархических элементов. В указанном критическом моменте нашей допетровской «смуты», в его общем психологическом содержании чувствуется что-то современное, слишком современное…
Социальные результаты смуты для низов населения были не только ничтожные, они были отрицательные, Поднявшись в анархическом бунте, направленном против государства, оседлые низы только увеличили свое собственное закрепощение и социальную силу «господ». И вторая волна социальной смуты XVII в., движение, связанное с именем Стеньки Разина, стоившее множества жертв, бессмысленно-жестокое, совершенно «воровское» по своим приемам, так же бессильно, как и первая волна, разбилась о государственную мощь.
В этом отношении пугачевщина не представляет ничего нового, принципиально отличного от смуты 1598–1613 гг. и от разиновщины. Тем не менее социальный смысл и социальное содержание всех этих движений и в особенности пугачевщины громадны: они могут быть выражены в двух словах – освобождение крестьян. Пугачев манифестом 31 июля 1774 года противогосударственно предвосхитил манифест 19-го февраля 1861 г. Неудача его «воровского» движения была неизбежна: если освобождение крестьян в XVIII и в начале XIX в. было для государства и верховной власти – по причинам экономическим и иным – страшно трудным делом, то против государства и власти осуществить его тогда было невозможно. Дело крестьянского освобождения было не только погублено, но и извращено в свою противоположность «воровскими» противогосударственными методами борьбы за него.
Носителем этого противогосударственного «воровства» было как в XVII, так и в XVIII в. «казачество» «Казачество» в то время было не тем, чем оно является теперь: не войсковым сословием, а социальным слоем всего более далеким от государства и всего более ему враждебным. В этом слое были навыки и вкусы к военному делу, которое, впрочем, оставалось у него на уровне организованного коллективного разбоя.
Пугачевщина была последней попыткой казачества поднять и повести против государства народные низы. С неудачей этой попытки казачество сходит со сцены как элемент, вносивший в народные массы анархическое и противогосударственное брожение. Оно само подвергается огосударствлению, и народные массы в своей борьбе остаются одиноки, пока место казачества не занимает другая сила. После того как казачество в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни зреет новый элемент, который – как ни мало похож он на казачество в социальном и бытовом отношении – в политическом смысле приходит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент – интеллигенция.
Слово «интеллигенция» может употребляться, конечно, в различных смыслах. История этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда.
Нам приходит на память, в каком смысле говорил в тургеневской «Странной истории» помещик-откупщик: «У нас смирно; губернатор меланхолик, губернский предводитель – холостяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу интеллигенцию вы увидите». Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами, вместе с солидностью, развивало в людях некоторое глубокомыслие».
Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на балах в дворянском собрании.
Мы разумеем под этим наименованием даже не «образованный класс». В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной мере «образованный класс» составляла в России всегда некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении заняло дворянство.
Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком государстве; в государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней периферии европейской культуры, она, вполне естественно, является громадной.
Не об этом классе и не об его исторически понятной, прозрачной роли, обусловленной культурною функцией просвещения, идет речь в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении.
С этой точки зрения интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революцию 1905–07 гг.
Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40-х гг.
В облике интеллигенции, как идейно-политической силы в русском историческом развитии, можно различать постоянный элемент, как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий – содержание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему.
Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллигенции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и князь Кропоткин). Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма. Исторически это различие между абсолютным и относительным отщепенством несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же как принципиальное признание необходимости общественной власти (т. е. в сущности государства) революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер и стушевывается пред враждебностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в известном смысле марксизм, с его учением о классовой борьбе и государстве как организации классового господства, был как бы обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства.
Но мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на ее отщепенство только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентского отщепенства характерны не только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического.
Петр Бернгардович Струве
В этом заключается глубочайшее философское и психологическое противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу. Правда, в русской литературе с легкой руки, главным образом, Владимира Соловьева установилась своего рода легенда о религиозности русской интеллигенции. Это, в сущности. – применение к русской интеллигенции того же самого воззрения, – на мой взгляд поверхностного и не выдерживающего критики, – которое привело Соловьева к его известной реабилитации, с точки зрения христианской и религиозной, противорелигиозных мыслителей. Разница только в том, что западно-европейский позитивизм и рационализм XVIII в. не в такой полной мере чужд религиозной идеи, как тот русский позитивизм и рационализм XIX в., которым вспоена вся наша интеллигенция.
Весь недавно очерченный максимализм русской интеллигенции, формально роднящий ее с образом ибсеновского Бранда («все или ничего!»), запечатлен указанным выше противоречием, и оно вовсе не носит отвлеченного характера; его жизненный смысл пронизывает всю деятельность интеллигенции, объясняет все ее политические перипетии.
Говорят, что анархизм и социализм русской интеллигенции есть своего рода религия. Именно в вышеуказанном максимализме было открыто присутствие религиозного начала. Далее говорят, что анархизм и социализм суть лишь особые формы индивидуализма и так же, как последний, стремятся к наибольшей полнотой красоте индивидуальной жизни, и в этом, говорят, их религиозное содержание. Во всех этих и подобных указаниях религия понимается совершенно формально и безыдейно.
После христианства, которое учит не только подчинению, но и любви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии должна быть, не может не быть вера в спасительную силу и решающее значение личного творчества или, вернее, личного подвига, осуществляемого в согласии с волей Божией. Интересно, что те догматические представления новейшего христианства, которые, как кальвинизм и янсенизм, доводили до высшего теоретического напряжения идею детерминизма в учении о предопределении, рядом с ней психологически и практически ставили и проводили идею личного подвига. Не может быть религии без идеи Бога, и не может быть ее без идеи личного подвига.
Вполне возможно религиозное отщепенство от государства. Таково отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религиозен, он идейно враждебен и социализму, и безрелигиозному анархизму, и стоит вне русской интеллигенции.
Основная философема социализма, идейный стержень, на котором он держится как мировоззрение, есть положение о коренной зависимости добра и зла в человеке от внешних условий. Недаром основателем социализма является последователь французских просветителей и Бентама Роберт Оуэн, выдвинувший учение об образовании человеческого характера, отрицающее идею личной ответственности.
Религия так, как она приемлема для современного человека, учит, что добро в человеке всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу. Основная философема всякой религии, утверждаемой не на страхе, а на любви и благоговении, – есть «Царство Божие внутри вас есть».
Для религиозного миросозерцания не может поэтому быть ничего более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование человека, на которое социализм принципиально не обращает внимания.
Социализм в его чисто-экономическом учении не противоречит никакой религии, но он как таковое не есть вовсе религия. Верить («верую, Господи, и исповедую») в социализм религиозный человек не может, так же как он не может верить в железные дороги, беспроволочный телеграф, пропорциональные выборы.
Восприятие русскими передовыми умами западно-европейского атеистического социализма – вот духовное рождение русской интеллигенции в очерченном нами смысле. Таким первым русским интеллигентом был Бакунин, человек, центральная роль которого в развитии русской общественной мысли далеко еще не оценена. Без Бакунина не было бы «полевения» Белинского и Чернышевский не явился бы продолжателем известной традиции общественной мысли. Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев – это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто «историческое» различие. Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу.
В 60-х годах, с их развитием журналистики и публицистики, «интеллигенция» явственно отделяется от образованного класса как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента, и расхождение его с деятелями 60-х годов не есть опять-таки просто исторический и исторически обусловленный факт конфликта людей разных формаций культурного развития и общественной мысли, а нечто гораздо более крупное и существенное. Чернышевский по всему существу своему другой человек, чем Герцен. Не просто индивидуально другой, а именно другой духовный тип.
В дальнейшем развитии русской общественной мысли Михайловский, например, был типичный интеллигент, конечно, гораздо более тонкого индивидуального чекана, чем Чернышевский, но все-таки с головы до ног интеллигент. Совсем наоборот, Владимир Соловьев вовсе не интеллигент. Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков так же, как он, вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе, и весьма покорно, мундир интеллигента. Достоевский и Толстой, каждый по различному, срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир. Между тем весь русский либерализм – в этом его характерное отличие от славянофильства – считает своим долгом носить интеллигентский мундир, хотя острая отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный лик Глеба Успенского тем и загадочен, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками.
В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции – ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции.
После, пугачевщины и до этой революции все русские политические движения были движениями образованной и привилегированной части России. Такой характер совершенно явственно присущ офицерской революции декабристов.
Бакунин в 1862 г. думал, что уже тогда началось движение социальное и политическое в самых народных массах. Когда началось движение, прорвавшееся в 1905 г. революцией, об этом можно, пожалуй, долго и бесконечно спорить, но когда Бакунин говорил в 1862 г.: «Многие рассуждают о том, будет ли в России революция или не будет, не замечая того, что в. России. уже теперь революция», и продолжал: «В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную земскую думу», – то он, конечно, не думал, что революция затянется более чем на сорок лет.
Только в той революции, которую пережили мы, интеллигентская мысль соприкоснулась с народной – впервые в русской истории в таком смысле и в такой форме.
Революция бросилась в атаку на политический строй и социальный уклад самодержавно-дворянской России.
Дата 17 октября 1905 года знаменует собой принципиальное коренное преобразование сложившегося веками политического строя России. Преобразование это произошло чрезвычайно быстро в сравнении с тем долгим предшествующим периодом, когда вся политика власти была направлена к тому, чтобы отрезать нации все пути к подготовке и осуществлению этого преобразования. Перелом произошел в кратковременную эпоху доверия и был, конечно, обусловлен банкротством внешней политики старого порядка.
Быстрота, с которой разыгралось в особенности последнее действие преобразования, давшее под давлением стихийного порыва, вдохновлявшего всеобщую стачку, акт 17 октября, подействовала опьяняюще на интеллигенцию. Она вообразила себя хозяином исторической сцены, и это всецело определило ту «тактику», при помощи которой она приступила к осуществлению своих идей. Общую характеристику этих идей мы уже дали. В сочетании этой тактики с этими идеями, а вовсе не в одной тактике, – ключ к пониманию того, что произошло.
Актом 17 октября по существу и формально революция должна была бы завершиться. Невыносимое в национальном и государственном смысле положение вещей до 17 октября состояло в том, что жизнь народа и развитие государства были абсолютно замкнуты самодержавием в наперед установленные границы. Все, что не только юридически, но и фактически раздвигало или хотя бы угрожало в будущем раздвинуть эти границы, не терпелось и подвергалось гонению. Я охарактеризовал и заклеймил эту политику в предисловии к заграничному изданию знаменитой записки Витте о самодержавии и земстве. Крушение этой политики было неизбежно, и в связи с усложнением общественной жизни и с войной оно совершилось, повторяем, очень быстро.
В момент государственного преобразования 1905 года отщепенские идеи и отщепенское настроение всецело владели широкими кругами русских образованных людей. Исторически, веками слагавшаяся власть должна была пойти насмарку тотчас после сделанной ею уступки, в принципе решавшей вопрос о русской конституции. Речь шла о том, чтобы, по подлинному выражению социал-демократической публицистики того времени, «последним пинком раздавить гадину». И такие заявления делались тогда, когда еще не было созвано народное представительство, когда действительное настроение всего народа и, главное, степень его подготовки к политической жизни, его политическая выдержка никому еще не были известны. Никогда никто еще с таким бездонным легкомыслием не призывал к величайшим политическим и социальным переменам, как наши революционные партии и их организации в дни свободы. Достаточно указать на то, что ни в одной великой революции идея низвержения монархии не являлась наперед выброшенным лозунгом. И в Англии XVII века, и во Франции XVIII века ниспровержение монархии получилось в силу рокового сцепления фактов, которых никто не предвидел, никто не призывал, никто не «делал».
Недолговечная английская республика родилась после веков существования парламента в великой религиозно-политической борьбе усилиями людей, вождь которых является, быть может, самым сильным и ярким воплощением английской государственной идеи и поднял на небывалую высоту английскую мощь. Французская монархия пала вследствие своей чисто политической неподготовленности к тому государственному перевороту, который она сама начала. А основавшаяся на ее месте республика, выкованная в борьбе за национальное бытие, как будто явилась только для того, чтобы уступить место новой монархии, которая в конце концов пала в борьбе с внешними врагами. Наполеон I создал вокруг себя целую легенду, в которой его личность тесно сплелась с идеей мощи и величия государства, а восстановленная после его падения династия была призвана и посажена на престол чужеземцами и в силу этого уже с самого начала своей реставрации была государственно слаба. Но Бурбоны, в лице Орлеанов, конечно, вернулись бы на французский трон после 1848 года, если бы их не предупредил Наполеонид, сильный национально-государственным обаянием первой Империи. Падение же Наполеона III на этой подготовленной к государственным переворотам почве было обусловлено полным, беспримерным в истории военным разгромом государства. Так в новейшей французской истории почти в течение целого столетия продолжался политический круговорот от республики к монархии и обратно, круговорот, полный великих государственных событий.
Чужой революционный опыт дает наилучший комментарий к нашему русскому. Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися в какой-то гул. Вместо того чтобы этот гул претворить систематической воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе.
В ту борьбу с исторической русской государственностью и с «буржуазным» социальным строем, которая после 17-го октября была поведена с еще большею страстностью и в гораздо более революционных формах, чем до 17 октября, интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений и ни грана – религиозной идеи.
Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике… Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения, – словом, тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания. Это противоречие, конечно, свойственно по существу всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его жесткость’ и жестокость. Но кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устроения жизни есть нечто второстепенное. Поэтому, как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, над человеческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности.
Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было форме, отметает проблему воспитания в политике и в социальном строительстве, заменяя его внешним устроением жизни.
Говоря о том, что русская интеллигенция идейно отрицала или отрицает личный подвиг и личную ответственность, мы, по-видимому, приходим в противоречие со всей фактической историей служения интеллигенции народу, с фактами героизма, подвижничества и самоотвержения, которыми отмечено это служение. Но нужно понять, что фактическое упражнение самоотверженности не означает вовсе признания идеи личной ответственности как начала, управляющего личной и общественной жизнью. Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, т. е. ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, полагавшей свои силы на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, таким образом, лишены принципиального морального значения и воспитательной силы.
Это обнаружилось с полною ясностью в революции. Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему самому никаких воспитательных задач. А так как народ состоит из людей, движущихся интересами и инстинктами, то, просочившись в народную среду, интеллигентская идеология должна была дать вовсе не идеалистический плод. Народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь в исторической действительности превращалась в разнузданно и деморализацию.
Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия. Предъявляя самые радикальные требования, во имя их призывая народ к действиям, наша радикальная интеллигенция, совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место возбуждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль и не могло больше ничего дать. Когда оно спало, момент был пропущен и воцарилась реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что пропущен был момент.
В настоящее время отвратительное торжество реакции побуждает многих забывать или замалчивать ошибки пережитой нами революции. Не может быть ничего более опасного, чем такое забвение, ничего более легкомысленного, чем такое замалчивание. Такому отношению, которое нельзя назвать иначе как политическим импрессионизмом, необходимо противопоставить подымающийся над впечатлениями текущего момента анализ морального существа того политического кризиса, через который прошла страна со своей интеллигенцией во главе.
Чем вложились народные массы в этот кризис? Тем же, чем они влагались в революционное движение XVII и XVIII веков, своими социальными страданиями и стихийно выраставшими из них социальными требованиями, своими инстинктами, аппетитами и ненавистями. Религиозных идей не было никаких. Это была почва, чрезвычайно благодарная для интеллигентского безрелигиозного радикализма, и он начал оперировать на этой почве с уверенностью, достойною лучшего применения.
Прививка политического радикализма интеллигентских идей к социальному радикализму народных инстинктов совершилась с ошеломляющей быстротой. В том, как легко и стремительно стала интеллигенция на эту стезю политической и социальной революционизации исстрадавшихся народных масс, заключалась не просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут лежало представление, что «прогресс» общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в исторической игре, апеллируя к народному возбуждению.
Политическое легкомыслие и неделовитость присоединились к этой основной моральной ошибке. Если интеллигенция обладала формой религиозности без ее содержания, то ее «позитивизм», наоборот, был чем-то совершенно бесформенным. То были «положительные», «научные» идеи без всякой истинной положительности, без знания жизни и людей, «эмпиризм» без опыта, «рационализм» без мудрости и даже без здравого смысла.
Революцию делали плохо. В настоящее время с полною ясностью раскрывается, что в этом делании революции играла роль ловко инсценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко иллюстрирует поразительную неделовитость революционеров, их практическую беспомощность, но не в нем суть дела. Она не в том, как делали революцию, а в том, что ее вообще делали. Делали революцию в то время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании. Война раскрыла глаза народу, пробудила национальную совесть, и это пробуждение открывало для работы политического воспитания такие широкие возможности, которые обещали самые обильные плоды. И вместо этого что же мы видели? Две всеобщие стачки с революционным взвинчиванием рабочих масс (совет рабочих депутатов!), ряд военных бунтов, бессмысленных и жалких, московское восстание, которое было гораздо хуже, чем оно представилось в первый момент, бойкот выборов в первую думу и подготовка, (при участии провокации!) дальнейших вооруженных восстаний, разразившихся уже после роспуска Государственной Думы. Все это должно было терроризировать и в конце концов смести власть. Власть была действительно терроризирована. Явились военно-полевые суды и бесконечные смертные казни. И затем государственный испуг превратился в нормальное политическое состояние, в котором до сих пор пребывает власть, в котором она осуществила изменение избирательного закона, – теперь потребуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой мертвой точки.
Итак, безрелигиозное отщепенство от государства, характерное для политического мировоззрения русской интеллигенции, обусловило и ее моральное легкомыслие, и ее неделовитость в политике.
Что же следует из такого диагноза болезни? Прежде всего – и это я уже подчеркнул выше, – вытекает то, что недуг заложен глубоко, что смешно, рассуждая о нем, говорить о политической тактике. Интеллигенции необходимо пересмотреть все свое миросозерцание и в том числе подвергнуть коренному пересмотру его главный устой – то социалистическое отрицание личной ответственности, о котором мы говорили выше. С вынутием этого камня – а он должен быть вынут – рушится все здание этого миросозерцания.
При этом самое положение «политики» в идейном кругозоре интеллигенции должно измениться. С одной стороны, она перестанет быть той изолированной и независимой от всей прочей духовной жизни областью, которою она была до сих пор. Ибо в основу и политики ляжет идея не внешнего устроения общественной жизни, а внутреннего совершенствования человека. А с другой стороны, господство над всей прочей духовной жизнью независимой от нее политики должно кончиться:
К политике в умах русской интеллигенции установилось в конце концов извращенное и в корне противоречивое отношение. Сводя политику к внешнему устроению жизни – чем она с технической точки зрения на самом деле и является, – интеллигенция в то же время видела в политике альфу и омегу всего бытия своего и народного (я беру тут политику именно в широком смысле внешнего общественного устроения жизни). Таким образом, ограниченное средство превращалось во всеобъемлющую цель, – явное, хотя и постоянно в человеческом обиходе встречающееся извращение соотношения между средством и целью.
Подчинение политики идее воспитания вырывает ее из той изолированности, на которую политику необходимо обрекает «внешнее» ее понимание.
Нельзя политику, так понимаемую, свести просто к состязанию общественных сил, например, к борьбе классов, решаемой в конце концов физическим превосходством. С другой стороны, при таком понимании невозможно политике во внешнем смысле подчинять всю духовную жизнь.
Воспитание, конечно, может быть понимаемо тоже во внешнем смысле. Его так и понимает тот социальный оптимизм, который полагает, что человек всегда готов, всегда достаточно созрел для лучшей жизни и что только неразумное общественное устройство мешает ему проявить уже имеющиеся налицо свойства и возможности. С этой точки зрения «общество» есть воспитатель, хороший или дурной, отдельной личности. Мы понимаем воспитание совсем не в этом смысле «устроения» общественной среды и ее педагогического воздействия на личность. Это есть «социалистическая» идея воспитания, не имеющая ничего общего с идеей воспитания в религиозном смысле. Воспитание в этом смысле совершенно чуждо социалистического оптимизма. Оно верит не в устроение, а только в творчество, в положительную работу человека над самим собой, в борьбу его внутри себя во имя творческих задач…
Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет существовать как некая особая культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса зависят в значительной мере судьбы России и ее культуры. Можно ли дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоящий момент? Это очень трудно, но некоторые данные для ответа все-таки имеются.
Есть основание думать, что изменение произойдет из двух источников и будет носить соответственно, этому двоякий характер. Во-первых, в процессе экономического развития интеллигенция «обуржуазится», т. е. в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически-стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособлением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития России и от быстроты переработки всего ее государственного строя в конституционном духе.
Но может наступить в интеллигенции настоящий духовный переворот, который явится результатом борьбы идей. Только этот переворот и представляет для нас интерес в данном случае. Какой гороскоп можно поставить ему?
В интеллигенции началось уже глубокое брожение, зародились новые идеи, а старые идейные основы поколеблены и скомпрометированы. Процесс этот только что еще начался, и какие успехи он сделает, на чем он остановится, в настоящий момент еще нельзя сказать. Но и теперь уже можно сказать, что, поскольку русская идейная жизнь связана с духовным развитием других, дальше нас ушедших стран, процессы, в них происходящие, не могут не отражаться на состоянии умов в России. Русская интеллигенция как особая культурная категория есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только «образованный класс» и разные в нем направления.
Для духовного развития Запада нет в настоящую эпоху процесса более знаменательного и чреватого последствиями, чем кризис и разложение социализма. Социализм, разлагаясь, поглощается социальной политикой. Бентам победил Сен-Симона и Маркса. Последнее усилие спасти социализм – синдикализм – есть, с одной стороны, попытка романтического возрождения социализма, откровенного возведения его к стихийным иррациональным началам, а с другой стороны, он означает столь же откровенный призыв к варварству. Совершенно ясно, что это усилие бессильно и бесплодно. При таких условиях социализм вряд ли может оставаться для тех элементов русского общества, которые составляют интеллигенцию, живой водой их духовно-общественного бытия.
Самый кризис социализма на Западе потому не выступает так ярко, что там нет интеллигенции. Нет на Западе того чувствилища, которое представляет интеллигенция. Поэтому по России кризис социализма в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по другим странам. В этом кризисе встают те же самые проблемы, которые лежат в основе русской революции и ее перипетий. Но если наша «интеллигенция» может быть более чувствительна к кризису социализма, чем «западные» люди, то, с другой стороны, самый кризис у нас и для нас прикрыт нашей злосчастной «политикой», возрождением недобитого абсолютизма и разгулом реакции. На Западе принципиальное значение проблем и органический характер кризиса гораздо яснее.
Такой идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических директив, ни успокоительным режимом безыдейной культурной работы. Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей.
Николай Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда
Николай Александрович Бердяев
В эпоху кризиса интеллигенции и сознания свих ошибок, в эпоху переоценки старых идеологий необходимо остановиться и на нашем отношении к философии. Традиционное отношение русской интеллигенции к философии сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, и анализ этого отношения может вскрыть основные духовные черты нашего интеллигентского мира. Говорю об интеллигенции в традиционно-русском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казенщины внешней – реакционной власти и казенщины внутренней – инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют «интеллигентщиной» в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общеисторическом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды «интеллигентщины». Каково же было традиционное отношение нашей специфической, кружковой интеллигенции к философии, отношение, оставшееся неизменным, несмотря на быструю смену философских мод? Консерватизм и косность в основном душевном укладе у нас соединялись со склонностью новинкам, к последним европейским течениям, которые никогда не усваивались глубоко. То же было и в отношении к философии.
Прежде всего бросается в глаза, что отношение к философии было так же малокультурно, как и к другим духовным ценностям: самостоятельное значение философии отрицалось, философия подчинялась утилитарно-общественным целям. Исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительное, давящее господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение народу», его пользе, и интересам, духовная подавленность политическим деспотизмом, – все это вело к тому, что уровень философской, культуры оказался у нас очень низким, философские знания и философское развитые были очень мало распространены в среде нашей интеллигенции. Высокую философскую культуру можно было встретить лишь у отдельных личностей, которые, тем самым уже выделялись из мира «интеллигентщины». Но у нас было не только мало философских знаний-это беда исправимая, – у нас господствовал такой душевный уклад и такой способ оценки всего, что подлинная философия должна была остаться закрытой и непонятной, а философское творчество должно было представляться явлением мира иного и таинственного. Быть может, некоторые и читали философские книги, внешне понимали про, читанное, но внутренне так же мало соединялось с миром философского творчества, как и с миром красоты. Объясняется это не дефектами интеллекта, а направлением воли, которая создала традиционную, упорную интеллигентскую среду, принявшую в свою, плоть и кровь народническое миросозерцание и утилитарную оценку, не исчезнувшую и по сию пору. Долгое время у нас считалось почти безнравственным отдаваться философскому творчеству, в этом роде занятий видели измену народу и народному делу. Человек, слишком, погруженный в философские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих. К философскому творчеству интеллигенция относилась аскетически, требовала воздержания во имя своего бога-народа, во имя сохранения сил для борьбы с дьяволом – абсолютизмом. Это народнически-утилитарно-аскетическое отношение к философии осталось и утех интеллигентских направлений, которые по видимости преодолели народничество и отказались от элементарного утилитаризма, так как отношение это коренилось в сфере подсознательной. Психологические первоосновы такого отношения к философии, да и вообще к созиданию духовных ценностей можно выразить так: интересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества. Это одинаково верно и относительно сферы материальной, и относительно сферы духовной: к философскому творчеству русская интеллигенция относилась так же, как и к экономическому производству. И интеллигенция всегда охотно принимала идеологию, в которой центральное место отводилось проблеме распределения и равенства, а все творчество было в загоне, тут ее доверие не имело границ. К идеологии же, которая в центре ставит творчество и ценности, она относилась подозрительно, с заранее составленным волевым решением отвергнуто и изобличить. Такое отношение загубило философский талант Н. К. Михайловского, равно как и большой художественный талант Гл. Успенского. Многие воздерживались от философского и художественного творчества, так как считали это делом безнравственным с точки зрения интересов распределения и равенства, видели в этом измену народному благу. В 70-е годы было у нас даже время, когда чтение книг и увеличение знаний считалось не особенно ценным занятием и когда морально осуждались жажда просвещения. Времена этого народнического мракобесия прошли уже давно, но бацилла осталась в крови. В революционные дни опять повторилось гонение на знание, на творчество, на высшую жизнь духа. Да и до наших дней остается в крови интеллигенции все та же закваска. Доминируют все те же моральные суждения, какие бы новые слова ни усваивались на поверхности. До сих пор еще наша интеллигентная молодежь не может признать самостоятельного значения наук, философии, просвещения, университетов, до сих пор еще подчиняет интересам политики, партий, направлений и кружков. Защитников безусловного и независимого знания, знания как начала, возвышающегося над общественной злобой дня, все еще подозревают в реакционности. И этому неуважению к святыне знания немало способствовала всегда деятельность министерства народного просвещения. Политический абсолютизм и тут настолько исказил душу передовой интеллигенции, что новый дух лишь с трудом пробивается в сознание молодежи[1].
Но нельзя сказать, чтобы философские темы и проблемы были чужды русской интеллигенции. Можно даже сказать, что наша интеллигенция всегда интересовалась вопросами философского порядка, хотя и не в философской их постановке: она умудрялась даже самым практическим общественным интересам придавать философский характер, конкретное и частное она превращала в отвлеченное и общее, вопросы аграрный или рабочий представлялись ей вопросами мирового спасения, а социологические учения окрашивались для нее почти что в богословский цвет. Черта эта отразилась в нашей публицистике, которая учила смыслу жизни и была не столько конкретной и практической, сколько отвлеченной и философской даже в рассмотрении проблем экономических. Западничество и славянофильство – не только публицистические, но и философские направления. Белинский, один из отцов русской интеллигенции, плохо знал философию и не обладал философским методом мышления, но его всю жизнь мучили проклятые вопросы, вопросы порядка мирового и философского. Теми же философскими вопросами заняты герои Толстого и Достоевского. В 60-е годы философия была в загоне и упадке, презирался Юркевич, который, во всяком случае, был настоящим философом по сравнению с Чернышевским. Но характер тогдашнего увлечения материализмом, самой элементарной и низкой формой философствования, все же отражал интерес к вопросам порядка философского и мирового. Русская интеллигенция хотела жить и определять свое отношение к самым практическим и прозаическим сторонам общественной жизни на основании материалистического катехизиса и материалистической метафизики. В 70-е годы интеллигенция увлекалась позитивизмом, и ее властитель дум – Н. К. Михайловский был философом по интересам мысли и по размаху мысли, хотя без настоящей школы и без настоящих знаний. К П. Л. Лаврову, человеку больших знаний и широты мысли, хотя и лишенному творческого таланта, интеллигенция обращалась за философским обоснованием ее революционных социальных стремлений. И Лавров давал философскую санкцию стремлениям молодежи, обычно начиная свое обоснование издалека, с образования туманных масс. У интеллигенции всегда были свои кружковые, интеллигентские философы и своя направленская философия, оторванная от мировых философских традиций. Эта доморощенная и почти сектантская философия удовлетворяла глубокой потребности нашей интеллигентской молодежи иметь «миросозерцание», отвечающее на все основные вопросы жизни и соединяющее теорию с общественной практикой. Потребность в целостном общественно-философском миросозерцании – основная потребность нашей интеллигенции в годы юности, и властителями ее дум становились лишь те, которые из общей теории выводили санкцию ее освободительных общественных стремлений, ее демократических инстинктов, ее требований справедливости во что бы то ни стало. В этом отношении классическими «философами» интеллигенции были Чернышевский и Писарев в 60-е годы, Лавров и Михайловский в 70-е годы. Для философского творчества, для духовной культуры нации писатели эти почти ничего не давали, но они отвечали потребности интеллигентной молодежи в миросозерцании и обосновывали теоретически жизненные стремления интеллигенции; до сих пор еще они остаются интеллигентскими учителями и с любовью читаются в эпоху ранней молодости. В 90-е годы с возникновением марксизма очень повысились умственные интересы интеллигенции, молодежь начала европеизироваться, стала читать научные книги, исключительно эмоциональный народнический тип стал изменяться под влиянием интеллектуалистической струи. Потребность в философском обосновании своих социальных стремлений стала удовлетворяться диалектическим материализмом, а потом неокантианством, которое широкого распространения не получило ввиду своей философской сложности. «Философом» эпохи стал Бельтов-Плеханов, который вытеснил Михайловского из сердец молодежи. Потом на сцену появился Авенариус и Мах, которые провозглашены были философскими спасителями пролетариата, и гг. Богданов и Луначарский сделались «философами» социал-демократической интеллигенции. С другой стороны возникли течения идеалистические и мистические, но то была уж совсем другая струя в русской культуре. Марксистские победы над народничеством не привели к глубокому кризису природы русской интеллигенции, она осталась староверческой и народнической и в европейском одеянии марксизма. Она отрицала себя в социал-демократической теории, но сама эта теория была У нас лишь идеологией интеллигентской кружковщины. И отношение к философии осталось прежним, если «не считать того критического течения в марксизме, которое потом перешло в идеализм, но широкой популярности среди интеллигенции не имело.
Интерес широких кругов интеллигенции к философии исчерпывался потребностью в философской санкции ее общественных настроений и стремлений, которые от философской работы мысли не колеблются и не переоцениваются, остаются незыблемыми, как догматы. Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна или ложна, например, теория знания Маха, ее интересует лишь то, благоприятна или нет эта теория идее социализма, послужит ли она благу и интересам пролетариата; ее: интересует не то, возможна ли метафизика и существуют ли метафизические истины, а то лишь, не повредит. ли метафизика интересам народа, не отвлечет ли от борьбы с самодержавием и от служения пролетариату. Интеллигенция готова принять на веру всякую философию под тем условием, чтобы она санкционировала ее социальные идеалы, и без критики отвергнет всякую, самую глубокую и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям, и идеалам. Вражда к идеалистическим и религиозно-мистическим течениям, игнорирование оригинальной и полной творческих задатков русской философии основаны на этой «католической» психологии. Общественный утилитаризм в оценках всего, поклонение «народу» – то крестьянству, то пролетариату, – все это остается моральным догматом большей части интеллигенции. Она: начала даже Канта читать потому только, что критический марксизм обещал на Канте обосновать социалистический идеал. Потом принялась даже за с трудом перевариваемого Авенариуса, так как отвлеченнейшая, «чистейшая» философия Авенариуса без его ведома и без его вины представилась вдруг философией социал-демократов «большевиков».
В этом своеобразном отношении к философии сказалась, конечно, вся наша малокультурность, примитивная недифференцированность, слабое сознание безусловной ценности истины и ошибка морального суждения. Вея русская история обнаруживает слабость самостоятельных умозрительных интересов. Но сказались тут и задатки, черт положительных и ценных-жажда целостного миросозерцания, в котором теория слита с жизнью, жажда веры. Интеллигенция не без основания относится отрицательно и подозрительно к отвлеченному академизму, к рассечению живой истины, и в ее требовании целостного отношения к миру и жизни можно разглядеть черту бессознательной религиозности. И необходимо резко разделить «десницу» и «шуйцу» в традиционной психологии интеллигенции. Нельзя идеализировать эту слабость теоретических философских интересов, этот низкий уровень философской культуры, отсутствие серьезных философских знаний и неспособность к серьезному философскому мышлению. Нельзя идеализировать и эту почти маниакальную склонность оценивать философские учения и философские истины по критериям политическим и утилитарным, эту неспособность рассматривать явления философского и культурного творчества по существу, с точки зрения абсолютной их ценности. В данный час истории интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике. К новому сознанию мы можем перейти лишь через покаяние и самообличение. В реакционные 80-е годы с самовосхвалением говорили о наших консервативных, истинно-русских добродетелях, и Вл. Соловьев совершил важное дело, обличая эту часть общества, призывая, к самокритике и покаянию, к раскрытию наших болезней. Потом наступили времена, когда заговорили о наших радикальных, тоже истиннорусских добродетелях. В эти времена нужно призывать другую часть общества к самокритике, покаянию и обличению болезней. Нельзя совершенствоваться, если находишься в упоения от собственных великих свойств, – от этого упоения меркнут и подлинно большие достоинства.
С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть школа любви к истине, прежде всего к истине. Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья. Она шла на соблазн великого инквизитора, который требовал отказа от истины во имя-счастья людей. Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливее; долой истину, если она стоит на пути заветного клича «долой самодержавие». Оказалось, что ложно направленное человеколюбие убивает боголюбие, так как любовь к истине, как и к красоте, как и ко всякой абсолютной ценности, есть выражение любви к Божеству. Человеколюбие это было ложным, так как не было основано на настоящем уважении к человеку, к равному и родному по Единому Отцу; оно было, с одной стороны, состраданием и жалостью к человеку из «народа», а с другой стороны, превращалось в человекопоклонство и народопоклонство. Подлинная же любовь к людям есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге, не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного Божьего образа в каждом человеке. Во имя ложного человеколюбия и народолюбия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям метод заподозривания и сыска. По существу в область философии никто и не входил; народникам запрещала входить ложная любовь к крестьянству, марксистам – ложная любовь к пролетариату. Но подобное отношение к крестьянству и пролетариату было недостатком уважения к абсолютному значению человека, так как это абсолютное значение основано на божеском, а не на человеческом, на истине, а не на интересе. Авенариус оказался лучше Канта или Гегеля не потому, что в философии Авенариуса увидели истину, а потому, что вообразили, будто Авенариус более благоприятствует социализму. Это и значит, что интерес поставлен выше истины, человеческое выше божеского. Опровергать философские теории на том основании, что они не благоприятствуют народничеству или социал-демократии, значит презирать истину. Философа, заподозренного в «реакционности» (а что только у нас не называется «реакционным»!), никто не станет слушать, так как сама по себе философия и истина мало кого интересуют. Кружковой отсебятине г. Богданова всегда отдадут предпочтение перед замечательным и оригинальным русским философом Лопатиным. Философия Лопатина требует серьезной умственной работы, и из нее не вытекает никаких программных лозунгов, а к философии Богданова можно отнестись исключительно эмоционально, и она вся укладывается в пятикопеечную брошюру. В русской интеллигенции рационализм сознания сочетался с исключительной эмоциональностью и с слабостью самоценной умственной жизни.
И к философии, как и к другим сферам жизни, у нас. преобладало демагогическое отношение: споры философских направлений в интеллигентских кружках носили демагогический характер и сопровождались недостойным поглядыванием по сторонам с целью узнать, кому что понравится и каким инстинктам что соответствует. Эта демагогия деморализует душу нашей интеллигенции и создает тяжелую атмосферу. Развивается моральная трусость, угасает любовь к истине и дерзновение мысли. Заложенная в душе русской интеллигенции жажда справедливости на земле, священная в своей основе жажда, искажается. Моральный пафос вырождается в мономанию. «Классовые» объяснения разных идеологий и философских учений превращаются у марксистов в какую-то болезненную навязчивую идею. И эта мономания заразила у нас большую часть «левых». Деление философии на «пролетарскую» и «буржуазную», на «левую» и «правую», утверждение двух истин, полезной и вредной, – все это признаки умственного, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложению общеобязательного универсального сознания, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры.
Русская история создала интеллигенцию с таким душевным укладом, которому противен был объективизм и универсализм, при котором не могло быть настоящей любви к объективной, вселенской истине и ценности. К объективным идеям, к универсальным нормам русская интеллигенция относилась недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают бороться с самодержавием и служить «народу», благо которого ставилось выше вселенской истины и добра. Это роковое свойство русской интеллигенции, выработанное ее печальной историей, свойство, за которое должна ответить и наша историческая власть, калечившая русскую жизнь и роковым образом толкавшая интеллигенцию исключительно на борьбу против политического и экономического гнета, привело к тому, что в сознании русской интеллигенции европейские философские учения воспринимались в искаженном виде, приспособлялись к специфически интеллигентским интересам, а значительнейшие явления философской мысли совсем игнорировались. Искажен и к домашним условиям приспособлен был у нас и научный позитивизм, и экономический материализм, и эмпириокритицизм, и неокантианство, и ницшеанство.
Научный позитивизм был воспринят русской интеллигенцией совсем превратно, совсем ненаучно и играй совсем не ту роль, что в Западной Европе. К «науке» и «научности» наша интеллигенция относилась с почтением и даже с идолопоклонством, но под наукой понимала особый материалистический догмат, под научностью особую веру, и всегда догмат и веру, изобличающую зло самодержавия, ложь буржуазного мира, веру, спасающую народ или пролетариат. Научный позитивизм, как и все западное, был воспринят в самой крайней форме и превращен не только в примитивную метафизику, но и в особую религию, заменяющую все прежние религии. А сама наука и научный дух не привились у нас, были восприняты не широкими массами интеллигенции, а лишь немногими. Ученые никогда не пользовались у нас особенным уважением и популярностью, и если они были политическими индифферентистами, то сама наука их считалась не настоящей. Интеллигентная молодежь начинала обучаться науке по Писареву, по Михайловскому, по Бельтову, по своим домашним, кряковым «ученым» и «мыслителям». О настоящих же ученых многие даже не слыхали. Дух научного позитивизма сам по себе не прогрессивен и не реакционен, он просто заинтересован в исследовании истины. Мы же под научным духом всегда понимали политическую прогрессивность и социальный радикализм. Дух научного позитивизма сам по себе не исключает никакой метафизики и никакой религиозной веры, но также и не утверждает никакой метафизики и никакой веры[2]. Мы же под научным позитивизмом всегда понимали радикальное отрицание всякой метафизики и всякой религиозной веры, или, точнее, научный позитивизм был для нас тождествен с материалистической метафизикой и социально-революционной верой. Ни один мистик, ни один верующий не может отрицать научного позитивизма и науки. Между самой мистической религией и самой позитивной наукой не может существовать никакого антагонизма, так как сферы их компетенции совершенно разные. Религиозное и метафизическое сознание, действительно отрицает единственность науки и верховенство научного, познания в духовной жизни, но сама-то наука может лишь выиграть от такого ограничения ее области. Объективные и научные элементы позитивизма были нами плохо восприняты, но тем страстнее, были восприняты те элементы позитивизма, которые, превращали его в веру, в окончательное миропонимание. Привлекательной для русской интеллигенции была, не объективность позитивизма, а его субъективность обоготворявшая человечество. В 70-е годы позитивизм, был превращен Лавровым и Михайловским в «субъективную социологию», которая стала доморощенной кружковой философией русской интеллигенции. Вл. Соловьев очень остроумно сказал, что русская интеллигенция всегда мыслит странным силлогизмом: человек. произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. И научный позитивизм был воспринято русской интеллигенцией исключительно в смысле этого силлогизма. Научный позитивизм был лишь орудием для утверждения царства социальной справедливости и для окончательного истребления тех метафизические и религиозных идей, на которых, по догматическому предположению интеллигенции, покоится царство зла. Чичерин был гораздо более ученым человеком и в научно-объективном смысле гораздо большим позитивистом, чем Михайловский, что не мешало ему быть метафизиком-идеалистом и даже верующим христианином. Но наука Чичерина была эмоционально далека и противна русской интеллигенции, а наука Михайловского была близка и мила. Нужно, наконец, признать, что «буржуазная» наука и есть именно настоящая, объективная наука, «субъективная» же наука наших народников и «классовая» наука наших марксистов имеют больше общего с особой формой веры, чем с наукой. Верность вышесказанного подтверждается всей историей наших интеллигентских идеологий: и материализмом 60-х годов, и субъективной социологией 70-х и экономическим материализмом на русской почве.
Экономический материализм был так же неверно воспринят и подвергся таким же искажениям на русской почве, как и научный позитивизм вообще. Экономический материализм есть учение по Преимуществу Объективное, оно ставите центре социальной жизни общества объективное начало производства, а не субъективное начало распределения. Учение это видит сущность человеческой истории в творческом процессе победы над природой, в экономическом созидании и организации производительных сил. Весь социальный строй с присущими ему формами распределительной справедливости, все субъективные настроения социальных групп подчинены этому объективному производственному началу. И нужно сказать, что в объективно-научной стороне марксизма было здоровое зерно, которое утверждал и развивал самый культурный и ученый из наших марксистов – П. Б. Струве. Вообще же экономический материализм и марксизм был у нас понят превратно, был воспринят «субъективно» и приспособлен к традиционной психологии интеллигенции. Экономический материализм утратил свой объективный характер на русской почве, производственно-созидательный момент был отодвинут на второй план, и на первый план выступила субъективно-классовая сторона социал-демократизма. Марксизм подвергся у нас народническому перерождению, экономический материализм превратился в новую форму «субъективной социологии». Русскими марксистами овладела исключительная любовь к равенству и исключительная вера в близость социалистического конца и возможность достигнуть этого конца в России чуть ли не раньше, чем на Западе. Момент объективной истины окончательно потонул в моменте субъективном, в «классовой» точке зрения и классовой психологии. В России философия экономического материализма превратилась исключительно в «классовый субъективизме, даже в классовую пролетарскую мистику. В свете подобной философии сознание не могло быть обращено на объективные условия развития России, а необходимо было поглощено достижением отвлеченного максимума для пролетариата, максимума с точки зрения интеллигентской кружковщины, не желающей знать никаких объективных истин. Условия русской жизни делали невозможным процветание объективной общественной философии и науки. Философия и наука понимались субъективно-интеллигентски.
Неокантианство подверглось у нас меньшему искажению, так как пользовалось меньшей популярностью и распространением. Но все же был период, когда мы слишком исключительно хотели использовать неокантианство для критического реформирования марксизма и для нового обоснования социализма. Даже объективный и научный Струве в первой своей книге прегрешил слишком социологическим истолкованием теории познания Риля, дал гносеологизму Риля благоприятное для экономического материализма истолкование. А Зиммеля одно время у нас считали почти марксистом, хотя с марксизмом он имеет мало общего. Потом неокантианский и неофихтеанский дух стал для нас орудием освобождения от марксизма и позитивизма и способом выражения назревших идеалистических настроений. Творческих же неокантианских традиций в русской философии не было, настоящая русская философия шла иным путем, о котором речь будет ниже. Справедливость требует признать, что интерес к Канту, к Фихте, к германскому идеализму повысил наш философско-культурный уровень и послужил мостом к высшим формам философского сознания.
Несравненно большему искажению подвергся у нас эмпириокритицизм. Эта отвлеченнейшая и утонченнейшая форма позитивизма, выросшая на традициях немецкого критицизма, была воспринята чуть ли не как новая философия пролетариата, с которой гг. Богданов, Луначарский и др. признали возможным обращаться по-домашнему, как со своей собственностью. Гносеология Авенариуса настолько обща, формальна и отвлечен» на, что не предрешает никаких метафизических вопросов. Авенариус прибег даже к буквенной символике, чтобы не связаться ни с какими онтологическими положениями. Авенариус страшно боится всяких остатков материализма, спиритуализма и пр. Биологический материализм так же для него неприемлем, как и всякая форма онтологизма. Кажущийся биологизм системы Авенариуса не должен вводить в заблуждение, это чисто формальный и столь всеобщий биологизм, что его мог бы принять любой «мистик». Один из самых умных эмпириокритицистов, Корнелиус, признал даже возможным поместить в числе преднаходимого божество. Наша же марксистская интеллигенция восприняла и истолковала эмпириокритицизм Авенариуса исключительно в духе биологического материализма, так как «то оказалось выгодным для оправдания материалистического понимания истории. Эмпириокритицизм стал не только философией социал-демократов, но даже социал-демократов «большевиков». Бедный Авенариус и не подозревал, что в споры русских интеллигентов «большевиков» и «меньшевиков» будет впутано его невинное и далекое от житейской борьбы имя. «Критика чистого опыта» вдруг оказалась чуть ли не «символической книгой» революционного социал-демократического вероисповедания. В широких кругах марксистской интеллигенции вряд ли читали Авенариуса, так как читать его не легко, и многие, вероятно, искренно думают, что Авенариус был умнейшим «большевиком». В действительности же Авенариус так же мало имел отношения к социал-демократии, как и любой другой немецкий философ, и его философией с не меньшим успехом могла бы воспользоваться, например, либеральная буржуазия и даже оправдывать Авенариусом свой уклон «вправо». Главное же нужно сказать, что если бы Авенариус был так прост, как это представляется гг. Богданову, Луначарскому и др., если бы его философия была биологическим материализмом с головным мозгом в центре, то ему не нужно было бы изобретать разных систем С, освобожденных от всяких предпосылок, и не был бы он признан умом сильным, железно-логическим, как это теперь приходится признать даже его противникам[3]. Правда, эмпириокритические марксисты не называют уже себя материалистами, уступая материализм таким отсталым «меньшевикам», как Плеханов и др., но сам эмпириокритицизм приобретает у них окраску материалистическую и метафизическую. Г. Богданов усердно проповедует примитивную метафизическую отсебятину, всуе поминая имена Авенариуса, Маха и др. авторитетов, а г. Луначарский выдумал даже новую религию пролетариата, основываясь на том же Авенариусе. Европейские философы, в большинстве случаев отвлеченные и слишком оторванные от жизни, и не подозревают, какую роль они играют в наших кружковых, интеллигентских спорах и ссорах, и были бы очень изумлены, если бы им рассказали, как их тяжеловесные думы превращаются в легковесные брошюры.
Но уж совсем печальная участь постигла у нас Ницше. Этот одинокий ненавистник всякой демократии подвергся у нас самой беззастенчивой демократизации. Ницше был растаскан по частям, всем пригодился, каждому для своих домашних целей. Оказалось вдруг, что Ницше, который так и умер, думая, что он никому не нужен и одиноким остается на высокой горе, что Ницше очень нужен даже для освежения и оживления марксизма. С одной стороны у нас зашевелились целые стада ницшеанцев-индивидуалистов, а с другой стороны Луначарский приготовил винегрет из Маркса, Авенариуса и Ницше, который многим пришелся по вкусу, показался пикантным. Бедный Ницше и бедная русская мысль! Каких, только блюд не подают голодной русской интеллигенции, и все она приемлет, всем питается, в надежде, что будет побеждено зло самодержавия и будет освобожден народ. Боюсь, что и самые метафизические и самые мистические учения будут у нас также приспособлены для. домашнего употребления. А зло русской жизни, зло деспотизма и рабства не будет этим побеждено, так как оно не побеждается искаженным усвоением разных крайних учений. И Авенариус, и Ницше, да и сам Маркс, очень мало нам помогут в борьбе с нашим вековечным злом, исказившим нашу природу и сделавшим нас столь невосприимчивыми к объективной истине. Интересы теоретической мысли у нас были принижены, но самая практическая борьба со злом всегда принимала характер исповедания отвлеченных теоретических учений. Истинной у нас называлась та философия, которая помогала бороться с самодержавием во имя социализма, а существенной стороной самой борьбы признавалось обязательное исповедание такой «истинной» философии.
Те же психологические особенности русской интеллигенции привели к тому, что она просмотрела оригинальную русскую философию, равно как и философское содержание великой русской литературы. Мыслитель такого калибра, как Чаадаев, совсем не был замечен и не был понят даже теми, которые о нем упоминали. Казалось, были все основания к тому, чтобы Вл. Соловьева признать нашим национальным философом, чтобы около него создать национальную философскую традицию[4] http://www.vehi.net/vehi/berdyaev.html – _ftn4. Ведь не может же создаться эта традиция вокруг Когена, Виндельбанда или другого какого-нибудь немца, чуждого русской душе. Соловьевым могла бы гордиться философия любой европейской страны. Но русская интеллигенция Вл. Соловьева не читала и не знала, не признала его своим. Философия Соловьева глубока и оригинальна, но она не обосновывает социализма, она чужда и народничеству и марксизму, не может быть удобно превращена в орудие борьбы с самодержавием и потому не давала интеллигенции подходящего «мировоззрения», оказалась чуждой, более далекой, чем «марксист» Авенариус, «народник» Ог. Конт и др. иностранцы. Величайшим русским метафизиком был, конечно, Достоевский, но его метафизика была совсем не по плечу широким слоям русской интеллигенции, он подозревался во всякого рода «реакционностях», да и действительно давал к тому повод. С грустью нужно сказать, что метафизический дух великих русских писателей и не почуяла себе родным русская интеллигенция, настроенная позитивно. И остается открытым, кто национальнее, писатели эти или интеллигентский мир в своем господствующем сознании. Интеллигенция и Л. Толстого не признала настоящим образом своим, но примирялась с ним за его народничество и одно время подверглась духовному влиянию толстовства. В толстовстве была все та же вражда к высшей философии, к творчеству, признание греховности этой роскоши.
Особенно печальным представляется мне упорное нежелание русской интеллигенции познакомиться с зачатками русской философии. А русская философия не исчерпывается таким блестящим явлением, как Вл. Соловьев. Зачатки новой философии, преодолевающие европейский рационализм на почве высшего сознания, можно найти уже у Хомякова. В стороне стоит довольно крупная фигура Чичерина, у которого многому можно было бы поучиться. Потом Козлов, кн. С. Трубецкой, Лопатин, Н. Лосский, наконец, мало известный В. Несмелов – самое глубокое явление, порожденное оторванной и далекой интеллигентскому сердцу почвой духовных академий. В русской философии есть, конечно, много оттенков, но есть и что-то общее, что-то своеобразное, образование какой-то новой философской традиции, отличной от господствующих традиций современной европейской философии. Русская философия в основной своей тенденции продолжает великие философские традиции прошлого, греческие и германские, в ней жив еще дух Платона и дух классического германского идеализма. Но германский идеализм остановился на стадии крайней отвлеченности и крайнего рационализма, завершенного Гегелем. Русские философы, начиная с Хомякова, дали острую критику отвлеченного идеализма и рационализма Гегеля и переходили не к эмпиризму, не к неокритицизму, а к конкретному идеализму, к онтологическому реализму, к мистическому восполнению разума европейской философии, потерявшего живое бытие. И в этом нельзя не видеть творческих задатков нового пути для философии. Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру. Русская философия не давала до сих пор «мировоззрения» в том смысле, какой только и интересен для русской интеллигенции, в кружковом смысле. К социализму философия эта прямого отношения не имеет, хотя кн. С. Трубецкой и называет свое учение о соборности сознания метафизическим социализмом; политикой философия эта в прямом смысле слова не интересуется, хотя у лучших ее представителей и была скрыта религиозная жажда царства Божьего на земле. Но в русской философии есть черты, роднящие ее с русской интеллигенцией, – жажда целостного миросозерцания, органического слияния истины и добра, знания и веры. Вражду к отвлеченному рационализму можно найти даже у академически-настроенных русских философов. И я думаю, что конкретный идеализм, связанный с реалистическим отношением к бытию, мог бы стать основой нашего национального философского творчества и мог бы создать национальную философскую традицию, в которой мы так нуждаемся. Быстросменному увлечению модными; европейскими учениями должна быть противопоставлена традиция, традиция же должна быть и универсальной, и национальной, – тогда лишь она плодотворна для культуры. В философии Вл. Соловьева и родственных ему по духу русских философов живет универсальная традиция, общеевропейская и общечеловеческая, но некоторые тенденции этой философии могли бы создать и традицию национальную. Это привело бы не к игнорированию и не к искажению всех значительных явлений европейской мысли, игнорируемых и искажаемых нашей космополитически-настроенной интеллигенцией, а к более глубокому и критическому проникновению в сущность этих явлений. Нам нужна не кружковая отсебятина, а серьезная философская культура, универсальная и вместе с тем национальная. Право же, Вл. Соловьев и кн. С. Трубецкой-лучшие европейцы, чем гг. Богданов и Луначарский; они были носителями мирового философского духа и вместе с тем национальными философами, так как заложили основы философии конкретного идеализма. Исторически выработанные предрассудки привели русскую интеллигенцию к тому настроению, при котором она не могла увидев в русской философий обоснования своего правдоискательства. Ведь интеллигенция наша дорожила свободой и исповедовала философию, в которой нет места, для свободы; дорожила личностью и исповедовала философию, в которой нет места для личности; дорожи Лаемы слом прогресса и исповедовала философию, в которой нет места для смысла прогресса; дорожила соборностью человечества и исповедовала философию, в которой нет места для соборности человечества; дорожила справедливостью и всякими высокими вещами и исповедовала философию, в которой нет места для справедливости и нет места для чего бы то ни было высокого. Это почти сплошная, выработанная всей нашей историей аберрация сознания. Интеллигенция, в лучшей своей части, фанатически была готова на самопожертвование и не менее фанатически исповедовала материализм, отрицающий всякое самопожертвование; атеистическая философия, которой всегда увлекалась революционная интеллигенция, не могла санкционировать никакой святы ни, между тем как интеллигенция самой этой философии придавала характер священный и дорожила своим, материализмом и своим атеизмом фанатически, почти католически. Творческая философская мысль должна устранить эту аберрацию сознания и вывести его из тупика. Кто знает, какая философия станет у нас модной завтра, – быть может, прагматическая философия. Джемса и Бергсона, которых используют подобно Авенариусу и др., быть может, еще какая-нибудь новинка. Но от этого мы не подвинемся ни на шаг вперед в нашем философском развитии.
Традиционная вражда русской интеллигенции к философской работе мысли сказалась и на характере новейшей русской мистики. «Новый путь», журнал религиозных исканий и мистических настроений, всего более страдал отсутствием ясного философского сознания, относился к философии почти с презрением. Замечательнейшие наши мистики – Розанов, Мережковский, Вяч. Иванов хотя и дают богатый материал для новой постановки философских тем, но сами отличаются антифилософским духом, анархическим отрицанием философского разума. Еще Вл. Соловьев, соединявший в своей личности мистику с философией, заметил, что русским свойственно принижение разумного начала. Прибавлю, что нелюбовь к объективному разуму одинаково можно найти и в нашем «правом» лагере, и в нашем «левом» лагере. Между тем как русская мистика, по существу своему очень ценная, нуждается в философской объективации и нормировке в интересах русской культуры. Я бы сказал, что дионисическое начало мистики необходимо сочетать с аполлоническим началом философии. любовь к философскому исследованию истины необходимо привить и русским мистикам, и русским интеллигентам-атеистам. Философия есть один из путей объективирования мистики; высшей же и полный формой такого объективирования может быть лишь положительная религия. К русской мистике русская интеллигенция относилась подозрительно и враждебно, не в последнее время начинается поворот, и есть опасение, чтобы в повороте этом не обнаружилась родственная вражда к объективному разуму, равно как и склонность самой мистики утилизировать себя для традиционных общественных целей.
Интеллигентское сознание требует радикальной реформы, и очистительный огонь философии призван сыграть в этом важном деле не малую роль. Все историческое и психологические данные говорят за то, что русская интеллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза, удовлетворяющего положительно ценную потребность интеллигенции в органическом соединении теории и практики, «правды-истины» и «правды-справедливости». Но сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее[5]. Это внесло бы освежающую струю в наше культурное творчество. Ведь философия есть орган самосознания человеческого духа, и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборный. Но эта сверхиндивидуальность и соборность философского сознания осуществляется лишь на почве традиции универсальной И национальной. Укрепление такой традиции должно способствовать культурному возрождению России. Это давно желанное и радостное возрождение, пробуждение дремлющих духов требует не только политического освобождения, но и освобождения от гнетущей власти политики, той эмансипации мысли, которую до сих пор трудно было встретить у наших политических освободителей[6]. Русская интеллигенция была такой, какой ее создала русская история, в ее психическом укладе отразились грехи нашей болезненной истории, нашей исторической власти и вечной нашей реакции. Застаревшее самовластие исказило душу интеллигенции, поработило ее не только внешне, но и внутренне, так как отрицательно определило все оценки интеллигентской души. Но недостойно свободных существ во всем всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать. Виновата и сама интеллигенция: атеистичность ее сознания есть вина ее воли, она сама избрала путь человекопоклонства и этим исказила свою душу, умертвила в себе инстинкт истины. Только сознание виновности нашей умопостигаемой воли может привести нас к новой жизни. Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, т. е. возложим на себя ответственность и перестанем во всем винить внешние силы. Тогда народится новая душа интеллигенции.
Александр Изгоев. Об интеллигентной молодежи (Заметки об ее быте и настроениях)
I
Александр Самойлович Изгоев (Арон Соломонович Ланде)
В Париже мне пришлось довольно близко наблюдать одну очень хорошую семью русских революционеров. Муж кончал курс «Медицинской школы» и, в отличие от большинства своих русских товарищей, работал много, и добросовестно, как того требуют французские профессора. Жена – очень энергичная, интеллигентная женщина, решительная и боевая, из разряда тех русских женщин, которых боятся из-за их беспощадного, не знающего компромиссов языка.
Они были социалистами-революционерами, и их убеждения не расходились с их делом, что они и доказали в революционное время: и теперь оба, муж и жена, несут суровую административную кару. В Париже, когда я их знал, у них был десятилетний мальчик, живой и умный, которого они очень любили. Ему отдавали они свое свободное время, остававшееся от занятий и общественной деятельности в русской колонии, где они по праву занимали одно из первых мест. Отец и мать много работали над развитием своего сына, которого воспитывали в направлении своих взглядов: рационалистических, революционных и социалистических. Мальчик присутствовал при всех разговорах взрослых и в десять лет был прекрасно осведомлен и о русском царизме, и о жандармах, и о революционерах. Нередко он вмешивался, в разговоры взрослых и поражал своими резкими суждениями, чем, видимо, радовал своих родителей. Воспитание велось так, что мальчик был с родителями «на товарищеской ноге». О Боге, о религии, о попах мальчик слышал, конечно, только обычные среди интеллигенции речи.
И вот однажды отец мальчика сделал открытие, которое страшно поразило его и перевернуло вверх дном все его представления о своем сыне. Он увидел, как на улице его сын подошел к католическому священнику, поцеловал у него руку и получил благословение. Отец стал наблюдать за сыном. Скоро он подметил, как тот, отпросившись играть со своими французскими приятелями, забежал в католический храм и там горячо молился. Отец решил переговорить с сыном. Мальчик после некоторого запирательства рассказал все. На вопрос, почему же он проделывал все это тайком, мальчик чистосердечно признался, что не желал огорчать папу и маму. Родители были действительно гуманными и разумными людьми, и они не стали насильственно искоренять в своем мальчике католические симпатии.
Чем кончилась эта история, не знаю. В России мне довелось следить за деятельностью этой четы лишь по газетам, сообщавшим маршрут их невольных передвижений. Что сталось с их сыном, мне неизвестно. Думаю, что едва ли наивная католическая вера мальчика могла надолго устоять против разъедающего анализа родителей-рационалистов, и если не в Париже, то, вероятно, впоследствии в России мальчик вошел в революционную веру своих отцов. А быть может, произошло что-либо иное…
Я рассказал эту историю лишь как яркое, хотя и парадоксальное свидетельство, иллюстрирующее один почти всеобщий для русской интеллигенции факт: родители не имеют влияния на своих детей. Заботятся ли они о «развитии» своих детей или нет, предоставляя их прислуге и школе, знакомят ли они детей со своим мировоззрением или скрывают его, обращаются ли с детьми начальственно или «по-товарищески», прибегают ли к авторитету и окрику или изводят детишек длинными, нудными научными объяснениями, – результат получается один и тот же. Настоящей, истинной связи между родителями и детьми не устанавливается, и даже очень часто наблюдается более или менее скрытая враждебность: Душа ребенка развивается «от противного», отталкиваясь от души своих родителей. Русская интеллигенция бессильна создать свою семейную традицию, она не в состоянии построить свою семью.
Жалобы на отсутствие «Идейной преемственности» сделались у нас общим местом именно в устах радикальных публицистов. Шелгунов и публицисты «Дела» дулись на «семидесятников», пренебрегавших заветами «шестидесятников». Н. К. Михайловский немало горьких слов насказал по адресу восьмидесятников и последующих поколений, «отказавшихся от наследства отцов своих». Но и этим отказавшимся от наследства детям в свою очередь пришлось негодовать на своих детей, не желающих признавать идейной преемственности.
В этих горьких жалобах радикальные публицисты никогда не могли добраться до корня, до семьи, отсутствия семейных традиций, отсутствия у нашей интеллигентной семьи всякой воспитательной силы. Н. К. Михайловский, следуя обычному шаблону, объяснял разрыв между отцами и детьми главным образом правительственными репрессиями, делающими недоступной для детей работу предшествующих поколений. Надо ли говорить, насколько поверхностно такое объяснение.
В опубликованной недавно пр<иват>-доц<ентом> М. А. Членовым «Половой переписи московского студенчества» имеется несколько любопытных данных о семейных отношениях нашего студенчества. Большинство опрошенных студентов принадлежат к интеллигентным семьям (у 60 процент<ов> отцы получили образование не ниже среднего).
При опросе по меньшей мере половина студентов удостоверили отсутствие всякой духовной связи с семьей.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что и у тех студентов, которые признали наличность близости с родителями, она ни в чем серьезном не выражается.
Например, на вопрос, имела ли семья влияние на выработку этических идеалов, эстетических вкусов, товарищества и т. д., из 2150 опрошенных ответ дали только 1706 студентов. Из них 56 % отвергли влияние семьи и только 44 % признали его наличность.
Из 1794 студентов, ответивших на вопрос – имела ли семья влияние на выработку определенного мировоззрения, 58 % дали ответ отрицательный и 42 % – положительный.
На вопрос, имела ли семья влияние на сознательный выбор факультета, ответили 2061 студент. Только 16 % ответивших указали, что такое влияние было, а 84 % его отрицали. Две трети студентов отвергли влияние семьи на выработку уважения к женщине.
Три четверти ответивших студентов указали, что семья совершенно не руководила их чтением. А из той четверти, которая признала наличность такого руководства, 73 % отметили, что она наблюдалась лишь в детском возрасте, и только у остальной горсти (у 172 студентов из 2094) семья руководила чтением и в юношеском возрасте. У русской интеллигенции – семьи нет. Наши дети воспитательного влияния семьи не знают, в крепких семейных традициях не почерпают той огромной силы, которая выковывает, например, идейных вождей английского народа. Переберите в памяти наиболее известных наших прогрессивных общественных, литературных и научных деятелей, особенно из разночинцев, и поставьте вопрос, много ли среди них найдется таких, которые бы создали крепкие прогрессивными традициями семьи, где бы дети продолжали дело отцов своих. Мне кажется, что на этот вопрос возможен лишь один ответ: таких семей, за редчайшими разве исключениями (которых я припомнить не могу), нет. Я не принадлежу к поклонникам ни славянофилов, ни русского дворянства, роль которого кончена и которое обречено на быструю гибель, но нельзя же скрыть, что крепкие идейные семьи (например, Аксаковы, Хомяковы, Самарины) в России были пока только среди славянофильского дворянства. Там, очевидно, были традиции, было то единственное, что воспитывает, существовали положительные ценности, тогда как в прогрессивных семьях этого не было и дети талантливейших наших прогрессивных писателей, сатириков, публицистов начинали с того, что отвертывались от своих отцов.
Наша семья, и не только консервативная, но и передовая, семья рационалистов, поражает не одним своим бесплодием, неумением дать нации культурных вождей. Есть за ней грех куда более крупный. Она неспособна сохранить даже просто физические силы детей, предохранить их от раннего растления, при котором нечего и думать о каком-либо прогрессе, радикальном переустройстве общества и прочих высоких материях.
Огромное большинство наших детей вступает в университет уже растленными. Кто из нас не знает, что в старших классах гимназий уже редко найдешь мальчика, не познакомившегося либо с публичным домом, либо с горничной. Мы так привыкли к этому факту, что перестаем даже сознавать весь ужас такого положения, при котором дети не знают детства и не только истощают свои силы, но и губят в ранней молодости свою душу, отравляют воображение, искажают разум. Не говорю об Англии и Германии, где, по общим признаниям, половая жизнь детей культурных классов течет нормально и где развращение прислугой детей представляет не обычное, как у нас, но исключительное явление. Даже во Франции, с именем которой у нас соединилось представление о всяких половых излишествах, даже там, в этой стране южного солнца и фривольной литературы, в культурных – семьях нет такого огромного количества половых скороспелок, как в северной, холодной России…
По данным упоминавшейся уже анкеты из 967 студентов, указавших точное время своих первых половых сношений, 61 % юношей начали их не позднее 17 лет, причем 53 мальчика начали их в возрасте до 12 лет, 152 ребенка в возрасте до 14 лет. Когда недавно в одном журнале появились рассказы, описывавшие «падения» восьми-девятилетних мальчиков, в печати нашей пронесся крик негодования. Негодование было справедливо, поскольку авторы рассказов смаковали передаваемые ими подробности гибели детей, поскольку они гнались только за сенсацией, за модной, щекочущей темой. Но в этом негодовании слышалось и позорное лицемерие. Иные критики спрашивали: с кого они портреты пишут? С кого? К несчастью, с детей русского общества, и к сугубому несчастий), с детей интеллигентского прогрессивного общества.
Из другой книжки о половой жизни того же московского студенчества[7] видно, что среди студентов есть субъекты, начавшие свою половую жизнь с семилетнего возраста…
И желание скрыть эту истину, желание замазать тот факт, что в наших интеллигентных семьях у детей уже с восьмилетнего возраста пробуждается опасное половое любопытство, свидетельствует только о вере в страусову политику, рассчитываться за которую придется нашему потомству и всей стране.
Присоедините сюда другое опасное Для расы зло – онанизм. Три четверти ответивших на этот вопрос студентов (около 1600 человек) имели мужество сознаться в своем пороке. Сообщаемые ими подробности таковы: тридцать человек начали онанировать до 7 лет, 440 – до 12 лет!
II
Второе место после семьи в жизни интеллигентного ребенка занимает школа. О воспитательном влиянии нашей средней школы много говорить не надо: тут двух мнений не существует. И если читателей интересуют цифры московской анкеты, то укажем, напр<имер>, что из 2081 опрошенных студентов – 1791 (т. е. 86 %) заявили, что ни с кем из учебного персонала средней школы у них не было духовной близости.
Утверждение, что средняя школа не имеет влияния на выработку миросозерцания, пожалуй, не совсем верно. Такое влияние существует, но чисто отрицательное. Если уже в родной семье русский интеллигентный ребенок воспитывается «от противного», отвращается и от поступков и от идей своих родителей, то в школе такой метод воспитания становится преобладающим. В школе ребенок себя чувствует, как во вражеском лагере, где против него строят ковы, подсиживают его и готовят ему гибель. В представлении ребенка школа – это большое зло, но, к несчастью, неизбежное. Его нужно претерпеть с возможно меньшим для себя ущербом: надо получить наилучшие отметки, но отдать школе возможно меньше труда и глубоко спрятать от нее свою душу. Обман, хитрость, притворное унижение – все это законные орудия самообороны. Учитель – нападает, ученик – обороняется. В довершение всего в этой борьбе ученик приобретает себе дома союзников в лице родителей, взгляд которых на школу мало чем отличается от ученического. Бесспорно, первоначальная вина за дискредитирование школы ложится на педагогическую администрацию, на министерство народного просвещения, которое с 1871 года безо всяких оговорок поставило своею целью сделать из гимназий политическое орудие. Но в настоящее время в этой области все так перепуталось, что разобрать концы и начала очень трудно, и многим серьезным наблюдателям кажется, что всякая попытка восстановить авторитет правительственной средней школы обречена на неудачу…
И все-таки свое воспитание интеллигентный русский юноша получает в средней школе, не у педагогов, конечно, а в своей новой товарищеской среде. Это воспитание продолжается в университете.
Было бы странно отрицать его положительные стороны. Оно дает юноше известные традиции, прочные, определенные взгляды, приучает его к общественности, заставляет считаться с мнениями и волей других, упражняет его собственную волю. Товарищество дает юноше, выходящему из семьи и официальной школы нигилистом, исключительно отрицателем, известные положительные умственные интересы. Начинаясь с боевого союза для борьбы с учителями, обманывания их, для школьнических бесчинств, товарищество продолжается не только в виде союза для попоек, посещения публичных домов и рассказывания неприличных анекдотов, но и в виде союза для совместного чтения, кружков саморазвития, а впоследствии и кружков совместной политической деятельности. В конце концов, это товарищество – единственное культурное влияние, которому подвергаются наши дети. Не будь его, количество детей, погрязающих в пьянстве, в разврате, нравственно и умственно отупелых было бы гораздо больше, чем теперь.
Но и это «единственное» культурное влияние, воспитательно действующее на нашу молодежь, в том виде, как оно сложилось в России, обладает многими опасными и вредными сторонами. В гимназическом товариществе юноша уже уходит в подполье, становится отщепенцем, а в подполье личность человека сильно уродуется. Юноша обособляется от всего окружающего мира и становится ему враждебен. Он презирает гимназическую (а впоследствии и университетскую) науку и создает свою собственную, с настоящей наукой не имеющую, конечно, ничего общего. Юноша, вошедший в товарищеский кружок самообразования, сразу проникается чрезмерным уважением к себе и чрезмерным высокомерием по отношению к другим. «Развитой» гимназист не только относится с презрением к своим учителям, родителям и прочим окружающим его простым смертным, но подавляет своим величием и товарищей по классу, незнакомых с нелегальной литературой. Мои личные гимназические воспоминания относятся к 80-м годам, но, судя по тому, что мне приходится видеть и слышать теперь, психология и нынешней молодежи в основе осталась та же. Кое-где изменился только предмет тайной науки, и вместо изданий народовольцев венец познания составляют «Санин» и книга Вейнингера – едва ли этому можно радоваться! Характерно, что в мое время чем более демократичные идеи исповедовал мальчик, тем высокомернее и презрительнее относился он ко всем остальным и людям и гимназистам, не поднявшимся на высоту его идей. Это высокомерие, рождающееся в старших классах гимназии, еще более развивается в душе юноши в университете и превращается, бесспорно, в одну из характерных черт нашей интеллигенции вообще, духовно-высокомерной и идейно-нетерпимой. Обыкновенно почтя все бойкие, развитые юноши с честными и хорошими стремлениями, но не выдающиеся особыми творческими дарованиями, неизбежно проходят через юношеские революционные кружки и только в том случае и сохраняются от нравственной гибели, и умственного отупения, если окунутся в эти кружки. Натуры особо даровитые, поэты, художники, музыканты, изобретатели-техники и т. д., как-то не захватываются такими кружками. Сплошь и рядом «развитые» средние гимназисты с большим высокомерием относятся к тем из своих товарищей, которым в недалеком будущем суждено приобрести широкую известность. И это мое наблюдение не ограничивается гимназическими и студенческими кружками. До последних революционных лет творческие даровитые натуры в России как-то сторонились от революционной интеллигенции, не вынося ее высокомерия и деспотизма.
III
Духовные свойства, намечающиеся в старших классах гимназии, вполне развиваются в университетах. Студенчество – квинтэссенция русской интеллигенции. Для русского интеллигента высшая похвала: старый студент. У огромного большинства русских образованных людей интеллигентная (или, точнее, «революционная») работа и ограничивается университетом, по выходе из которого они «опускаются», как любят говорить про себя в пьяном угаре со слезой, во время предрассветных товарищеских покаянных бесед.
О русском студенчестве в прогрессивных кругах принято говорить только в восторженном тоне, и эта лесть приносила и приносит Нам много вреда. Не отрицая того хорошего, что есть в студенчестве, надо, однако, решительно указать на его отрицательные стороны, которых в конечном итоге, пожалуй, больше, чем хороших. Прежде всего, надо покончить с пользующейся правами неоспоримости легендой, будто русское студенчество целой головой выше заграничного. Это уже по одному тому не может быть правдой, что русское студенчество занимается по крайней мере в два раза меньше, чем заграничное. И этот расчет я делаю не на основании субъективной оценки интенсивности работы, хотя несомненно она у русского студента значительно слабее, но на основании объективных цифр: дней и часов работы. У заграничного студента праздники и вакации поглощают не более третьей части того времени, которое уходит на праздники у русского. Но и в учебные дни заграничный студент занят гораздо больше нашего. В России больше всего занимаются на медицинском факультете, но и там количество обязательных лекций в день не превышает шести (на юридическом – четырех-пяти), тогда как французский медик занят семь-восемь часов. У нас на юридическом факультете студенты, записывающие профессорскую лекцию, насчитываются немногими единицами на них смотрят с удивлением, товарищи трунят над ними. Зайдите в парижскую Ecole de droit[8]
