Партизанский логос. Проект Дмитрия Александровича Пригова бесплатное чтение
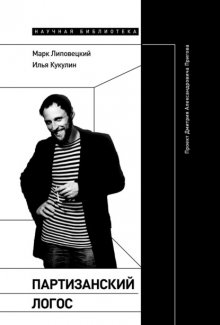
От авторов
Замысел этой книги возник почти сразу же после того, как мы, вместе с Евгением Добренко и Марией Майофис, закончили работать над сборником статей «Неканонический классик: Д. А. Пригов» (М.: Новое литературное обозрение, 2010), вышедшим через три года после смерти Дмитрия Александровича. И хотя общий контур этого проекта много раз менял свои очертания, можно смело сказать, что эту книгу мы писали почти десятилетие.
За это десятилетие приговские конференции, фестивали и выставки стали регулярными. Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило большое собрание сочинений Пригова и начало выпускать малое. В том же «НЛО», а также в некоторых других издательствах вышли научные монографии и сборники статей о Пригове. Было защищено несколько диссертаций о его творчестве[1].
Одним словом, за то время, пока мы писали эту книгу, изучение Пригова и его наследия сложилось в самостоятельную научную дисциплину, а Пригов из неканонического классика перешел в ранг классиков вполне «канонических», хотя и по-прежнему нетрадиционных с академической точки зрения.
И хотя мы не задумывали эту книгу таким образом, оглядываясь, мы видим, что в ней отложилось и стало предметом рефлексии именно то понимание Пригова, которое складывалось в течение этого десятилетия. Мы счастливы быть частью этого процесса и хотели бы в первую очередь сказать спасибо тем, без кого не состоялся бы ни приговский ренессанс, ни эта книга, – Ирине Дмитриевне Прохоровой и Надежде Георгиевне Буровой.
Ирина Дмитриевна Прохорова стала главным издателем Пригова еще в 1990‐е годы и оставалась им до конца его жизни. Достаточно сказать, что вся проза Пригова, наряду с несколькими (первыми в России) томами его поэзии, выходила в издательстве «НЛО», равно как и книга бесед с ним (журналиста Сергея Шаповала [2003]). После смерти поэта Ирина Дмитриевна, назвавшая Пригова «русским Данте ХХ века» [см.: Прохорова 2017] и как никто понимающая его значение, сделала «НЛО» важнейшим центром по изучению и распространению наследия Пригова. Фонд Михаила Прохорова, возглавляемый Ириной Дмитриевной, организовывал многочисленные конференции (Приговские чтения), выставки и фестивали, посвященные Пригову. А приговские издания «НЛО» уже выросли во внушительную библиотеку, и мы рады, что наша книга выходит как часть этого монументального мультимедийного проекта, по своему масштабу уже, кажется, сопоставимого с творчеством самого Пригова.
Без энергии и энтузиазма вдовы Пригова Надежды Георгиевны не было бы ни приговских выставок в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, ни Приговских чтений, ни многих других событий, связанных с его многогранным творчеством. Благодаря деятельности Надежды Георгиевны и Андрея Пригова, а также Екатерины Элошвили, Ирины Богомоловой, Кати Гебель и сотрудников Приговского фонда представление произведений Пригова и работ о его творчестве стало возможным не только в Москве, Петербурге, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде, но и в Париже, Лондоне, Венеции, Берлине, Кельне – во многих городах далеко за пределами России. Отдельное спасибо Надежде Георгиевне за возможность работать в его домашнем архиве и подробное интервью о Пригове, которое она дала для этой книги.
И Ирина Дмитриевна, и Надежда Георгиевна поддерживали нас на всех этапах работы над книгой – мы от души благодарны им за это.
Мы также бесконечно признательны друзьям и коллегам Пригова, уделявшим время для разговоров с нами, – Борису Орлову, Льву Рубинштейну, Елене Мунц, Грише Брускину, Виталию Комару, Сергею Шаповалу, Игорю Вишневецкому, Дарье Демехиной, Диане Мачулиной, Дарье Серенко.
Нашей работе над книгой также помогали исследовательские гранты от таких институций, как университет Колорадо в Болдере (США), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Москве, Университет имени Гумбольдта в Берлине и Свободный университет Берлина. Главу о сакральном у Пригова Илья Кукулин смог написать в Берлине благодаря гранту Exellenzcluster Temporal Communities в составе Свободного университета; спасибо Сюзанне Франк за приглашение и разностороннюю поддержку и Мараике де Доминику за решение организационных вопросов.
И разумеется, как всегда, мысли о Пригове рождались в разговорах и спорах с нашими дорогими коллегами и друзьями – Виктором Вахштайном, Георгом Витте, Томашем Гланцем, Евгением Добренко, Андреем Зориным, Ильей Калининым, Яшей Клоцом, Дмитрием Кузьминым, Ильей Кукуем, Сергеем Ушакиным, Станиславом Львовским, Бригитте Обермайр, Кевином Платтом, Эллен Руттен, Станиславом Савицким, Ириной Сандомирской, Стефани Сандлер, Нариманом Скаковым, Клавдией Смолой, Дирком Уффельманном, Сабиной Хэнсген, Кэтрин Чепелой, Джейн Шарп, Михаилом Эпштейном, Михаилом Ямпольским, Джеральдом Янечеком, Матвеем Янкелевичем. Мы искренне признательны всем, кто принимал участие в обсуждении наших конференционных докладов, в дальнейшем использованных для написания отдельных глав этой книги. Особая благодарность Илье Кукую, который прочитал нашу рукопись и высказал ряд очень ценных замечаний. А также, разумеется, огромное спасибо нашим близким – Марии Майофис, Татьяне Михайловой, Даниилу Лейдерману, – с которыми каждый из нас неизменно обсуждает все проекты и обговаривает все идеи (а они терпят).
Мы надеемся, что наша книга даст новую пищу для споров о Пригове. Ведь он наиболее убедительно и зримо перебросил мост между андерграундной культурой 70–80‐х и литературой XXI века. Книга о Пригове поэтому неизбежно становится книгой о будущем русской литературы – на наш вкус, самой важной темой для дискуссий в любое время и при любых обстоятельствах.
Нью-Йорк – Москва, сентябрь 2020 г., май 2021 г.
Введение: Смерть и жизнь автора
О Дмитрии Александровиче Пригове уже написано много, и нет сомнений в том, что будет написано еще больше. Его личность еще при жизни привлекала интервьюеров и собеседников[2]. В нем завораживало все: многогранность дарований, неисчерпаемая творческая энергия, «дикая нечеловеческая интенсивность»[3], впечатляющее мастерство в визуальных работах, стихах и прозе (несмотря на имитацию «наивного» письма и пародирование графомании), сочетание психологической открытости в одних вопросах и закрытости – в других. Было бы наивно пытаться найти в обстоятельствах жизни автора исчерпывающие объяснения его эстетики, но тем не менее нельзя не задаться вопросом о том, каким образом Пригов стал тем, кем он стал.
А кем он стал? Не так уж и просто ответить на этот вопрос. Просто перечислим его «специальности»: поэт, скульптор, живописец, автор инсталляций и перформансов, драматург, романист, киноактер, теоретик искусства… Он даже в опере пел и танцевал, несмотря на пораженную детским полиомиелитом ногу! Пригов недаром называл себя «работником культуры»: за его размахом, стремлением – и умением! – реализовать себя в самых разных областях искусства стояла масштабная задача, о которой Пригов не то чтобы не говорил – говорил, и часто, – но которую мало кто из аналитиков принимал всерьез. Мы будем подробнее говорить об этой задаче далее (Часть I), но в первом приближении ее можно обозначить как стремление создать мультимедийную действующую модель культуры в целом. Модель, которая бы одновременно подрывала культурный мейнстрим и апробировала, подобно лаборатории, радикальные стратегии творчества.
Примечательно в этом контексте и ошеломительное количество текстов, написанных Приговым. В 1990‐е он обещал к 2000 году написать 24 тысячи стихотворений. В 2000‐е речь шла уже о 35 тысячах. Подлинное число его произведений не подсчитано (хотя в его архиве сохранилось существенно меньшее количество) – однако он утверждал, что каждый день пишет хотя бы одно стихотворение. По тонкому замечанию поэта и критика Михаила Айзенберга, «…количество у Пригова не есть намерение создать как можно больше „произведений“. Это намерение само количество сделать произведением» [Айзенберг 1997].
При всей этой «демиургичности» поэт решительно отказывался от идеи индивидуального и неповторимого стиля и, более того, от претензий на индивидуализированное, уникальное авторство, настаивая на том, что он пишет не «от себя», а через придуманные им «имиджи» разных авторских сознаний. В изобразительном искусстве такими экспериментами уже был известен Марсель Дюшан, а в 70–80‐е годы рядом с Приговым аналогичные авторские квазиперсоны создавали Илья Кабаков (в своих альбомах) и Виталий Комар с Александром Меламидом (см. подробнее в главе 1 Части I). В русской литературе подобных экспериментов было еще больше (Козьма Прутков, Черубина де Габриак, сказовая проза, «приписанная» необразованным авторам, Абрам Терц как альтер эго Андрея Синявского или, например, никогда не существовавший английский поэт Джемс Клиффорд, от имени которого советский литератор Владимир Лифшиц создал цикл антитоталитарных стихотворений), но Пригов был последовательнее их всех – число его «личин» исчислялось десятками.
С этой точки зрения все творчество Пригова можно прочитать как демонстрацию постмодернистской «смерти автора». Как писал в 1967 году Ролан Барт – которого Пригов в 1970‐е еще, вероятно, не читал и о котором услышал гораздо позже:
…говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность (эту обезличенность ни в коем случае нельзя путать с выхолащивающей объективностью писателя-реалиста), позволяющая добиться того, что уже не «я», а сам язык действует, «перформирует» ‹…› Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников. ‹…› Тем самым литература (отныне правильнее было бы говорить письмо), отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какую-нибудь «тайну», то есть окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла – значит в конечном счете отвергнуть самого бога и все его ипостаси – рациональный порядок, науку, закон [Барт 1994: 384–391].
В сущности, здесь довольно точно описаны те сдвиги в культурном сознании, на которые откликается Пригов. Его «революционная по сути своей деятельность», впрочем, была направлена не против «рационального порядка, науки, закона». В качестве главного объекта Приговым избран символический порядок советской, а затем и русской культуры, который он одновременно обнажает и разрушает. Опять же забегая вперед и сильно огрубляя (детальный анализ см. в Части I), можно сказать, что Пригов связывает механизм этого символического порядка с постоянным воссозданием и в политике, и в культуре семиотических моделей, отменяющих какое бы то ни было критическое или же просто рациональное отношение субъекта к себе и своим ценностям. Такие модели, в его понимании, лишают общество истории, погружая в некое неизменяемое (и невменяемое, по Пригову) состояние.
Вот почему в стихотворениях Пригова нет разницы между образами Сталина и Пушкина – и тот и другой, став персонажами коллективной мифологии, воплощают в глазах культурного большинства воображаемый абсолют, порождающий телеологии мессианизма, спасения, искупления, национального превосходства и т. п. Подрыв этого абсолюта одновременно означает и подрыв стабильной культурной роли автора-поэта, занимающего в этой мифологии почетное место жреца или пророка (о том, как такая роль была изобретена в начале XIX века, см.: Живов 1989). Такая радикальная контркультурная установка отличала Пригова даже от концептуалистов старшего поколения.
Пригов вспоминал:
Скажем, Эрик Булатов был врагом советской власти, это основной его посыл, который определяет всю его деятельность. Я исходил из того, что любой язык может стать советской властью. Я неожиданно для себя это понял буквально по одной фразе (не помню, кому она принадлежит): «Сталин – это Пушкин сегодня». Все смеялись: какая наглость – сравнивать Пушкина со Сталиным. А я понял, что любой язык, который стремится к господству, поражается раковой опухолью власти. Из этой идеи вытекали все мои дальнейшие действия [Шаповал 2003: 95].
В то же время трудно не заметить, что масштабный «перформанс смерти автора» в исполнении Пригова отмечен несомненной печатью максимально харизматичной авторской индивидуальности и поэтому, в сущности, неповторим. Как когда-то было замечено Сергеем Бунтманом во время прямого эфира с Приговым на «Эхе Москвы», несмотря на «имиджи», поэтическая манера Пригова остается всегда узнаваемой. Это отмечал и Андрей Зорин, один из первых литературоведов, писавших о Пригове:
Разумеется, бесконечное разнообразие приговских приемов и техник, масок и воплощений вовсе не противоречило мгновенной и абсолютной узнаваемости – Пригова было ни с кем не спутать, его бренд мгновенно считывался с каждого изготовленного им продукта, составляя их главную ценность [Зорин 2010: 448][4].
Приговский проект заведомо парадоксален: он использует традиционный авторитет поэта в русской культуре для того, чтобы взорвать основания, на которых этот авторитет зиждется. Но возникает и обратный эффект: чем убедительнее его победы, тем выше его авторитет как поэта – а значит, тем прочнее его символический противник. Недаром Ирина Прохорова сравнивает его с Данте [Прохорова 2017]. Ведь именно масштабность приговского проекта по низвержению «Автора-Бога» и разрушению всей связанной с ним мифологии определяет место и значение этой фигуры в русской литературной культуре. Как сформулировал в статье, посвященной памяти Пригова, А. К. Жолковский:
Проект состоял, в частности, как бы это выразиться попроще, в создании мультимедийного и панидентичного образа метатворца, автора не отдельных удачных произведений, а универсальной порождающей художественной гиперинстанции. Это было вызывающе, но и знакомо. Так, Пастернак писал, что «плохих и хороших строчек не существует, а есть целые системы мышления, производительные или крутящиеся вхолостую». Пригов как бы доводил эту идею до концептуального предела [Жолковский 2007].
Само собой, новизна приговского поэтического поведения и творчества далеко не у всех вызывала симпатию. Как писал Лев Рубинштейн, еще один видный представитель литературного концептуализма и близкий друг Пригова:
При всей своей известности, социабельности и «внедренности», отношения его с так называемой литературной средой не назовешь простыми. То есть известность его (а для кого-то – одиозность) обеспечивается скорее его поведенческим драйвом, чем текстами. Исходящая из презумпции «настоящей литературы», «крепкой строки» и «подлинного мастерства» литературная публика квазилитературность его сочинений определяет как отсутствие авторского лица, многописание и решительное нежелание отличать «пораженья от победы» как графоманию, публичность как склонность к шутовству [Рубинштейн 1997: 230–231].
Двойственная, внутренне противоречивая роль «нового поэта» и «антипоэта» в одном лице пришлась Пригову впору в силу множества взаимосвязанных факторов. Во-первых, важную роль сыграл культурный сдвиг 1960‐х, плоды которого Пригов пожинал в начале 70‐х – то есть в совсем иной социокультурной атмосфере (подробнее см. Часть II, глава 1). Во-вторых, не менее важным для него оказалось формирование в кругу современных художников, более «продвинутом» тогда в эстетическом отношении по сравнению с литературной средой; ориентация не на публикацию своих произведений, а на их признание в кругу единомышленников – тех же художников или инновативных поэтов, которые лишь в очень небольшой степени ориентировались на нормы русско-советской литературной культуры и сами стремились проблематизировать привычную фигуру автора. Примечательно и то, что Пригова отличает двойная жизнь, вообще свойственная многим представителям андерграунда: «…в общем-то, почти весь андерграунд состоял в Союзе художников, все зарабатывали. Границы были виртуальными. Другое дело, при всей виртуальности была жесткая система отслеживания границы» [Балабанова 2001: 9].
Повторяющейся ситуацией в биографии Пригова, как ни странно, оказывается состояние отчуждения, часто – даже изоляции. «Я сам из того же карасса, чувствую одинокого человека за километр, но такого глубокого одиночества, кажется, не встречал», – сказал о Пригове его многолетний собеседник, художник и писатель Виктор Пивоваров [Пивоваров 2010: 699].
Ил. 1. С матерью и сестрой
Этим состоянием, несомненно, пронизано послевоенное детство ребенка из московской семьи этнических немцев (мама – пианистка и концертмейстер Татьяна Фридриховна (Александровна) Зейберт, отец – инженер Александр Борисович Пригов (Прайхоф)), тщательно скрывающих свое происхождение. Можно себе представить, что эта тайна означала для маленького Пригова и его сестры-близнеца Марины (ныне живущей в Потсдаме, Германия).
Следующий уровень отчуждения возникает в результате полиомиелита (в свою очередь – последствие энцефалита, перенесенного Приговым во младенчестве). Из-за полиомиелита семилетний Пригов временно парализован и полтора года проводит в больнице, прикованным к постели. Затем следуют многомесячные мучительные упражнения, приведшие к тому, что, несмотря на болезнь, Пригов даже научился успешно играть в футбол. Однако полиомиелит ослабил сердце Пригова: первый инфаркт у него случился в возрасте 42 лет, а последний, третий, убил его в 2007 году.
Ил. 2. Пригов – студент
Дружба с будущим художником и скульптором Борисом Орловым завязалась еще в 1957 году в московском Доме пионеров в переулке Стопани[5], где они оба занимались в студии скульптуры (об этом Пригов пишет в романе «Живите в Москве» и неоконченном тексте «Тварь неподсудная»). Но она прерывается с окончанием Приговым школы в 1958 году (Орлов был на год младше его), поскольку по принятому тогда закону «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» выпускники должны были перед поступлением в вуз год отработать на производстве. Пригов работает два года на ЗИЛе, становясь токарем. Только со второй попытки он поступает в Московское высшее художественно-промышленное училище (неформально и сегодня называемое по своему старому имени Строгановкой), на факультет монументально-декоративного и прикладного искусства, отделение скульптуры (1960) (ил. 2). Туда же поступает и Орлов.
Несмотря на то, что формально Строгановка считалась училищем, она славилась как ведущий художественный вуз страны, образование в котором занимало пять лет, – как раз в годы учебы Пригова совершался переход с 6-летней на 5-летнюю программу. В Строгановке Пригова первоначально мучило отставание от сокурсников в знании современных тенденций в искусстве – даже понимание импрессионистов, с 1956 года вновь выставленных в Пушкинском музее, пришло к нему не сразу [Шаповал 2003: 54–57]. Но вскоре именно в Строгановке складывается тот круг художников, к которому Пригов будет близок в течение всей своей жизни, – помимо Орлова он включает Франциско Инфанте, Виталия Комара и Александра Меламида, Александра Косолапова, Леонида Сокова. Именно в Строгановке к Пригову приходит и первое признание: «Стал заядлым таким, чуть ли не главным ‹…› авангардистом в нашей группе, да и вообще приобрел известность на факультете как такой продвинутый малый. И что важно всегда в учебных заведениях – меня признали из старших групп… Это было престижно по тем временам» [Балабанова 2001: 70].
Однако и тут были свои проблемы. Во-первых, вхождение в этот круг было сопряжено с почти полным разрывом Пригова со своим отцом, Александром Борисовичем, который не хотел видеть сына художником и не одобрял его авангардные поиски. Во-вторых, Пригов вновь остается один после того, как его изгоняют из института. Он был исключен за то, что боролся за восстановление в училище студентки Любы Хаймович. Хаймович, работая над проектом, задержалась в мастерской допоздна, а когда она уходила, ее оскорбил вахтер – старый вохровец. В ответ на оскорбления Хаймович дала вахтеру пощечину – он вызвал милицию. Девушку сначала задержали, а потом исключили из Строгановки. За восстановление Любы вступился весь курс, но поскольку администрация встала на сторону хама и антисемита (возможно, еще и со связями в КГБ), постепенно число защитников Любы уменьшилось, а Пригов (он был еще и старостой группы, в которой состояла Хаймович) продолжал бороться и дошел до газеты «Известия». Благодаря усилиям Пригова авторитетная журналистка, пишущая в «Известиях» на «темы морали и нравственности», Татьяна Тэсс описала этот случай в своей статье «Нелегкий разговор» («Известия», 1962, 18 января, с. 4), впрочем ни словом не упомянув ни об антисемитской подоплеке выходки вахтера, ни о Пригове. В результате этой публикации Любу в училище восстановили, а Пригова исключили якобы за «неуспеваемость» – то есть сознательно «завалив» на сессии, хотя он и был отличником.
В 1962 году исключенный из училища Пригов вновь идет работать на ЗИЛ. Вернуться к учебе ему удается только осенью 1963-го, да и то благодаря случайному знакомству его жены Н. Г. Буровой с чиновницей из отдела высшего образования ЦК, которая позвонит со своего места работы и просто осведомится о деле студента Пригова. Однако, восстановившись в Строгановке, Пригов теряет интерес к искусству. «За меня диплом слепил мой профессор, – рассказывал он И. Балабановой. – Я в момент почему-то разучился академически лепить и рисовать. ‹…› Так я спокойно защитился, закончил институт и решил вообще завязать со скульптурой, с искусством, плюнуть на это. Пошел работать в архитектурное управление, поскольку все это искусство мне было противно» [Балабанова 2001: 74].
Надо заметить, что Пригов в это время уже пишет стихи – как рассказывала нам однокурсница Пригова скульптор Елена Мунц [Интервью с Еленой Мунц], на втором курсе Пригов говорил ей, что им написано 800 стихотворений. При этом, по собственному позднейшему признанию, он еще довольно мало знал современную поэзию, его любимым поэтом был поздний Заболоцкий, чье влияние ощутимо в его ранних, «доконцептуалистских» стихах. Первый контакт Пригова с андерграундной средой состоялся через однокурсника Александра Волкова, сына художника А. Н. Волкова (1886–1957) – ученика Владимира Маковского и других модернистов. Во время поездки Пригова в Ташкент летом 1964 года Волков-старший познакомил его со ссыльными художниками и интеллектуалами, жившими в столице Узбекистана. Об одном из этих художников, Е. А. Чернявском, Пригов рассказывал: «Впервые от него я услышал имя Ахматовой, а мне, между прочим, было уже 24 года. Потом – Пастернак. Я не ведал об их существовании. Я знал Евтушенко и был на первом чтении СМОГистов…[6] Потом он мне что-то рассказывал и об обэриутах, но в те времена их имена мне ничего не говорили, а тексты попали в руки гораздо позже и практически ничего не дали» [Шаповал 2003: 58, 59].
Пригов в 1960‐е годы еще не был осведомлен о современном ему андерграунде – за исключением СМОГа. А ведь к концу 1960‐х в Ленинграде уже существовала разветвленная сеть андерграундных групп – «филологическая школа», куда входил, в частности, поэт Александр Кондратов, чьи поэтические эксперименты во многом предвосхищали приговский соц-арт[7]; поэты Малой Садовой, круг Алексея Хвостенко и «Хеленукты» (впрочем, частично совпадавшие по «персональному составу»).
По окончанию Строгановки Пригов проработал с 1966‐го по 1972 год[8] инспектором по внешней отделке и окраске зданий московского Архитектурного управления (ГлавАПУ). Тогда у него оставалось довольно много свободного времени для самообразования. Он часто проводил рабочие часы в библиотеке ИНИОНа (бывшей ФБОН), где, по собственному признанию, читал серьезную философскую литературу и полузапрещенную буддологию и эзотерику: «Я читал Фихте, Шеллинга, Гегеля, Канта, дальше шли Шопенгауэр, Ницше, Штирнер, Гартман. ‹…› Попутно смотрел книги про буддизм, про дзэн-буддизм, занялся изучением английского языка, нужного для чтения, поскольку много было литературы непереведенной, особенно по восточному эзотеризму» [Шаповал 2003: 70].
Впрочем, к чтению такого рода литературы Пригов, судя по всему, обратился задолго до посещения библиотеки ИНИОН. В беседе с нами Борис Орлов рассказывал, что Фрейда и Ницше они с Приговым прочли, еще будучи студентами; особое впечатление на них произвела работа Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Следующую волну чтения составляли философы, которых Орлов связывает с широко понятым экзистенциализмом: Бердяев, Хайдеггер и особенно Шестов. В другом месте Орлов вспоминает: «Мы жили очень „тесно“: читали одну и ту же литературу. У нас обоих был страшный интерес к философской литературе, и мы непрерывно обсуждали прочитанные книги. Мы ходили на лекции [Александра] Пятигорского, на его семинары в МГУ. А в 1960‐е Пригов был весьма увлечен индийской философией, просто помешался на этом» [Кизевальтер 2010: 209].
Становление Пригова как поэта и художника нового типа происходит между 1972 и 1977 годами, когда он возвращается к изобразительному искусству. Орлов в это время уже пошел по пути «двойного бытия», совмещая казенные заказные работы с творческими экспериментами. С 1972‐го до 1987 года Пригов вместе с Орловым зарабатывают на жизнь, занимаясь производством декоративной скульптуры – пионеров, героических солдат, рабочих и колхозниц, коров, чебурашек и крокодилов ген, мюнхгаузенов и т. п. А летом 1973-го, в Абрамцево, куда Пригов поехал вместе с группой друзей-художников на «пленэр», он пишет первые циклы соц-артистских стихов «Исторические и героические песни» и «Культурные песни». Именно в этот момент происходит рождение того поэта, которого мы знаем.
Философские интересы Пригова 60‐х имели самое непосредственное отношение к этой перемене. Борис Орлов рассказывает, что в начале 1970‐х
…мы с Приговым увидели, что метафизическая вертикаль на наших глазах рушится и переходит в горизонтальную сферу, и мы вдруг оказываемся в ‹…› сфере das Man [термин Хайдеггера, описывающий безличное, массовидное состояние сознания, где «я» неразличимо от «они»], где присутствует бесчисленное множество, вавилонское столпотворение разных языков. Если экзистенциализм противостоял этому столпотворению с помощью некой тонкой напряженной нити, что была натянута по вертикали и успешно сопротивлялась грохоту многоязычия, то, отказавшись от этой вертикали и погрузившись в многоязычие, нам пришлось искать для себя опору. И я придумал тогда термин «метапозиция», с которым Пригов согласился, и философия или формула метапозиция плюс полиязык сразу же сложилась у нас на улице Рогова [Кизевальтер 2010: 212].
Иначе говоря, философское самообразование Пригова и Орлова «экстерном» повторило эволюцию западной философской мысли в 1950–1970‐е годы. Пройдя через экзистенциализм, они самостоятельно вышли на центральный вектор дискуссий, шедших в европейской философии в предшествующее десятилетие: подрыв метафизики и метафизических дискурсов и поиски новых неметафизических метапозиций и станет центральным содержанием постмодернизма как интеллектуального направления.
Подобного рода мыслительная работа в СССР шла параллельно сразу в нескольких интеллектуальных группах и полуофициально (или вовсе подпольно) действовавших семинарах. Концепция метапозиции впервые была предложена Р. Я. Якобсоном и во многом вытекала из предыдущей эволюции русского формализма (см. подробнее в главе 1 Части I), но в конце 1960‐х – начале 1970‐х, по словам философа А. В. Ахутина, термин «метапозиция» в Москве буквально носился в воздухе[9]: не позже начала 1965 года он входит в обиход методологического семинара под руководством Г. П. Щедровицкого[10], а в 1973–1974‐х годах Пятигорский (на чьи семинары в МГУ ходил Пригов) в соавторстве с М. К. Мамардашвили выпускает книгу «Символ и сознание», где этот термин тоже уже употребляется[11].
Параллельно с философской рефлексией Пригов – как и Орлов – осмысляют понятие стиля в искусстве (о том, как об этом думал Орлов, см.: Барабанов 2013). Вокруг мастерской на улице Рогова складывается круг художников, каждый из которых оставит свой след в соц-арте, – это прежде всего Леонид Соков, Александр Косолапов и Ростислав Лебедев (который одно время делит мастерскую вместе с Приговым и Орловым). В этот же круг входит и художник и скульптор Игорь Шелковский, который эмигрировал в 1977 году, а с 1979 года стал издателем журнала «А – Я», выходившего в Париже). Виталий Комар и Александр Меламид, которым принадлежит честь изобретения термина «соц-арт», в то время принадлежали к другой, но близкой компании – так называемому «кругу Сретенского бульвара», куда, помимо них, входили Эрик Булатов, Илья Кабаков, Олег Васильев и др.
Пригов вспоминал: «Мы устраивали показы работ, потом их обсуждали. Беседовали в основном об искусстве. С Орловым мы много о философии разговаривали. Конечно, это были интеллектуальные встречи. Все мы были добропорядочные семьянины, никто по бабам не бродил, водку не пил. ‹…› Первоначально у нас возникли элементы поп- и соц-арта. Причем здесь произошел разлом. Орлов, я и Лебедев занялись соц-артом, а Шелковский придерживался традиционалистского направления, поэтому он начал испытывать некоторое раздражение. Потом он уехал в Париж, и все естественным образом разрешилось» [Шаповал 2003: 78].
Особенно важную роль в этом контексте играет увлечение поп-артом, о котором Пригов и его товарищи узнают из западных журналов о визуальном искусстве – будущая жена Шелковского, славист Сильвия Бондарурер, по словам Орлова, «чемоданами возила нам журналы типа „Кунстнахрихтен“[12], причем откуда-то достала всю подшивку за 1960‐е годы, и разные книги по искусству и философии. Так что в середине 1970‐х мы прекрасно знали весь срез европейского искусства ‹…› Позже, году в 1975‐м, в нашем круге появились Римма и Валерий Герловины. ‹…› Они откуда-то доставали „Артфорум“[13] и другие журналы. Поскольку Валера [Герловин] бегло читал по-английски, он переводил для всех: так они занимались просветительством» [Кизевальтер 2010: 219–220, 214]. В статье 1981 года «Об Орлове и кое-что обо всем» Пригов напишет: «…не испытывая никаких ученических комплексов и приоритетных притязаний, можно указать именно на поп-арт как на одного из главных провокаторов возникновения нашего феномена, поскольку… в пределах нашей культуры прямого соответствия поп-арту просто быть не может» [5: 523].
Орлов вспоминал, что в эти годы поисков стиля важным интеллектуальным потрясением для них с Приговым стал М. М. Бахтин с его концепцией карнавальной культуры. Как говорил Орлов, «…я впервые прочел тогда [в 1973–1975 гг.] про Рабле и культуру Средневековья и подумал, что вот, это же то, чем мы занимаемся, а тут нам еще и теоретическая база! Хотя Шестов подготовил это еще раньше своим релятивизмом. Мы прочитали всего Шестова в те годы» [Кизевальтер 2010: 219]. Пригов был сходного мнения о Бахтине. По его статье об Орлове 1981 года видно, как бахтинский карнавал «лег» на их общее понимание поп-арта, который Пригов характеризует как своего рода религиозное искусство, причем описывает его, явственно оглядываясь на бахтинскую концепцию карнавала:
Следует отметить и еще некоторые черты подобного религиозного искусства, хоть и не уподобляющие его традиционно-народному, но дающие основания для утверждения определенного типологического сходства. Это сходство, естественно, не в темах, а в принципе обработки тем, принципе конструирования произведений искусства и способа их бытования – клише, регулярный набор, цитатность, злободневность, открытый игровой момент, антипсихологизм и антиперсонализм, принципиальная эгалитаризация языка. Отбор тем идет по принципу предпочтения наиболее ходульных и фетишизированных, до конца понимаемых не столько в пределах самого произведения, сколько во взаимодействии его с контекстом жизни. Большое значение приобретает жест, указывающий на эти явления жизни [5: 523].
Гипсовые пионеры в сочетании с поп-артом; Ницше, буддизм, Шестов плюс бахтинский карнавал – вот важнейшие ингредиенты того «питательного бульона», в котором зарождается соц-арт и из которого потом вырастают московский концептуализм и индивидуальный приговский проект. Отметим еще два компонента: острое противостояние советскому политическому режиму – при уважительном, но все же отстраненном отношении к диссидентству. «…Все мы были настроены очень антисоветски. ‹…› Неприятие советской системы во всех ее проявлениях – ее языка, ее институций, представителей ее, даже самых, на нынешний взгляд, может, и невинных официальных членов Союза художников» [Балабанова 2001: 50].
Что объединяло все эти компоненты? Буддизм с его методиками систематической проблематизации индивидуального «Я» и преодоления иерархического сознания хорошо «рифмовался» с теорией карнавала как формой деконструкции, переворачивающей или размывающей бинарные оппозиции, – но главное, создающей дистанцию от доминирующего порядка вещей – советского, разумеется. Эта стратегия как бы переводила на эстетический уровень экзистенциальную и социальную отчужденность Пригова. Погружение в философские тексты тоже создавало дистанцию, но и предполагало более глубокое противостояние идеологии, чем просто моральное ее осуждение. Пригов и его единомышленники стремились не просто опровергнуть ложные политические идеи, как это делали некоторые диссиденты, – они стремились взорвать тот язык, тот способ мышления, который эта власть навязывала: «Наше сознание было культуркритическим: мы критиковали и утопии, и государственные институции, занимающиеся их воспроизводством, и тотальность любого языка, которая была прежде всего связана с языком государственным. У нас любой утопический язык вызывал мощную аллергию. Одним из носителей утопического сознания было диссидентское искусство, которое тоже было предметом наших рефлексий и критики» [Шаповал 2003: 93–94].
Сохранение дистанции по отношению к советскому языку и советским мифологиям у Пригова и его товарищей парадоксальным образом сочеталось с ее радикальным сокращением – по сравнению с другими художниками-нонконформистами. Необходимость лепить китчевые статуи пионеров и героев труда предполагала невозможность «забыть» советский язык, на чем настаивал неомодернистский и неоавангардный андерграунд. Поп-арт, иронически работающий с коммерческой культурой, задал для будущих концептуалистов первоначальный образец того, как можно создавать контркультурное высказывание на том самом языке, который подвергается критике: «Как правило, все художники ненавидели советский язык. Это был, так сказать, собачий язык, в своих мастерских они говорили на некоем возвышенном, нетленном языке, но вся жизнь проходила в пределах языка советского: смотрели футбол, пили, матерились. Существовала шизофреническая раздвоенность» [Шаповал 2003: 80]. Именно эту «шизофреническую раздвоенность» концептуалисты и старались преодолеть, сделав советский язык – как вербальный, так и визуальный – центральным объектом творчества. Орлов вспоминает, что сомнения относительно советского языка первоначально высказывал и Илья Кабаков – впоследствии признанный лидер художественного концептуализма: «Пригов тогда читал свои стихи у него [Льва Рубинштейна] в квартире на Маяковке. Илья Кабаков тоже тогда пришел и после чтения сказал Пригову: „Дима, как много вы читаете на собачьем языке. Не боитесь сами ‘особачиться’?“» [Орлов в Кизевальтер 2010: 218].
Так формировалась принципиально игровая, перформативная логика творчества Пригова, которая, как он полагал, соотносилась с общей поведенческой стратегией художников его круга и резко отделяла концептуалистов от нонконформистов поколения шестидесятников: «Для них [соц-артистов и концептуалистов] переходы из одной конвенции в другую были вообще частью профессиональных занятий и не составляли труда. В то время как для искренних художников 60‐х годов – это была мука смертная. Они все были люди трагические, говорили на одном языке. Они не могли сказать ничего другого, потому что для них это значило соврать. А для людей нашего круга болтовня составляла род игры. Вранья не было, поскольку принимался любой дискурс, с условием не переступать определенных принципиальных границ, которые могли бы действовать разрушительно, и не принимая на себя никаких обязательств» [Балабанова 2001: 12–13]. По сути дела, так рождалась советская версия постмодернизма и постмодернистской теории – во многом стихийная и «бриколажная». Как говорил сам Пригов:
…мы оказались постмодернистами первого разлива. ‹…› …к концу 70‐х в нашем семинаре стал вырабатываться постмодернистский язык. Пробираться к нему нам пришлось самостоятельно, литературы тогда никакой не было, иностранные языки мы знали не очень хорошо, поэтому, опираясь на собственную практику, пересказы чьих-то идей, мы выработали язык, который функционирует до сих пор. Разумеется, понятия «дискурс», «деконструкция» и пр. вошли в наш обиход гораздо позже с публикацией работ Деррида, Делёза, Гваттари, позднего Барта, Лиотара, Бодрийяра. ‹…› Но понятия «персонажный автор», «мерцательность», «стратегийность» я использовал давно, не зная даже о существовании теоретиков постмодернизма [Шаповал 2003: 94].
Семинар, о котором говорит Пригов и с которым впоследствии будет связано представление о московском концептуализме, сложился не сразу. Примерно около 1975 года Пригов начинает выступать на домашних чтениях («домашниках») и постепенно сходится со многими художниками и писателями андерграунда. В 1977‐м он знакомится с Эриком Булатовым и Всеволодом Некрасовым, а через Некрасова – со всем лианозовским кругом художников и поэтов – Евгением, Львом и Валентиной Кропивницкими, Оскаром Рабиным, Игорем Холиным, Генрихом Сапгиром. В 1978‐м – со Львом Рубинштейном, а через него – с Андреем Монастырским и впоследствии «Коллективными действиями» (Пригов участвует во многих их акциях и обсуждениях). В 1979‐м происходит его знакомство с Борисом Гройсом и Ильей Кабаковым, а через Кабакова – с Владимиром Янкилевским и Эдуардом Штейнбергом. Тогда же, в 1979‐м, формируется постоянно действовавший до 1985 года семинар, собиравшийся на квартире у А. М. Чачко[14]. Пригов вспоминал:
…семинар сделался регулярным, постоянными его посетителями были: я, Рубинштейн, Кабаков, Булатов, Некрасов, Чуйков, часто ходил Франциско Инфантэ, [Борис] Гройс и филолог-лингвист [Михаил] Шейнкер [Шейнкер и Чачко были соведущими этих семинаров. – М. Л., И. К.]. Люди либо читали, либо показывали работы, либо делали доклад. Приходило дикое количество народу, огромная комната в коммуналке… набивалась битком. ‹…› Семинар обычно состоял из трех актов. Первый – это выступление, на котором присутствовало много народу. Потом – обсуждение, когда многие уходили и оставались люди артикулированные, желавшие и просто даже жаждавшие разговоров и обсуждения. Когда завершалась эта часть, оставался очень тесный круг. Пили чай и происходило уже обсуждение обсуждения. На этих семинарах, в этом говорении и начал вырабатываться концептуально-постмодернистский язык, который до сих пор используем нами [Шаповал 2003: 79–80].
Помимо собственно теоретической стороны дела, эти обсуждения, по точному замечанию С. Хэнсген, были еще и своеобразными перформансами: «В среде концептуалистов беседа представляет собой своего рода перформанс, вызывающий все больше и больше комментариев, интерпретаций и теоретических спекуляций, которые в итоге сливаются в более широкий контекст документального „гезамткунстверка“. Эти разговоры не остаются эфемерным явлением – они становятся частью художественного процесса» [Московский концептуализм 2016].
Исчезает ли отчуждение? В семинаре – безусловно. И основанием для преодоления отчуждения становится общий концептуальный язык: «Предыдущие круги объединяли художников разных стилистик, а мы выработали общий язык и почувствовали некое единство» [Шаповал 2003: 80]. Но по отношению к другим кругам отчуждение сохраняется и, даже более того, становится программным:
У меня было несколько кругов, – говорил Пригов Шаповалу, – но лишь с одним я себя идентифицировал полностью по причине совпадения эстетических и жизненных позиций. В других кругах были совпадения жизненных позиций, но эстетические могли быть несовместимы. ‹…› Я считал, да и сейчас, пожалуй, придерживаюсь того же мнения, что нельзя быть погруженным только в один круг общения – это рискованно. Человек не должен прочно брать что-то двумя руками, потому что может найтись что-то новое, а у него руки заняты. Общение с другими кругами было для меня своего рода исследованием, они мне были нужны, чтобы я смог стать более полным, сумел научиться смотреть на многие явления со стороны [Шаповал 2003: 131–132].
Речь, как можно понять из контекста, идет о начале 1980‐х. Несмотря на беспрецедентно широкий круг общения, Пригов сохраняет дистанцию во всех отношениях. Даже внутри круга ближайших друзей-концептуалистов, по наблюдениям Льва Рубинштейна, Пригов «умел устанавливать правильную дистанцию, позволяющую не высекать взаимных искр ‹…› Я как человек, с ним хорошо знакомый, могу свидетельствовать: никакая это не холодность, а определенная стратегия. Я знал случаи, когда он был невероятно нежен и заботлив, что производило особое впечатление. Холодность он придумал, он всегда держал дистанцию. В общем, был застегнутым человеком. Как сказал один наш общий знакомый: „Я виделся в Берлине с Приговым, в этот вечер он был не на работе“. В том смысле, что он был вполне душевен» [Шаповал 2014: 216–217][15]. А вот как описывает Пригова Сергей Гандлевский:
Сдержанность анекдотическая. Можно было столкнуться с ним лицом к лицу в парадном N, но бессмысленно было задавать (бессмысленный, впрочем) вопрос, не от N ли Дмитрий Александрович идет. «Обстоятельства привели, Сергей Маркович», – ответил бы он. И, вероятно, как следствие – решительное неучастие в знакомстве между собой людей из разных компаний, притом что он был вхож в самые разные круги артистической Москвы, и не только Москвы. ‹…› Зато Пригова не могли заподозрить в распространении сплетен. Изо дня в день он, как на работу, ходил по мастерским, домашним чтениям, кухням, салонам и т. п., расширяя свою культурную осведомленность и методично внедряясь в современный «культурный контекст» (говоря о нем, я и перенял оборот его сухой наукообразной речи). А в оставшееся время суток писал свою норму «текстов» и рисовал – тоже норму, а не наобум. Не пил, не курил или бросил курить. И так из года в год [Гандлевский 2012: 82–83].
Важным аспектом «холодности» Пригова был его подчеркнутый рационализм. «Такой теоретической четкости, как у Пригова, не было даже у его собратьев: ни у Левы Рубинштейна, ни у Владимира Сорокина. В этом смысле Пригов был совершенно уникален – он обладал мощным аналитическим умом», – говорит композитор Владимир Мартынов [Шаповал 2014: 194]. «При всей его эксцентричности Пригов был наиболее здравым человеком из всех, которых я когда бы то ни было встречал», – добавляет куратор и издатель Виктор Мизиано [там же, 198]. «Социокультурная адекватность и чрезвычайное здравомыслие были доминирующими свойствами его натуры. ‹…› Пригов как большой художник и себя, и других видел с расстояния. Это чрезвычайно конструктивная позиция», – свидетельствует критик и литературовед Глеб Морев [там же, 206]. «Лютером культурной вменяемости» назвал Пригова художник Никита Алексеев [Алексеев 2007].
Андрей Зорин справедливо видит в общей стратегии поведения Пригова его демонстративное дистанцирование от образа романтического поэта – который он многократно «присваивал» в своем творчестве: «В его бытовых проявлениях не было ничего от романтического образа художника, который может позволить себе больше, чем простой человек. Он был изысканно вежлив, доброжелателен, рационален, надежен, идеально договороспособен, порядочен в буквальном и переносном смысле слова – он ценил порядок и был в высшей степени порядочным человеком. Глядя на него, становилось понятно, что порядочность происходит от слова „порядок“. ‹…› Сочетание порядка с такой интенсивностью художественного безумия на меня всегда производило сильнейшее впечатление» [Шаповал 2014: 177].
Оборотной стороной этой стратегии была подозрительность, которую Пригов вызывал в андерграундных и особенно диссидентских кругах: «Мой приход из среды художников, вообще переходы из среды в среду казались подозрительными», – говорил Пригов Ирине Балабановой [Балабанова 2001: 22]. Подозрения в сотрудничестве с КГБ сочетались со все более настойчивым прессингом со стороны этой организации.
КГБ «заинтересовалось» Приговым в 1979‐м, когда его пьеса «Место Бога» (1973) вышла в парижском альманахе «Ковчег». В 1980 году он опять вызывается на допросы в связи с созданием независимого Клуба писателей России и подготовкой альманаха «Каталог», первоначально рассчитанного на малотиражную публикацию в СССР, но впоследствии вышедшего в «Ардисе» (1982). Наивысшей точки это противостояние достигает уже при Горбачеве, когда в 1986‐м Пригов был задержан и заключен в спецпсихбольницу, откуда, к счастью, его вскоре выпустили после краткой, но энергичной международной кампании в его поддержку (см. об этом в главе 4 Части II).
Реакции же на литературное творчество Пригова за пределами его непосредственного круга в 1970–1980‐е годы варьировались от «взбесившегося графомана»[16] до «сатанинства». В предуведомлении к циклу 1982 года «40 банальных рассуждений на банальные темы» Пригов писал: «Будучи в Ленинграде, читая стихи, было мне объявлено Ольгой Александровной Седаковой (поэтессой, но московской): „Говорю вам от имени всех мертвых, что осталось вам всего год, чтобы избавиться от наглости и сатанинства“» [1: 134]. Этот пересказ, вероятно, является гротескно-игровым преувеличением, но нечто подобное вспоминают и другие участники первого выступления концептуалистов для ленинградских коллег[17]. Впоследствии О. А. Седакова отзывалась о Пригове с большим уважением, но обвинения в разного рода «кощунстве» ему предъявляли еще не раз.
Пригов часто публикуется в различных самиздатских журналах – в «37», «Обводном канале», «Часах», «Транспонансе», «Северной почте», «Метродоре» [см. об этом: Саббаттини 2019]. Пригов близко связан с тамиздатским журналом «А – Я» (1979–1986), выпускаемым в Париже уже названным выше художником Игорем Шелковским вместе с Александром Сидоровым (жившим в Москве). В первом же номере этого журнала появляется знаменитая впоследствии статья Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм», которая провозглашает близкий Пригову круг художников и литераторов единым эстетическим движением. (Правда, Пригов – как, впрочем, и Кабаков – в этой статье не упоминается.) Рядом, в том же номере – «стихограммы» самого Пригова. В 1985‐м выйдет «литературный» номер «А – Я», куда войдет большая подборка Пригова, его пьеса «Я играю на гармошке» и вновь «стихограммы». Но еще в 1980 году большая (почти 20 страниц) билингвальная подборка стихов Пригова появится в Австрии – в зальцбургском альманахе «NRL: Neue Russische Literatur»[18].
Перестройка радикально меняет жизнь Пригова: он участвует во многих проектах, становится одним из лидеров легализованных объединений поэтов и художников андерграунда (подробнее см. в Части IV), с 1987‐го часто выступает в других странах. Пригова начинают публиковать – в «Юности», «Огоньке», «Театре», «Театральной жизни» и даже в «Новом мире». Однако в ходе этой легализации распадается прежний концептуалистский круг. Причиной тут стала не только эмиграция нескольких его видных представителей – но и тот очевидный факт, что из общего семинара выросли разные индивидуальные стратегии. Впрочем, еще с начала 1980‐х Пригов начал делать «вылазки» из концептуалистского круга: сначала он принял участие, как уже сказано, в альманахе неподцензурных писателей «Каталог», объединившем авторов, очень разных по своим эстетическим позициям (Владимир Кормер, Николай Климонтович, Евгений Харитонов и др.), потом, уже в период перестройки, выступал в составе «трио» «ЁПС» – [Виктор] Ерофеев, Пригов, [Владимир] Сорокин, в поэтическом спектакле «Альманах» [см. о нем: Зорин 1990] и вместе с младшим поколением концептуалистов – в шутовской пародийной «рок-группе» «Среднерусская возвышенность». Эти выступления положили начало многочисленным коллаборациям Пригова с авторами разных поколений и направлений; разного рода совместные проекты продолжались вплоть до самой его смерти.
Растущая известность Пригова вызывает неприязнь его бывших коллег по андерграунду. Всеволод Некрасов упрекает его во всех возможных грехах, и прежде всего в популизме и «захвате» славы, «причитающейся» другим (см. подробнее в Части III). О «человеке-автомате», занятом «пиар-деятельностью», говорит Ю. Арабов [Кизевальтер 2014: 76]. «Пригов – это Путин…» – утверждает Ю. Лейдерман [Лейдерман 2017: 102]. Эти обвинения в претензиях на власть становятся еще одной формой изоляции художника в новых условиях – пусть эта изоляция и осталась мало кому заметной.
В то же время и сама пришедшая в годы перестройки популярность Пригова парадоксальным образом отчуждает будто бы застывшей маской реального развивающегося художника Пригова. В 1990‐е статус Пригова для многих групп читателей и слушателей близок к статусу «живого классика», происходит, по выражению М. Майофис, его «прижизненная канонизация» [Майофис 2010]. Как проницательно заметил М. Айзенберг,
…у Пригова публикуются стихи десяти-, двадцатилетней давности, картина получается странная, целое из кусочков не выстраивается. Общий ритм, стратегию изменения имиджа в состоянии отслеживать только узкий круг читателей. А ведь это и есть истинное произведение Пригова: четвертьвековое движение внутри существующей культуры, выстроенное как танец, как узор, но импровизированное, меняющееся. ‹…› Даже культурные и организаторские идеи Д. А. по большей части выверены так же серьезно и тщательно, как и художественные [Айзенберг 1997: 143].
По сути, эта проблема осталась неразрешенной и впоследствии. Пригов в 1990‐е и 2000‐е разнообразно экспериментирует (см. Часть IV), работая с новым дискурсивным материалом – нарративами и риториками глобальной массовой, политической, экономической культуры, – осваивает новые медиальные пространства и жанры: перформансы, видеооперы, романы. Однако для читающей публики он неизменно остается «певцом Милицанера», славным производством тысяч и тысяч нечитаемых стихов. Как справедливо отмечает М. Ямпольский: «…пресловутый Милицанер сыграл с ним дурную шутку: он [Пригов] закрепился в сознании многих как социальный клоун. А ведь Пригов был куда масштабнее и глубже» [Шаповал 2014: 221].
После того как жена Пригова Н. Г. Бурова в 1992 году восстанавливает свое британское гражданство и переезжает в Лондон, жизнь Пригова протекает между Лондоном и Москвой, а также десятками других городов и стран, где проходят его выставки и чтения, включающие либо его старые тексты, либо «оральные жанры» – азбуки, «мантры русской культуры». По словам Бориса Гройса, «в этот момент в работах Пригова произошел определенный сдвиг – от поэтического перформанса к визуальной продукции, которую составляли в основном рисунки и инсталляции. Можно сказать, что именно перестройка напрямую вывела Пригова в пространство визуального искусства» [Гройс 2016].
С 1990‐х годов все большее место занимает в его творчестве жанр визуального перформанса – как одиночного, так и в составе группы ПМП (2000–2004), в которую, кроме самого Дмитрия Александровича, входили его сын Андрей и Наталья Мали (отсюда и название группы: Пригов – Мали – Пригов). Со второй половины 1980‐х Пригов регулярно выступает либо вместе с джазовым музыкантом В. Тарасовым, либо в составе уже упомянутой группы «Среднерусская возвышенность» (даже играет на саксофоне), либо с другими музыкантами (С. Курехиным, В. Мартыновым, С. Летовым, М. Пекарским, Г. Виноградовым, Н. Пшеничниковой и др.) В качестве других, не менее показательных, примеров настойчивых попыток Пригова расширять сферу своей культурной деятельности назовем его сотрудничество с Алексеем Германом в кино (роль в фильме «Хрусталев, машину!», 1998), композитором Ираидой Юсуповой и видеоартистом и художником Александром Долгиным – в области видеооперы, Александром Пепеляевым в балете (роль Тригорина в балете «Альфа-Чайка», 2006), а с молодыми художниками из группы «Война» – в области публичных перформансов.
Постсоветскому творчеству Пригова посвящен в нашей книге весь последний, четвертый раздел. Здесь же приведем некоторые кажущиеся нам важными примеры интерпретации этого периода. Михаил Ямпольский в своей книге «Пригов: Опыты художественного номинализма» (2016) – первой монографии о Пригове – показывает, что именно позднее творчество Пригова с наибольшей ясностью высвечивает философский потенциал его эстетики, прежде заслоненный сатирической или политической злободневностью: «…объектом приговской концептуальной деконструкции являются не предметы, не концепты, даже не имена, а именно исторические культурно-языковые формации… Вообще говоря, концептуализм у него – это отражатель эволюции, времени, современности и неактуальности в отношении с современностью. А главный объект концептуализма – это морфология исторических формаций, или, если сформулировать более общо, – это морфология времени, пространственная структурная организация времени…» [Ямпольский 2016: 15].
По мнению Джейкоба Эдмонда, постсоветское творчество Пригова не только соединяет практики позднесоветского андерграунда с глобальной культурой, но и представляет особую форму критики последней:
…вместо простого противопоставления местной иконографии глобальному языку современного искусства… Пригов совмещает различные локальные и транснациональные языки и системы культуры, вскрывая их недостаточность для описания современности. ‹…› Тем самым Пригов демонстрирует, что природа глобального не едина, но множественна и складывается из различных дискурсивных систем. ‹…› Воспроизводя их в неожиданных и сложных переплетениях, Пригов обнажает свойственные им параллельные системы бинарных оппозиций – локального и глобального, конкретного и всеобщего, Востока и Запада, России и мира – и в то же время предлагает альтернативы, возникающие непосредственно внутри этих столкновений» [Эдмонд 2012].
Жадный интерес Пригова к новым формам и медиа объясняет, почему он, в отличие от многих ветеранов андерграунда, чрезвычайно внимательно и заинтересованно относился к новому поколению литераторов и художников. Глеб Морев отмечает, что «в молодежной среде 2000‐х годов он [Пригов] четко выделил фигуры, которые никак не зависели от его творчества – не наследовали и не подражали ему, но оказались важными для литературы нового столетия…» [Шаповал 2014: 206]. Не случайно в день смерти Пригова Дмитрий Кузьмин написал: «Вот должна быть фигура отца. Мало ли какие у тебя к нему претензии, и ты бы, конечно, всё в этой жизни сделал иначе (или не иначе), и, может, вы и живете раздельно с твоего младенчества, да еще и на разных континентах, но пока он есть, это одно дело, а когда его нет – совсем другое. Это не тот, кого ты больше всех любишь, или ценишь, или с кем ближе всех общаешься. Ну, в общем, наверно, для меня было в разное время четыре такие фигуры. И теперь не осталось ни одной» [Попов 2007]. Есть основания полагать, что это чувство с Кузьминым разделили и другие авторы следующих за Приговым поколений. Недаром диалог с Приговым от лица тех представителей младшего поколения, которые считают себя наследниками андерграунда, развивается и даже интенсифицируется в культуре 2010‐х – об этом см. в Заключении нашей книги.
О чем еще эта книга?
О революции в литературе, совершенной Приговым (Часть I).
Об антропологии советской культуры, которую он создавал средствами поэзии (Часть II).
О его месте в контексте литературы андерграунда 70–80‐х (Часть III).
О картографии новой эпохи и о новых формах существования литературы, с которыми Пригов экспериментировал в 1990–2000‐е годы (Часть IV).
А главное (используя выражение М. Айзенберга) – о сорокалетнем движении художника внутри культуры, «выстроенном как танец, как узор, но импровизированном, меняющемся», которое и составляет «истинное произведение» Пригова.
Часть I
Перформанс теории
Пригов принадлежал к нечастому для русской культуры типу рационалистических художников. Ситуация неофициальной культуры способствовала обострению рефлексивного начала у большинства авторов-участников, но у Пригова повышенная рефлексивность – как он не раз говорил в интервью и как становилось понятным из его действий – была свойством характера. Однако склонность к рациональным объяснениям своих и чужих действий ни в коей мере не ограничивает, а наоборот, обосновывает спонтанность и импровизацию, свойственные его творчеству: Пригов, как мало кто, понимал и чувствовал ограничения современной рациональности и в то же время – необходимость разворачивания эстетического действия внутри этих границ. Вот почему, несмотря на то, что существует довольно много научных попыток осмысления творчества Пригова – как историко-литературных (М. Эпштейн, А. Зорин, Г. Витте, С. Хэнсген, Б. Обермайр, Дж. Янечек, Л. Силард) и искусствоведческих (Б. Гройс, Е. Деготь), так и философских (М. Ямпольский, И. Смирнов), никто из исследователей, пишущих о Пригове, не смог избежать влияния его автоинтерпретаций, которые глубинно связаны с его теоретическими представлениями. Поэтому нам кажется логичным начать разговор о Пригове с обзора его теоретических идей, пытаясь одновременно соотнести их с общей логикой его творчества.
Теоретические высказывания Пригова – это синтетическая форма; рациональный анализ (в том числе и собственных практик) в них переходит в манифест, но при этом сам автор как бы разыгрывает «позу лица» (как говорил сам Пригов) теоретика, то и дело пародируя риторику научного высказывания.
По-видимому, Пригов хорошо понимал, что любой манифест чреват утопизмом и ригористическим утверждением правил, обязательных для всех «правильных» художников. Опыт ХХ века показывает, что манифесты могут стать прекрасными художественными произведениями, но изложенные в них программы очень быстро оказываются исчерпанными [см. об этом: Хобсбаум 2017: 17–23]. Однако в то же самое время манифесты бывают совершенно необходимы для целеполагания и рефлексии оснований художественного творчества на современном этапе. В своей «теоретической публицистике» Пригов попытался совместить такое целеполагание с критикой характерного для манифестов утопизма. Поэтому в них он часто показывает саму фигуру теоретика словно бы со стороны, изображая рефлексирующего художника по правилам, напоминающим брехтовский театр, в котором между актером и ролью всегда должен существовать зазор, напоминающий об условности. Но тем не менее Пригов вполне серьезно высказывает значимые для него идеи. Такое совмещение можно описать как перформанс теории.
Подобного рода манифестарное письмо – как и многие приговские перформансы, относящиеся к сфере искусства, – основано на осознанном и подчеркнутом переключении позиций: исследователя, остраненно рационализирующего культурные процессы, и автора, театрально разыгрывающего себя и свое место в культуре на (квази)научном языке. Для окончательного «подвешивания» фигуры повествователя и превращения ее в неуловимую Пригов то и дело вставляет в наукообразные тексты оговорки с отказом от претензии на научность, но и сами эти оговорки пародийны по интонации, например: «Так ведь мы не ученые какие-нибудь». В другом тексте, однако, Пригов мог сменить маску на противоположную по смыслу: «Но мы ведь с вами люди науки, мы ведь следим тенденции, отслеживаем процессы, выявляем закономерности, ошибаемся в результатах, меняем направление, не замечаем реальности, погибаем в деталях, обманываемся в причинах, обнаруживаем сокрытое и достигаем результата. Так вот…» [5: 17].
У Пригова есть и тексты, написанные для академических сборников, но и в этом случае они деконструируют стиль научного письма и мышления. Часто его теоретический нарратив включает в себя и деконструкции самой операции постулирования аксиом. Любимое присловье, которое Пригов вводил при формулировке какой-нибудь особенно провокативной или эпатажной мысли: «А что, нельзя? – Можно!..», «А что, неправильно? – Правильно…», «А что, неправда? – Правда…» [5: 165, 204, 206, 258, 315, 472, 496, 606, 630].
Особенно ярко промежуточный статус приговских теоретических идей заметен в «предуведомлениях», сопровождающих большинство циклов-сборников, в которых Пригов объединял свои тексты. По точному определению Льва Рубинштейна, приговские предуведомления мерцают между художественностью и (квази)научностью:
Предуведомление является в такой же мере квазитеоретическим, как следующие за ним тексты – квазихудожественными. Более того. Интрига каждого такого цикла – в «мерцательном» распределении ролей между «теоретизированием» и «художествованием». Роли закреплены не жестко. Теория оказывается художественной в той же мере, в какой «теоретично художество». Всегда как бы неясно, что что разъясняет, и что что иллюстрирует [Рубинштейн 1997: 231].
В каждом из предуведомлений обосновывается эстетический эксперимент, реализованный в стихах или в прозаических сочинениях соответствующего цикла. Обычно каждое такое объяснение, пародийное по смыслу, одновременно было призвано решать совершенно серьезные аналитические задачи. Эксплицитно Пригов писал об этих задачах только в самых ранних сборниках, связывая жанр предуведомлений с ретроспективным самоанализом:
Формирование всякого сборника окончательно определяется для меня рождением его названия и возникновением предуведомления. Если название обыкновенно выплывает где-то в середине написания сборника и в какой-то мере само конструирует остатную часть, то предуведомление уже есть ретроспективный взгляд на сотворенное, свидетельство не его эстетической ценности, но причастности к моей судьбе. (Кстати, именно по этой границе проходит различение официальной и неофициальной поэзии. Вроде бы и там и там есть таланты, и там и там есть стихи – но цена платится за них разная. Кстати, хотя и эмиграция платит тоже цену немалую, но иную, не нашу, наша местная валюта неконвертируема ‹…›) [3: 277].
Однако уже вскоре Пригов отказывается от прямого выражения экзистенциального пафоса. Комментируя всего через два года свою рефлексию в переписке с Ры Никоновой, Пригов предлагал воспринимать его «предуведомления» только как «указатель, указывающий пальцем на место автора вне текста, на отношение его к данной поэтической системе как к одному из возможных языков поэзии» [5: 529]. Позже, уже в 1990‐е, Пригов опубликовал свои «предуведомления» отдельной книгой [Пригов 1996]. Вероятно, он полагал, что к моменту выхода этого сборника уже известный читателю контекст его творчества поможет воспринять «предуведомления» как тексты особой, двойной природы.
Джеральд Янечек отмечает, что предуведомления Пригова в конечном счете становятся самодостаточными высказываниями, не справляясь с возложенной на них задачей оправдать и обосновать избранный в данном цикле метод письма. Продолжая мысль Рубинштейна, он пишет о «квазилегитимации, мерцающей между видимым успехом и провалом. Мы даже не уверены, кто говорит – реальный автор или придуманный персонаж. Поэтому не может быть уверенности и в том, успешны, неуспешны или сознательно искажены приведенные аргументы» [Janecek 2018: 28][19].
Несмотря на то, что приговские идеи претерпевали известную эволюцию (о которой пока можно говорить достаточно гипотетически, поскольку многие его тексты не датированы), эта эволюция была непротиворечивой. Новый слой идей «надстраивался» над предыдущим, не отрицая, а наращивая предшествующую рефлексию. В целом в развитии теоретических взглядов Пригова можно довольно отчетливо увидеть три слоя – или этапа.
Первый – это идеи, высказанные в самых ранних известных нам манифестах Пригова и сформировавшиеся в конце 1970‐х – начале 1980‐х годов. В предуведомлении к книге «Картинки частной и общественной жизни» (1979) Пригов назвал свой стиль «соввитализмом», обозначив его специфику как демонстрацию внутренне напряженного равновесия между идеологическим «излучением» власти и «низовой», повседневной, антиидеологической по своей природе жизнью:
…Определил я свой стиль как соввитализм. Уже из двух составляющих можно понять, что он имеет отношение к жизни (в данном случае термин «витализм» взят именно для акцентирования некоего всеобщего и всевременного значения понятия «жизнь»), и к жизни именно советской. Т. е. этот стиль имеет своим предметом феномен, возникающий на пересечении жесткого верхнего идеологического излучения («верхний» в данном случае чисто условное понятие ‹…›) и нижнего, поглощающего, пластифицирующего все это в реальную жизнь, слоя жизни природной [4: 272–273].
Но все же в фокусе его внимания был преимущественно «московский романтический концептуализм» как особая форма рефлексии советского историко-психологического опыта и новый, актуальный тип эстетической реакции на современность:
Мне сдается, что в наше время происходит, если уже не произошел… перелом в художническом и культурном сознании. ‹…› Концептуализм… берет готовые стилевые конструкции, [ис]пользуя их как знаки языка, определяя их границы и возможности, их совмещения и совместимости (это про меня) [5: 528–529].
Статьи, эссе, «предуведомления» лекции, интервью начала и середины 1990‐х составляют второй этап. В них Пригов предстает как едва ли не единственный автор из числа «классических» русских концептуалистов, готовый последовательно обсуждать, как работает концептуалистский метод на материале постсоветского сознания, в условиях кризиса идеократического общества, глобализации и появления новых для постсоветского контекста эстетических языков: феминизма, гей-культуры, новой телесности и пр.
Третий этап – конец 1990‐х и 2000‐е годы. В это время Пригов, последовательно развивая собственные идеи, уже явно «перерастает» проблематику «классического» концептуализма и все больше обращается к идеям «новой антропологии», к мультимедийной эстетике и – на новом по сравнению со второй половиной 1990‐х уровне – к рефлексии «высокого» европейского модернизма.
Противоречий между этими слоями нет, поскольку все они структурированы центральным для Пригова вопросом: что представляет собой эстетическую новизну в современной культуре? Как оставаться «на острие» современной культурной эпохи? Поиски ответа на этот вопрос предполагают, с одной стороны, рассуждения о типологии культуры и культурном смысле современности, а с другой – обсуждение различных эстетических стратегий, которые так или иначе «производят» новизну в искусстве и культуре.
С конца 80‐х годов Пригов неустанно возвращается к мысли о высоком динамизме смены культурных поколений во второй половине ХХ и начале XXI веков. По логике Пригова, если в прошлом любой стиль воспроизводился на протяжении жизни нескольких поколений, то в современной ситуации обновление эстетических идей, формирующих новую стилистику, происходит каждые 5–7 лет. Поэтому слово «поколение» в современном искусстве берет свой смысл не из демографического, а, скорее, из научно-технического, инженерного языка: «поколение» в искусстве ныне отсылает не к представлению о сменяющихся каждые 20–30 лет социальных генерациях, а, скорее, к метафоре «компьютер (или самолет) нового поколения».
Поэтому важнейшей эстетической категорией – во всяком случае в лексиконе ДАП – становится «дар культурной вменяемости». Художнику необходимо поспевать за сменой этих «коротких поколений» или, по крайней мере, осознавать, что художники того демографического поколения, в кругу которых происходило его становление, могли давно уже застыть в эстетической неподвижности и, следовательно, перестать быть актуальными. Впрочем, отмечал в 1990‐е Пригов, в литературе смена культурных поколений происходит гораздо медленнее: если сравнивать с визуальным искусством, то современная русская литература соответствует этапу развития, характерному только для начала 1960‐х.
Неспособность вписаться в контекст нового культурного поколения обрекает авангардного художника либо на непонимание аудитории, либо на повторение пройденного, или, как говорил Пригов, «художественный промысел». Под последним Пригов понимает искусство, лишенное стратегической новизны: «…практически любая неактуальная художественная практика от матрешек до супрематизма или поп-арта, когда известны способы порождения текстов, типы авторского поведения, социализации и институционализации, а также заранее известны способы зрительской перцепции (считывание текста) и виды реакций, в отличие от так называемых радикальных практик» [Словарь терминов 1999: 192]. Именно «художественному промыслу» в понимании Пригова и противостоит актуальное или радикальное искусство, обязанное предлагать неизвестные еще «способы порождения вещей и текстов, способы явления, утверждения и бытования художника в культуре и искусстве, способы восприятия всего этого культурой и публикой». Поэтому его теоретические концепции представляют собой постоянный поиск стратегической новизны, подрывающей диктатуру «художественных промыслов».
К «формуле» своего понимания актуального искусства сам Пригов приходит во время перестройки (конце 1980‐х – начале 1990‐х), когда у него впервые появляется возможность сформулировать свои находки в виде манифестов. Он продолжает их оттачивать и апробировать до конца своей жизни. В самом грубом виде эти принципы можно сформулировать таким образом[20].
1. «Сведение в пределах одного стихотворения, текста нескольких языков (т. е. языковых пластов, как бы „логосов“ этих языков – высокого государственного языка, высокого языка культуры, религиозно-философского, научного, бытового, низкого), каждый из которых в пределах литературы представительствует как менталитеты, так и идеологии. То есть происходит сведение этих языков на одной площади, где они разрешают взаимные амбиции, высветляя и ограничивая абсурдность претензий каждого из них на исключительное, тотальное описание мира в своих терминах (иными словами, захват мира), высветляя неожиданные зоны жизни в, казалось бы, невозможных местах. К тому же концептуальное сознание не ставит знак предпочтения или преимуществования ни на одном языке, полагая заранее истинность в пределах их, если можно так выразиться, аксиоматики» [5: 253].
2. «Этика невлипания» (или мерцания) – то есть отсутствие идентификации автора с одним из вовлеченных дискурсов, техника критики противоположных, казалось бы, позиций: «этика художнического поведения как незадействованность, невлипание ни в один конкретный дискурс, но просто явление его в соседстве с любым другим или другими, то есть актуализируясь в текстовом пространстве в виде швов и границ…» [5: 271]. Важным, если не важнейшим аспектом этой этики становится «проблематичность личного высказывания» [5: 273];
3. Персонажность автора, для которого теперь «в отличие от предыдущих авторских поз, как бы нет пласта, разрешающего авторские амбиции. В данном случае если обычного исповедального поэта (чья поза по разным причинам в нашей культуре и читательском сознании идентифицируется с единственно истинной поэтической позой) в его отношении с текстом можно уподобить актеру, в идеале совпадающему с текстом, то отношение поэтов нового направления к тексту можно сравнить с режиссерским, когда автор видимо отсутствует на сцене между персонажами, но имплицитно присутствует в любой точке сценического пространства. Именно введение героев в действие, способы разрешения конфликтов и выведение персонажей из действия и объявляют особенности авторского лица. Нужно напомнить, что герои этих спектаклей – не персонажи (даже типа зощенковских), но языковые пласты как персонажи, однако не отчужденные, а как бы отслаивающиеся пласты языкового сознания самого автора» [5: 253]. Отсюда же отказ от «авторского маркированного языка, совпадающего с центральным положением художника – описателя мира ‹…› отсутствие утопически проективного пафоса…» [5: 270].
4. И как обобщающее условие одновременной реализации всех этих стратегий одновременно выступает перформатизм, или перенос «центра активности художника в сферу манипулятивности и операциональности» [5: 271]; «жест, авторская поза ‹…› ограничивающий авторскую волю, авторское участие именно этим жестом, обретающим в культурном пространстве ‹…› самостоятельное, хотя и внетекстовое значение» [5: 254].
Рассмотрим эти принципы более подробно.
1. Перформатизм и «центральный фантом»
Поэтическое творчество Пригова отчетливо отразило сдвиг целого ряда молодых московских авторов (А. Монастырский, Л. Рубинштейн) в сторону перформативности, обозначившийся в начале 1970‐х годов, – в случае Пригова этот поворот произошел около 1973 года. Впоследствии он сам иронически определял стихи, написанные до этого времени, как «ахматовско-пастернаковско-заболоцко-мандельштамовский компот». От его последующего творчества они отличаются прежде всего разницей в фокусе. Если в ранних стихах в центре внимания находится мир, увиденный с более или менее устойчивой (хотя и гротескно сдвинутой по отношению к предшественникам) точки зрения, то начиная с «Исторических и героических песен» (1973) Пригов концентрирует внимание на сознании и языке, порождающих данный текст. С этого момента тексты Пригова стремятся представить панораму субъектов культуры, сначала – советских, позднее – сформированных глобальной культурой, а затем и представляющих собой особого рода футурологические экстраполяции.
По мысли Пригова, главное в современной культуре – не что, а кто создал то или иное произведение: именно «кто» определяет модальность читательского отношения к высказыванию. Но само это «кто», то есть «я» художника, существует только в режиме постоянного разыгрывания собственного статуса. Пригов говорит об «акцентированно-знаковом» поведении художника, которое включает в себя и тексты, но не ограничивается ими, и, более того, диктует значение и понимание этих текстов: «Только из имиджа и поведения самого художника, в пределах его большого проекта, можно идентифицировать субстанциональную сущность данного произведения, – пишет Пригов в программной статье «Что делается? Что у нас делается? Что делать-то будем?» (2000) и добавляет: «Текст стал частным случаем более общего художественного поведения и стратегии. Этот способ объявления в зоне искусства имеет нематериальный характер – в некой, скажем так, виртуальной зоне возникает образ-имидж художника» [5: 194, 195].
Вот почему репрезентация разных субъектов культуры – Пригов называет их «имиджами» – предполагает перформативность. Пригов этого слова не употребляет, предпочитая говорить о поведенческом уровне, операционности, персонажности, имиджах и т. п. Вероятно, дело в том, что для него перформанс – это лишь частный случай более широкого принципа, о котором идет речь. (Он четко различает хэппенинг, акцию, перформанс и проект – но именно проект, т. е. мегаперформанс, вбирающий в себя все формы операционной эстетики и в предельном случае развивающийся в течение всей жизни автора[21], представляется наиболее адекватным определением главного жанра его собственной деятельности.)
Репрезентация разных типов сознания через дискурсивные акты создает значимую дистанцию между скрытым авторским голосом и «имиджем». Величина этой дистанции постоянно изменяется в тексте: не всегда ясно, насколько автор отличается от «имиджа» и отличается ли. Однако на проблематичности и изменчивости этой дистанции основана вся поэтика Пригова. Каждый текст строится как перформанс конкретного воображаемого – и изображаемого – субъекта. Фигура автора то сливается с ним, то отделяется от него; то конструирует, то деконструирует. При этом кажется, что субъект, чей «имидж» предстает перед нами, порождает текст, хотя, конечно, на самом деле, этот субъект создается самим текстом, его речевым строем, образностью, мифологией и т. п. Прав И. П. Смирнов, писавший: «Каждый стихотворный цикл в приговском творчестве – это перформативный акт заново созидающего себя субъекта» [Смирнов 2010: 193].
Приговские «имиджи» представляют собой частный случай феномена «персонажного автора», широко распространенного в искусстве московского концептуализма, – от В. Комара и А. Меламида, создавших художников-персонажей, вроде Апеллеса Зяблова, крепостного художника-абстракциониста XVIII века, до младоконцептуалистов, Свена Гундлаха (введшего в обиход термин «персонажный автор»[22]), В. Захарова, В. Скерсиса, Ю. Альберта и К. Звездочетова.
Особенно близким к приговскому представляется метод Ильи Кабакова, создавшего целую плеяду персонажных авторов и посвятивших осмыслению этого феномена два теоретических эссе («Художник-персонаж» и «О художнике-персонаже»). Кабаков, например, писал, и под этим определением подписался бы и Пригов:
«Художник-персонаж» не ориентирован на производство «шедевра». Его главным произведением, предметом его постоянного внимания становится он сам, вся его деятельность в качестве персонажа, понимаемая им как единое целое, как единый продукт всей его жизни [Кабаков 2010: 613].
В другом месте, говоря о персонажности, Кабаков подчеркивает внимание к языкам культуры и общества как предмету художественного исследования:
Причина, по которой главный автор пользуется другими авторами, состоит в том, что для него важным является не откровенный, искренний, подлинный язык, а отношение к языку вообще. Язык любого автора выступает в форме вообще какого-то языка. Причем интересно, что эти языки могут быть как социально значимые (язык халтурщика, страстного художника, язык дилетанта-бюрократа), так и языки, которые могут быть придуманы персонально. … Все языки – не авторские, а плавающие в каком-то социально-художественном поле… [Кабаков и Эпштейн 2010: 297–298]
Характеристика парадоксального сочетания «своего» и «чужого», «безличного» и «личного», которую дает творчеству Кабакова Е. Бобринская, также представляется точной и по отношению к «методу» Пригова:
В отличие от прямых цитат чужого живописного языка, персонажная стилистика Кабакова представляет сконструированный «стиль», некий синтез свойств, разбросанных в произведениях различных советских художников. Иными словами, мы имеем дело с придуманным «стилем». И значит – авторским. Эта стилистика складывается в равной мере из «чужого» языка советской живописи и из собственного навыка «разговора» на этом языке. Она одновременно дистанцирована от художника Кабакова и внутренне присуща ему.
Все художники-персонажи Кабакова говорят на одном и том же языке. Принципиальное свойство этой стилистики, которое декларирует Кабаков, – анонимность, отсутствие выраженного авторского почерка… Однако внутри этого «изобретенного», подсмотренного, апроприированного живописного языка явно присутствуют следы конкретного автора – его индивидуальный почерк [Бобринская 2013: 242].
Е. Бобринская, подробно проанализировавшая «персонажный метод творчества» в неофициальном искусстве, раскрывает его парадоксальность: присвоение наиболее банальных, анонимных и «пустых» форм и языков советской культуры становится в творчестве художников-концептуалистов способом производства индивидуальной субъектности:
Художники-концептуалисты оказываются вовлечены в создание технологий производства «индивидуального» и одновременно демонстрируют иллюзорность и сомнительность всех результатов таких технологий. … Персонажный метод творчества оказывается для концептуалистов основной стратегией в производстве и одновременно деконструкции субъективности, индивидуальных и коллективных, своих и чужих языков [Бобринская 2013: 22–23].
И это в полной мере относится и к Пригову, который, неустанно апроприируя, тем не менее действительно создал свой оригинальный стиль, узнаваемый, по выражению С. Бунтман, с первой строки.
Сам Пригов не раз объяснял механику «персонажного авторства» с точки зрения литературы, а не изобразительного искусства. Например, о своей «женской поэзии» Пригов говорит: «Я нисколько не притворяюсь ни Ахматовой, ни Цветаевой, ни даже некоей женщиной – Черубиной де Габриак. Это не входит в мою задачу. Есть мои герои, мои персонажи» [Зорин 2010, 437]. А в беседе с Михаилом Эпштейном Пригов описывает процесс дискурсивного перевоплощения как сопоставимый с актерским перевоплощением:
М. Э.: То есть когда, допустим, Вы пишете женские стихи, то Вы не только отчуждаете и деконструируете этот дискурс, но в какой-то мере…
Д. П.: И впадаю в него!
М. Э.: И впадаете в него, вписываете его в себя.
Д. П.: ‹…› Действительно, в какой-то момент я искренне впадаю в этот дискурс. Проблема не в том, чтобы обмануть читателя, чтобы он так себя вел. Проблема в том, что ты должен сам быть невменяемым в этом отношении.
М. Э.: То есть это в какой-то мере экзистенциальная задача?
Д. П.: Это психосоматическая задача. Ну, экзистенциальная в переводе на уже личные проблемы какие-то. А вообще-то это как психосоматическая, почти медитативная задача. Это род вообще работы над собой, это род такого тренинга. Но я делаю, скажем, не йоговские упражнения для, так сказать, владения плотью. Я делаю некие сознательные долгие процедуры, выработал собственные, для работы со своим оценочным методологическим аппаратом, языковым и дискурсивным [Эпштейн – Пригов 2010: 69–70].
Более самоиронично этот же механизм описан в стихотворении из цикла «Искренность на договорных началах, или Слезы геральдической души» (1980):
- Заражен бациллой модернизма
- Что б разрушить – я вокруг гляжу
- От христьянства до социализма
- Чтоб разрушить, все внутри ношу
- А пока ношу – то забываю
- Что разрушить собственно хотел
- Уж не разделяю наших тел –
- Все свое люблю и обожаю [4: 283]
Пригов выступает и как «драматург», и как «актер, и как «режиссер» собственного творчества. Возможно, он первым создал в русской культуре эстетическую систему, целиком и полностью основанную на том, что в девяностые годы в западном теоретическом дискурсе получило название «перформативное письмо» (performative writing[23]). Но перформатизм у Пригова не сводится лишь к театрализации «сцены письма»[24], поскольку для Пригова и само письмо не является ни единственной, ни даже доминирующей сферой деятельности современного художника. Одновременно с моделированием субъектов культуры Пригов преследует и более масштабную цель, которую можно определить как перформанс нового типа художественного поведения. Именно в повороте к «поведенческому» аспекту Пригов видит существо и своего творчества, и вообще деятельности современного художника.
Вот почему столь важной категорией эстетики Пригова является «назначающий жест»: «Чем отличается язык художественного произведения, вернее сам художественный текст от любого другого – да ничем. Исключительно жестом назначения. То есть помещением в определенный контекст и считывание его соответствующей культурной оптикой… Автор в этом случае вычитывается не на языковом, а на манипулятивно-режиссерском уровне, где языки предстают героями его драматургии» [5: 334]. «Назначающий жест» можно интерпретировать как проявление «режиссерской» функции современного художника, однако, это понятие явно шире, поскольку предполагает операции не на уровне конкретного текста или даже медиа, а в целостном контексте культуры, где нечто, до сего момента не воспринимаемое как эстетический объект, в результате назначающего жеста приобретает такую функцию.
Разумеется, задолго до Пригова было известно: то, что прежде считалось «нехудожественным», может быть включено в сферу «искусства». На этой идее, например, основана статья Юрия Тынянова «Литературный факт» (1924). По мнению Тынянова, «не-литературное» превращается в «литературное» благодаря «приложени[ю] конструктивного фактора к материалу, ‹…› „оформлени[ю]“ (т. е. по существу – деформации) материала» [Тынянов 1977: 261]. Но у Тынянова предполагалось, что такое «приложение конструктивного фактора» делает обновленную поэтику словно бы частью авторской идентичности: если, например, Алексей Крученых сделал заумь фактом литературы, то он и превращается ipso facto в «того, кто легитимизировал заумь». Идея назначающего жеста разрывает эту связь: тот, кто «назначает» те или иные явления или практики «искусством», совершенно не обязан превращать их в часть своей литературной идентичности или в свою «торговую марку». Это именно жест, то есть не «присоединение к себе», а «указание на то, что находится вовне».
Концепция Тынянова стала утонченным и новаторским для своего времени выражением эстетической парадигмы, которая господствовала в европейском и американском искусстве еще несколько десятилетий после публикации его статьи – приблизительно до 1960‐х годов. Пригов в своих многочисленных текстах с упоминанием «назначающего жеста» исходил уже из парадигмы следующего, постмодернистского этапа развития культуры, акцентируя прежде всего разрыв между самосознанием художника и любым законченным индивидуальным «стилем» или коллективными социолектами и идеолектами.
Пригов понимает «жест» очень широко – как действие, осуществляемое из метапозиции, занятой по отношению к «местному», то есть советскому, или, по выражению Кабакова, «собачьему» языку. Занимая такую позицию, художник одновременно признает этот язык своим собственным и занимает по отношению к нему критическую дистанцию, осуществляя тем самым своего рода феноменологическую редукцию «советского» в собственном сознании – и тем самым ставя под вопрос «принадлежность» сознания – субъекту: «мое» сознание – никогда не вполне «мое»[25].
Что же такое жест в понимании Пригова?
Жест в системе приговских идей – это заметное в публичном пространстве действие, по своей природе одновременно социальное и эстетическое; жест конституирует воображаемую субъективную инстанцию, которую можно назвать литературной личностью. Например, в предисловии к публикации в американском журнале «Berkeley Fiction Review»[26] таких разных поэтов, как Елена Шварц, Виктор Кривулин, Ольга Седакова, Лев Рубинштейн и сам Пригов, он пишет: «жест в насыщенном культурном поле обрел значение почти равное тексту, судьба, четкое выстраивание поэтической позы со всей отчетливостью осозналось как важнейший компонент поэтики». Общим для всех этих авторов (в отличие от, например, тоже не публиковавшихся ранее Еременко, Парщикова, Жданова), по Пригову, были: неизвестность, невключенность и непримиримость; «…в отличие от культуры общепризнанной, повязанной разного рода внутренними и внешними, субъективными и объективными ограничениями, нормами, правилами этикетного поведения [Шварц, Кривулин, Седакова, Рубинштейн и он сам] не только свободны от всего подобного, но и почитают за основной принцип своего культурного поведения, позы, доведение до предела обнаженности своих культурно-поэтических пристрастий» [5: 117]. Жест в такой интерпретации реализует поведенческую стратегию, которая включает в себя и собственно поэзию.
Приговское понимание жеста принципиально отличается от модернистского жизнетворчества, которое предполагало превращение повседневной жизни в объект художественного творчества. Напротив, Пригов предлагает «оплотнение» творческого поведения, складывающегося из «жестов», «текстов» и выбора эстетических ориентиров, до нового «агрегатного состояния» – отрефлексированной личной концепции, последовательно реализуемой на протяжении многих лет. Эти-то персонализированные концепции и дают авторам, о которых он говорит, возможность сопротивляться агрессии советской литературной системы, по сути – безличной[27].
Жест у Пригова порождает действие, при котором художник вдруг может взглянуть со стороны на коллективные, обобществленные дискурсы, на которых ему приходится говорить или думать, одновременно – доводит эти дискурсы до гротескного или забавного вида и тем самым изобретает заново себя, свое «я». Жест требует умения – и сознательного стремления – вычленять в своем сознании «общие», безличные клише, изобразительные и словесные. Такое стремление отделяет художников-концептуалистов не только от художников-метафизиков, таких, как Михаил Шварцман, но даже и от более ироничных и абсурдистски настроенных авторов, таких как Владимир Немухин, не склонный, однако, к прямой рефлексии идеологически окрашенного языка. Более того, примерно такая же разница прослеживается и между Приговым и такими уже упомянутыми неподцензурными авторами, как Елена Шварц, Виктор Кривулин (впрочем, его позиции конца 1990‐х стали гораздо ближе к приговским, чем, например, в 1980‐е) или Ольга Седакова[28].
В этом смысле Пригов как постмодернист выступает последовательным критиком модернизма и любых его влияний; чтобы подчеркнуть радикализм своей позиции, он был готов критиковать и канонизированную в русской неофициальной культуре эстетику Мандельштама и Ахматовой, объявляя их поэтики глубоко устаревшими. Они устарели, считает он, потому что в их творчестве явлен образ поэта, давно ставший клише или «художественным промыслом», по выражению Пригова. Это образ поэта как носителя сакрального дара высказывать истину.
Из типологии жестов вырастает приговская типология культуры, в основании которой лежит представление о «больших драматургических взаимоотношениях культуры и творческой личности». Иначе говоря, Пригов описывает культуру через то, каким образом в ней представлена фигура художника, всегда отвоевывающего новые культурные территории и, условно говоря, стоящего на границе важнейших для данной культуры (в приговском понимании, конечно) оппозиций.
В манифестах конца 1980‐х – начала 1990‐х годов Пригов утверждал, что в разные эпохи в искусстве поочередно приобретали то бóльшую, то меньшую значимость разные уровни произведения: «идейно-мировоззренческий, сюжетно-содержательный, образно-метафорический, конструктивно-версификационный, культурно-ассоциативный и экзистенциально-творческий. ‹…› В разные времена на поверхности вод появлялся какой-нибудь позвонок этого огромного позвоночника» [5: 527]. Преобладающее влияние того или иного «позвонка», уровня, определяло «большой стиль» эпохи. Современная же эпоха отменяет саму идею подобного сменяющегося доминирования уровней, так как допускает сосуществование разных стилей – «…художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки», – пишет Пригов Ры Никоновой в 1982 году [5: 529].
В текстах конца 1990‐х – начала 2000‐х годов Пригов говорил о том, что сегодня происходит завершение четырех крупных социально-культурных «проектов». Первый, Возрожденческий, основан на оппозиции «автор – не-автор»: автор заявляет свое право на индивидуальное творчество, отвоевывая его у анонимной традиционалистской парадигмы. Просвещенческий проект прибавляет к возрожденческому образу художника-титана новую составляющую – учителя, просветителя и мудреца. Основным содержанием авторства для этого типа культуры становятся правда и/или знание, противостоящие лжи властей и невежеству масс. Следующий проект – Романтический. В этом проекте художник обретает функцию медиатора между высоким и низким, хотя наполнение этих категорий у каждого автора может быть своим: «Хлебников представлял себя посредником между древними глубинными тайнами языка и повседневностью речи. Маяковский – между высшей энергией социального бунта и банальностью обыденной жизни» («Завершение четырех проектов», ок. 1999 – 5: 186). Наконец, четвертый проект – Авангардный. Его основа – преодоление оппозиции «искусство – не искусство»: «основная драматургия авангардного типа поведения… была явлена в постоянно[м] расширени[и] зоны искусства, пока зоны неискусства не осталось. То есть зоной искусства оказались все возможные сферы манифестации художника с доминирующим назначающим жестом» («Вторая сакро-куляризация», 1990 – 5: 157). В сущности, именно в этой культурной фазе «назначающий жест» становится главной функцией художника, что радикально изменяет его идентификацию.
Внутри авангардной эпохи Пригов выделяет «три возраста» авангарда. Первый – футуристически-конструктивистский, он связан с «вычленением предельных онтологических единиц текста» и вычислением «истинных законов построения истинных вещей». Частью этой стратегии является «переход художников в сферу практической и социальной деятельности». Именно эта стратегия, как считает Пригов вслед за Б. Гройсом как автором книги «Стиль Сталин» [см.: Гройс 2013], послужила идеологическим и психологическим основанием тоталитарной культуры, которая лишь перевела авангардные принципы на макроуровень, «обнаружив и объявив „большие“ онтологические единицы текста, как бы макромолекулы, которыми можно оперировать как ненарушаемыми» [5: 159], – класс, народ, партия, история.
Второй «возраст» – абсурдистский, выявивший «абсурдность всех уровней языка, [его] недетерминированность никакими общими закономерностями, ни общей памятью, ни общедействующими операционными законами» [там же]. В России этот тип авангардной культуры, считает Пригов, «сумел перекодировать элементы [существовавших на тот момент] языковой тактики и стратегии, совпав по времени с западным новым авангардом – результатом прямого наследия традиции» [5: 160].
Наконец, третий возраст идентифицируется как поп-артистско-концептуалистский и выступает в качестве псевдодиалектического синтеза двух предыдущих возрастов: «Пафосом третьего периода стало утверждение истинности каждого языка в пределах его аксиоматики… и объявление его неистинности, тоталитарных амбиций в попытках выйти за пределы и покрыть весь мир собой» [там же].
Именно в этот период эволюции авангарда художник «оказывается в метаязыковой зоне операционального уровня», что порождает смешение разных видов искусств, различия между которыми «отменяются на уровне авторской языковой поведенческой модели» [там же]. Как Пригов говорит в одном из интервью: «Только с концептуализмом пришел менталитет не текстовой, а операциональный, когда представители литературы не надстраивали новый стилистический слой, а представили динамическую модель. Для них все слои стали персонажами» [Шаповал 2003: 16]. Именно здесь, полагает Пригов, и наступает «конец текстоцентризма»: литература становится «ресурсом текстового и персонажного цитирования». «Операция, синоним жеста» берет на себя роль «единицы текста».
Перформативность – в этой интерпретации – пронизывает все без исключения практики художника. В интервью Алене Яхонтовой Пригов так описывает собственную деятельность:
…Для меня все ‹…› виды [моей] деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП – Дмитрий Александрович Пригов. Внутри же этого цельного проекта все виды деятельности играют чуть-чуть иную роль. То есть они есть некоторые указатели на ту центральную зону, откуда они все исходят. И в этом смысле они суть простые отходы деятельности этого центрального фантома [Пригов – Яхонтова 2010: 74].
Авторский «центральный фантом» становится по этой логике главным продуктом тотального перформанса, включающего в себя тексты, картины, инсталляции, собственно перформансы и любые публичные высказывания (например, интервью). Его можно было бы сопоставить с «первичным автором» из черновых записей М. М. Бахтина [Бахтин 2002: 412], но с оговоркой: Бахтин, кажется, считал этого «первичного автора» эманацией реального «я», для Пригова же само существование единого «я», единого субъекта, стоящего за этим «первичным автором», было проблематичным, если не сомнительным. Более того, сам этот виртуальный автор и был главным произведением Пригова. «Нет и не было никакого Пригова. Он придумал, вылепил какого-то Дмитрия Алексаныча, наделил его особым языком, голосом и неповторимой интонацией, а сам исчез!» [Пивоваров 2010: 699].
В пределе речь идет о перформативной жизни автора, о «поведении, обнаруживающемся в пределах неигрового вида искусства, где привычный конвенциональный профессиональный язык не предполагает (вернее, до определенного времени не предполагал) появление самого творца, релятивизирующего тем самым ценность, прочность, однозначность и самодостаточность языка произведенных им объектов» («Оценки по поведению», 1990‐е гг. – 5: 326).
Эрика Фишер-Лихте в своей «Эстетике перформативности» выделяет три главных эффекта этого феномена: (1) автопоэзис – обратная связь со зрителем и материальным окружением, которые влияют на ход перформанса, (2) разрушение бинарных оппозиций и (3) создание ситуации лиминальности [Фишер-Лихте 2015: 293–327]. В приговском творчестве первая черта заметно ослаблена – зритель редко влияет на его перформативный проект, зато акцентированы вторая и особенно последняя черты. Благодаря перформативности, разрушение бинарных оппозиций происходит не только в постмодернистских текстах Пригова, но и в создаваемом им «авторском контексте», который дестабилизирует оппозицию между имиджем и аутентичностью, между «Я» и «Другим». Эта дестабилизация порождает у зрителя или читателя психологическое напряжение («Это он серьезно или нет? Это он о себе или нет?»), которое разрешается смехом. Пограничность, или лиминальность, этой ситуации выражается именно в потере ориентации, выходе за пределы привычных бинарных дихотомий («жизнь»/«искусство», «автор»/«герой», «означаемое»/«означающее») и радости от этой опасной свободы.
Приговская концепция перформативности отчетливо резонирует с теорией перформативной (гендерной) идентичности, созданной Джудит Батлер. Подобно Батлер, хотя и независимо от нее, Пригов исключает всякую возможность «додискурсивного» Я в структуре идентичности (в его случае – художественной). Как Батлер, так и Пригов видят в идентичности исключительно эффекты языка и языковых практик (а не наоборот), понимая перформативность как род цитирования. Оба обнажают репрессивные социальные и культурные нормы, оформляющие политики идентичности. Вместе с тем приговская перформативность – это именно практика, избегающая стабилизации и ускользающая от конвенциональности, что совпадает с батлеровской концепцией идентичности как практики [см.: Butler 1990: 145]. Не случайно приговская перформативность перекликается с феминистическими концепциями квир-идентичности, поскольку и в том, и в другом случае речь идет о формировании де-центрованной субъектности, которая манифестирует себя через процесс трансгрессии границ, разделяющих дискурсы и тела, социокультурные идентичности и формации. Например, известный теоретик феминизма Тереса де Лауретис понимает идентичность как «локус множественных и вариабельных позиций» [De Lauretis 2007: 174][29]. Ее характеристика «эксцентричного субъекта», кажется, написана с Пригова и его перформативности:
…он ни целостен, ни расщеплен между позициями ‹…› скорее, он размещает себя поперек позиций, по многим осям координат и различий, поперек дискурсов и практик, которые могли бы быть и часто действительно являются противоречащими друг другу ‹…› наконец, что особенно существенно, этот субъект обладает агентностью (а не просто совершает «выбор»), он способен менять свою позицию, самостоятельно определяя свою (дис)локацию, а следовательно, он воплощает социальную ответственность [там же].
Впервые о «квирных» чертах тела в произведениях Пригова написали К. Чепела и С. Сандлер в своей новаторской во многих отношениях статье [2010]. Скорее всего, Пригов пришел к своей концепции независимо от современной ему западной теории, которая по большей части не была ему известна, – по крайней мере, до 1990‐х годов. Как нам представляется, важнейшим источником приговской концепции перформативности стал исторически конкретный психологический опыт, а именно – переживание психологического разрыва между самоощущением меньшинства и гегемониальным языком позднесоветской культуры. Пригов был представителем неофициального искусства. Такие стихи, как писал он и другие люди того же круга – концептуалисты и не-концептуалисты не только не могли быть опубликованы, но даже упомянуты в печати и вообще в публичной сфере (кроме как с прибавлением крайне негативных оценок). Индивидуальный комплекс отчуждения, свойственный Пригову (см. Введение), тоже вносил вклад в это переживание. Но, в отличие от авторов бунтарского, неоромантического типа (как Венедикт Ерофеев), Пригов, как и некоторые другие российские писатели и художники 1970‐х годов, разработал в своем творчестве механизмы игровой «диссимуляции» и «гиперкомпенсации», которые показывали, что советский гегемониальный дискурс был глубоко насильственным по методам своего функционирования.
Пригов, как и другие российские концептуалисты, самостоятельно переоткрыл – но и по-своему сконструировал – творческую стратегию, хорошо известную авторам квир- и постколониальных исследований. Когда представители «младшей», подавленной культуры (subaltern culture) начинают входить в публичное поле, они могут поначалу использовать язык гегемониальной культуры, переосмысляя его и подчеркивая его перформативность. Представитель культуры меньшинства одновременно обращается к «своей» аудитории, осмеивая культуру большинства, – и демонстрирует самоосмеяние для «внешнего» зрителя или слушателя, разыгрывая особую, «прибедняющуюся», колониальную самоиронию. Именно так были построены выступления афроамериканских исполнителей песен перед смешанной аудиторией в США в начале ХХ века[30].
Концептуалисты имели дело с советской гегемониальной культурой, которая на момент их социализации уже была морально скомпрометирована, – по крайней мере, для критически мыслящих интеллектуалов. В этих условиях Пригов изобрел жест двойного остранения: подчеркнутое, утрированное использование гегемониального языка он сделал перформативным, но и саму эту перформативность остранил, представив ее как искусственно сконструированную стратегию. Это второе остранение помогало ему отказаться от любой моральной солидаризации с гегемониальным языком и показать его условность, «сделанность», чего в «классическом» языке колонизированных меньшинств не было.
По своей структуре такие отношения автора и дискурса напоминали дистанцированные отношения актера и роли в «диалектическом» театре Бертольда Брехта. Как справедливо отмечает Александр Скидан, приговская «актерская техника», т. е. его метод работы с образом субъекта ближе к театру Брехта, чем Станиславского:
Подобно тому, как в брехтовском театре актер не перевоплощается в персонажа пьесы, а показывает его, занимая по отношению к нему критическую дистанцию, так же и ДАП в своих текстах постоянно «выходит из роли», обнажая искусственность, сделанность текстовой конструкции, наряду с конструкцией («персонажностью») лирического субъекта. ‹…› …эта саморефлексивная, аналитическая техника становится у Брехта, равно как и у Пригова, инструментом показа-кристаллизации господствующей идеологии, в той степени, в какой та говорит через конвенциональные художественные формы и дискурсы. Нужно ли напоминать, что для Брехта такой распыленной в «эстезисе» инстанцией власти являлась идеология буржуазная, тогда как для Пригова по большей части – коммунистическая (утопическая, мессианская) [Скидан 2010: 126].
Однако Пригов по сравнению с Брехтом резко переносит смысловые акценты: «актер» в его «театре» последовательно разоблачает не ложные общественные отношения, а претензии идеологического языка на то, чтобы программировать человеческое самосознание. «Закавыченная перформативность» становится важнейшим средством такого разоблачения.
Томаш Гланц, впрочем, не без оснований полагает, что термин «отстранение» больше подходит Пригову, чем «остранение» Шкловского или «отчуждение» Брехта. По его мнению, Пригов в 1970‐е годы
создал не только особый тип письма, но и в целом новый стиль артистического поведения путем комбинирования в своем репертуаре элементов литературы, визуального искусства и перформанса. Разрушая границу между поэтикой и метапоэтикой, Пригов создал новый тип поэтической выразительности, новый тип авторства, художественную стратегию, которая не имеет ни продолжателей, ни предшественников. Акцентированный отказ от авторского голоса служит основанием для уникальной авторской позиции, основанной на последовательной авторефлексии [Glanc 2018: 147].
Вероятно, Гланц прав, и отказ от авторского голоса и размывание границы между поэтикой и метапоэтикой – необходимые условия приговской перформативности. Именно такую перформативность Пригов считал определяющей для современного художника, называя ее «мерцательным типом поведения»:
…в принципе неподвижное существование в виртуальной зоне границы в реальности представляет собой как бы быстрое мерцание, перебегание из зоны в зону, [при котором автор] не задержива[ется] ни в одной из них настолько, чтобы влипнуть в нее и быть идентифицированным с нею, но и оставаясь на достаточно долгий промежуток времени, чтобы все-таки коснуться ее и быть с ней в контакте («Культо-мульти-глобализм», начало 2000‐х гг. – 5: 182).
В статье, предположительно 1999 года, Пригов так пояснял значение этой категории. Говоря о художниках, работающих в персонажных масках, – что, разумеется, соотносилось и с его собственным методом, – Пригов характеризует их так:
Художники, работавшие подобным образом, подобной стратегией, не идентифицировались полностью со своими масками-имиджами. Это был некий род мерцания, процесс неимоверной скорости, почти одновременного присутствия в имидже и вне его. То есть непривычный зритель, готовый к длительному и медленному созерцанию текстов, картин, объектов, не был приспособлен к подобного рода динамике. Задачей же художника было столь краткое присутствие в тексте, чтобы не влипнуть в него полностью. Но и отсутствие в нем не должно быть столь длительным, чтобы полностью выпасть из него, препарируя и обличая текст как посторонний [5: 330].
Тогда же, в 1999 году, выходит составленный Монастырским «Словарь терминов московской концептуальной школы», в который включена статья Пригова о мерцательности:
Мерцательность – утвердившаяся в последние годы стратегия отстояния художника от текстов, жестов и поведения предполагает временное «влипание» его в вышеназванные язык, жесты и поведение ровно на то время, чтобы не быть полностью с ними идентифицированным, – и снова «отлетание» от них в метаточку стратегемы и не «влипание» в нее на достаточно долгое время, чтобы не быть полностью идентифицированным и с ней, – и называется «мерцательностью». Полагание себя в зоне между этой точкой и языком, жестом и поведением и является способом художественной манифестации «мерцательности» [Словарь 1999: 58–59].
Даниил Лейдерман, посвятивший мерцанию свою диссертацию [см.: Leiderman 2016 и Leiderman 2017], считает, что этот принцип лежит в основании формальных поисков художников-концептуалистов начиная с середины 70‐х. Вслед за Приговым Лейдерман интерпретирует мерцание как попеременную реализацию противоположных и даже взаимоисключающих парадигматических подходов в структуре художественного пространства, в отношениях между субъектом и объектом, автором и персонажем («персонажность») – в частности, между организаторами акций «Коллективных действий» и их участниками. Исследователь подчеркивает, что, в отличие от эстетической амбивалентности, мерцание предполагает сознательное и последовательное ускользание («предательство») автора, избегающего полного отождествление с какой бы то ни было из сталкиваемых в тексте дискурсивных логик/эстетических систем.
Смысл мерцания, таким образом, состоит в освобождении автора – а за ним и читателя/зрителя – от жестких рамок дискурсивных режимов, преодолении зависимости от авторитетных систем идей и принципов, снятии героического пафоса самопожертвования (свойственному и многим представителям нонконформизма), подрыве метафизических и профетических амбиций и в конечном счете служит тому, что Пригов считал целью постмодернизма: критике собственного высказывания.
Главным эффектом «мерцательного типа поведения художника» или «эксцентрической субъективности» является тактика «невлипания» или «незалипания». Слово «незалипание» – одно из ключевых в кружковом лексиконе московского концептуализма [см.: Словарь 1999: 62–63]; возможно, оно возникло под влиянием философской концепции «ускользания» и «детерриторизации», предложенной в дилогии Ж. Делёза и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения» (ее составляют книги «Анти-Эдип» и «Тысяча плато»). Активным пропагандистом идей Делёза и Гваттари в кругу московских концептуалистов был Михаил Рыклин – скорее всего, от него Пригов первоначально и узнал о работах французских философов. Однако важно подчеркнуть, что рецепция идеи «невлипания» у Пригова, как и у других концептуалистов, была вполне инновативной: Делёз и Гваттари призывали творчески настроенных интеллектуалов (к которым они в первую очередь и адресовались) сопротивляться любым дискурсам власти и общественного большинства, но мало говорили о временнóм режиме этого сопротивления и о том, как можно, сопротивляясь, все же изучать и эстетически осваивать властные языки – «оставаясь на достаточно долгий промежуток времени, чтобы все-таки коснуться… и быть… в контакте». Пригов тоже не дал – да, вероятно, и не планировал дать – систематического описания действий, которые может предпринимать художник на границе гегемониальных дискурсов. Однако он неустанно разыгрывал эти действия, организуя композиции своих сборников и «Азбук», а в «предуведомлениях» анализировал многочисленные варианты этих «перформансов неповиновения» – одновременно пародируя такой анализ и ставя под вопрос саму его возможность[31].
Именно этот аспект – или эффект – приговской перформативности особенно важен, поскольку он непосредственно связан с вопросом власти. Разумеется, само пересечение границ и создание лиминальной «опасной свободы» по определению насыщено политическим смыслом. Вместе с тем в постсоветский период перформативность все чаще становится орудием власти – политической и символической, чему можно найти множество примеров – от перформанса выборов до перформансов Олимпиады или чемпионата мира по футболу, воплощающих политическую и символическую гегемонию. Впервые об этой «перформативной силе» российских властных институтов в общем виде написал в 2006 году социолог культуры Борис Дубин:
…Направленное торможение социальной, экономической, культурной дифференциации общества, усложнения его структур, с одной стороны, и ослабление независимости различных институтов, инициативных групп – с другой, влечет за собой расширение поля действия интегративных символов и церемоний причастности «всех» к коллективному целому державы-нации, ритуализацию или церемониализацию текущей политики… [Дубин 2006: 16]
На такую символическую гегемонию власти отвечают «подрывные» перформансы групп «Война» и Pussy Riot и публичные акции Петра Павленского и других художников[32].
Именно в этом контексте политический смысл приговской перформативности раскрывается в полной мере. Это качество его эстетики сформировалось намного раньше 2000‐х годов, но именно ретроспективно, из 2020 года, видно, до какой степени Пригов предвосхитил будущее развитие искусства со своей последовательной рефлексией перформативности.
2. Поэтическая семиотика
В своих манифестах Пригов почти никогда не ссылается на предшественников и редко – на единомышленников. Безусловно, подробное исследование истоков и контекста его теоретического мышления – дело будущего, но некоторые предварительные наблюдения и гипотезы можно высказать уже сейчас.
Пригов, который сначала реализовался как художник и только существенно позже – как поэт, в некоторых ранних стихах стремился отрефлексировать собственный опыт автора визуальных работ[33]. В дальнейшем, видимо, это чувство «промежуточности» между разными языками искусства и разными культурными пространствами Пригов смог сделать мощнейшим продуктивным фактором собственной работы, отрефлексировав его и превратив в эстетическую концепцию всеобщей переводимости и «соотносимости»[34]. Та же логика «соотносимости всего со всем» воодушевляла и труды московско-тартуской школы культурной семиотики. Сам Пригов впоследствии говорил: «…наша теоретическая база была, во-первых, концептуальной, во-вторых, структуралистской» [Шаповал 2003: 94]. Вот почему если говорить о современниках, с чьими работами перекликаются взгляды Пригова, то весьма заметные параллели с ними обнаруживаются в работах Ю. М. Лотмана, на уровне деклараций совершенно чуждого постмодернизму[35].
Возможно, одним из источников приговской концептуализации игрового поведения стала теория «семиотического поведения» Ю. М. Лотмана. В своей работе «Декабрист в повседневной жизни» (1975) Лотман постулировал возможность такого повседневного поведения, которое было бы построено как система жестов-знаков, последовательно оспаривающих общепринятые социальные конвенции:
…Иерархия значимых элементов поведения складывается из последовательности: жест => поступок => поведенческий текст. Последний следует понимать как законченную цепь осмысленных поступков, заключенную между намерением и результатом. В реальном поведении людей – сложном и управляемом многочисленными факторами – поведенческие тексты могут оставаться незаконченными, переходить в новые, переплетаться с параллельными. Но на уровне идеального осмысления человеком своего поведения они всегда образуют законченные и осмысленные сюжеты [Лотман 1975: 38].
Однако наибольшее количество перекличек с манифестами Пригова обнаруживает статья «О семиосфере», впервые опубликованная в 1984 году [Лотман 1984]. Близкие к ней идеи Пригов высказывает уже в переписке с Никоновой 1982 года; без дополнительных исследований пока нельзя сказать, знал ли Пригов соответствующие идеи Лотмана до их фиксации в статье или просто их мысли развивались параллельно[36]. Известно, что Пригов поддерживал общение с учеными московско-тартуской семиотической школы и мог знать о новых идеях Лотмана из его устных выступлений или по пересказам общих знакомых.
Лотман писал:
Семиосфера отличается неоднородностью. Заполняющие семиотическое пространство языки различны по своей природе и относятся друг к другу в спектре от полной взаимной переводимости до столь же полной непереводимости. Неоднородность определяется гетерогенностью и гетерофункциональностью языков. ‹…› Но ведь надо учитывать и то, что разные языки имеют разные периоды обращения: мода в одежде меняется со скоростью, несравнимой с периодом смены этапов литературного языка, а романтизм в танцах не синхронен романтизму в архитектуре [Лотман 2001: 252–253].
Семиосфера Лотмана напоминает модель современной культуры, как Пригов описывал ее в статьях и письмах 1980–1990‐х: пространство, в котором сосуществуют разные языки, развивающиеся с различной скоростью, где доминирование одного из них всегда является временным событием. Аналогично, и для Лотмана и для Пригова большое значение имеют понятия границы (семиосферы – у Лотмана, между искусством и «не-искусством» – у Пригова):
Представление о границе, отделяющей внутреннее пространство семиосферы от внешнего, дает только первичное, грубое деление. Фактически все пространство семиосферы пересечено границами разных уровней, границами отдельных языков и даже текстов, причем внутреннее пространство каждой из этих субсемиосфер имеет некоторое свое семиотическое «я», реализуясь как отношение какого-либо языка, группы текстов, отдельного текста ‹…› к некоторому их описывающему метаструктурному пространству [Лотман 2001: 263–264].
Не это ли «семиотическое „я“» Пригов и называл «имиджем»? Не потому ли его не устраивали и отчетливо раздражали такие термины, как «маска» или «языковая роль», что он стремился перформативно воплотить именно более сложное отношение – то, которое описывает Лотман, говоря о «метаструктурном пространстве»? Отсюда можно высказать предположение, что приговская поэтическая практика отличается от многочисленных пародий и так называемой «иронической поэзии» именно тем, что Пригов работает с грамматикой определенного культурного языка, разыгрывая свой перформанс данного дискурса не на уровне конкретных образов и риторических ходов, а на уровне метаописания, – и именно таким образом доводя дискурс до застывшей гротескной выразительности. Причем Пригов нередко описывал свою стратегию именно в лотмановской терминологии, например: «Меня волнуют не слова сами по себе, а некие культурологические грамматики, большие идеологические блоки…» [Кузьмин 2000]
«Метаструктурное пространство» у Лотмана, по-видимому, восходит к концепции метаязыка у Р. Я. Якобсона. В известной структуралистам работе «Два аспекта языка и два типа афатических нарушений» Якобсон описывает первый тип афазии, когда пациентам «не дается переход от индекса или иконического знака к соответствующему словесному символу» [Якобсон 2016: 438]. Афазия этого типа связана с тем, что речевая деятельность ограничена уровнем «языка-объекта» и лишена метаязыка, позволяющего взаимодействовать с языковыми кодами. При этом языковые значения такого афатика полностью зависят от контекста и не поддаются «кодовому переключению», поскольку для такого говорящего
единственной языковой реальностью является его собственный «идиолект». Коль скоро он [афатик] воспринимает речь собеседника как некое сообщение, адресованное ему и ориентированное на его собственную языковую систему, он ощущает растерянность, которая отчетливо передана в словах пациента ‹…›: «Я слышу вас очень хорошо, но я не могу понять, что вы говорите… Я слышу ваш голос, но не слова… Они как-то не выговариваются» [там же].
Говоря о метаструктурном пространстве семиосферы, Лотман допускает перенос концепции афазии на изучение культуры. С. Ушакин применил это понятие к описанию постсоветской культуры 1990-x, оказавшейся, по его мнению, лишенной метаязыка [Oushakine 2000]. Однако есть серьезные основания для того, чтобы усмотреть истоки этого семиотического кризиса в позднесоветской ситуации. Именно тогда метаязык, предлагаемый советской идеологией, превратился в формальный набор мертвых знаков, а «идеолекты» замкнутых субкультур оказались полностью непереводимыми друг для друга [см: Юрчак 2014].
С этой точки зрения и московско-тартуская семиотика, и московский концептуализм, каждое из этих направлений по-своему и в своей системе координат восполняло именно дефицит метаязыковых описаний культуры. Причем Лотман и его коллеги практически никогда не обращались к современной культуре, разрабатывая инструменты, которые их читатели могли бы использовать для анализа современного состояния[37]. Концептуалисты и Пригов, наоборот, почти всегда работали с современной культурой, разрабатывая инструментарий метаописания в процессе самого метаописания. Кроме того, важным аспектом деятельности концептуалистов, и особенно Пригова, была демонстрация провалов и руин на месте предполагаемого метаязыка («Исторические и героические песни», «Культурные песни», «Образ Рейгана в советской литературе» и т. п.).
В то же время структуралистский подход облегчал движение Пригова и других концептуалистов от деконструкции советского языка – к деконструкции других авторитетных языков культуры: «…поскольку под тоталитарным понимался не только язык советский, советского мифа, но и любой большой дискурс, поддержанный какими-то сложными институциями (дискурс большой культуры, националистические дискурсы и прочее), то работа с ними и внутренняя их критика, изнутри используемого дискурса, – наиболее общее, что могло всех объединить» [Балабанова 2001: 47].
3. Современный Gesamtkunstwerk?
Описывая современную культурную ситуацию (и подразумевая собственный метапроект как ее часть), Пригов не раз вспоминал утопическую музыкально-философскую концепцию тотального произведения искусства – Gesamtkunstwerk, изложенную в трактатах и статьях Рихарда Вагнера «Искусство и революция», «Произведение искусства будущего», «Опера и драма», «Музыка будущего» и др. Так, например, в статье «Третье переписывание мира» (2003) Пригов описывает «конец текстоцентризма», говоря о сохранении литературы в качестве «ресурса персонажного и цитирования», о рождении «жанров чисто жестовых и поведенческих проектов» и «мобильности авторского культурно-эстетического поведения между различными пластами вербального, визуального, а также иных культурных ресурсов». Обобщая, он утверждает: «Посему, как представляется, актуальные художественные стратегии не могут быть положены в области просто вербального высказывания, а иметь своей перспективой указанный операционный уровень, что в пределах нынешней культурной оптики и разрешающих способностей зачастую считывается просто как существование на границах различных жанров и видов искусства – как бы эдакий современный гезамткунстверк» [5: 216].
Термин Gesamtkunstwerk возникает и в критических трудах о Пригове. Так, И. П. Смирнов отмечал в статье «Зачеркнутая пустота», написанной сразу после смерти Пригова:
Д. А. П. был мультимедиальным устройством – поющим, декламирующим стихи, порождающим рисунки и проекты инсталляций или разражающимся – в порядке непринужденной импровизации – теоретическими докладами. Оппозитивом к Ничто выступает Всё, и этим медиально-творческим Всем и хотел быть Д. А. П. Gesamtkunstwerk перестал быть продуктом коллективного действия, как то мыслилось Вагнером в его подходе к оперному искусству, и перевоплотился в достояние отдельного автора-исполнителя [Смирнов 2008].
Наиболее подробно связь между проектом Пригова и вагнеровской концепцией проанализировал Е. А. Добренко. Во-первых, он указывает на «окрашенность» этого термина для Пригова и всего концептуального круга книгой Б. Гройса «Стиль Сталин», первоначально названной «Gesamtkunstwerk Сталин» (1988). Определяя (хотя и непрямо) собственный проект как Gesamtkunstwerk, Пригов, безусловно, имел в виду субверсию большого советского стиля. Во-вторых, как отмечает Добренко, «с разрушением тоталитарных утопий Gesamtkunstwerk не мог возродиться как идея, но только как двойственная практика. Пригов соединил синтетизм и открытость с жизнестроением ‹…› Из вагнеровской утопии были вымыты ее тотализирующее содержание и возвышенный идеально-романтический пафос. Первое оформилось в постоянно прокламированной Приговым борьбе с тотализирующими поползновениями языка; второе – в анти-канонической направленности приговских текстов» [Dobrenko 2016: 209]. В-третьих, Добренко отмечает, что, помимо соцреализма, в приговской интерпретации Gesamtkunstwerk просвечивает и связь с авангардом: «именно на жизнестроительном опыте русского авангарда основывалась не только эстетическая, но и персональная вненаходимость Пригова». И, наконец, по мнению исследователя, радикальное отличие приговского проекта от Gesamtkunstwerk – как в вагнеровской, так и в авангардной и соцреалистической интерпретации, – состоит в том, что Пригов «построил свое тотальное произведение искусства не из разных искусств, но из одного субъекта – Дмитрия Александровича Пригова. Он создал синтез не искусств, но синтез личностный, осуществив эксперимент по созданию тотального произведения искусства после опыта модернизма» [там же, 219].
Это совершенно справедливые наблюдения, которые мы полностью разделяем. Ни в коей мере не опровергая точку зрения Е. А. Добренко, мы хотели бы развернуть вопрос о приговской интерпретации Gesamtkunstwerk в сторону отношений Пригова с доавангардным наследием русского модернизма – так называемым Серебряным веком, в котором вагнеровские идеи играли немалую роль.
Каждый из художников или мыслителей этого периода, кто серьезно относился к «программе» Вагнера, акцентировал определенную сторону идеи Gesamtkunstwerk, затушевывая или игнорируя другие[38]. В одних случаях на первый план выходил синтез искусств, в других – преобразование общества по эстетическому плану, в третьих – выдвижение искусства на роль универсальной религии; в четвертых – создание единой теории современного искусства. В русском дореволюционном модернизме, как ни странно, встретились практически все возможные подходы к Gesamtkunstwerk. Период, называемый Серебряным веком, дал несколько примеров синтеза искусств, необычных и для прежних этапов развития русской культуры, и для европейской культуры в целом (А. Белый, М. Волошин, А. Скрябин, М. Кузмин, П. Флоренский, в послереволюционном поколении наследников этой традиции – С. Эйзенштейн). Не случайно для эпохи 1900–1910‐х годов так характерны дискуссии о творческой универсальности и синтезе искусств[39]. Но русские модернисты начала ХХ века усвоили и другие важнейшие идеи Вагнера: восприятие искусства как антропологической утопии – своего рода эстетизированной мечты о тотальном преображении человека; апелляцию к коллективному, «народному» пониманию[40]; иррационализм, обращение к интуиции и «природе», понимаемой как воплощающая свободу «стихия».
Однако несмотря на то, что Вяч. Иванов, А. Белый, а впоследствии и А. Лосев, и до некоторой степени Эйзенштейн поддерживали настоящий культ Вагнера, – все же, на первый взгляд, между концепцией Вагнера и идеями раннего русского модернизма есть принципиальное различие: проект Вагнера, как его изложил сам композитор, утверждал возможность создания синтетического произведения «искусства будущего» только в результате коллективного сотворчества, а большинство утопий 1900‐х годов были подчеркнуто индивидуалистическими, ориентированными на то, что разносторонние способности будет проявлять один и тот же автор[41]. Теоретики искусства начала ХХ века воспринимали концепцию Вагнера сквозь призму индивидуалистической, героической философии Ницше и – что не менее важно – сквозь призму зрелого творчества самого Вагнера, которое отчасти опровергало его же теоретические построения: тетралогию «Кольцо Нибелунгов» композитор, как известно, написал полностью сам (музыка, либретто, стихи, концепция постановки), а не в составе какой-либо группы.
Пригов подчеркивал значимость традиции Серебряного века для своего творчества, особенно часто называя в качестве интересного для себя автора Александра Блока – по мнению Пригова, создателя яркой имиджевой стратегии. Не забудем о том, что Блок был поклонником Вагнера и его утопического понимания искусства (см. статью Блока «Искусство и революция»)[42]. Однако отношение Пригова к модернистской традиции, к которой принадлежали и Вагнер и Блок, было не только очень заинтересованным, но и полемическим – как мы уже говорили, Пригов последовательно «выворачивал наизнанку» модернистские мифы об авторе-демиурге и о всесилии художественного творчества.
Сам Пригов был хорошо знаком с творчеством немецкого композитора: аккомпаниатор Центра оперного пения Г. Вишневской, вдова известного оперного певца Станислава Сулейманова Алла Басаргина рассказывала одному из нас, что Пригов знал наизусть большинство опер Вагнера – впрочем, как и многих других. Еще более интересно, что один из немногих в творчестве Пригова опытов обыгрывания не «серебряновечной», а собственно вагнеровской традиции относится к 2000 году: именно тогда в московском музыкальном центре «Дом» Пригов провел перформанс «Мой Wagner. Опыт реконструкции феномена Рихарда Вагнера „Гибель богов“». В тексте, написанном для этого перформанса, Пригов нарочито снижал пафос вагнеровского синтеза искусств, предлагая взамен Gesamtkunstwerk диджейские манипуляции с голосовым сопровождением:
В жанровом отношении проект лежит на пересечении чего-то там диджеевского и обыденного саунд-перформанса, то есть использует нехитрую диджеевскую машинерию для последовательного и микшированного продуцирования как вагнеровских, так и прочих музыкальных экстрактов с одновременным звучанием голоса исполнителя, декламирующего, поющего и орущего собственные нехитрые тексты [5: 680].
Через несколько лет после этого он предложил композитору Ираиде Юсуповой написать «медиаоперу» на свой стихотворный цикл «Вагнеровское». «Медиаопера», получившая в итоге название «Путь поэта», была записана в последние годы жизни Дмитрия Александровича, а смонтирована и впервые показана уже после его смерти [см.: Юсупова 2010: 305]. Видимо, именно к 2000‐м годам Пригов в своей внутренней полемике с Серебряным веком дошел до стадии, когда основы ее должны были стать эксплицированными, – именно это привело к окончательному формированию его романной поэтики и к мысли о необходимости проведения перформанса, посвященного Вагнеру.
Как нам рассказывал Б. Орлов, для них с Приговым настоящим потрясением стало знакомство с теорией карнавала Бахтина, и это при том, что к моменту прочтения Бахтина – по-видимому, несколько запоздалому, поскольку Орлов относит его началу 70‐х (книга о Рабле впервые была опубликована в 1965‐м), – они уже хорошо были знакомы и с Ницше (прочитанным еще в институте), и со всем корпусом русской философии Серебряного века (доступ к которой Пригов получил в ИНИОНе). Как уже отмечалось в научной литературе, бахтинская теория карнавала во многом восходит к ницшевской оппозиции «аполлонической» и «дионисийской» культур, но опосредованной для Бахтина интерпретациями Вяч. Иванова, в свою очередь находящегося под сильным влиянием Вагнера:
Для Иванова театр как соборное искусство является местом возрождения нового дионисичества, т. е. театр играет ту роль, которая у раннего Ницше отводится музыкальной драме Вагнера. Бахтин, со своей стороны, возлагает надежды на карнавальную культуру и соответствующую этой культуре литературную традицию в том виде, в каком она находит свое выражение в творчестве Рабле, Достоевского и других авторов. В книге о Рабле, например, карнавальный смех связывается с «неофициальной народной правдой», с «народной точкой зрения», с «народным словом», которому открыты далекие перспективы будущего, и утверждается, что вся драма мировой истории проходит «перед смеющимся народным хором». ‹…› Мифологемы Иванова перемещаются в другой план, в антиномию официальной и народной карнавальной культуры и в противоположность авторитарно-монологических и полифонических жанров в литературе [Гюнтер 1992: 29].
Можно предполагать, что бахтинский карнавал так впечатлил Пригова не «народностью», а скорее тем, что эта теоретическая модель прочитывалась как альтернативный, «дионисийский», а не «аполлонический», как у Вагнера, Gesamtkunstwerk. Прочитанный с этой точки зрения Бахтин воспринимался как анти-Вагнер: его карнавальный Gesamtkunstwerk был не менее тотален, также предлагая синтез искусств и перестраивая повседневную и социальную жизнь по эстетическому принципу, но не формировал никакого законченного мифа, как у Вагнера. Бахтинский карнавал, как и Gesamtkunstwerk, предлагал «проецирование социально-эстетической утопии» – утопии свободы: «в карнавале сама жизнь играет, разыгрывая – без сценической площадки, без рампы, без актеров, без зрителей, то есть без всякой художественно-театральной специфики – другую свободную (вольную) форму своего осуществления, свое возрождение и обновление на лучших началах. ‹…› Идеально-утопическое и реальное временно сливались в этом единственном в своем роде карнавальном мироощущении» [Бахтин 2010: 16, 19]. Карнавальный Gesamtkunstwerk выдвигал на первый план совершенно иные основания, чем у Вагнера, – не возвышенное, а непристойное; не теургию, а пародию; не спиритуальность и символизацию, а гротескное тело, реализующее себя прежде всего «на границах искусства и самой жизни. В сущности, это – сама жизнь, но оформленная особым игровым образом» [там же, 19]. Не в этой ли формуле Бахтина кроется источник приговского перформатизма?
Бахтинская мысль о смеховой культуре как о комическом двойнике, антимире культуры официальной[43], учитывая проекцию идеи тотального произведения искусства на сталинскую культуру, могла быть прочитана как метафора «теневого» существования нонконформистской культуры, с которой Пригов, несомненно, себя ассоциировал. Помещенная в этот контекст, теория карнавала становилась теорией контркультуры – как тотального произведения искусства не только лишенного авторитарного центра, но и подрывающего любую авторитарную правду («одностороннюю серьезность») спектаклями «веселой относительности бытия». Более того, книга Бахтина о Рабле предлагала богатый каталог приемов для создания не коллективной, а сугубо индивидуальной, но при этом многоликой (много-«имиджевой») версии антиавторитарного, комического и пародийного Gesamtkunstwerk’a.
Пригов категорически отрицал в своем творчестве «серебряновечные» иррационализм и коллективизм, однако до последних дней жизни стремился сформировать утопию синтеза искусств – по сути, антропологическую, так как она предполагала создание нового типа автора и реципиента произведений. Поворот в восприятии вагнеровской традиции и наследующего ей русского модернизма, осуществленный в явном виде Приговым и в менее явном – другими авторами концептуального круга (в первую очередь Андреем Монастырским), почти в точности эквивалентен повороту в интерпретации проблематики Ницше, осуществленному Мишелем Фуко.
В центре внимания Фуко, как известно, была способность человека утопически изменять и преобразовывать собственное «я» с помощью нового знания: «Мне известно, что знание может изменить нас, что истина – это не только способ расшифровки мира (и, возможно, то, что мы называем истиной, вообще ничего не расшифровывает), что, познав истину, я изменюсь. И, может быть, буду спасен. А может, умру, хотя, думаю, в моем случае это одно и то же» [Фуко 2008: 132]. Фуко сохранил ницшевский интерес к «преодолению человека», однако перенес смысловой акцент на условия возможности, на границы и на технологии этого «преодоления», тем самым значительно снизив «температуру» ницшевского героического пафоса и сделав идею преобразования человека из элитарной принципиально демократической. Кроме того, Фуко, хотя и оперировал концептуальным аппаратом философии, но оговаривал, что «трансформация себя при помощи знания ‹…› очень близка эстетическому опыту. Зачем художнику работать, если живопись не меняет его самого?» [Фуко 2008: 132]. Эта параллель между поисками Пригова и Фуко существенна потому, что позволяет увидеть конструктивный, а не только деконструирующий пафос Пригова и органическую вписанность мысли российского литератора в проблематику европейской философии второй половины ХХ века.
В целом художественный универсализм Пригова по своему типу может быть назван антивагнеровским, поскольку и в целом позиция Пригова была антиромантической. В одном из «предуведомлений» он констатировал, что, несмотря на триумф Пушкина, в реальности в русской поэзии победила традиция Лермонтова, от которой «лирический герой» этого «предуведомления» считал необходимым максимально дистанцироваться [4: 564–565][44]. По-видимому, здесь мы имеем дело с непосредственной декларацией взглядов самого Пригова.
Вместе с тем Пригов неоднократно называл среди своих любимых поэтов Блока, Ахматову и Мандельштама, поясняя: «Для меня важна их предельно явленная имиджевость» [НК, 438]. Их «имиджевость» непосредственно связана с «серебряновечным» пониманием Gesamtkunstwerk – только переведенным в измерение индивидуальной жизни поэта, ставшей неотделимой от его творчества. Об этом одним из первых в 1921 году по отношению к Блоку выразительно написал Б. М. Эйхенбаум (нам неизвестно, была ли эта статья известна Пригову):
Он [Блок] стал для нас трагическим актером, играющим самого себя. Вместо подлинного (и невозможного, конечно) слияния жизни и искусства явилась жуткая, разрушающая и жизнь и искусство сценическая иллюзия. Мы перестали видеть и поэта и человека. Мы видели маску трагического актера и отдавались гипнозу его игры. Мы следили за мимикой эмоции, почти не слушая слов. Рыцарь Прекрасной Дамы – Гамлет, размышляющий о небытии, – безумный прожигатель жизни, пригвожденный к трактирной стойке и отдавшийся цыганским чарам, – мрачный пророк хаоса и смерти – все это было для нас последовательным, логическим развитием одной трагедии, а сам Блок – ее героем. Поэзия Блока стала для нас эмоциональным монологом трагического актера, а сам Блок – этим загримированным под самого себя актером. ‹…› Когда Блок появлялся – становилось почти жутко: так похож он был на самого себя [Эйхенбаум 1987: 354, 356][45].
Вероятно, в этой, индивидуальной, версии Gesamtkunstwerk Пригов нашел прототип своего перформатизма. Однако его «имидж» принципиально деиндивидуализирован и синтетичен – составлен из анонимных клише и откровенных стереотипов, лишен трагизма и самопародиен. Нет в нем и блоковской «органичности» – ее заменяет всеразъедающая рефлексивность.
Таким образом, в своей концепции Gesamtkunstwerk Пригов отказался как от коллективизма, так и от индивидуализма Серебряного века – истоком обеих этих установок было понимание художника как героя, реализующего антропологическую утопию. Однако в результате произведенного отказа собственная приговская концепция синтеза искусств оказалась внутренне противоречивой: фигура нового автора, проступающая в его произведениях, словно бы расщеплена на два противоборствующих начала. С одной – если угодно, внешней – стороны, это пародийный демиург, являющий в своем творчестве «чистую свободу» благодаря полному пониманию условности, общественной конвенциональности искусства. С другой (назовем ее внутренней) это «центральный фантом», фрагментарный, неполный субъект, который непрерывно достраивается и перестраивается в ходе художественного творчества и не имеет ни пародийных, ни демиургических обертонов, а родственен по своей конструкции скорее рефлексивным, «сложным» авторам модернизма – таким как, например, Роберт Музиль или Пауль Целан.
«Фасадом» раздвоенной авторской фигуры стал у Пригова деперсонализированный, словно бы взятый в кавычки образ художника, который он вырабатывал на протяжении всей жизни и который стал одним из важнейших его произведений, – своего рода «действующая модель» романтика-визионера, непрерывно подвергаемая анализу, напоминающему феноменологическую редукцию Э. Гуссерля (см. об этом ниже в Части III). Однако источник «образа автора», ее «метаавтор», представал как нередуцируемый к каким бы то ни было дискурсам «остаток». Эстетической манифестацией этого «остатка» становится глубоко личностная по своей природе фигура монстра. Монстры в творчестве Пригова ассоциируются с представлением о современном художнике[46] и в то же время буквально воплощают бахтинское «гротескное тело». Недаром одной из самых обширных графических серий Пригова стали «Бестиарии», представляющие в виде монстров различных выдающихся, сохраняющих сегодня свое значение авторов романтизма, модернизма и постмодернизма, от Н. В. Гоголя до Л. С. Рубинштейна. Есть среди этих монстров и автопортрет Пригова.
4. Жизнетворчество и перформанс культурных практик
К модернистской и авангардной версиям Gesamtkunstwerk примыкает широкий круг более частных феноменов, направленно разрушающих автономию искусства: от символистского жизнетворчества до лефовского жизнестроительства и конструктивизма с его стремлением превратить искусство в инженерию индивидуальных и социальных практик. С этой точки зрения и приговский перформатизм может быть понят как оригинальная версия модернистских представлений об искусстве как о «творческом раскрытии и преобразовании форм жизни», при котором «художник сознает себя собственной художественной формой, а свою жизнь – творчеством» [Белый 1994: 5]. Не чуждо «стахановцу» Пригову и конструктивистское представление об искусстве как об «интеллектуально-материальном производстве» [Ган 2016: 894], противостоящем «духовному» искусству, взыскующему трансцендентальных ценностей.
Пригов настаивал на том, что описываемый им феномен является специфически современным. Однако даже у такого рефлексирующего автора, как Пригов, насколько можно судить, не было концептуального аппарата для того, чтобы объяснить, чем и почему «художественное поведение» его самого или его современников отличается от жизнетворчества символистов или футуристов. Не было его и у других. Так, Алексей Парщиков в своей магистерской диссертации 1992 года писал о концептуалистах: «…государственному мифу они противопоставляли антимиф, а из собственной жизни творили миф реальный» [Парщиков 2017: 195]. Словно бы невольно столь образованный и тонко рефлексирующий поэт стал использовать терминологию, больше подходящую к посетителям «Башни» Вячеслава Иванова.
При попытке объяснить историческую новизну своего авторского самосознания обычно очень четко формулирующий Пригов словно бы не может довести мысль до конца: «…Ключевой проблемой является проблема авторства. Автор как переводчик с одного текста на другой – вот самое интересное в новой культурной ситуации. Оказалось, что ТЕКСТ – случайная, частная вещь в деятельности АВТОРА. Автор перестал быть видимым. Он стал неразличим – и визуально, и вербально, и поведенчески» [5: 66]. Почему, если автор «перестал быть видимым», он оказывается «самым интересным» «как переводчик с одного языка на другой»? Как соотнести эти мысли?
На наш взгляд, вопрос о том, чем отличается приговский перформатизм (или «художественное поведение») от модернистского жизнетворчества, является одним из важнейших при обсуждении новаторства Пригова, а затруднительность для самого художника исторически контекстуализировать свою работу является глубоко неслучайной[47].
Жизнетворчество – это реализация индивидуального эстетического и этического проекта в последовательно реализуемых поведенческих практиках. Идея жизнетворчества предполагает, что его автор приписывает своему поведению двойственное значение: демонстративности и необычности (такое поведение резко отличается от практик большинства) и одновременно – новой нормы (психологические качества, проявленные в новых практиках, в идеале должны стать достоянием большинства людей). Акцент в разные периоды истории культуры ставится либо на первой, или на второй элемент этой семантической пары.
Вопрос о жизнетворчестве в русской культуре как общую проблему начал изучать Ю. М. Лотман [см.: Лотман 1975, 1981, 1987, 1992а, 1992б, 1995в], а вслед за ним – во многом пересматривая его результаты – А. Л. Зорин [2016] и Шамма Шахадат [2017][48]. Все они говорили прежде всего о том, как известные или неизвестные люди в XVIII–XIX веках использовали те или иные программы, коды или модели, уже существующие в культуре, для трансформации своего поведения и через переприсвоение этих моделей делали себя историческими акторами, субъектами социального действия.
Жизнетворчество символистов и футуристов много раз становилось предметом изучения [см.: Богомолов 1993; Paperno and Grossman 1994; Matich 2005; Шахадат 2017]. От предыдущих периодов их жизнетворчество отличается тем, что в нем встречаются различные, если не противоположные, модели. Если символисты вслед за романтиками стремились подчинить собственные биографии и авторские «имиджи» тем представлениям о красоте, которые разрабатывались в их творчестве, то футуристы, напротив, разыгрывали в жизни «антиэстетику» (в виде нарочитых эпатажных выходок), а их последователи, лефовцы называли «жизнестроительством» подчинение творчества требованиям практических и идеологических нужд социалистического строительства. Поэтому изучение жизнетворчества модернистов – по сравнению с аналогичными практиками предшествующих двух столетий – требует более акцентированного внимания к идее сотворения или разыгрывания нового «я». «В искусстве жить подвергается пересмотру граница между телом и текстом. Она нарушается, стирается или прочерчивается заново» [Шахадат 2017: 11], – пишет Шамма Шахадат, автор единственной монографии, в которой центральным предметом исследования сделана эволюция стратегий жизнетворчества на большом хронологическом отрезке, от XVI до начала XX века. Однако большинство исследователей русского модернизма, обсуждавших проблему жизнетворчества, рассматривали ее словно бы на периферии повествования, включая ее в иные контексты[49].
Стратегии жизнетворчества, выработанные в советской и постсоветской ситуации, при попытке изучить их вызывают серьезные методологические проблемы – по-видимому, говорить о них гораздо сложнее, чем о стратегиях, сложившихся на предшествующих этапах развития культуры. Ш. Шахадат доходит до обсуждения «жизнестроительства» – проекта, сформулированного в работах марксистского критика и теоретика искусства Николая Чужака в 1920‐х, но завершает свою книгу словно бы многоточием:
На этом я обрываю свою работу, хотя она могла бы быть продолжена на другом материале – с привлечением ‹…› других эпох (постсоветский концептуализм, искусство перформанса), других национальных культур ‹…› Именно в современную эпоху постпостмодерна, в условиях господства над жизнью медиальных средств, границы между искусством и не-искусством становятся особенно прозрачными и искусству жизни угрожает опасность превратиться в явление, лишенное твердых очертаний ‹…› Все искусство становится сегодня, кажется, искусством жизни [Шахадат 2017: 258].
Согласно Шахадат, в современную эпоху жизнетворчеством становится всё, при этом исследовательница специально обращает внимание на «постсоветский концептуализм». Однако, согласно Пригову, которого Шахадат все же не упоминает, только сегодня художник и становится автором не отдельных произведений, но автономного «типа художественного поведения». По сути, финал книги Шахадат является признанием того, что методологические инструменты, которые она использовала для глубокого и разностороннего описания жизнетворческих стратегий в русской культуре на протяжении огромного временного интервала – с середины XVI века (Иван Грозный) до 1920‐х годов, для описания нынешней ситуации не работают – или, как минимум, требуют некоторого усовершенствования.
Один из возможных вариантов такого усовершенствования может быть произведен на основании работ французского философа, социолога и историка культуры Мишеля де Серто, который предложил различение между тактиками и стратегиями. По его словам, это две принципиально разных логики действия. Первая – это комбинирование различных элементов повседневных практик (предметов, действий и впечатлений) в ассамбляжи, которые реализуют личные цели «простых» людей, не имеющих прямого доступа к институтам власти. Примером тактик являются выбор продуктов в магазине, приготовление пищи или путешествие по городу. Стратегия же «…утверждает [социальное] место, которое может быть очерчено как собственное… ‹…› По этой стратегической модели конструируется политическая, экономическая и научная рациональность» [де Серто 2013: 50]. Стратегия так или иначе имеет отношение к власти: «тактика определяется отсутствием власти, точно так же, как стратегия организуется утверждением власти» [там же, 112].
В современной ситуации – исторически следующей за эпохой «после 1968 года», когда де Серто написал свой труд (он был завершен в 1980 году), – тактики очень часто используются людьми для ежедневного пересоздания и контроля образа «я», например с помощью собственного письма, лайков и перепостов в социальных сетях, выбора интересующей музыки, скачанной из интернета, выбора места и облика для селфи и так далее – все это превращается в формы «менеджмента идентичности». Иначе говоря, различение «своего» и «чужого» и создание «своего» из «чужого» становится практической задачей для очень широкого круга людей. «Стратегами» в создании «самости» считаются прежде всего медийные фигуры, которые именно благодаря своей публичности наделены «местом, которое может быть очерчено как собственное». Современные художники же в этой ситуации оказываются между тактиками и стратегиями или по ту сторону этой дихотомии[50]: они могут помещать тактики в новые контексты, переосмысливать и проблематизировать их.
Если вспомнить многочисленные стихотворения Пригова 1970–1980‐х годов о домашних заботах, в которые погружен его лирический герой, – в рамках концепции де Серто они будут выглядеть как раз намеренным обыгрыванием повседневных тактик ассамбляжа, доступных советскому интеллигенту. Пригов ничего не знал об исследованиях группы де Серто, но шел в похожей логике понимания повседневности и показал, что те тактики, которые де Серто назвал ассамбляжем, «строительством из чужих кусочков», могут быть объективированы, описаны и – что самое для нас ценное – эстетизированы и поэтизированы.
А в чем состоит приговская стратегия? Об этом он говорил настойчиво и с педагогическим упорством.
В беседе с Сергеем Гандлевским (1993):
Я так понимал, что вообще у искусства основная задача, его назначение в этом мире – явить некую со всеми опасностями свободу, абсолютную свободу. На примере искусства человек видит, что есть абсолютная свобода, не обязательно могущая быть реализованной в жизни полностью. ‹…› Я хотел показать, что есть свобода. Язык – только язык, а не абсолютная истина, и, поняв это, мы получим свободу [5: 65].
В речи по случаю присуждения Пушкинской премии (1993):
…Миссией художника является свобода, образ свободы, тематизированная свобода не в описаниях и толкованиях, но всякий раз в конкретных исторических обстоятельствах, конкретным образом являть имидж художника, инфицировавшего себя свободой со всеми составляющими ее предельности и опасности. ‹…› …именно артикуляция свободы (во всяком случае в наше время) является точкой, стягивающей на себя все остальное и являющей через себя все остальное [5: 15].
В другом интервью, уже во второй половине 1990‐х (данном Оксане Натолоке), Пригов повторяет ту же мысль, вводя, возможно, важнейшее для понимания его проекта определение актуального искусства, а вернее, того, как актуальное искусство воздействует на социальные и культурные практики: «Актуальное искусство занимается поиском конституированного нового типа поведения художника в обществе. Вот, скажем, каждое время художник являет запредельную свободу, он, собственно, для этого и поставлен – являть ту свободу, которая в жизни опасна и которой нужно показать предел» [5: 85; курсив наш. – М. Л., И. К.].
Таким образом, стратегической целью приговского жизнетворчества – его перформатизма – является манифестация свободы. Пригов говорит о «демонстрации» свободы поведения, и о ее «артикуляции» и «тематизации», и об обнажении ее пределов. В этом смысле его проект, в сущности, мало чем отличается от модернистских образцов жизнетворчества. Отличие начинается там, где Пригов говорит о «конституированных» и «типизированных» формах запредельно свободного поведения художника. Пригов подчеркивает, что его интересуют не индивидуальные или эксцентрические манифестации свободы, а только те, которые в конечном счете могут быть нормализованы:
ДАП: Скажем, в пределах языка какой-то человек являет свободу, но через уже десять лет эта свобода языкового поведения становится нормой и культурным этикетом.
Натолока: Некое элитарное становится популярным?
ДАП: Ну, просто оно становится культурой. Все художники соотносятся друг с другом одной интенцией – явить свободу поведения. И на их вещах это запечатлевается. Все, что воспроизводится, этикетно – видно, что оно этикетное. [5: 85]
Иначе говоря, запредельная опасная свобода, проявленная поведением художника, интересует Пригова как особого рода язык, «грамматику» которого он формулирует в своем творчестве. И дальней стратегической целью для него является культурная нормализация явленной им свободы как практики. Таким образом, по сравнению с историческим авангардом, Пригов изменяет «модальность» жизнетворчества: речь не идет ни об утопическом моделировании новых социальных отношений, ни о революционном разрушении всего того, что представляется абсурдным, а о нормализованных практиках «запредельной свободы», которые в конечном счете могут оказать воздействие на культуру в целом.
Правда, сам Пригов считает, что он следует примеру исторического авангарда, а именно – Малевича.
И в визуальном творчестве Пригова, и в его манифестах постоянно присутствуют отсылки к Малевичу. Так, в частности, в предуведомлении к своей выставке «Вагина Малевича» (Русский музей, 2000) Пригов писал:
В европейской культуре (да и не только европейской) два имени, вернее, два произведения стали как бы символами высокого, почти божественного искусства – Мона Лиза и Черный квадрат. ‹…› Именно они, претерпев наибольшее количество масс-медийных и художнических манипуляций, до сих пор сохраняют свое нетронутое величие, метафизическую мощь и магическую таинственность. ‹…› Помимо визуального образа давно уже бытует их словесный вариант, род некой отдельной и самостийной магической заклинательной вербальной формы – МОНА ЛИЗА и ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ [5: 678].
Для Пригова Малевич был одновременно и символом максимальной апроприации искусства консюмеристской культурой, и родоначальником актуального искусства.
Пример Малевича важен для Пригова именно потому, что в нем соединились два, по его мнению, контрастных типа эстетического высказывания. При этом оба связаны с выходом за пределы автономии искусства. Унаследовав от исторического авангарда представление о воздействии искусства на культурную, а шире – социальную среду (представление, заметим, нехарактерное для нонконформистских художественных кругов в целом[51]), Пригов различает два противоположных способа вторжения эстетической деятельности в практическую жизнь. В приговской терминологии это «актуальное искусство» и «культура». Под последней он понимает рутинизацию, трансформирующую былую трансгрессию в норму и этикет. Апофеозом превращения актуального искусства в «этикет» становится то, что Пригов называет «художественным промыслом» (см. выше). Однако сам Пригов свое актуальное искусство создает из материала «культуры» (или «художественного промысла»):
…я-то пытаюсь работать внутри не традиции вообще, а в сугубо отрефлектированной литературной традиции, причем именно русской, в которой зафиксировано очень немного типологически чистых поэтических поведений. Предположим, можно выделить «пушкинское», «тютчевское», «блоковское», «женское» лирическое поведение. Ошибка в том, что пытаются разгадать: а кто это? Я иногда работаю на смеси имиджей, не обязательно знать: вот это чистый Тютчев. Действительно, я работаю с рифмой, у меня есть внутреннее чутье ритма, размера, конечно, – практически я пишу стихи. Но в той же малой зоне, где и живет различие, там моя работа полностью отличается от поэтической деятельности [Зорин 2010: 436].
Более того, он стремится к тому, чтобы, подобно Малевичу, вторгаться в зону «культуры», чтобы закрепить свой дискурс в виде узнаваемо-рутинизированных жестов – чтобы с первых слов было понятно, что это – Пригов.
Логика Пригова становится понятнее в контексте современных теорий (дискурсивных) практик, разработанных наряду с де Серто Пьером Бурдье, а также Б. Латуром, Л. Болтански и Л. Тевено и другими авторами[52]. Теории практик противостоят как семиотике, придающей верховный смысл надличным культурным моделям, так и постструктуралистскому «текстоцентризму». В центре внимания исследователей социальных, культурных и дискурсивных практик оказывается область «рутины», которая обеспечивает «символическую организацию реальности» [Reckwitz 2002: 251]. Как продемонстрировал Бурдье, практики представляют собой «полуосознанную грамматику», реализуемую через «настоящее искусство перформанса» [Bourdieu 2010: 20].
В целом концепции практики так или иначе могут быть возведены к представлениям позднего Людвига Витгенштейна о том, что элементы языка приобретают смысл только в процессе употребления; практики как раз и могут быть описаны как процессы, в ходе которых отдельные элементы человеческой деятельности, в том числе и языковой, наделяются конкретным смыслом[53]. Неслучайно, говоря о теориях позднего Витгенштейна, М. де Серто обосновывает практическую деконструкцию универсальных (метафизических) категорий, происходящую в обыденной жизни:
«Будучи пойман» внутрь обыденного языка, философ больше не имеет собственного или присваиваемого себе места. Для него недоступна любая позиция господства. Анализирующий дискурс и анализируемый «объект» имеют один и тот же статус: тот и другой организуются деятельностью, свидетелями которой они являются, определены правилами, которые они не устанавливают и не могут четко осознать, в равной мере рассеяны в различных способах функционирования (Витгенштейн хотел, чтобы самое его произведение состояло только из фрагментов)… Философская или научная привилегия теряется в обыденности. Следствием этой потери является упразднение истин. Из какого привилегированного места они могли бы получить свой смысл? Таким образом, мы имеем факты, которые больше не являются истинами [де Серто 2013: 76].
Переводя свободу на уровень практик, Пригов лишает ее метафизического смысла. Его перформатизм, таким образом, парадоксальным образом утверждает свободу, не придавая ей значение истины (но и не снимая ее ценности!) и не манифестируя позицию власти. Перформатизм, понятый как систематическая практика свободы, оказывается глубоко постмодернистским феноменом. Свобода, реализованная как практика, воплощает прежде всего свободу от метанарративов, от авторитетных дискурсов и истин: «Язык – только язык, а не абсолютная истина».
Стратегия, как полагает Серто, всегда связана с отношением к власти. Но при таком стратегическом жизнетворчестве это отношение не может быть ничем, кроме критики, – и Пригов прямо об этом и говорил:
…интеллектуал (пусть в моем, скажем, конкретном виде и образе он выйдет что и поглупее вышеназванных) – это не просто умная и образованная человеческая личность, но некое такое специально выведенное существо для проверки и испытания на прочность всевозможных властных мифов и дискурсов. Как, скажем, собака, натасканная на наркотики. В этой должности нет никакой ущербности и никаких преимуществ перед другими. Просто должно быть понятие добровольно принятого на себя служения, культурная вменяемость и соответствующие нормы профессиональной или, вернее, корпоративной этики, если такая существует и может существовать в наше время. И, скажем, переход на службу во власть или добровольное служение ей (не будем судить, хорошо это или плохо, во многом оно зависит еще от сути самой власти) при всей твоей неземной образованности и бесподобном уме выводит тебя за страту интеллектуалов. Их судьба – испытывать социокультурные проекты. А ты уже подрядился обслуживать какой-то один из них [ «Постовой», 1: 597][54].
Другой этический принцип, связанный со стратегией практической свободы, предполагает у Пригова «проблематичность личного высказывания, его невозможность» [Балабанова 2001: 119]. Так Пригов определял «основной пафос постмодернизма» (там же), но смысл этого принципа явно шире. Говоря о круге близких ему художников, Пригов использует тот же критерий: «…у нас была принципиально другая установка. Она была очень релятивистская, и мы, невольно критикуя чужие дискурсы и Большой советский дискурс, пришли к тому, собственно, что характеризует постмодернизм, – к сомнению в собственном высказывании… То есть критика любого дискурса естественно ведет к сомнению в собственном высказывании» [там же, 87]. В другом месте он добавляет, явно имея в виду свое собственное творчество: «…ощущение необязательности собственного высказывания для другого, нетотальность его. Поэтому на границах перехода одного высказывания в другое возникает тип иронии, которая есть знак относительности высказывания» [там же, 28]. По этому признаку Пригов, например, различает концептуалистский круг и «шестидесятников», однако при этом вводит характерную оговорку о Всеволоде Некрасове, одном из признанных лидеров литературного концептуализма[55]. Объясняя причину их расхождений, Пригов говорит: «Проблема в том, что он не понимает и [не] предполагает, что его язык – это его язык. Он убежден, что он говорит на всеобщем правильном истинном языке» [там же].
Нет ли противоречия между этими этическими принципами и практиками свободы со всеми опасностями? Думается, нет, поскольку Пригов выводит эти принципы как последовательное развитие именно идеи свободы – как обеспечивающих «чистоту» его жизнетворческого эксперимента.
Итак, перформатизм Пригова – это особый вид жизнетворчества, который ориентирован на производство практик свободного поведения и самоопределения и который вбирает в себя и подчиняет себе все формы творчества автора. Перформатизм преследует стратегические цели и стремится размыть границу между эксцентричным и типичным, вписывая эксцентричные жесты в «грамматику» культурных практик.
Что дает взгляд на все творчество Пригова как масштабный перформанс культурных практик? Приведем несколько примеров.
Оперируя «отрефлектированными литературными традициями» или формализованными идеологическими конструкциями, Пригов также понимает их как дискурсивные практики[56], со своими бессознательно воспроизводимыми грамматикой и стратегией, которые он комически обнажает. Или, как говорит сам Пригов в предуведомлении к «241 платоническому диалогу» (1977): «Я пишу не отдельные стихи. Я пишу поэтическое пространство» [Prigov 3: 5]. Теория практик также объясняет, почему он так настойчиво стремится выйти за пределы традиционно понимаемого словесного искусства: во-первых, потому что дискурсивные практики принципиально не отличаются от иных культурных практик, во-вторых, потому что, как и любые иные практики, они в принципе могут быть реализованы только перформативно. Отсюда – приговские «кричалки» и «оральные кантаты», «гробики» отвергнутых стихов, сборники «вырванных, выдранных, выброшенных, измятых, истертых и поруганных стихов». В этом смысле, безусловно, его стихотворчество было для него не поэзией как представлением сугубо индивидуального, уникального мировосприятия, а методом письма (ср. близкий по смыслу термин l’ecriture, который использовали Ж. Деррида и Ж. Лакан) – процесса, выявляющего бессознательное, скрытое в практиках языка и культуры.
Одна из приговских перформативных практик состояла в том, что он и самого себя, и большинство знакомых всегда называл по имени и отчеству. В 1970‐е такое именование ассоциировалось с формальными правилами в научной, школьной или советско-бюрократической среде и резко противоречило речевой норме большинства интеллигентов, которые именно для демонстрации неформальности и приватности предпочитали называть себя и знакомых не просто по именам, но и в их уменьшительной форме. Эта норма была описана в известном стихотворении Александра Кушнера 1986 года:
- А мы и в пятьдесят Андрюши, Люси, Саши.
- Я к отчеству, сказать по правде, не привык.
- Порхают имена младенческие наши,
- Не тратя лишних слов, ложатся на язык[57].
Эта манера Пригова имела смысл не только нарушения конвенций – она проблематизировала любое интеллигентское представление о «неформальности», скрыто отсылающее к представлению о том, что называющие друг друга по именам входят в «публики своих», как их впоследствии описал Алексей Юрчак [Юрчак 2014: 248–254]. Тем самым реализовывалось стратегическое значение его жизнетворчества – так осуществлялась свобода даже от «своего круга».
Еще более отчетливо и еще более демонстративно превращение литературы в перформанс культурных практик было осуществлено Приговым в его монументальном проекте ежедневного письма, ежедневного создания одного или нескольких стихотворений – т. е. в буквальном превращении актуального искусства в совокупность практик, состоящих, с одной стороны, из рутинных жестов, а с другой – из колоссального, не поддающегося освоению количества текстов-манифестаций. Причем в том глобальном контексте модернистски-авангардной культуры, в котором Пригов себя и мыслил, различия между литературой и «жизнью» незначительны, и потому «перформанс литературности» – это в равной степени перформанс существования, в первую очередь социального. Огромное количество стихотворений, которые написал Пригов, создавая их в ежедневном режиме, важно именно не как тексты, а как практика, которая и должна быть ежедневной (или, по крайней мере, регулярной) и состоять из в принципе неисчислимого количества однородных, но не идентичных феноменов. «Пригов называл творчество „убиением времени жизни“, – замечает М. Рыклин, – и расшифровывал это определение следующим образом: посредством многолетней художественной практики творческий организм приучается „реализовывать себя в узком диапазоне жизнепроявлений“. Никакой другой цели у практики нет» [Рыклин 2010: 84]. Радикальность этого проекта «олитературивания повседневной жизни», аукающегося и с Розановым, и с Хармсом, не вызывает сомнений.
Таким образом, одной из центральных задач актуального искусства в концепции Пригова становится перформативная критика культурных и дискурсивных практик, формирующих общество и обусловливающих неосознаваемые, скрытые нормы и репрессии. Перформанс дискурсивных практик – это наиболее близкий к самим практикам, изоморфный им, способ их художественной репрезентации и критики. В творчестве Пригова перформатизм становится не «концом постмодернизма», как интерпретирует его Рауль Эшельман [см.: Eshelman 2008], а новой ступенью в развитии постмодернистской культуры.
5. Принципы перформатизма
В сущности, концептуалистский сдвиг, произошедший в творчестве Пригова в начале 70‐х, может быть проинтерпретирован как сдвиг от понимания творчества как производства смыслов, коммуникации с Другим или с трансцендентным началом – к репрезентации и критике дискурсивных практик как совокупностей рутинных повторяемых операций: словесных, ментальных, телесных, подобных стоянию в очереди или выносу помойного ведра.
В своем перформансе культурных практик Пригов разрабатывает две группы приемов. Одна подсказана современным ему западным искусством – прежде всего, поп-артом, минимализмом, постминимализмом и концептуализмом. Другая – тем, в чем можно увидеть связь с карнавальной культурной традицией, а можно – с ее советскими модификациями.
Принцип серийности
В визуальном творчестве самого Пригова немало серий однородных объектов и композиций. Однако он переносит этот принцип на литературное творчество (скорее всего, под влиянием поэта Всеволода Некрасова (1934–2009) и поэта и художника Андрея Монастырского (р. 1949), которые экспериментировали с серийными поэтическими композициями, основанными на повторении сходных элементов: первый – в 1960‐е годы, второй – в начале 1970‐х[58]). Отсюда его настойчивое внимание к языковым know-how: паттернам, грамматикам, азбукам, «исчислениям и установлениям» и тому подобным техникам, реализованным во многих циклах его поэзии. Но этот принцип нужно понимать шире. В уже упоминавшейся беседе с Андреем Зориным Пригов говорил:
Для меня очень важно количество стихотворений, фиксирующих данный имидж. Раньше у меня, предположим, это занимало больше времени, сейчас они быстрее отчуждаются в жанр. Но зато появляются скопления модификаций тех или иных имиджей. Когда я был «женским поэтом», то написал пять сборников: «Женская лирика», «Сверхженская лирика», «Женская сверхлирика», «Старая коммунистка» и «Невеста Гитлера». Это все модификации женского образа, женского начала [Зорин 2010: 437].
Количество стихотворений, фиксирующих данный имидж, указывает на особые функции серийности в творчестве Пригова. На наш взгляд, таких функций по крайней мере две. С одной стороны, повторение одной и той же риторической, стилистической или символической конструкции в каждом тексте цикла/серии предельно обнажает эту конструкцию, позволяя распознать в ней составной элемент существующей дискурсивной практики – т. е. играет аналитическую роль. Этот прием Пригов использует разнообразно и на протяжении всего своего творчества: от ранних «Исторических и героических песен» (1974) до переложения текущих криминальных и политических новостей в цикле «По материалам прессы» (2004–2005). Самые знаменитые циклы Пригова – такие, как стихи о Милицанере, «Москва и Москвичи», «Образ Рейгана в советской литературе» или «Обращения к гражданам», – тоже принадлежат этому ряду. В этой интерпретации сериальности Пригов следовал за англоязычным концептуализмом, исходившим из принципа: «Типы порядка – это формы мысли» (Types of order are forms of thought) [Bochner 1999: 24].
С другой стороны, серийность используется Приговым и как способ дискурсивного моделирования. Повторение одной и той же фигуры символической или риторической «грамматики» огромное количество раз автоматизирует, а точнее «рутинизирует» конкретный языковой жест. Таким образом, Пригов на наших глазах превращает свое (риторическое или символическое) изобретение в дискурсивную практику. Именно так он поступает, когда работает с дискурсами, в русской культуре либо вовсе не существующими, либо едва намеченными, но явно не закрепившимися в виде дискурсивной практики, – в таких циклах, как «Невеста Гитлера» (1989), «Новая антропология» (1993) и «Прямая антропология» (1997), «Девушка и кровь» (1993), «Эротика, исполненная прохлады и душевности» (1993), «Лесбия» (1996), «Изъязвленная красота» (1995) и мн. др.[59]
Однако приговские серии ни в коем случае не утверждают некий рациональный или какой-либо иной порядок. Напротив, их внешняя организация, как правило, служит подрыву каких бы то ни было представлений об упорядоченности; один и тот же конструктивный элемент объединяет категории столь далекие друг от друга, что сама серия превращается в зримое опровержение каких бы то ни было упований на гармонию или закономерность. Не является ли одним из следствий – и одновременно манифестацией – этого скрытого противоречия «не влезающая» висячая строка в конце многих его стихотворений? Андрей Зорин даже предлагал ее назвать «приговской строкой» и считать фирменным приемом [Зорин 1990].
Повторение одних и тех же элементов лишь усугубляет абсурд квазиупорядоченности, делая этот абсурд словно бы автоматизированным:
Собака смотрится как пять кошек минус одна мышь.
Курица смотрится как два сурка минус песня о них.
Человек смотрится как две руки, две ноги, голова минус меховые крылья.
Коза смотрится как четыре индюшки минус сообразительность крысы.
Безумие смотрится как десять возбужденностей минус величие пафосного поэта.
Змея смотрится как не доведенное до конца длинно-казуальное рассуждение минус две-три, четыре, ну, пять комариных укусов.
Многое смотрится как десять-одиннадцать чего-то большого минус одно что-то маленькое, но очень существенное, иногда даже отсутствием своим разрушая возможное грядущее единство.
Но вот что смотрится как девять ангелов минус понятие о человеческих слабостях – это что-то неземное, наверное.
(«Минус единица» (1998) – 1: 555)
В сущности, Пригов превращает серийность в метод деконструкции дискурсивных практик и наделения дискурса значением в контексте той или иной практики. Его серии можно назвать «антиконструктивистскими»: если конструктивисты верили в то, что искусство способно внести в практическую жизнь «организацию опыта», то у Пригова «организационный» принцип, вносимый в дискурсивную практику, неизменно порождает лавину все более и более абсурдных высказываний, остающихся, тем не менее, в рамках «организованной» риторической структуры. Пригов оборачивает серию как метод организации против самой себя, обнажая иррациональные основания конкретной (а в пределе – любой) дискурсивной практики, всегда неявно претендующей на внесение порядка в мир. В этом смысле он также выступает как последователь методов западного концептуального искусства.
К его серийным произведениям в полной мере подходит определение «абсурдный номинализм», предложенное Розалиндой Краусс в качестве характеристики визуальных серий Сола Левитта (Sol LeWitt): Краусс находила его и у Беккета, и у других американских художников-минималистов и концептуалистов. По ее убеждению, их всех объединяет репрезентация «мира без центра, мира замещений и переносов, никаким образом не легитимированного откровениями трансцендентального субъекта. В этом сила такой работы, ее серьезность и ее заявка на современность (its claim to modernity)» [Krauss 1978: 57–58]. Эта характеристика в полной мере подходит и Пригову.
Принцип растраты
Принцип потлача описал французский писатель, философ и социолог Жорж Батай, интерпретируя работы антропологов, изучавших американских индейцев и другие этнические группы с культурой, далекой от европейской. Потлач – это традиция дара, часто соединенного с символическим уничтожением имущества:
Потлач, как и торговля, является средством оборота богатств, но он исключает торг. Чаще всего это торжественное дарение значительных богатств, преподносимых вождем своему сопернику с целью унизить, бросить вызов, связать обязательством. ‹…› Дар – не единственная форма потлача: сопернику бросают вызов и торжественным разрушением богатств. ‹…› Еще в XIX веке случалось, что один из вождей тлинкитов являлся к своему сопернику, чтобы у него на глазах убивать рабов. ‹…› [Даритель потлача] богат тем, что демонстративно истребил то, что становится богатством лишь в момент своего истребления. Но богатство, осуществляемое в потлаче – в потреблении ради другого человека, – фактически существует лишь постольку, поскольку в результате истребления богатства этот другой изменяется. В некотором смысле, подлинное истребление богатства должно было бы осуществляться в одиночку, но тогда оно не имело бы завершения, которое сообщается ему действием, оказываемым им на другого. ‹…› Образцовая сила потлача заключается в возможности для человека завладеть ускользающим от него, сочетать безграничное движение Вселенной с присущей ему самому ограниченностью [Батай 2006: 147–150][60].
Присутствие принципа растраты, символического потлача в поэзии Пригова кажется самоочевидным фактом[61]. Все его творчество представляет собой методическую растрату омертвелых, избыточных символических ресурсов, накопленных советской цивилизацией, да и русской классической традицией тоже. Он взял на себя роль «давления жизни», взрывающего асфальт авторитетных языков культуры; он подверг практически все дискурсы, претендующие на символическую значимость, веселому, а иногда и страшноватому потлачу.
Пригов в своем творческом поведении, кажется, соединил две стратегии, описанные Батаем. Критики сравнивали методичное, бесперебойное, беспрецедентно массовое производство приговских текстов со стахановским трудом – т. е. с тем, что Батай воспевает как производство, «решительно закрытое для принципа непроизводительной траты ‹…› на пределе человеческих сил» [Батай 2003: 14]. Однако не в меньшей мере относится к Пригову – особенно советского и раннего постсоветского периодов – и батаевская характеристика плана Маршалла как организованной траты ресурсов в пользу разоренной войной Европы. Иначе говоря, если Пригов и был поэтом-стахановцем, то его производительный труд был направлен на системную трату символических капиталов.
Б. Гройс полагает, что сама теория «всеобщей экономии» Батая представляет собой радикальную попытку демифологизации и в то же время экспансии позиции «проклятого поэта», за которой встает романтический идеал поэзии, в соответствии с которым «современный поэт – это последний воин, расходующий себя и других, чтобы инсценировать свою гибель как праздник» [Гройс 2006: 137]. Основной заслугой Батая Гройс считает то, что «он экономизирует романтический идеал поэта именно как идеал и показывает тем самым, что его формирование само по себе уже есть экономическая операция» [там же]. Эта характеристика в полной мере приложима и к Пригову, который своим (квази)научным комментарием демонстративно обнажал рациональный характер своих экстатических потлачей как остраняющего и трансгрессивного участия в современной символической экономике, противоположных «аутентичному» переживанию роли романтического поэта.
С категорией растраты соотносимы не только «советские» и «перестроечные» тексты Пригова, где совершается виртуозная растрата авторитетных риторик, символов и дискурсов. Начиная со второй половины 90‐х годов Пригов все чаще сочетает процедуры дискурсивного потлача (практически никогда не оставляя их совсем) с тем, что можно обозначить как онтологизацию растраты. Хотя, конечно, само слово «онтологизация» нуждается в кавычках, поскольку Пригов неизменно проблематизирует любую попытку придать дискурсивной практике (в том числе и своей собственной) онтологический статус. В случае растраты онтология вообще сомнительна уже хотя бы потому, что в ней «минус» всегда доминирует над «плюсом».
Программное значение в контексте тенденции к онтологизации растраты приобретает сборник «Исчисления и Установления» (2001), в котором Пригов обнажает собственный прием через его ироническую буквализацию. Кажется, здесь воспроизводится и доводится до абсурда такой авторитетный дискурс, как панмонетаризм – вера в возможность все свести к денежному (цифровому) эквиваленту: ведь оказывается, что подсчитать можно приятность обеда («Расчеты с жизнью»), коэффициент сакрального («Священники и прихожане»), облачность, чувства и исторический процесс («Пять килограммов»), ожидание («Ожидание и его растворение»), силу ума («Сила ума»), творческую энергию («Штучки»), политическую корректность («Политикал корректнесс»), Россию и Смерть («Россия и Смерть»). Пригов создает и вовсе уж невероятные «уравнивания», напоминающие дзен-буддистские коаны: «Если на левую сторону рисового зерна спроецировать модель Вселенной…» («Шансы»). Дело даже не в том, что расчеты оказываются комически-абсурдными, а в том, что либо в начале, либо в конце создаваемого «уравнения» обязательно окажется катастрофа, смерть, умершие близкие, потерянное время, пустота, ноль – в общем, то, что отчетливо квалифицируется как растрата или ее следы. Внутри этих «стратификационных» текстов то и дело возникают «батаевские» эквивалентности растрат: поэзия, мысль – экскремент – еда – эротика – насилие. Более того, практически каждый текст этой книги строится как демонстрация мнимой сбалансированности утрат и приобретений через методичные квазиподсчеты. Происходит постоянное самоопровержение операции эквивалентности: растрата оказывается в принципе иррациональной, что и приводит к комическому эффекту при операциях «математизации».
Если Батай еще верит в восстановление утраченной гармонии через растрату, то для Пригова такая вера невозможна. Неостановимая растрата всего и вся приобретает онтологическое значение лишь потому, что только она оказывается константной в любой сфере, в любом измерении существования. Однако в разных своих книгах, и в «Проклятой доле», и в «Теории религии», и в «Литературе и зле», Батай на различных примерах разрабатывает один и тот же тезис: что растрачено (принесено в жертву, пожрано, сожжено, убито), то становится сакральным. Именно в результате процесса растраты, уничтожения чего-то ценного преодолевается, по Батаю, отчуждение человека от мира, что, в свою очередь, позволяет ощутить интимную близость с божеством, миропорядком и т. п.: см. приведенную выше цитату о том, что потлач позволяет субъекту «сочетать безграничное движение Вселенной с присущей ему самому ограниченностью». Переживание этого момента интимной близости с миропорядком Батай и определяет как сакральное. Пригов же идет иным путем: чаще всего он добивается растраты путем гиперсакрализации – преувеличенно-экзальтированной, экстатической манеры речи, которая, возвышая объект, подвергает его радикальной деконструкции[62].
Гиперсакрализация
Как утверждает Бурдье, любой ортодоксальный дискурс «скрывает иную, еще более радикальную цензуру – открытое противопоставление „правильных“ и „неправильных“ мнений ‹…› в свою очередь, маскирует фундаментальную оппозицию между вселенной вещей, о которых можно говорить и, следовательно, думать, и вселенной того, что принимается без обсуждений и обдумывания» [Bourdieu 2010: 169–170]. Приговский же квазиавтор в порыве сакрализующего экстаза, наоборот, раскрывает и выговаривает все, что принимается на веру, все, что не только сказать нельзя, но и недопустимо и помыслить.
Вероятно, такой принцип дискурсивной растраты был подсказан самой позднесоветской культурой, именно посредством гипертрофированной сакрализации, доведшей все дискурсы власти до откровенного абсурда. Одной из важнейших форм «доведения до абсурда» было скрещивание советской идеологии с риторикой сакрализации: «священными» в 1970‐е годы стали память о российской истории и о победе в Великой Отечественной войне, русская природа и многое другое [Штырков, Кормина 2015; Штырков 2016]. Это нагнетание консервативной по своему смыслу риторики сакрализации произвело двоякий эффект. С одной стороны, в обществе образовался устойчивый «запрос на мирское сакральное», который оказал сильнейшее воздействие на возрождение религиозной жизни в конце 1980‐х годов. С другой стороны, критически настроенные советские жители воспринимали «инфляцию сакрального» со все большей иронией. Именно остраненное изображение и перформативное представление – артистическое обыгрывание – этой инфляционной, форсированной, восторженно-хвалебной риторики мы и называем гиперсакрализацией. Для Пригова такое обыгрывание стало важнейшей стратегией уже в середине 1970‐х. Поэтому он так часто использует такие риторические формы брежневской культуры, как официальные некрологи или «обращения к населению», наподобие лозунгов ЦК КПСС к 1 мая, неизменно публиковавшихся в одном из последних апрельских номеров «Правды».
Пригов разработал множество приемов гиперсакрализации, однако важнейшими и доминантными среди них представляются, во-первых, перформанс интимности (приватизации) дискурса как растраты его символической избыточности, как бы пожираемой «давлением жизни» (по Батаю), а во-вторых, перформативное же доведение до экстаза скрытой сакральности авторитетных дискурсов.
В качестве примеров интимизации официально-сакрального назовем циклы Пригова, изображающие эмоциональное присвоение, «интроекцию» советских мифов, – «Исторические и героические песни», стихи о Милицанере, «Москва и москвичи», «Царь белый царь красный и прочие цари» (1985), «Оральная кантата (кто убил Сталина)» (1987), «Сталинская камарилья» (1988), «Сталинское (Съезд народов Дагестана)» (1993), «Рейган в советской литературе» и присвоение собственно дискурсов трансцендентного – «Звери, люди и сила небесная» (1983), «Зовы из неведомого» (1993), «Метафизика по скучным правилам» (1993), «Каббалистические штудии» (1997), «Трансценденция» (1997) и мн. др. Показательны и псевдонаивные, как бы графоманские «апроприации» классических дискурсов в диапазоне от «Культурных песен» (1974) и «Долины Дагестана» (1974) до «Евгения Онегина Пушкина» (1992), где методическая вставка слов «безумный» и «неземной» в пушкинский текст одновременно обеспечивает захват и обесценивание классического дискурса.
Для приема перформативного разыгрывания (performative role-playing) экстаза особенно показательны приговские «мантры» – в частности, его исполнение первой строфы «Евгения Онегина» как полунечленораздельного распева в духе различных религиозных традиций (буддистской, мусульманской, православной и т. д.). На нем же строятся и приговские «Азбуки» (те, которые поются), и его «оральные кантаты», и ряд других произведений.
Гиперсакрализация Пригова вполне органично вписывается в общую логику русского концептуализма. В 1991 году Борис Гройс писал о том, что московские концептуалисты занялись «неосекуляризацией советской неосакральности» [1993: 308], то есть вторичным «обмирщением» того, что было объявлено сакральным в рамках советской мифологии. Однако в то же время
…работа с механизмами сакрализации не означает для московского концептуализма ни идентификации с ними, ни их критики в духе «демифологизации». Неосакральное в любых его формах создается сегодня из секуляризированных артефактов массовой культуры и художественной традиции ‹…› Критика мифа сама мифогенна, десакрализация сама сакрализует – в сущности, давно известный из истории религий феномен перехода сакральной ауры на любого, кто прикасается к сакральному, – вне зависимости от того, делается ли это из пиетета или со святотатственными намерениями» [там же, 309–310].
В результате двойственности, о которой пишет Гройс, приговская гиперсакрализация порождает мерцающее сакральное – одновременно поражающее своим абсурдом и завораживающее своей трансцендентностью.
Гиперсакрализация у Пригова – это не только прием растраты. Она сохраняет и то значение, о котором настойчиво пишет Батай: преодоление статуса вещи, навязываемого субъекту (в случае Пригова этот статус навязан авторитетным дискурсом), возвращение неповторимо-уникальной субъектности, прорастание субъектности в то, что приносится в жертву. В результате гиперсакрализации субъект рождается – пускай на мгновение, – находя в растрачиваемом свое воплощение и одновременно наделяя объект растраты своей субъектностью. Здесь, на наш взгляд, кроется основание того мерцания – присутствия-отсутствия авторской личности во всех приговских текстах, о котором шла речь выше и о котором точнее многих писали Георг Витте и Сабина Хэнсген:
Авторскую манеру Пригова нельзя свести к холодной, рациональной манипуляции с языковыми стереотипами, точно так же, как нельзя утверждать, будто Пригов как человек полностью исчезает за поверхностью симулятивных средств языка. Беспрестанная ассимиляция чужих голосов в его творчестве – не «нейтрализующий» процесс: напротив, она звучит как многократное, преломленное, искаженное до невнятицы и прерывающееся эхо наделенного личной нотой голоса, который только таким образом может найти отклик [Витте, Хэнсген 2007].
Это наблюдение перекликается с мыслью Дж. Агамбена о явленности автора в процессе языковой игры: «Субъективность производится там, где, встречая язык и превращаясь в игру в нем без остатка, предъявляет в некотором жесте собственную к нему несводимость. Все остальное есть психология, и нигде в психологии мы не встретим ничего подобного этическому субъекту, форме жизни» [Агамбен 2014: 77].
Но возникающая в процессе гиперсакрализации субъектность не поддается однозначной идентификации. Она всегда говорит «чужим» или искаженным голосом, и ее источником и «местом жительства» становится «невязка обоих планов, смещение их» [Тынянов 1977: 201] – как конструктивное качества пародии, по Тынянову.
Актуальный художник как трикстер
Приговская гиперсакрализация, безусловно, является частным случаем пародии, хотя в ней достаточна сильна и карнавальная составляющая: демонстрируя «невязку планов», Пригов создает «развенчивающего двойника» официальных, авторитетных и сакральных дискурсивных практик, и его пародия, как и карнавальная пародия у Бахтина, не является «голым отрицанием пародируемого. Все имеет свою пародию, то есть свой смеховой аспект, ибо все возрождается и обновляется через смерть» [Бахтин 1972: 216].
Вместе с тем серийность часто совмещается у Пригова с гиперсакрализацией, что порождает эффект ритуальности, «наоборотной» пародийной сакральности. Такая сакральность предполагает в качестве своего субъекта трикстера-шамана, пародирующего богов и культурных героев и разыгрывающего антиритуалы. Не случайно трикстер часто определяется как «сакральный клоун». Тем не менее трикстера и богов, либо трикстера и культурного героя связывают не только антагонизм, но и определенное двойничество. Нередко эти функции совмещаются. Так, Е. М. Мелетинский писал о Вороне – персонаже палеоазиатского мифологического цикла: «Ворон одновременно является первопредком, культурным героем и плутом-трикстером… „Шутовские“ трюки Ворона порой пародируют его собственные творческие и шаманские деяния…» [Мелетинский 1976: 247]. А по словам Лоры Макариус, трикстер – это «мифическая проекция чародея, который, в реальности или в желаниях людей, нарушает табу в интересах группы и такой ценой добывает лекарство или талисман, необходимые для групповых нужд. Таким образом, он [трикстер] выступает в роли основателя ритуалов и церемоний» [Makarius 1993: 73].
У. Хайнс, известный исследователь мифологии, выделил следующие характеристики трикстера в архаических культурах: 1. двусмысленность и амбивалентность; 2. изобретение трюков и розыгрышей; 3. превращения и метаморфозы; 4. «переворачивание» ситуаций, в особенности профанация священного, – в этом смысле трикстер пересекается с карнавальной культурой. 5. посланец и имитатор богов, осуществляющий функции медиатора между противоположными членами бинарных оппозиций; 6. создание бриколажей из священного и непристойного [Hynes 1993]. Хайнс добавляет, что некоторые персонажи могут демонстрировать только одну или две черты из этого списка и все равно оставаться трикстерами [Hynes 1993: 45].
Если рассмотреть того персонажного автора, которого создает Пригов, и интерпретировать его «имиджевые» трансформации и игры с авторитетными нарративами как «превращения» и «имитацию богов», можно без труда найти у него проявления всех шести этих качеств. Особенно удаются этому автору бриколажи из священного и непристойного. Пригов в своем поведенческом имидже (особенно в последние годы) отчетливо воспроизводит и такую важную черту трикстера, которую описывает Бахтин: «Им присуща своеобразная особенность и право – быть чужими в этом мире, ни с одним из существующих жизненных положений этого мира они не солидаризуются, ни одно их не устраивает, они видят изнанку и ложь каждого положения. Поэтому они могут пользоваться любым жизненным положением лишь как маской» [Бахтин 1975: 309].
Многие художники-модернисты и постмодернисты строили свой публичный образ как образ трикстера. Российский журнал «Артхроника» даже посвятил фигуре художника-трикстера специальный выпуск (июнь, 2009). В этом номере был помещен список «Топ-10 трикстеров мирового искусства», в который вошли Марсель Дюшан, Энди Уорхол, Ив Кляйн, Джефф Кунц, Комар и Меламид, Тимур Новиков, Олег Кулик, Мамышев-Монро и др. Пригову в нем не нашлось места. Вероятно, потому что он не был «чистым» художником.
Творчество актуального художника аналогично функции мифологического трикстера, выступающего в роли creative idiot [Hyde 1998: 11], чья разрушительная деятельность вместе с тем созидательна. В случае актуального художника это означает, что осуществляемые им трансгрессии выявляют скрытую от глаза инфраструктуру языков культуры, сковывающих свободу. Как и мифологический трикстер, сам художник становится, по Пригову, манифестацией этой опасной свободы во всех ее – в том числе разрушительных – проявлениях. Подобно трикстеру, актуальный художник, каким его или ее описывает Пригов, всегда находится в лиминальной позиции – между визуальным и словесным искусствами, между разнообразными «логосами языка», между личным и социальным, между истеблишментом и альтернативной культурой (в пределе – между властью и терроризмом), подчеркивая, что эта граница «должна быть не на замке, а насквозь, легко и в любом месте проходима, то есть моя работа и есть [деятельность] по повышению проходимости этой границы, но в то же время надо следить, чтобы она полностью не исчезла, так как [в этом случае] исчезнет основное напряжение моей деятельности» [5: 372]. Таким образом, сам художник становится «модулем перевода из одного языкового пространства в другое» [5: 182]. Но главное, в современной культуре с ее вниманием к операциональности и поведенческим стратегиям художник сам создает границу, которую тут же с удовольствием пересекает, – тем самым выступая как удвоенный трикстер: «Именно этот фокус произвольного назначения границ, назначения зон по обе ее стороны и авторского объявления в любой точке посредством манипулирования границами и зонами и дает искусству до сих пор возможность слыть за нечто „неземное“ не только во мнении публики, но и в самоидентифицировании самих художников, лукаво забывающих об изначальном аксиоматическом жесте» [Пригов 1992: 25].
Трикстер – чрезвычайно важный троп в русской культуре ХХ века. Именно многочисленные советские трикстеры – от Хулио Хуренито из романа Ильи Эренбурга, Бени Крика из рассказов Исаака Бабеля, Ивана Бабичева из романа Юрия Олеши «Зависть» и, конечно, Остапа Бендера до барона Мюнхгаузена из телефильма Марка Захарова по сценарию Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен» – давали основания для эстетического примирения с цинизмом советского образа жизни, для вынужденной вовлеченности значительной части советского населения в полукриминальные отношения «второй», «блатной» экономики и различных форм теневой, альтернативной социальности [см. подробнее: Fitzpatrick 2005; Lipovetsky 2011]. Трикстеры заслужили такую горячую любовь советских читателей и зрителей потому, что они претворяли циничные стратегии выживания в бескорыстную артистическую игру, сходную с тем, что Петер Слотердайк определяет как «кинизм» или, вернее, неокинизм – эстетический аморализм, комический подрыв абстрактных и нежизнеспособных социальных норм [см.: Слотердайк 2009: 178–192, 250–266]. Трикстер становится моделью поведения и конструирования образа автора в советской авангардной среде 1920–1930‐х годов (Александр Тиняков, Алексей Крученых, Даниил Хармс, Николай Глазков), а затем в андерграунде 1960–1980‐х (Веничка Ерофеев как персонаж поэмы «Москва – Петушки», Абрам Терц / Андрей Синявский, Б. У. Кашкин).
Таким образом, трикстерство у Пригова становится узлом культурных практик, в котором сочетается шаманская священная клоунада, трансгрессивность художника-модерниста, перформативный цинизм неофициального автора, выворачивающего наизнанку авторитетные дискурсы. Именно трикстерство выступает как ядро его перформатизма, как его порождающий механизм. Трикстером является приговский автор-как-персонаж, а вокруг него выстраиваются другие, более сложные сюжеты и функции.
В случае Пригова образ и поведенческие стратегии трикстера были выработаны рационально и целенаправленно. На первый взгляд, трикстерская спонтанность противоречит рационализму. Однако спонтанность, по Пригову, должна быть сначала отрефлексирована, а потом уже воплощена в жизнь по определенным правилам: «…для меня важна чистота позиции, принцип осознанности правил игры, аксиоматических положений, положенных в основу твоего поведения» [Шаповал 2003: 11]. Хотя, по-видимому, сама эта позиция первоначально сложилась довольно естественно из сочетания двойственного положения Пригова как поэта и художника и общей атмосферы неофициального искусства позднего советского периода. Описывая свое существование в московском андерграунде, Пригов подчеркивал:
Я… занимал всегда странную позицию Гермеса-медиатора. Когда доминировали жесткие социокультурные и стилистические идентификации людей и никто никого не знал, я был одновременно знаком с «Московским временем», концептуальным кругом, Айзенбергом, Сабуровым и др. Собственно, я их всех перезнакомил [Шаповал 2003: 19][63].
В диалоге с Михаилом Эпштейном Пригов добавляет:
…моя стратегия менять имидж и прочее – это моя синдроматика как бы хамелеонства, синдроматика страха, то ли моя личная, то ли воспитанная генетически уже советским строем, попытка не быть идентифицированным, не быть узнанным. Вот говорят там: «Ты поэт?» – а говорю: «Да нет, я художник». Говорят: «Ты художник?» – «Да нет, я перформансом занимаюсь». Хорошо, что проблема любого художника не в том, чтобы синдроматику изъять, и не в том, чтобы ее выразить, а в том, чтобы эта синдроматика совпала с большими культурными стратегиями [Эпштейн – Пригов 2010: 70].
Карл Кереньи дал определение мифологического трикстера, которое можно считать классическим: «Беспорядок – неотъемлемая часть жизни, и трикстер – воплощенный дух этого беспорядка. Его функцией в архаическом обществе, вернее функцией мифологических сюжетов, о нем повествующих, является внесение беспорядка в порядок и, таким образом, создание целого, включение в рамки дозволенного опыта недозволенного» [Radin 1972: 185]. Этой установке на хаос, кажется, противоречит подчеркнутый рационализм Пригова. Но противоречия на самом деле нет. Приговский автор-как-персонаж рационально воплощает хаос – ведь его со всех сторон окружает обваливающийся, на глазах теряющий связность советский космос.
Можно согласиться с Борисом Гройсом, который подчеркивает в визуальном (а мы добавим, и литературном) творчестве Пригова функцию медиатора – как уже сказано, тоже вполне трикстерскую:
…прирост визуального искусства в экономике работ Пригова связан с защитой от темных, демонических сил хаоса, разрушивших советский космос. ‹…› В момент, когда этот космос потерпел крах, в искусстве Пригова произошел поворот в сторону самозащиты. Однако лучшим способом самозащиты для Пригова была не самоизоляция, а коммуникация. Он хотел получить возможность обратиться к хаосу, назвать его, заставить его говорить – вовлечь хаос в диалог, начать коммуницировать с ним. Одна из книг Алексея Крученых называется «Игра в аду». Поздние работы Пригова можно было бы назвать «игрой с адом». В них хаос предстает в образе неровного черного пятна, похожего на кляксу, – будто какая-то черная жидкость случайно пролилась на поверхность изображения. Лишенное четкой геометрической формы и ясных границ, это пятно символизировало деструктивное вторжение хаоса в регулярный порядок вещей. ‹…› Хаос посещает работы Пригова, но не манифестируется ими [Гройс 2016].
Таким образом, приговский автор-как-персонаж – это трикстер особого рода, который берет на себя «фильтрацию» хаоса: он постоянно напоминает о его присутствии, но полностью не отождествляется с ним, предпочитая создавать новые порядки через «инъекции» хаоса. В сущности, этот принцип является оборотной стороной его стратегии – воплощению свободы «со всеми опасностями».
Искусство «предпоследних истин»
Есть еще один важный аспект медиации в творчестве Пригова. Выше упоминалось, что Пригов связывает функцию художника-медиатора с романтическим типом культуры. До постмодернистской эпохи медиация, осуществлявшаяся художником, носила относительно закрепленный характер: типы медиации могли меняться по ходу эволюции автора, но в каждый данный период явственно доминировал один, определенный, вариант. В постмодернистскую же эпоху распад устойчивых художнических ролей (творца-титана, просветителя, мудреца, авангардиста-экспериментатора) требует постоянной и одновременной игры на гранях этих и многих других позиций и дискурсов, видов искусств и типов высказываний.
При такой перегруппировке на первый план выходит не столько медиация, сколько амбивалентность. Очень важной в постмодернизме, как известно, оказывается «проблема личного высказывания» – суть проблемы сводится к неопределенности категории «личности», от которой могло бы исходить такое высказывание. Пригов отвечает на этот вопрос, ограничивая «личность» автора «способность[ю] одного и того же художника оперировать различными языками, не отдавая пальму первенства ни одному из них, не идентифицируясь ни с одним из них, не полагая ни один из них уровнем разрешения своих творческих амбиций…» [5: 194–195].
В этом контексте становится понятно, что все творчество Пригова подчинено сложнейшей задаче создания цельной эстетической системы, основанной на постоянном подрыве авторитета «центрального» субъекта. Сам Пригов называл этот путь «искусством предпоследних истин»: «…искусство не занимается последними истинами, оно занимается предпоследними истинами. Оно готовит человека к этим последним истинам, которые могут быть рассеяны во всей деятельности человека, по-разному определяемые», – говорил он в одном из последних своих выступлений [5: 611]. Обычно это высказывание интерпретируется в том смысле, что искусству не следует брать на себя задачи религии, которая, по Пригову, и должна заниматься «последними истинами». Поясняя эту идею в беседе с О. Куликом (2007), Пригов подчеркивал: «Последними истинами занимаются вероучители, основатели школ, эзотерических систем. Искусство – это школа предуготовления, промывания глаз и сознания, а дальше шаг делает сам человек. Либо он, предуготовленный, идет в сторону последних истин, либо он остается в зоне жестовой и указательной, которая тоже имеет свою немалую, что называется, онтологическую укрепленность» [5: 102]. На вопрос Кулика «…может быть, пришло время соединить эти вещи – предпоследние истины с последними?» – Пригов отвечает достаточно жестко:
Как только вы наполняете свою речь утверждениями о конкретном знании, вы перестаете быть художником. ‹…› Надо понять, что человек может быть верующим и прочее, но в момент своего осознанного социокультурного или какого-то служения он есть художник. Он не должен путать эти два типа служения. Эта разница не есть разница какого-то времени, вообще-то разница принципиально антропологическая или культурно-антропологическая [5: 103].
На протяжении всей жизни Пригов несколько раз возвращался к идее искусства как феноменологического анализа любых практик – не только дискурсивных (хотя о них он говорил наиболее подробно), но вообще любых (см. об этом в главе 3 Части III). В ходе этих размышлений он пришел к идее искусства как исследования и выражения «предпоследних истин». Известно его манифестарное раннее стихотворение:
- Нет последних истин – все истины предпоследние
- И в смысле истинности и в смысле порядка следования
- Да и как бы человек что-то окончательное узнал
- Когда и самый интеллигентный, даже балерина,
- извините за выражение, носит внутри себя,
- в буквальном смысле, кал [2: 71].
Бурлескный образ из финальной строки снижает пафос и отвлекает внимание читателя от философски сложных первых двух строк. Из них следует, что «истины» – это предпоследняя ступень перед последней, «окончательной» ступенью постижения мира, на которой открывается то, что выше любой сформулированной истины. Возможно, что выражение «последние истины» у Пригова восходит к конкретному источнику – трактату Льва Шестова «Афины и Иерусалим»: «Вера, одна глядящая на Творца и Творцом вдохновляемая вера, излучает из себя последние, решающие истины о существующем и несуществующем» [Шестов 1993: 335][64].
Могуществу символической власти, излучающей «последние истины», Шестов в другой работе противопоставляет, как сказал бы Пригов, «вменяемость» – а именно понимание границ утверждаемой писателем-пророком «вечной» и «универсальной» истины:
Вера, потребность веры сильна, как любовь, как смерть. По отношению к каждому догматику я в настоящее время считаю своей священной обязанностью вперед идти на все уступки, вплоть до признания малейших и незначительнейших оттенков его убеждений и верований. Единственное ограничение, очень незаметное, почти невидимое: его убеждения не должны быть безусловно общеобязательными, т. е. для всех без исключения людей. Большинство, огромное большинство – миллионы, даже миллиарды людей я ему охотно уступаю при предположении, что они сами того захотят или что он окажется достаточно искусным, чтоб переманить их на свою сторону (ведь насилие в деле веры недопустимо?). Словом, я ему уступаю почти всех людей, зато он должен согласиться, что для оставшихся единиц или десятков его убеждения внутренне не обязательны (на внешнюю покорность я иду) ‹…› Сократ был прав, Платон, Толстой, пророки – правы, есть только одна истина, один Бог, истина вправе уничтожать ложь, свет – тьму, Бог, всезнающий, всеблагой и всемогущий, как Александр Македонский, завоюет почти весь известный ему мир и из своих владений при торжественных и радостных кликах миллиардов верноподданных изгонит дьявола и всех непокорных божескому слову. Но от власти над душами своих немногочисленных противников, согласно условию, откажется, и несколько отступников, собравшись на отдаленном и невидимом для миллиардов острове, будут продолжать свою вольную, особенную жизнь [ «Предпоследние слова» (1908) – Шестов 1996: 249–250][65].
Именно к такому пониманию «предпоследних истин» как истин, сопротивляющихся универсальным и «вечным» философским и эстетическим системам, и обращается Пригов. То, как последовательно и бескомпромиссно строится эстетика Пригова вокруг подрыва авторитетного слова, универсальных концепций и претендующих на «вечность» дискурсов, определяет ее новизну и революционность. И все, о чем говорилось выше, а именно: тотальный перформатизм, мерцательная авторская позиция, деконструкция культурных/дискурсивных практик, серийность, гиперсакрализация и трикстерская растрата символически ценного и сакрального, – все это и позволяет Пригову решать эту задачу, создавая то, что в одном из поздних стихотворений он определил как «партизанский логос»:
- Сжигать все до последней птицы
- И убегать в свою берлогу –
- Такой вот партизанский принцип
- И выше – партизанский логос
- Не то, чтобы здесь всякий занят
- Подобным, но мы партизане
- Отчасти
- Все
- Отчасти
- Кроме тех редких, кто полностью [1: 512–513].
6. Бунт против литературоцентризма?
Современный этап в развитии русской культуры М. Берг в конце 1990‐х определял как «бунт против литературоцентризма» [Берг 2000: 200]. Спустя двадцать лет видно, что те процессы, о которых писал М. Берг, было бы точнее рассматривать как масштабную идеологическую и культурную трансформацию. Однако, несмотря на эту трансформацию, у значительной части образованного сообщества сохраняется прежнее представление о литературе как о наиболее «естественном» медиуме для идеологии и одновременно – как об источнике норм, формирующих социальную реальность[66].
Чтобы определить роль Пригова в критике русского литературоцентризма, необходимо сделать небольшой исторический экскурс и разобраться в том, что же такое русский литературоцентризм. Начиная с середины XIX века утверждения об особой важности литературы в русской общественной жизни становятся общим местом в критике и публицистике. Николай Добролюбов писал в 1860 году, уже тогда скорее напоминая читателю об известной мысли, чем формулируя ее впервые:
Мы дорожим всяким талантливым произведением именно потому, что в нем можем изучать факты нашей родной жизни, которая без того так мало открыта взору простого наблюдателя. В нашей жизни до сих пор нет публичности, кроме официальной; везде мы сталкиваемся не с живыми людьми, а с официальными лицами, служащими по той или другой части… ‹…› Где же тут узнать и изучить жизнь человеку, не посвятившему себя исключительно наблюдению общественных нравов? А тут еще какое разнообразие, какая даже противоположность в различных кругах и сословиях нашего общества! ‹…› Что падает, что побеждает, что начинает водворяться и преобладать в нравственной жизни общества, – на это у нас нет другого показателя, кроме литературы, и преимущественно художественных ее произведений [Добролюбов 1911: 39].
Таким образом, литература была сочтена единственным в России, как сказали бы сегодня, независимым от властных структур пространством репрезентации общественной жизни. В советский период подобные идеи многократно варьировались в медиа и научных работах, обычно явно или скрыто расходившихся с официальной доктриной, – ведь с точки зрения идеологических инстанций, использовавших марксистскую и ленинскую риторику, литература была элементом «надстройки», а не производственного «базиса» общества.
В 1990‐е годы представление о роли литературы в российской истории было неявно переформулировано с помощью термина «литературоцентризм», структурно воспроизводящего понятия «логоцентризм» и «фаллоцентризм». Два последних концепта были изобретены в 1920‐е годы, но получили новую жизнь много позже, в 1970‐е, когда были использованы для обозначения негативных черт европейской культуры в философии Жака Деррида. В 1990‐е годы эти слова уже опознавались как важнейшие элементы постмодернистского дискурса. «Литературоцентризм» в критике и публицистике постсоветской России был воспринят одновременно как указание на значимость литературы для истории российского общества и как аналог диагностического термина «логоцентризм». Во втором случае он указывал на семиотическое насилие над личностью, как предполагали сторонники этой точки зрения, постоянно воспроизводившееся в русской культуре с очень давнего времени – с XVIII века или даже со Средневековья (именно так использует этот термин М. Берг).
Сегодня одни исследователи – как правило, более консервативные по своим социальным и культурным позициям – употребляют термин «литературоцентризм» с позитивными оценочными коннотациями, а другие, настроенные более либерально, – с отрицательными. Но те и другие сходятся в том, что литературоцентризм есть важнейшая черта русской культуры, а сегодня мы – свидетели его заката и перехода к новой парадигме, где в центре окажутся визуальные образы – а не тексты, или мультимедийная среда интернета – а не книга[67].
Сама связка между литературой и идеологией в России исподволь размывается начиная с момента краха советской власти. В 1990‐е годы причиной ее эрозии стал отказ новых государственных элит от использования литературы как идеологического инструмента. В 2000–2010‐е этот процесс эрозии получил новый импульс благодаря распространению социальных сетей и все большему значению, которое получает в нынешней российской культуре кинематограф. Но такое размывание – не выстраивание новой социальной конфигурации, а простая диссоциация: литература теряет способность быть главным медиумом идеологии, но ни общество, ни критики, ни писатели, за редкими исключениями, пока не стремятся определить, какую функцию литература могла бы принять на себя в будущем, помимо чисто развлекательной[68].
В этих условиях особое значение приобретает полемика против представления о литературе как о медиуме идеологии, которую на протяжении нескольких десятилетий вели представители неподцензурной словесности и московско-тартуской семиотической школы (хотя это были два разных спора). Такая полемика стала особенно последовательной в творчестве соц-артистов и концептуалистов, демонстрировавших насильственный, ритуализованный и в то же время условно-литературный характер идеологии как знаковой системы. Подобное восприятие идеологии объединяет Пригова с такими разными, но близкими ему авторами, как И. Кабаков, Вс. Некрасов, А. Монастырский, Л. Рубинштейн, В. Сорокин. Произведения Пригова в этом отношении особенно важны: во многих его стихотворениях в гротескном, нелепом виде изображается сознание, для которого связка «литература как медиум идеологического мифа» является «естественной», самоочевидной социальной конвенцией. Иначе говоря, стихотворения Пригова в новейшей русской культуре в наиболее явном виде решают задачу «расколдовывания мира», если пользоваться выражением Макса Вебера, – или, если угодно, той самой «неосекуляризации», о которой упоминал Гройс. Однако в случае Пригова главным средством «расколдовывания» становится не столько описанная Вебером рационализация, сколько демонстрация абсурдного и иллюзорного характера сил, которые действуют в идеологизированном, индоктринированном сознании.
Российские концептуалисты создали свою эстетику, зная об американском концептуализме, но не ориентируясь на него как на образец, а скорее, вступив в диалог с коллегами, работавшими по ту сторону «железного занавеса» – пусть этот диалог и оказался вынужденно односторонним, не предполагавшим ответных реплик. Слово «концептуализм» в СССР получило относительно широкое распространение после выхода сначала в самиздате, а потом и в тамиздате статьи Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм» (1979), однако, по-видимому, само слово «концепт» имело хождение в московской неофициальной литературно-художественной среде еще в первой половине 1970‐х[69].
Важнейшей задачей искусства американские концептуалисты считали исследование языков, на которых произведение искусства обращается к зрителю и выражает идею, придуманную художником. Впервые в истории искусства концептуалисты сделали предметом изображения и рефлексии тот момент восприятия и переживания образа, в который знаковая составляющая, имплицитно присутствующая в каждом образе (ибо человеческое восприятие семантично по своей природе[70]), «отслаивается» от него и получает самостоятельное бытование – или, наоборот, тот момент, когда языковая структура начинает производить невербальный образ в человеческом сознании. Открытие этой промежуточной зоны как пространства, с которым может работать искусство, оказалось очень значимым в условиях «экспансии знаков», порожденной развитием общества потребления и масс-медиа.
Представления американских концептуалистов об эстетической игре с «расслоением» языка и образа хорошо видны на примере одного из самых известных произведений этого движения – инсталляции Дж. Кошута «Один и три стула» (1965). Рядом со стулом, стоящим в музейном зале, висят фотография этого же стула в натуральную величину и таблица, на которой скопирована в сильно увеличенном виде статья «Стул» (Chair) из толкового словаря английского языка.
Российские концептуалисты сделали пространством изображения то место, в котором знак «отслаивается» от бытовых практик и от идеологии, натурализованной в сознании советского человека, т. е. представленной как естественная интерпретация реальности. Некрасова, Пригова и до некоторой степени Рубинштейна интересовал зазор между воображаемым, «идеальным» сознанием советского субъекта, которое можно было вообразить себе по интенциям повседневных лозунгов и идеологических текстов (подобно точке на чертеже, в которой должны сойтись несколько геометрических лучей), и реальным, раздробленным сознанием человека, который живет одновременно в мирах идеологических фикций, доставания дефицита, налаживания нужных связей и попыток узнать хоть какую-то информацию о происходящем в стране и за ее пределами (например, из сообщений западных «радиоголосов»).
Несмотря на то, что творчеству Пригова посвящено относительно много работ, до сих пор в тени остается скрытая диалогичность его стихотворений, которые на первый взгляд кажутся совершенно прямолинейными карикатурами на идеологизированное сознание. Эта прямолинейность – мнимая.
- Что же так Рейган нас мучит
- Жить не дает нам и спать
- Сгинь же ты, лидер вонючий
- И мериканская блядь
- Вот он в коросте и в кале
- В гное, в крови и в парше
- А что же иного-то же
- Вы от него ожидали
Стихотворение распадается на три части, заметно различающиеся по смыслу. Первая строфа в самом деле гротескно изображает сознание человека, под влиянием официальной пропаганды начала 1980‐х искренне считающего президента США в 1980–1988‐х годах Р. Рейгана воплощением мирового зла: даже слова «лидер вонючий» (скорее всего, слово «лидер» герой стихотворения воспринимает как эвфемизм слова «пидор») и «мериканская блядь» выглядят как «чужое слово», то есть как просторечная радикализация газетной риторики, не меняющая ее смысла[71]. Первые две строки второй строфы представляют собой пародийное видéние, в традиции средневекового жанра видений: реальный глава государства, которого изредка показывали по советскому телевидению, вдруг предстает ментальному взору персонажа как чудовищный монстр, которому сущностно соответствует его страшное поведение[72]. Последние две строки стихотворения – «мораль», написанная даже еще более косноязычно, чем предшествующие части: ритм ломается, ударение смещается на незначащую частицу «же», добавленную едва ли не только для рифмы. Эта «мораль» намеренно остраняет и ставит под вопрос литературность приговского текста, но она же вводит и третий голос – не индоктринированного сознания и не идеологического визионера, а резонера, вносящего в советский космос пародийное оправдание всего живущего в духе гегельянской формулы «все действительное разумно, а все разумное действительно». Такое «оправдание» фантастических, монструозных образов пропаганды является центральным мотивом цикла[73].
В некоторых «Азбуках» и поэмах Пригова перестроечного периода идеологизированное или просто монологическое сознание расщепляется на несколько голосов, выражающих контрастные точки зрения. Такие тексты можно назвать идеологическими мистериями, по аналогии со средневековыми мистериями, в которых библейские сюжеты тоже «раскладывались» на отдельные драматические роли и дополнялись новыми сценами – комическими или апокрифическими. Так, в одной из средневековых мистерий о рождении Иисуса Христа появлялась процессия повитух, которые должны были засвидетельствовать девственность Богородицы (ср. Саломею-повитуху, упоминаемую в апокрифах). Несмотря на эти изменения, мистериальные представления сохраняли представления о библейских сюжетах как о сакральных, и призваны были вызывать у зрителей ощущение чуда.
Идеологические мистерии Пригова демонстрируют, как идеология занимает в культуре место религии (в том числе и идеология, созданная на основе религиозных утверждений) и обнаруживает свой насильственный и сконструированный характер. Основным механизмом исследования идеологии в приговских мистериях становится именно ее «разложение» на независимые друг от друга, несводимые голоса, однако идеология для большинства этих голосов остается источником сакрального. Лживость этого источника видна только внешнему наблюдателю: Пригов дает возможность читателю занять метапозицию, аналогичную той, которую занимает сам. Но в результате спора голосов в мистерии не может родиться истина – как мы уже говорили, Пригов не верил в возможность ее выражения в литературном произведении. Такие произведения демонстрируют в первую очередь условность и не-цельность любого монологизма.
В сознании «Старой коммунистки», изображенной в поэме «Старая коммунистка царь коммунизма и голос живого страдания» (1989), возникает образ «держателя идеала» – воображаемого «Царя коммунизма», который «предположен всему этому» (то есть всем ее внутренним голосам), «…будучи даже породителем всего этого» [1: 234]. Им обоим – «Старой коммунистке» и «Царю коммунизма» – оппонирует «голос живого страдания», культурная стереотипность которого подчеркнута характерно «страдальческими» ритмикой и системой рифмовки, воспроизводящей предпоследнюю часть «Рыцаря на час» Н. А. Некрасова (ДМДМ или с иным чередованием Д и М)[74]. Постепенно голоса персонажей перемешиваются и в финале соединяются с голосом, видимо близким к авторскому, – насколько это вообще возможно в творчестве Пригова:
- Безумная, я все его люблю
- Всех прочих он по-прежнему милее
- Хотя давно лежит уж в Мавзолее
- И это слово страшное – люблю[75]
- Со мной прошло скитания и чистки
- Давно уж старая я коммунистка
- А все – люблю
- Надвигалась гроза
- Я сидела закрывши глаза
- Вдруг озоном повеяло чистым –
- Блеск взметнулся, послышался гром –
- Это братья мои коммунисты
- Отошедши с небес мне поклон
- И привет
- И приглашение как бы
- И надежду на светлую встречу скорую
- Посылают
- Опять голос страдания и совести:
- Остановитесь! Остановитесь! – О чем ты? – А разве вы не слышите? Не чуете? – Нет, о чем ты? – О, Господи! Оглянитесь вокруг! Внутрь себя взгляните? Кто все это оплачет, спасет и кто покается? – Ну, кто должен – тот и покается! – О, Господи! – сокрушается голос страдания и совести.
- ‹…›
- Мы ведь тоже не ангелы млечные
- Но ведь есть различения миг
- Чтоб их злобу и ярость предвечную
- С нашей грешною между людьми
- Жизнью
- Не спутать
Такие идеологические мистерии и в целом скрытый диалогизм стихотворений Пригова решают не только задачу иронического «расколдовывания» мира. Они показывают смысловые ограничения, которые неизбежно возникают, если считать литературу медиумом, имеющим только заемную ценность высказанной идеи или прямо считываемой эмоции.
Поэтому Пригова можно считать не разрушителем, а созидателем литературоцентризма в русской культуре: поэзия Пригова, как и других концептуалистов, вновь придает литературе функцию автономной смысловой системы.
Произведения Пригова деконструируют само представление о литературе как «подрывной» претензии на власть. Они создают аналитическую позицию, позволяющую увидеть не только всю условность связки между литературой и политической властью, но и почувствовать интенсивность человеческих чувств, вложенных в поддержание этой связки на протяжении XIX–XX веков. Если не помнить об интенсивности этих чувств, невозможно будет помыслить ту новую функцию литературы, которая возникает в эпоху после «литературоцентризма» или «идеологоцентризма», какое бы имя мы ни согласились дать этому и выстраданному, и вынужденному свойству российской общественной жизни.
Часть II
Деконструкция советского языка (1974–1986)
1. Культурный кризис начала 1970‐х годов и его последствия
Пригов начинает публично выступать со своими новыми стихами в общей с Борисом Орловым мастерской на улице Рогова с 1974 года; в 1975‐м происходят его первые выступления на «гостевых» – но таких же неофициальных – площадках. С этого года Пригов ведет отсчет и своего зрелого творчества: так, первую книгу в двухтомнике избранных произведений, вышедшем в издательстве «Новое литературное обозрение», поэт назвал «Написанное с 1975 по 1990». К 1974 году он уже написал около четырех тысяч стихотворений (см. «Предуведомление к сборнику предуведомлений к стихам», предпосланное «Историческим и героическим песням»), но, по-видимому, еще не считал поэзию своей главной профессией.
Переход от изобразительного искусства к новому типу поэзии естествен и даже необходим пишущему стихи Пригову: «Все уже заболели поп-артом, тут же возник концептуализм, который оказался очень сильно связанным с вербализацией, с внедрением слова в изобразительное пространство. Я был подготовлен к этому. Но странным образом оказалось, что в изобразительном искусстве стилистически и идеологически я начал заниматься актуальным искусством, а в литературе остался на традиционных позициях. Встала проблема, как преодолеть эту дикую разведенность» [Шаповал 2003: 76]. И добавляет в другом месте: «Я вышел не из литературы, она для меня один из языков, который можно легко отменить». К Пригову, таким образом, можно приложить формулу В. Шкловского, высказанную им по отношению к Маяковскому: «Он работал в стихах методами тогдашней живописи» [Шкловский 1964: 236].
По-видимому, первым ориентацию Пригова-литератора на современное визуальное искусство отметил М. Айзенберг: «…важно понять, что Пригов не вполне литератор, скорее, художник, работающий с материалом поэзии и литературы» [Айзенберг 1997]. Этот принцип сохраняет свое значение на протяжении дальнейшей эволюции Пригова-литератора после 1970‐х годов – он целенаправленно переносит в словесность принципы изобразительного искусства, создавая то, что Л. В. Зубова точно назвала «инсталляцией словесных объектов» [см. Зубова 2010]. О зависимости поэзии Пригова от эстетики современного искусства писал и М. Берг:
Для Пригова, в его отчетливой антилитературоцентричности, важно его происхождение от мирового современного искусства, а не от русской поэзии. Все его дальнейшие теоретические построения и обоснования собственной стратегии исходят из того, что его художественный метод идет не от отечественного словесного творчества, а от западного изобразительного искусства. Пригов очень рано, раньше большинства русских литераторов, интерпретирует литературу как область архаической деятельности, лишенной или быстро теряющей былую радикальность, свойственную ей до слома литературоцентризма в Европе и Америке [Берг 2011].
Сама эта установка (хотя и отчасти мифологизированная) на отчуждение от ближайших – литературных – контекстов предполагает независимость от всех возможных традиций – не только официальных, но и неофициальных[76]. М. Ямпольский говорит о специфическом для Пригова «понимании словесного текста как некой пространственной конфигурации» [Ямпольский 2016: 30]. Смысл этой установки на современное искусство как «прототип» литературных инноваций, по-видимому, состоит опять-таки в создании дистанции, которая становится, в понимании Пригова, важнейшим условием творческой новизны или, иными словами, остранения.
Формирование приговского индивидуального стиля, а вернее метода, происходит в важном историко-культурном контексте, и вне него трудно адекватно понять смысл приговской эстетики. Пригов стал приверженцем постмодернистской эстетики в начале 1970‐х годов – и этот его переход «в новую веру», как и аналогичный переход еще довольно многих неофициальных художников и писателей, был обусловлен вполне конкретными историческими событиями.
В мемуарных нарративах конец 1960‐х – начало 1970‐х годов – время после вторжения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора – часто описывается как период, когда резко усиливается давление власти на общество, порожденные оттепелью надежды рушатся и интеллигентские круги оказываются охвачены пессимизмом, из которого есть всего два выхода: эмиграция или стоическое выживание в рамках советских институций.
Краткий список событий этого периода больше напоминает мартиролог. В 1969 году по указанию «сверху» в связи с идеологическими обвинениями закрывается сектор методологии истории под руководством М. Я. Гефтера в Институте всеобщей истории АН СССР. 2 марта 1970 года Александр Твардовский после длительного психологического давления со стороны ЦК КПСС подал заявление об увольнении с поста главного редактора «Нового мира», вслед за ним уходит значительная часть редакции. В 1971 году из знаменитой московской математической школы № 2 по политическим причинам увольняют ее директора В. Ф. Овчинникова, вслед за ним покидает школу целый ряд педагогов. Весной 1972 года происходит реорганизация Института конкретных социологических исследований, что приводит к подавлению независимой социологии в Москве[77]. В январе – мае 1972‐го в Украине проходят многочисленные аресты диссидентов, среди арестованных – Василь Стус, Мыкола Плахотнюк, Леонид Плющ, священник Василий Романюк (впоследствии патриарх Украинской православной церкви Владимир), Иван Дзюба, Семен Глузман, Надежда Светличная и другие. 21 июня того же года были арестованы российские диссиденты Виктор Красин и Петр Якир, которые дали показания (особенно Якир) на большое количество друзей и знакомых (до 1972 года на квартире Якира проходили встречи московских диссидентов), а в 1973 году еще и выступили на пресс-конференции для советских и иностранных журналистов, где публично каялись в «антисоветской деятельности». Процесс Якира и Красина вызвал моральный кризис правозащитного движения. Все эти события, разумеется, не освещались в советской печати, но упоминались или обсуждались в передачах иностранных радиостанций, вещавших на Советский Союз, – а их слушали многие. Восприятие атмосферы 1973 года в интеллигентских кругах выражено в тогдашней паремии «В этом году осталось только цифры переставить» (и тогда получится 1937‐й). Впрочем, и 1972 год, казалось, провоцировал на почти апокалиптические интерпретации – из‐за того, что к репрессиям тогда добавилась аномальная летняя жара в средней полосе Европейской части СССР, вызвавшая многочисленные лесные пожары и панические слухи среди населения[78].
За нараставшим ощущением социальной и политической безнадежности, однако, сегодня можно увидеть и другой процесс – продуктивной культурной трансформации. Так, например, в 1974 году происходит знаменитая выставка художников-нонконформистов, названная в западной прессе «бульдозерной», из‐за того, что в ее разгоне власти использовали бульдозеры[79]. В результате скандального резонанса, вызванного этой выставкой, сначала была разрешена однодневная выставка «независимых» в парке Измайлово, а затем художникам-нонконформистам был выделен павильон «Пчеловодство» на ВДНХ, где – разумеется, с цензурой и под надзором – прошла выставка двадцати художников-нонконформистов, воспринятая тогда как сенсация[80]. В 1975 году был создан Московский горком художников-графиков на Малой Грузинской, 28, который стал центром неофициального искусства в его «умеренных» версиях и местом проведения регулярных выставок.
В те же самые годы (1968–1975) происходит рождение постмодернистского сознания в советской культуре и окончательное становление неподцензурной литературы как автономного поля внутри русской словесности и визуального искусства. Развитие этих процессов видно по другому ряду событий, которые, однако, тогда не упоминались в «радиоголосах» и первоначально оставались известными только узкому кругу людей[81].
В 1970 году Венедикт Ерофеев пишет одно из первых произведений русского литературного постмодернизма – поэму «Москва – Петушки». В 1971 году Андрей Битов заканчивает начатый в 1964‐м роман «Пушкинский дом». В 1973‐м Саша Соколов дописывает роман «Школа для дураков». К первой половине 1970‐х относится стремительное оформление российского концептуализма и соц-арта. Илья Кабаков пишет концептуалистские картины с 1969 года; в 1970/71 году он рисует уже совершенно зрелую концептуалистскую работу «Ответы экспериментальной группы». В 1971/72 году Эрик Булатов создает картину «Горизонт». В 1972‐м Виталий Комар и Александр Меламид пишут картину «Встреча Солженицына и Белля на даче у Ростроповича» и сразу вслед за ней – «Встреча Альберта Эйнштейна и Ивана Грозного на даче у Змея Горыныча». В 1973‐м для описания эстетики своих новых работ, включая эту картину и инсталляцию «Рай» (1973), Комар и Меламид придумали слово «соц-арт» по аналогии с американским поп-артом. В 1974 году Зиновий Зиник написал о новом движении в искусстве эссе с тем же названием «Соц-арт». Объясняя его психологические основы, Зиник писал:
Всякая попытка установить какую-либо иерархию продажности, инакомыслия и ортодоксии в искусстве замалчивает… факт всепроникновения официальной идеологии, внедрение ее в наш душевный быт с такой же интенсивностью, как внедрение химических удобрений в сельское хозяйство. ‹…› Серьезно говоря, стиль художника невозможно отделить от того зрительного ряда, с которым сталкивается его взгляд. ‹…› Желание себя противопоставить, деля советских художников на живописных ортодоксов и абстрактных инакомыслящих, исходя из стиля их работ, связано с тем же идеологическим моментом: желанием закрыть глаза на то, что советское (сталинское) искусство проникло и прочно укрепилось как у зрителя, так и у художника, провоцируя и того, и другого, кем бы он сам себя ни считал. ‹…› Свобода – это прояснение прошлого через разговор в настоящем. В рамках… провоцирующей разговорности, или, как мы [видимо, Зиник, Комар и Меламид. – М. Л., И. К.] говорим, метаюродства, важно подобрать факт, провоцирующий зрителя на диалог с изображением, закрутить собеседника, введя его в рамки самой картины или расширив картину до собеседника [Зиник 1979: 83, 84, 94][82].
Текст распространялся в самиздате, а в 1979‐м (в новой авторской редакции) был опубликован в парижском журнале «Синтаксис». Зиник говорил о соц-арте, а не о концептуализме, но все же сравнивал в тексте одну из работ Комара и Меламида с произведениями «западных» (видимо, прежде всего американских) художников-концептуалистов. Впоследствии соц-арт и концептуализм в живописи неоднократно сопоставляли искусствоведы [см., например: Бобринская 2013: 174–217; Storr 242; Hillings 2011].
Концептуализм в поэзии родился чуть позже – «на волне» развития этой эстетики в изобразительном искусстве. В 1974 году Лев Рубинштейн пишет первые «стихотворения на карточках», составившие цикл «Autocodex-74». В целом можно считать, что 1969–1973 годы – по крайней мере, если говорить о неофициальной московской литературно-художественной среде, – для одних были временем открытий, для других – временем усвоения этих открытий и выработки нового художественного языка. Однако в любом случае можно считать, что к 1975 году в неподцензурной части советской культуры складывается новая, постмодернистская эстетика.
Эстетические идеи американского концептуального искусства сложились к концу 1960‐х: в 1968‐м Сол Левитт публикует «Абзацы о концептуальном искусстве», в 1969‐м Джозеф Кошут – «Искусство после философии». В СССР эти веяния стали известны тогда же. Они пришли практически одновременно с поп-артом, который произвел на художников не меньшее, если не большее впечатление. Несколько позже (1981) Пригов описывал общее для его среды понимание поп-арта так: «клише ‹…› цитатность, злободневность, открытый игровой момент, антипсихологизм и антиперсонализм, принципиальная эгалитаризация языка. Отбор тем идет по принципу предпочтения наиболее ходульных и фетишизированных, до конца понимаемых не столько в пределах самого произведения, сколько во взаимодействии его с контекстом жизни» [5: 523]. И добавлял:
Под влиянием ли поп-арта, по причине ли культурно-возрастного сходства отношения к материнской культуре (американской – к европейской, советской – к русской), или еще по какой всеобщей, рационально вычленяемой или невычленяемой причине, в Советском Союзе в пределах того же временного промежутка (с некоторым, впрочем, привычным для нас запозданием), зарождается некий аналог американскому феномену, к которому в полной мере можно отнести все вышесказанное о принципах конструирования произведений искусства и способе их бытования. В данном случае, не испытывая никаких ученических комплексов и приоритетных притязаний, можно указать именно на поп-арт как на одного из главных провокаторов возникновения нашего феномена, поскольку… в пределах нашей культуры прямого соответствия поп-арту просто быть не может [там же].
Соц-артисты, не считавшие себя концептуалистами и использовавшие другую терминологию, оказались близки к ним в представлении об идеологической ограниченности любых существующих стилей и в понимании произведения как своего рода феноменологического анализа сознания современного человека; Зиник именно в этом смысле интерпретирует инсталляцию «Рай» в начале своего эссе[83]. Столь быстрая адаптация инокультурных эстетических идей при готовности игнорировать характерный для них терминологический аппарат свидетельствует о том, что зерна упали на подготовленную почву, то есть что эти идеи были необходимы для реализации культурного перехода, который субъективно ощущался «участниками процесса» как остро необходимый. По своему значению этот переход был гораздо шире, чем только формирование концептуализма или соц-арта.
Автор манифеста «Соц-арт», ныне известный писатель Зиновий Зиник, принадлежал тогда к кругу неподцензурных московских литераторов, в который, кроме него, входили Евгений Сабуров, Михаил Айзенберг и Леонид Иоффе. Примерно в 1975 году Сабуров был организатором одного из первых выступлений Пригова в мастерской друзей-художников [Сабуров, устное сообщение]. За два года до этого, в 1973‐м, Сабуров, которому тогда было 27 лет, опубликовал под псевдонимом Зарницын в парижском журнале «Вестник РСХД» статью-манифест «Утопия и надежда»[84], оформленную как возражение на эссе С. Телегина – под этим именем скрывался физик и диссидент Герцен Копылов (1925–1976)[85].
В 97‐м номере журнала была помещена подборка «Metanoia», состоявшая из трех статей под псевдонимами. Их авторами, как позже выяснилось, были члены одного неофициального философского кружка – Владимир Кормер, Евгений Барабанов и Михаил Меерсон (ныне – о. Михаил Аксенов-Меерсон). В своих статьях они резко критиковали прежние традиции русской общественной жизни: интеллигентский конформизм (Кормер), подчинение церкви государству и отказ православных христиан от самостоятельной социальной миссии (Меерсон) и настроения национал-мессианской самоуверенности (Барабанов). Барабанов был одним из ближайших друзей Сабурова и его соратником по работе в подпольных христианских кружках. Оба они (как и Меерсон) были духовными детьми о. Александра Меня.
В своей статье Барабанов, подписавшийся именем В. Горский, ввел важнейшую метафорическую дихотомию «гниения/разложения» и покаяния, понимаемого как радикальная трансформация сознания:
Подлинная задача России состоит не в том, чтобы «спасать» другие народы или удивлять мир своими бывшими культурными достижениями, но в том, чтобы глубоко и окончательно изжить совершенное преступление – вот что должно стать центральным пунктом нового сознания, как и отказ от всякого рода надежд на «неминуемую эрозию коммунизма», «постепенную демократизацию» или «либерализацию» режима. Демократизация еще не есть демократия. Демократизация таких устойчивых форм, как диктатура, свидетельствует не столько об оздоровлении страны, сколько о процессе дальнейшего ее разложения. Исаак Дойчер, один из авторов теории «эрозии коммунизма», отразил в своей концепции характерное для широких кругов Запада непонимание специфики коммунистического режима. Популярность его оптимистической теории связана с подсознательной боязнью задерживаться на мысли, что процесс гниения может продолжаться еще столетия, захватывая как все новые и новые страны, так и все новые и новые души…[86] [Горский 1973: 63]
«Гниением» и «разложением» Барабанов называл любой процесс социального развития тоталитарного и даже посттоталитарного общества, не сопровождающийся радикальной сменой мировоззрения, а именно – отказом от мессианских амбиций и территориальной экспансии и признанием человеческой индивидуальности как «безотносительной ценности» [там же, 66]. В своей статье в «Вестнике РСХД» № 107 (1973) Сабуров прямо продолжил размышления Барабанова о «гниении» и обличение интеллигентских утопий, начатое Кормером в статье «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура», – двух публикациях из подборки «Metanoia»:
…утопия автономной культуры, утопия патриотизма, утопия всесильной науки («разум обо всем когда-нибудь догадается и все постепенно разрешит») свидетельствуют только о нашей способности поддаваться иллюзиям, когда мы оказываемся пасынками истории. Эпоха «вымирающих идеологий», в которую нам приходится жить, гораздо глубже захватила нас, чем мы иногда думаем. Неважно, что мы не верим в какие-то лозунги, но важно, что мы живем в атмосфере их разложения. И если мы позволяем себе не верить и иронизировать, то это не значит, что мы не причастны уже к тому идеологическому кризису, которым болеет время. Мы тоже болеем им при всей нашей вольности мысли, домашнем остроумии и «взгляде со стороны» [Зарницын 1973: 156].
Эти рассуждения на несколько лет опережают знаменитую концепцию Ж.-Ф. Лиотара о кризисе метанарративов, которая станет одним из основных источников постмодернистской теории на Западе. Если Сабуров говорит об «утопии автономной культуры, утопии патриотизма, утопии всесильной науки», объединяя их понятием «вымирающие идеологии», то Лиотар в «Состоянии постмодерна» (1979) писал о том, что в постиндустриальном обществе произошел кризис легитимации знания – то есть истины – через метанарративы. Под метанарративами Лиотар понимал уникальность инвидуума, безграничность информации и неуклонность прогресса, что, в сущности, если не совпадает, то пересекается с утопией культуры и всесильной науки.
По-видимому, тексты Сабурова и Зиника, принадлежавших, как уже сказано, к одному кругу, были первыми манифестами постмодернизма в русской культуре – и в этом смысле предшествовали работам «Московский романтический концептуализм» (1979) и «Поэзия, культура и смерть в городе Москва» (1980) Бориса Гройса, а также «Тезисам о концептуализме и метареализме» (1982) Михаила Эпштейна. Общая черта работ Сабурова и Зиника – указание на необходимость рефлексивного усилия по отслеживанию «гниющих» идеологий в собственном сознании читателей, даже и претендующих на нонконформизм. Правда, из этого указания авторы делали противоположные выводы. Зиник описывал такой новый тип произведений искусства, который помогал зрителю сделать такое рефлексивное усилие, чтобы стать более свободным. Сабуров и Барабанов предполагали, что такое усилие может быть только религиозным по своей природе:
Остановите силы разрушения, которые действуют в истории, начав хотя бы с самих себя. Это не означает «тихого ничегонеделанья» и благочестивого «умывания рук». Напротив, с этого начинается труднейшее дело – восстановление в человеке его человеческой основы (что не может быть сделано культурой) – восстановление, в котором Бог вступает в союз с человеком, в котором все непосильное для человека Бог берет на Себя [Зарницын 1973: 159].
Однако, хотя Зиник предлагал в ситуации кризиса «больших нарративов» («гниющих идеологий») и любых систем легитимации выход секулярный и эстетический, а Сабуров и Барабанов – религиозный и антропологический, они представляли близкие направления мысли. Оговорка Сабурова о кризисе утопии культуры может быть прочитана как призыв не фетишизировать культуру, не ставить ее на место идеологии, как это происходило в СССР 1970‐х годов. Уже вскоре после публикации своего манифеста Сабуров стал постоянным собеседником московских поэтов-концептуалистов. Заметим, что и Барабанов в 1970–1980‐е годы стал исследователем неофициального искусства, в том числе – концептуализма и соц-арта.
В культурной ситуации рубежа 60–70‐х, если очень схематизировать, для советского интеллигента, стремящегося выйти из интеллектуального и политического тупика, были возможны три пути. Первый – создать собственную идеологию взамен делегитимизированной советской. По этому пути пошли многие авторы, писавшие о национальном и религиозном возрождении, при котором возвращение к «забытой» идентичности воспринималось как возможность новой коллективной мобилизации. В этом случае сохранялось советское представление об истории как о совместно творимой утопии, менялось только содержание утопии. Собственно, с неонационалистическими и религиозно-мессианскими авторами (не называя имен) и спорил в первую очередь Горский-Барабанов, требуя признать высшей ценностью человеческую индивидуальность и настаивая, что именно такое признание соответствует христианской керигме (возвещению).
Второй выход – счесть происходящее цивилизационным кризисом и встать по отношению к нему в метапозицию стоического философа, знающего о том, что этот кризис – не первый и не последний. Этот выход нашел для себя Бродский в «Конце прекрасной эпохи», а также многие другие авторы неподцензурной литературы.
Третий вариант выхода, самый новаторский, можно назвать переизобретением субъекта действия. Как и стоическая метапозиция, этот тип мировоззрения был пост-идеологическим, но, в отличие от «новых стоиков», представители этого мировоззрения считали метапозицию невозможной (причины, по которым они пришли к такому выводу, у всех были разными, но вывод оказался сходным). Главной культурной, антропологической и экзистенциальной задачей они считали анализ «нашего» сознания, полного «гниющих идеологий», – иначе говоря, они включали себя в число людей, чье сознание подлежало анализу. И именно эта операция, которой придавался нравственный и/или религиозный смысл, открывала возможность заново создать человеческое «я», действующее в истории, и «изменить ум» (metanoia, μετάνοια в греческом языке Нового Завета означает «покаяние», но буквально – «изменение ума»). Постидеологическое сознание для них значило «сознание, которое анализирует свою только что осознанную идеологичность». Это позволяло им изобрести не-монологическую критическую позицию для взгляда на советскую ситуацию.
Впрочем, был и четвертый путь, по которому пошла бóльшая часть советской интеллигенции. Его можно было бы назвать «согласием с тупиком». Все события политической и культурной жизни первой половины 1970‐х привели к окончательной и бесповоротной формализации всего спектра советских дискурсов. Эта формализация, считает Алексей Юрчак, породила радикальный сдвиг от констативного содержания советского дискурса – к перформативному (performative shift в его терминологии):
В последние десятилетия советской истории перформативная составляющая смысла этого дискурса в большинстве контекстов становилась все важнее, а констатирующая составляющая, напротив, постепенно уменьшалась или становилась неопределенной, открываясь для все новых, ранее непредсказуемых интерпретаций. Комсомольцы 1970–1980‐х годов, ходившие в те годы на комсомольские собрания, хорошо помнят, что среди рядовых комсомольцев, сидящих в аудитории, многие не особенно вникали в суть происходящего, а иногда попросту занимались своими делами, например чтением книг (особенно если собрание было большим, что давало возможность затеряться среди присутствующих и быть относительно незаметным для президиума). Однако, как вспоминает один из участников этих мероприятий, «как только дело доходило до голосования, все просыпались. Когда ты слышал вопрос „кто за“, у тебя в голове срабатывал какой-то датчик, и ты автоматически поднимал руку» ‹…› В поздний период советской истории подобную трансформацию пережило большинство конвенциональных высказываний и ритуалов авторитетного дискурса. Многие из тех, кто в эти годы занимал руководящие посты в местных комсомольских или партийных организациях, рассказывают, что, подготавливая идеологические отчеты, организуя политические аттестации или проводя политические собрания, они прекрасно понимали, что буквальный смысл этих ритуалов и текстов был не так важен, как четкое воспроизводство их формы – стандартного языка, процедуры, отчетности и так далее [Юрчак 2014: 73–74].
Как доказывает Юрчак, в культуре позднего социализма перформативное отношение к официальным дискурсам в сочетании с «жизнью вне» их силового поля, в субкультурах «своих», стало самым распространенной модальностью отношений с идеологией. Пригов оказался одним из первых выразителей «перформативного сдвига» в литературе, причем его эстетика перформативности развивалась синхронно с «нормализацией» перформативного сдвига в позднесоветском обществе. Именно утвердившееся в обществе перформативное воспроизводство советского дискурса как новая социальная норма определило уникальное место Пригова в неподцензурной культуре.
В то же время Пригов и тут сохраняет мерцательную позицию: манифестируя перформативный сдвиг, он выступает как его исследователь, антрополог, изучающий «наше» сознание методом включенного наблюдения – то есть вписывает «третий путь» в свою стратегическую палитру. Он не создает гибрид этих стратегий, а «перескакивает» от одной к другой, нередко в пределах одного текста. Важно подчеркнуть, что перформативный сдвиг уже включал в себя остранение (то, что Юрчак определяет как стеб), и Пригов в своем творчестве добивался того, что остранял остранение, лежащее в основе новой социальной нормы. Именно это «двойное остранение» придало его стихам глубокий, а не поверхностный, резонанс с современностью[87].
Чтобы понять возникающую в итоге логику советской субъектности, обратимся к «советским текстам» Пригова, начиная с самых ранних, написанных в 1974 и 1975 годах.
2. Советское «политическое бессознательное»
Так называемые «советские тексты» Д. А. Пригова ускользают от привычных классификаций. Их не назовешь сатирическими, хотя они, конечно, смеются над… над чем, собственно, они смеются? Над идеологией? Над советской мифологией? Над советским языком и сознанием? Идеология – как система идей – лишь по касательной присутствует у Пригова. Советская мифология предстает в гротескно преувеличенном виде. Советский язык и сознание моделируются самими текстами Пригова. Все эти ингредиенты присутствуют в «советских текстах», но ни один не доминирует, каждый подчинен другому. Возможно, наиболее точно предмет художественного анализа в советских текстах можно определить как советское «политическое бессознательное», притом что сами эти тексты и представляют собой игровую, но вполне действующую модель этого бессознательного.
По мысли Ф. Джеймисона, политическое бессознательное реализуется на различных «горизонтах» литературного или культурного текста. Для артикуляции политического бессознательного в равной степени значимо то, как (1) текст приобретает значение символического акта, как (2) сталкиваются в его дискурсивном поле различные идеологемы и (3) как складывается идеология формы [см.: Jameson 1981: 76]. Различие между этими манифестациями политического бессознательного лежит в различных контекстах, с которыми текст вступает во взаимодействие. Тексту как символическому акту соответствует «узкий политический горизонт – редуцирующий историю до серии пунктирных событий и кризисов на временной оси» [Jameson 1981: 76–77]. Текст как диалог идеологем резонирует с «горизонтом социального». А «идеология формы» связывает риторические механизмы текста с «гегемонными или контркультурными способами производства ценностей, как материальных, так и символических», предполагая в идеале «концепцию культурной революции» [там же, 96].
При этом каждый «горизонт» политического бессознательного непременно организуется смысловым противоречием. Оно может не быть отрефлексировано автором текста, но выявить его – задача исследователя. Так, идеология формы создается столкновением различных систем ценностей, воплощенных, как можно предположить, стилистически. В современной культуре – и в особенности у Пригова – стилистические элементы никогда не «прозрачны», они всегда представляют собой определенного рода фильтр, напоминающий об определенной культурной иерархии. В дискурсивном поле текста («идеологемы»), как правило, на первый план выходит конфликт между различными методами легитимации самого дискурса. А при анализе текста как символического акта, как полагает Джеймисон, наиболее эффективна модель мифологической логики, разработанная К. Леви-Строссом: здесь происходит «воображаемое разрешение реального противоречия… [порождающего] чисто формальные модели как символическое воплощение социального внутри эстетического» [там же, 77].
Основанный на этой методологии анализ текста – неважно, художественного, культурного или идеологического, – представляется наиболее адекватным творчеству Пригова 1970‐х – первой половины 1980‐х годов. Пригов в это время, безусловно, стоит на позиции контркультуры, но эта позиция выражена не через прямые декларации и инвективы, а через перформанс советского субъекта, или, иначе говоря, через конструирование образа сознания, лишенного критической дистанции по отношению к «вымирающей идеологии», субъекта, сформированного этой идеологией и творчески ищущего личные способы приостановить ее неуклонное разложение.
Как говорил об этом субъекте Пригов в передаче «Школа злословия» (3 сентября 2003 г.): «Это не просто гиперсоветский тип капитана Лебядкина, кругозор которого связан с повседневным обиходом. Отнюдь. Во-первых, он знает исторических личностей… Во-вторых, он любит классику. Он в принципе представляет тот классический тип, который бы хотела создать советская власть. Это идеальный тип, потому что он совмещает в себе и земную советскую власть, и небесную». Именно это сознание и является главным предметом приговского творчества в 1970‐е – первой половине 1980‐х годов.
Как упоминалось выше, эффект, подобный брехтовскому «отчуждению», Пригов создает с помощью широкого спектра приемов – прежде всего стилистических, ритмических и логических сбоев. Однако функция, объединяющая эти сбои (о которых речь пойдет ниже), не ограничивается только разрушением читательского «сопереживания» субъекту поэтического высказывания. Превращение приговского текста в «„социальный“ сценический жест в смысле Брехта, то есть жест историзирующий, обнажающий мифопоэтическую матрицу, ее идеологическую подоснову» [Скидан 2010: 141] возможно прежде всего благодаря тому, что через языковые и логические сбои Пригов выявляет те самые противоречия, которые лежат в основе анализа политического бессознательного, предложенного Ф. Джеймисоном. Разумеется, речь не идет о каких-либо влияниях. Правильнее было бы говорить о том, как теоретик и поэт, обращаясь к одному и тому же «предмету описания», выработали сходную логику его анализа – рациональную в первом случае и суггестивную во втором. И то, что их методы в чем-то совпали, – лучшее свидетельство нефиктивности «предмета описания» – а именно политического бессознательного.
Горизонт социального: «Исторические и героические песни» (1974)
Перформативная репрезентация советского языка – репрезентация, нацеленная на то, чтобы обнажить и сделать смешными дискурсивные механизмы, «засевшие» в политическом бессознательном, – впервые была понята Приговым как его оригинальный эстетический метод в цикле «Исторические и героические песни», написанном в 1974 году. За ним последовали «Элегические» и «Культурные» песни, вместе образовавшие «мегацикл» «Песня песен».
Парадокс «Исторических и героических песен» состоит в том, что в них приговский «советский субъект» «искренне», без всякой насмешки старается пробиться через перформативность дискурса к его «сокровенному» смыслу – или, иначе говоря, пытается ресемантизировать советский дискурс, но в итоге только доводит перформативное отношение к идеологии до абсурдистского гротеска. Именно комический эффект, возникающий вследствие этих попыток, свидетельствует о невозможности реанимации «окаменевшего» советского мифа.
Комизм возникает от того, что приговский подставной автор неправильно читает советские мифологемы: в его (карикатурно упрощенном) сознании их смысл уже забыт, «исторические» связи стерты логикой мифа. Не случайно всему циклу предпослан анекдот о том, как некий ферганский художник сдает худсовету портрет Маркса, изображенного с голубыми глазами. «А почему? – спрашивает он [член совета] – глаза голубые?» – «Как почему? – естественно удивляется творец. – Ведь он же [Маркс] ариец!» [2: 480]. Однако это «неправильное чтение», комически сдвинутое воспроизводство идеологии как сложнопостроенного мифа невольно обнажает «суть жизни в народе образов событий, образов людей и образов идей» [там же] – которую как раз и не понимает член совета, задавший сакраментальный вопрос о цвете глаз Маркса.
Первое, самое очевидное, смещение связано с тем, как создается пантеон «Исторических и героических песен»: кто эти самые советские герои? Дело не только в том, что рядом стоят Сталин и Иван Сусанин, Берия и Пугачев с Екатериной, Хрущев и Дмитрий Донской, Ворошилов и Вещий Олег, Дзержинский и Клеопатра, Гагарин и Сократ, Кутузов и Павел Корчагин, Кант и Аллилуева и т. п. Куда более важно, что обо всех этих персонажах говорится на одном и том же языке. Этот язык одновременно архаичен и разговорно-современен, слащав и грубо косноязычен:
- Он вышел и сказал устами
- «Пусть розовый сосуд души
- Дрожит, во имя счастья стану
- Карать и праведно душить!»
- Трубку ложит в отдаленье
- Смотрит в чистое стекло –
- А народ уже в движенье,
- И на улице светло.
- Жил, покуда медициной
- Не сгубил его предатель.
- Когда наш Ушаков Федóр
- По морю Черному носился…
- Когда Сусанин наш Иван
- Кружил поляков по сугробам,
- Он знал, что к этому призван
- Самой историей сугубой.
- Она до белого румянца
- Любила Самозванца.
Это, безусловно, стилистика массового советского стихотворчества, сложившаяся уже в 1920‐е годы. Перлы самодеятельной поэзии, известные по газетным публикациям и редакционному «самотеку», часто цитировались в литературных кругах как образцы комического косноязычия (см., например, эссе Л. Рубинштейна «В мавзолей твою»). Не случайно Пригова, как мы уже упоминали, часто обвиняли в том, что его эстетика воспроизводит советскую графоманию [см., например: Рассадин 1991].
Формалисты писали о том, что революционные обновления в искусстве происходят за счет выдвижения вперед «младшей», маргинальной линии культуры. Графомания в стихах Пригова и становится той маргинальной линией культуры – той антикультурой, – которую он использует для радикального обновления поэтического языка[88]. Конечно, Пригов не был одиночкой в своих попытках использовать советский волапюк как новый язык поэзии. Так, неоавангардистские эксперименты Александра Кондратова включали в себя и комедийные тексты, основанные на советском официально-бюрократическом дискурсе (Пригов делает подобное в «Некрологах» или «Описаниях предметов»). Поэтические возможности социально маркированного советского косноязычия интересовали и Всеволода Некрасова, и Игоря Холина, и Яна Сатуновского, и раннего Лимонова (см. сопоставление Пригова с Некрасовым и Лимоновым в Части III). Однако только Пригов вводит в свою поэзию графоманию как мощную и всеобъемлющую культурную практику, как многоуровневую культуру, которую он одновременно изучает, репрезентирует и деконструирует.
Вот почему переход от лирических стихов к поэзии, имитирующей советскую графоманию, оказался для Пригова таким важным. Отказавшись от необходимости «выражать себя», а вернее, отказавшись от себя, Пригов парадоксальным образом обрел свой неповторимый стиль. И уже в ранних стихах появляется целый ряд находок, принципиальных для всего последующего творчества Пригова. Главная из них связана с тем, что Пригов не просто смеется над примитивным сознанием. Нет, он демонстрирует его особую цельность. Во всяком случае, «Исторические и героические песни» представляют советский образ мировой истории. Развернутая в этом цикле портретная галерея, в которой широко известные исторические персонажи представлены в современных языковых одеждах, – разумеется, напоминает о соцреализме, особенно в его детском, т. е. самом массовом изводе:
- Находил Калинин ягодку
- И кричал: «Тебе подарок здесь!»
- И бежал вприпрыжку к девочке,
- А у ней в ответ
- Из стебельков и венчиков
- Собран для него букет.
- Вспоминается ему,
- Как на майском на параде
- Девочка букет ему
- Подарила красный-красный,
- Он в ответ ей – шоколад,
- Это было так прекрасно!
- Она рада, и он рад!
- Рада, рада вся земля,
- В небе снова светятся
- Звезды древнего Кремля
- Красною Медведицей.
Как ни странно, приговская «портретная галерея» не меньше, чем соцреализм, напоминает квазиисторические картины Ильи Глазунова – например, «Мистерию ХХ века» (1978)[89], – в которых русские святые, полководцы и советские деятели были расставлены в ряд, как на официальных фотографиях. Эти картины пользовались начиная с 1970‐х годов сенсационной популярностью и, возможно, даже повлияли до некоторой степени на массовые представления о русской истории. История – и в случае советских представлений о ней, и в случае Глазунова (как одного из создателей «патриотической» версии советского же исторического метанарратива) – оказывается нивелирована телеологией, мессианскими моделями: коммунизма как конца истории или русского народа как выразителя вечной истины (в картине «Вечная Россия», 1988).
Фактически цикл Пригова с примитивистской иронией обнажает работу советского мессианизма, благодаря которому далекие исторические события становятся монотонным повторением одних и тех классовых или этнокультурных коллизий; мифа, который предполагает «окончательную оценку» всех исторических персонажей с точки зрения пролетарской революции и величия России. В сущности, каждое стихотворение цикла и завершается такой оптимистической кодой, механически помещающей «прогрессивных» персонажей в контекст «коммунистического идеала»:
- И одноглазый чудодей
- Знал странность русского народа,
- Провидел все до наших дней,
- До наших фабрик и заводов.
- Все должное уж совершилось,
- Не значил он сам ничего,
- И сердце истории билось
- У самого сердца его.
- («Полководец», 2: 486)
- И самою тому приметой,
- Что в нашу кровь, как в водоем,
- Суворов с неприметным этим
- Солдатиком вошли вдвоем.
- «Так головы будем рубить мы всегда
- И гидре империализма!»
- И слову был верен лихой командарм
- Вплоть до социализма
Сама повторяемость таких концовок служит деконструкции «исторического оптимизма», замешанного на мессианском восприятии истории. Впрочем, у Пригова встречаются и более непосредственные «подрывы» этой логики, как, например, в стихотворении «Чапаев»:
- «Не посрамим мы славы руссов,
- Над нашим знаменем родным
- Суворов реет и Кутузов!»
- Шло по рядам: «Не посрамим!»
- «От Цезаря и до сипаев –
- Все в пролетарском кулаке!» –
- Так с войском говорил Чапаев
- И вскорости потоп в реке.
Таким образом, история, пропущенная через советское сознание, лишается малейшего историзма, чем подтверждает известный (впоследствии) тезис Р. Барта о том, что миф превращает историю в природу[90]. В «Исторических и героических песнях» история становится тотально анахроничной. Отсюда и комическое смешение далеких исторических эпох, ставших неразличимыми в советском нарративе:
- Когда Наполеон ярясь
- У Александра пол-России,
- Уже оттяпал, Дмитрий-князь
- В Москве жил – юноша красивый.
- Он говорил: «Россия-мать!
- С поляками, с другим дружа с кем,
- Куда идешь?» – стал поджигать
- Дома, и прозван был Пожарским.
Анахронизмы у Пригова проявляются не только в стилистике, но и в специфической риторике, окружающей любой эпизод или фигуру «историческими параллелями». Однако все эти «параллели» глубоко бессмысленны, они ничего не проясняют и не выявляют: их единственная функция состоит в том, чтобы «вписать» данный эпизод или нарратив в контекст «большой Истории»:
- «От Цезаря и до сипаев –
- Все в пролетарском кулаке!»
- Когда Никита наш Хрущев
- Со сталинизмом расправлялся,
- Он Бруту брат был, а еще
- Он новым Прометеем звался.
- Явный нравственный урод
- Без креста без малого,
- Он обманывал народ,
- Партию обманывал.
- Кровопийца и стервец,
- Словно хунта в Чили,
- Но пришел его конец –
- Его разоблачили.
Пригов фактически демонстрирует, что исторические персонажи в результате мессианской деисторизации превращаются в своего рода идиомы, формализованные фигуры речи. Именно исторические фигуры, лишившиеся истории, становятся первым приговским эквивалентом всего советского языка, который нуждается в ресемантизации, но которая уже явно невозможна, потому что «смысл слов» давно забыт. Советский язык распался именно в силу тех мутаций, которые претерпели история и публичная – то есть подцензурная – историческая память.
Оперируя чистыми, почти пустыми означающими, персонажный автор Пригова ресемантизирует их разными, но всегда комическими методами. Иногда он отталкивается от имени:
- Прекрасны древние, но эта падла –
- Из всех прекрасней Клеопарда!
- И чуждый всяких разговоров,
- Один из них был самый лучший,
- Поляков он сурово жучил,
- За что и прозван был – Суворов!
- Огромного роста, суровый,
- По верху очищенных Альп
- Шел видный отвсюду Суворов,
- Готовясь с французов снять скальп.
Иногда Пригов отталкивается от «прилипшей» к персонажу формулы – скажем, стихотворение «Петр I» материализует растиражированную пушкинскую фразу о том, что Петр «в Европу прорубил окно»:
- Когда Великий Первый Петр
- Со шведом бился под Полтавой,
- Он говорил: о, как я сперт!
- Окно бы прорубить на славу!
- С тех пор и днями и ночами,
- Где соберется больше двух,
- Вращая грозными очами,
- Проносится Петровый дух.
О князе Потемкине известно, что он был слеп на один глаз и бился с турками. Этого достаточно для стихотворения:
- Князь Потемкин говорит:
- Чтой-то левый глаз болит,
- Чтой-то турка мне не видно,
- Кто мне в этом пособит.
- А и вправду турок
- Спрятался проклятый –
- Ни усов, ни политуры,
- Ни заплаты, ни зарплаты.
Другой, не менее комический, способ наполнить семантикой застывшие языковые формулы позаимствован Приговым в фольклоре. Историческая ситуация интерпретируется как мелодраматически-любовная. Так, «Екатерина и Пугачев» имитирует народную балладу про любовь гусара Емельяна к красавице Екатерине, которой он-де попытался овладеть, но был остановлен могучим стражником Суворовым:
- Чиста, молода и прекрасна,
- Красотка – ни дать и ни взять!
- А ножки! – ну, в общем – прекрасна,
- И Екатериною звать.
- ‹…›
- Рукой Емельяшка дрожащей
- Царицу пытается взять,
- Но слышит от гнева дрожащий
- Он голос: «Ах, … твою мать!»
«Сталин и Аллилуева» использует язык жестокого романса:
- Он весь напрягся, чтоб не выдать стон,
- Рука сжимала холод пистолета
- В прикрытом ящике стола. «Кто он?» –
- Но рассмеялася она ответно.
Во всех этих случаях действует соссюровский принцип функционирования языковых единиц, в которых связь между означающими (в данном случае историческими персонажами) и их значениями произвольна и случайна. Однако история, превращенная советским мессианизмом в язык, лишена различий – главного принципа функционирования языка – как на уровне звучания, так и на уровне понятий. В приговских «Песнях» Суворов не случайно оказывается неотличим от Кутузова, а тот от Чапаева и Ворошилова, Павел Корчагин от Дмитрия Донского, а Хрущев от Сократа. Различаются лишь означающие, т. е. буквально имена, и только! Не из этого ли знания о неразличимости исходит очень характерный для Пригова интерес к проблеме имени, с которым он связывает вопрос о границе, в свою очередь, определяющий «мерцательную» позицию автора? Примеры приговской пародийной «философии имени» – циклы-сборники «Типические характеры в типических обстоятельствах» (1979), «Изучение звучания „Кабаков“» (1983), «Поименно» (1992), «Мой список умерших» (1994), «Славословия» (1999) и др.
- Афанасий, Афанасий
- Хоть и был ты восемь на семь
- В неких единицах
- И хотя великий Лев
- Над твоим стихом свой гнев
- Великий
- Умерял
- Ягненком, практически, становился…
История, пропущенная через советские фильтры, оказывается мертвым языком, и собственно, «Исторические и героические песни» – это первый перформанс мертвизны советского языка – как если бы шаман делал все необходимые пассы, но мертвец не воскресал, а пассы бы оказались самодостаточным комическим танцем.
В чистом виде перформанс советского языка выходит на первый план, например, в «Общественных песнях», состоящих из обмена репликами между хором и корифеем (поэтом): вместе они скандируют советские идиомы – риторические и понятийные, чей смысл в процессе исполнения редуцируется до ритмических повторений:
Аналогичный перформанс поглощения истории мертвым советским языком можно увидеть и в других текстах Пригова 1970–1980‐х: «Три баллады из кантаты „Тост за Сталина“» (1975), «Исторические картинки» (1976), «Связь времен» (1979), «Терроризм с человеческим лицом» (1981) и многих других.
Однако внутренняя механика не только советского языка как такового, но и перформанса (советской) истории, ставшей мертвым языком, лучше всего видна на примере знаменитого стихотворения «Куликово поле».
Логика перформанса: «Куликово поле» (1976)
Трудно найти более полную иллюстрацию ко всей системе принципов приговского перформативного письма, чем знаменитое стихотворение «Куликово поле» (1976, из цикла «Три битвы»; кроме того, включено в сборник «Из двадцати лет опыта», 1974–1976). Пригов предполагал сделать «Куликово» первым стихотворением в цикле о важнейших и наиболее мифологизированных битвах русской истории; второе стихотворение – «Бородино» – было написано, а третье, «Сталинградская битва», вероятно, нет (или же было утрачено). Характерно, что Пригов, редко читавший на своих публичных выступлениях старые стихи, в 1990–2000‐е годы тем не менее постоянно исполнял два своих ранних произведения – цикл о Милицанере и «Куликово поле».
- Вот всех я по местам расставил
- Вот этих справа я поставил
- Вот этих слева я поставил
- Всех прочих на потом оставил
- Поляков на потом оставил
- Французов на потом оставил
- И немцев на потом оставил
- Вот ангелов своих наставил
- И сверху воронов поставил
- И прочих птиц вверху поставил
- А снизу поле предоставил
- Для битвы поле предоставил
- Его деревьями обставил
- Дубами, елями обставил
- Кустами кое-где уставил
- Травою мягкой застелил
- Букашкой разной населил
- Пусть будет все как я представил
- Пусть все живут как я заставил
- Пусть все умрут как я заставил
- Пусть победят сегодня русские
- Ведь неплохие парни русские
- И девки неплохие русские
- Они страдали много русские
- Терпели ужасы нерусские
- Так победят сегодня русские
- Что будет здесь, коль уж сейчас
- Земля крошится уж сейчас
- И небо пыльно уж сейчас
- Породы рушатся подземные
- И воды мечутся подземные
- И звери мечутся подземные
- И люди бегают наземные
- Туда-сюда бегут приземные
- И птицы собрались надземные
- Все птицы – вороны надземные
- А все ж татары поприятней
- И лица мне их поприятней
- И голоса их поприятней
- И имена их поприятней
- Да и повадка поприятней
- Хоть русские и поопрятней
- А все ж татары поприятней
- Так пусть татары победят
- Отсюда все мне будет видно
- Татары значит победят
- А впрочем – завтра будет видно.
Куликовская битва – одно из самых освоенных литературой событий русской истории: от «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище» до цикла Александра Блока «На поле Куликовом». В этом смысле стихотворение Пригова в высшей степени «цитатно» и отсылает сразу ко всей совокупности текстов на эту тему[91]. Однако в самом стихотворении нет «прямых» цитат: Пригов цитирует не конкретные тексты, а дискурс древнерусского эпического предания о великих битвах, известный любому выпускнику советской школы. Наиболее отчетливы переклички, хоть и непрямые, со «Словом о полку Игореве». Так, описание битвы у Пригова:
- Земля крошится уж сейчас
- И небо пыльно уж сейчас
- Породы рушатся подземные
- И воды мечутся подземные
- И звери мечутся подземные
- И люди бегают наземные
- Туда-сюда бегут приземные
- И птицы собрались надземные
- Все птицы – вороны надземные –
напоминает эпические параллелизмы «Слова»:
- Уже несчастий его подстерегают птицы
- по дубам;
- волки грозу накликают
- по оврагам;
- орлы клектом на кости зверей зовут;
- лисицы брешут на червленые щиты.
или «Задонщины»:
То не серые волки были – пришли поганые татары, хотят пройти войной всю Русскую землю.
Тогда гуси загоготали и лебеди крыльями заплескали. Нет, то не гуси загоготали и не лебеди крыльями заплескали: то поганый Мамай пришел на Русскую землю и воинов своих привел. А уже гибель их подстерегают крылатые птицы, паря под облаками, вороны неумолчно грают, а галки по-своему говорят, орлы клекочут, волки грозно воют, а лисицы брешут, кости чуя (пер. Л. А. Дмитриева).
Пригов также иронически воспроизводит традицию русской политической оды XVIII века. Ее важнейшая черта связана с диалогом, который автор-одописец ведет с силами природы, зная при этом обо всем, что происходит на земле и небесах. Л. В. Пумпянский отмечал, что оды, написанные Ломоносовым после 1742 года, воспроизводят божественную точку зрения и стилистически отсылают к немецким поэтическим переложениям псалмов [см.: Пумпянский 1935: 103–110]. Так, в одной из од Ломоносова Бог обращается к русской императрице Елизавете Петровне:
- Утешил Я в печали Ноя,
- Когда потопом мир казнил.
- Дугу [т. е. радугу. – М. Л., И. К.] поставил в знак покоя
- И тою с ним завет чинил.
- Хотел Россию бед водою
- И гневною казнить грозою;
- Однако для заслуг твоих
- Пробавил милость в людях сих…
Пригов переводит всезнание персонажа оды в перформативно разыгранную способность сочинителя – сделать все, «как я заставил».
Однако отдаленность, а вернее, радикальная примитивизация этих «цитат» в тексте Пригова важнее, чем их узнаваемость. Эпические формулы предстают стершимися от частого повторения, упростившимися до тавтологии и потому граничащими с абсурдом. Именно так передается парадокс перформативной цитатности: «цитируется мир, который уже цитатен – т. е. состоит из повторений и перепевов» [Pollock 1998: 92].
Пригов разыгрывает (как на сцене) и тем самым остраняет зависимость поэтического субъекта (находящегося в «мерцательных» отношениях с автором) от классической традиции. При этом вольно или невольно он осуществляет такой принцип перформативного письма, как его «неполнота» или «метонимичность». По словам Д. Поллок, «…перформативное письмо метонимично. Оно осознанно ‹…› подчеркивает различие, а не идентичность лингвистического символа тому, что он должен репрезентировать. Оно драматизирует границы языка…» (ibid., 82). Неадекватность репрезентации эпическому предмету изображения – то, что Поллок обозначит как «метонимичность» перформативного письма, – в этом тексте реализована прежде всего на формальном уровне. Нанизывание тавтологических и нарочито примитивных глагольных рифм производит впечатление навязчивой дидактичности и – ведомой дидактическими целями – примитивизации изображения (см.: Witte 2013: 47).
Пригов драматизирует нарушение границ и гипертрофию возможностей языка. Причем не абстрактного, а вполне определенного: эссенциалистского языка русской героической, воинской или одической традиции. Важнейшим приемом его перформанса в этом случае становится демонстративный разрыв с таким фундаментальным принципом этого дискурса, как недвусмысленная идентификация автора с «нашими», т. е. русскими – или теми, кто считается «русскими». Легендарная история, давно и прочно завершенная эпическим преданием, пересоздается Приговым как незавершенная игра, исход которой зависит от сугубо случайных факторов:
- И лица мне их поприятней
- И голоса их поприятней
- И имена их поприятней
- Да и повадка поприятней
- Хоть русские и поопрятней
- А все ж татары поприятней
Повествователь в «Куликовом поле» напоминает гомеровского Зевса, помогающего в сражении у стен Илиона то одной, то другой стороне – в зависимости от того, чей жребий окажется тяжелее на его весах:
- Долго, как длилося утро и день возрастал светоносный,
- Стрелы и тех и других поражали – и падали вои.
- Но лишь сияющий Гелиос стал на средине небесной,
- Зевс распростер, промыслитель, весы золотые; на них он
- Бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
- Жребий троян конеборных и меднооружных данаев;
- Взял посредине и поднял: данайских сынов преклонился
- День роковой, данайских сынов до земли многоплодной
- Жребий спустился, троян же до звездного неба вознесся.
Но, повторим, Пригов трансформирует историческую предопределенность, или, у Гомера, «волю богов», в незавершенную и незавершаемую игру. Происходящее на наших глазах театрализованное конструирование исторического события сочетается с его «разборкой» и «перечеркиванием»: сначала «мотивируется» победа русских, потом абсолютно в тех же терминах объясняется, почему должны победить татары, – при этом, конечно, сама «логика», стоящая за этим выбором, пародирует всякого рода телеологические подходы к истории. Однако, не довольствуясь этой игрой, Пригов завершает стихотворение еще одним жестом «перечеркивания» всего сказанного: «А впрочем, завтра будет видно».
Другой принцип героического дискурса предполагает причинно-следственную связь между исходом битвы и моральными, а также культурными достоинствами «наших». Пригов его тоже демонстративно нарушает.
Уравнивание врагов с «нашими» тоже укоренено в российской традиции – но более древней и менее влиятельной, чем демонизация врага. На миниатюрах из русских рукописных книг XV–XVII веков противники – в том числе русские и татары – различаются по этническому типу, у них разные латы и стяги, но сами войска расположены симметрично. В изображении «врагов», с точки зрения современного человека, не используются средства визуальной демонизации. Учитывая, что становление Пригова-художника пришлось на 1960‐е годы, когда в СССР была очень влиятельна мода на «доканоническое» русское искусство Средних веков и раннего Нового времени, можно предположить, что Пригов в «Куликовом поле» обыгрывает и эту эстетику.
Разрушение героического нарратива выдвигает на первый план «удовольствие от игры в бесконечно раскрытом поле репрезентации» [Pollock 1998: 82]. Модальность стихотворения – одновременного уморительного и торжественно-серьезного – осуществляет две модели перформативности: детскую игру и ритуал. Они представлены не как конфликтующие, а, наоборот, взаимно дополняющие друг друга:
- Пусть будет все как я представил
- Пусть все живут как я заставил
- Пусть все умрут как я заставил
Эффект ритуальности подкрепляется, а не подрывается упомянутыми тавтологическими рифмами, в сочетании с синтаксическими параллелизмами и анафорами, напоминающими детские стихи Хармса и взрослые стихи Вс. Некрасова. Парадоксальным образом именно примитивность формы придает ей сходство с заклинанием, т. е. не просто перформативным высказыванием, но и сакральным действием, свидетельствующим о присутствии высшей силы, стоящей за событиями истории. Именно эта высшая сила и представлена как субъект текста «Куликова поля», на что явно указывают как строчка «Вот ангелов своих наставил», так и «предвосхищение» дальнейших великих баталий русской истории:
- Всех прочих на потом оставил
- Поляков на потом оставил
- Французов на потом оставил
- И немцев на потом оставил
Однако эта «абсолютная эпическая позиция» (по выражению Бахтина) тут же и подрывается. Ведь созданный текстом перформативный субъект – демиург, высшая трансцендентная сила, – как уже было отмечено, лишен сколько-нибудь убедительных критериев «смысла истории», он руководствуется неопределенными и комически приземленными «соматическими» предпочтениями. Демиург истории вместе с тем совпадает здесь и с автором текста. Божественный субъект является в то же время не-божественным писателем, сочиняющим историю в меру своих (довольно забавных и нарочито примитивных) представлений о ней. Динамическое отношение между этими двумя, в равной мере комическими, ипостасями перформативного субъекта текста и формирует драматургию приговского текста, порождая многозначность его интерпретаций.
Субъект этого стихотворения соединяет черты «простого советского человека», театрального режиссера и пародийного толкователя провиденциального смысла исторических событий. В этом смысле «Куликово поле» одновременно и деконструирует советский исторический нарратив, и предлагает автометаописание приговского перформатизма, занимая в творчестве Пригова особое положение. Не случайно перформативность этого стихотворения отчетливо соотносится с тем, что Пригов в своих теоретических высказываниях называл «назначающим жестом». По сути дела, все это стихотворение может быть прочитано как поэтическая интерпретация этой, важнейшей для Пригова, категории. И изображенная в «Куликово» «нейтральность» демиурга, и перформативность – в понимании Пригова – являются неотъемлемыми характеристиками «назначающего жеста»:
Способность одного и того же художника оперировать различными языками, не отдавая пальмы первенства ни одному из них, не влипая окончательно, не идентифицируясь ни с одним из них, не полагая ни один из них уровнем разрешения своих творческих амбиций, актуализировала поведение и назначающий жест… [5: 194].
Подобно «назначающему жесту», «Куликово поле» разрушает оппозицию между констативным и перформативным высказыванием: описание немедленно предполагает действие. Подобно тому как концептуальный художник трансформирует дискурс в источник изобразительного искусства, демиург в «Куликовом поле» на наших глазах с дивным простодушием превращает историю в язык.
Главный комический эффект приговского стихотворения состоит в том, как легко меняется позиция автора. Собственно, легкость переноса границы и свидетельствует о том, что история как язык унаследована в уже опустошенном, т. е. мертвом состоянии, она не отягощена никакой семантикой. Вместе с тем эта подвижность подрывает границу между «своим» и «чужим»: она отнюдь не онтологична, а предстает как языковой конструкт. Стихотворение обнажает произвольность этой основополагающей для традиционной и советской культуры оппозиции. В этом отношении смысл «Куликовской битвы» более глубок, чем просто насмешка над советскими версиями истории. Одновременно с комедией банализированной власти над историей – власти, вытекающей из представления об истории как языке, которым можно высказать противоположные сообщения, – стихотворение дискредитирует упования на универсальную значимость любого утверждения, понимаемого как историческая правда.
Таким образом, «Куликово поле» может читаться и как пародия на любые (в том числе советские) телеологические версии истории, основанные на эссенциализированных бинарных оппозициях, и как деконструкция модернистского автора, создающего субъективный исторический миф, и как комедийная материализация концептуалистского «назначающего жеста», обнажающего в нем наивную «игру в бога». Наконец, при смене точки зрения (с демиурга на участника событий) нетрудно увидеть в этом стихотворении трагикомическую иллюстрацию к шекспировскому «Мы для богов что мухи для мальчишек, / Им наша смерть в забаву…» («Король Лир», пер. Т. Щепкиной-Куперник).
Есть еще один важный источник «Куликова поля» – исторический. Его присутствие позволяет распознать эвристический смысл приговского перформанса.
В книге Игала Халфина «Сталинистские признания: Мессианизм и террор в Ленинградском коммунистическом университете» (2009), написанной на материале «чисток», судебных процессов и допросов 1930‐х годов, обсуждается особая полусознательная «теология террора». В отличие от историков «тоталитарной школы», считавших советских людей бессловесными жертвами всевластных политических элит, и от «ревизионистов», интерпретировавших террор как результат столкновения различных группировок в аппарате власти, Халфин обращает внимание на язык допросов и признаний, язык, разделяемый следователями, обличителями и жертвами. По логике историка, советский субъект был сформирован этим языком и одновременно участвовал в его формировании. Язык этот был предназначен для того, чтобы оценивать каждое событие – бытовое, политическое, моральное – в контексте мессиански понятой истории. Этот язык, как подчеркивает И. Халфин, строился на тавтологиях и самоповторах, поскольку «в нем едва ли оставалось место для реальных аргументов, политическая борьба порождала тавтологии, которые легко переходили в насилие ‹…› Можно описать сталинистский дискурс как плоский, но его внешняя простота сопровождалась многословием и обсессивными самоповторами – чтобы избежать даже тени недопонимания, одно и то же повторялось снова и снова» [Halfin 2009: 3, 4, 7][92].
Из языка доносов и допросов, как доказывает Халфин, вытекает особый тип перформативности – неотъемлемо связанной с террором:
Произвольность Большого Террора, его жуткая непредсказуемость, не делает этот феномен мистическим. Наоборот, террор был сверхрациональным, он вытекал из железной решимости вписать всю реальность в коммунистический порядок. Партийная решимость… делала сам язык мессианским. Язык, якобы конгруэнтный реальности, окружал себя внешней стеной; все, что оставалось вне этого языка, было обречено на запрет, осуждение и уничтожение ‹…› Язык сталинизма осуществлял свою перформативность как акт возмездия (with a vengeance): аннигиляция следовала из самого указания на нечто, не поддающееся называнию… [ibid., 8]
Такая функция языка представляется крайним случаем более общих перформативных принципов советского дискурсивного режима. М. О. Чудакова обсуждала эти принципы в терминах «магичности» и «орудийности» советского языка[93]. Именно этот язык, сформированный советским террором и бессознательно сохраняющий память о терроре, и превращен в спектакль в «Куликовом поле» и в других «советских» стихах Пригова. Этот язык воспроизводит все процедуры советской карательной риторики, произвольно наделяющей кого бы то ни было свойствами абсолютного зла или добра и соответствующим образом интерпретирующей любую мелочь как способствующую или мешающую прогрессу человечества. Следовательно, воссозданный Приговым «советский субъект» – это субъект, сформированный языком террора, интериоризировавший его и продолжающий на этом языке думать о мире – при отсутствии аппарата террора, который бы мог резонировать с его оценками и суждениями. Даже усвоенный этим субъектом знаменитый приговский «назначающий жест» («Пусть будет все как я представил»), кажется, инверсированно воспроизводит дискурс террора, в котором нежелательное моментально уничтожается.
Главный источник эстетического эффекта «Куликова поля» – как и всей «советской» поэзии Пригова, – таким образом, кроется в перформансе освобождения от этого языка и от воплощенной в нем предзавершенности (истории) и мессианской телеологии (представлений о ней). Это освобождение возникает не только потому, что носитель этого языка в позднесоветскую эпоху уже отделен от механизмов террора и потому предстает смешным. Важнее другое: благодаря суммарному эффекту всех смещений от нарративного к перформативному, происходящих в тексте, и прежде всего благодаря перформативному субъекту текста смешным становился сам этот язык, а вместе с ним – и производимые этим языком метанарративы «большой Истории».
Идеология формы: «Культурные песни» (1974)
Вместе с тем в ранних циклах Пригов интуитивно пришел к важнейшему философскому вопросу, который, как становится понятно уже ретроспективно, оказался ключевым как для русского концептуализма, так и, шире, постмодернизма, обозначив развилку внутри неофициальный, а впоследствии – постсоветской культуры. С точки зрения советской лояльной, но умеренно-оппозиционной по настроениям интеллигенции (ее представителей можно условно назвать «советскими либералами»), история не является языком, а является внеязыковой правдой, которую исказила советская идеология. Напротив, понимание истории как одного из языков, а вернее, как важнейшего из языков модерной культуры, к которому Пригов приходит в «Исторических и героических песнях», позволяет ему ускользнуть от основополагающей для всей позднесоветской культуры бинарной конструкции: ложь идеологии / историческая правда. По Пригову, оказывается, что идеологическая ложь и есть историческая правда, потому что это и есть язык истории, оставивший отпечаток в политическом бессознательном.
Интуиции Пригова оказались созвучны развитию западной гуманитарной мысли (в 1974‐м практически неизвестной в СССР) – в частности, идеям М. Фуко, который доказывал в «Словах и вещах» (книга переведена на русский в 1977‐м), что уже в XIX веке «человек оказался лишенным истории и поэтому призван обнаружить в самом себе и в тех вещах, в которых еще мог бы отобразиться его облик… такую историчность, которая была бы сущностно близка ему» [Фуко 1994: 387]. Одной из таких форм историчности, по Фуко, является, язык: «…ныне же имеется некий „внутренний“ механизм языков, который определяет не только индивидуальность каждого языка, но также и его сходство с другими языками: именно этот механизм, будучи носителем тождеств и различий, знаком соседства, меткой родства, становится опорой истории. Именно через его посредство историчность ныне вступает в самую словесную толщу» [там же, 262]. Исторически конкретные культурно-психологические «механизмы», структурирующие язык и сознание, и есть дискурсивные формации или эпистемы, по Фуко.
Мысль о языке, а вернее, о языках культуры как о материале, из которого строится история, выходит на первый план в «Культурных песнях». Но опять-таки парадоксально. Пригов здесь впервые использует прием апроприации, сопоставимый с реди-мейдом, но не совпадающий с ним полностью. В отличие от реди-мейдов, приговский субъект не сохраняет свои «объекты» – классические тексты – в неприкосновенности, а вторгается в них, вступая с ними в комедийный диалог. Это не пародия и не подражание, а особого рода обработка классических – хотя и не обязательно входящих в официальный советский канон – стихов Пушкина (первая строфа «Евгения Онегина», «Пора, мой друг, пора…», «19 октября 1825 года»), Лермонтова («Бородино», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»)), Некрасова («Вчерашний день, часу в шестом…»), Мандельштама («Ленинград»), Ахматовой («Мне голос был…»), Пастернака («Зимняя ночь»), Маяковского («Хорошо!»). Присутствие в этом ряду вариаций на темы романса «Гори, гори, моя звезда», «Песни о Родине» на слова В. Лебедева-Кумача («Широка страна моя родная») и даже фольклорного стихотворения о зайчике, вышедшем погулять, свидетельствует о том, что Пригова в этом цикле интересует, так сказать, культурный пейзаж массового сознания
