Что посмеешь, то и пожнёшь бесплатное чтение
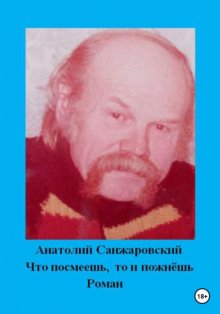
Советский век – это Варфоломеевская ночь, растянувшаяся на семьдесят три года…[1]
Анатолий Санжаровский
Глава первая
Придёт судьбина, не отгонит и дубина.
На звук пчела летит.
Русские пословицы
1
Возвращаемся мы с Шукшина[2] – в двери белеет записка.
И Валя, и я потянулись к ней разом, ещё с верхней ступеньки, как только завиделся бумажный уголок в чёрном дерматине двери. Валя оказалась проворней, выдернула записку.
– Ну-ка, ну-ка, – принялась она не спеша разворачивать с весёлым хрустом сложенный вчетверо листок, погллядывая сбоку на меня, выжидательно следя, какое впечатление производит на меня то, что вот она, жена, наконец-то добралась до моих тайн. – Сейчас мы узнаем, что за гражданочки добиваются свиданий с тобой. Признавайся, неверный, дрожишь?
Ладясь не пережать, я в меру вздрогнул, конечно, со страхом на лице, мелко и виновато затряс головой.
Глаза у неё засмеялись.
– Ладно, на первый раз… – Она подала уже вдвое сложенный листок. – Пускай твои секреты, эти твои печки-лавочки, остаются при тебе.
– Не возражаю. Так поступают все образцовые жёны.
Я прочитал записку.
Эта тарабарская грамотка была от почтальонки.
– Надо, – киваю на дверь напротив, – взять в шестнадцатой заказное письмо.
– Да ты знаешь, сколько сейчас!? Выходили из метро в Измайлове – я нарочно смотрела! – одиннадцать было. На автобус не сели, пешком пошли… Под первым снегом… Пока до своего Зелёного… Да наверняка уже за полночь наросло!
Я отомкнул свою дверь.
Не снимая пальто, не разуваясь, Валя радостно процокала по паркету к меркло освещённому с улицы окну.
Повернулась.
– Не зажигай. Скорее сюда! Ну!
На миг мне почудилось, что она летит. Одной рукой она звала-торопила меня к себе, другой показывала за окно.
– Ты только посмотри, что там! О-о-ой!.. Какой куделится сне-ег… Снегу-у-урка…
Я подошёл.
Она молча положила мне голову на плечо, не сводя полных восторга глаз с картины за окном, где всё было снег.
Стояла тихая, безветренная ночь.
Густой лохматый снег толсто мазал, одевал во всё белое размыто освещённый двор и всё во дворе: стоявшие к нам боком легковушки, детскую площадку с грибками и качелями, утыканные скворечниками дубы, березки, клёны. Дотянувшиеся под окном уже до четвёртого нашего этажа груши, плотно обсыпанные снегом, будто кто накинул на них величавые узоры, казались хрустальными.
– Заметь, – тихо заговорила Валя. – Ни в башне справа, ни в башне напротив, ни в хрущобке[3] слева, ни в башне за ней – нигде ни огонёшка! Представляешь, кроме уличных фонарей никто не видит эту красоту. Сони-засони… Да я б за сон в такую ночь ну… штрафовала!.. Утром продерут глаза и ну ахать. Первый снег! Первый снег! А как он шёл, не видели. Всё проспали.
В знак согласия я легонько пожал её локоть – лежал у меня в руке.
– А у нас даже бобинька видел, – почему-то печальным голосом добавила Валя, осторожно пуская доверчивые точёные пальцы в белую жестковатую шерсть на спине у косматого магазинного пуделя, – стоял под рукой на подоконнике лицом на волю. Уши, ноги и хвост у пуделя были коричневые.
2
Этого пуделя Вале подарили.
В ту пору она ещё ходила в сад, и у неё помимо обычного имени Валя было ещё одно имя, весёлое, звонкое, – девочка Всеха.
Так Валю звали иногда домашние, потому что на каверзный, не без интрижки вопрос взрослых:
– Чья ты, девочка? Мамина или папина?
Валя отвечала каждый раз одинаково:
– Всеха.
Родители втайне дивились, козыряли мудрой, дипломатичной проницательностью хитрули, и, очарованные, захлёстнутые ею до сердца, горячо любили её.
Однажды в получку папа принёс этого космача пуделя с голубым бантом на шее.
Папа поставил пуделя на тумбочку, стал рядом, и девочка увидела, что у пуделя на шёлковой блёсткой ленточке была миниатюрная цветная соломенная корзиночка.
– Валёк-уголёк! – сказал папа. – А что сегодня было!.. Идём мы, – показал на пуделя, – с Найдой с работы лесом, нас догоняет зайка. Говорит: «Передайте, пожалуйста, гостинчик Вале». Ну-ка, девочка Всеха, посмотри, что тебе такое тут зайка передал? А?
Папа указал на корзиночку.
Девочка старательно приставила маленькую свою скамеечку к тумбочке-толстухе, в восторге выбрала из волшебной корзиночки конфеты и в благодарность поцеловала важного пуделя в чёрный пластмассовый нос шишкой.
На другой день Валя убежала из сада в обед.
Ей не терпелось поскорей получить новый зайкин гостинчик.
Девочка несчастно заплакала, когда увидела, что корзиночка пуста.
Вечером пришёл папа.
Смурная Валя сидела на скамеечке у тумбочки.
– А ты что, – спросила сквозь слёзы, – не той дорогой пошёл, раз не встретил зайку?
– Т-той, – потерялся папа.
– Тогда почему ж зайка ничего не передал мне? Я сколько сижу жду… Не несёт…
– Зайка осерчал, что ты ушла из сада раньше срока.
– А если я не стану зараньше уходить, он будет передавать?
– Будет.
Отцу что! Сколько до её загса наносил зайкиных подарков? Отзвонил своё и с колокольни вон.
А я носи до последнего дня.
И – ношу.
Любное дело, охотное, само в душу вьётся: кого любишь, того сам даришь.
Не без моего содействия зайка расширил ассортимент своих звериных услуг.
К обязанностям вечного поставщика сладкостей пришпилено и бремя доставалы всевозможных, а чаще невозможных билетов на редкие концерты, спектакли, выставки…
И конфетами, и билетами от века набита корзиночка. Заёка работает!
Можно немного подсыпать.
Я достаю из карманов свежих теплых конфет, в вахтанговском выстоял буфете.
– Эти, – поверх трюфелей кладу «Белочек», – выменял у белки за горсть орехов. А эти плиточки, – подбавляю «Мишек на севере», – выменял на мёд у самого у Топтыги…
Валя благодарно улыбается.
– А ты, – говорит она, – молодчик, что предложил от «Измайловского парка» идти пешком. И вправду, куда спешить? Завтра как-никак суббота, край недели. Ночь… Лес… Первый снег… Мы одни… Зиму я люблю. В детстве, бывало… Снега в заполярной могильной Воркуте… Наметёт – утром дверей не открыть. Прокапывали в снегу проходы. Как тоннели! Так интересно было в тех тоннелях играть. А то накидает поверх окон да морозец схватит – закрутит лукавый, во весь день с крыш на санках лётаешь. Бедная маманя не докричится к столу. Сначала зовёт мирно, а там уже и с грозой: иди, а то убью и есть не дам! А прибежишь вечером – счастьем вся светится, не знает, чем сперва и угостить…
Валя долго и благостно молчит, стоит слушает, как шуршат по стеклу снежинки.
3
Маятно, трудно уходит от неё её прошлое, но всё-таки уходит, и она, сморгнув грусть, с каким-то вызовом бросает:
– А знаешь, Должок, айдаюшки на улицу!
Ни на какую улицу мне не хочется почему-то, и я спрашиваю, лишь бы не промолчать:
– Нагуливать сон?
– Тебе бы только спать…
– Можно подумать, что ты не спишь.
– Яви божескую милость. Ну давай сходим к нашему пруду и…
– … и поздравим его с первым снегом?
– А хотя бы! Лично я в этом не вижу особого криминала. Хорошо в окошко на снег смотреть. Да каково сейчас бедным уточкам в холодной воде? Как подумала – мурашки выбежали. Покормить бы…
Ласковое слово и ребро ломит.
Через силу я соглашаюсь кормить уток.
Это какое-то нашествие.
Все пруды в парках, меж домами до такой тесноты забиты дикими утками, что подчас воды в пруду не видать. Одна копошащаяся серая каша.
Ближе к холодам вывелась ряска, и подачкам прохожих крякуши рады.
Вале нравится кормить уток.
Оттого куда ни иди, она всегда оказывалась у воды, и у неё всегда находился в сумочке пакетик с кукурузой.
Она снимает яркую косынку и лёгкое долгое пальто в коричневую клеточку.
Прощай, осень…
Через минуту она в поношенном коротком пальтишке, отороченном розовым поблёклым мехом, поправляла на голове перед зеркалом свою обнову, кроличью шапку с чуть выдающимся над глазами лохматым козырьком.
– Всю жизнь мечтала заиметь мужскую шапку вот с таким маленьким козырёчком. Ну, как она на мне?
– Да нормально, наверное… Не давит, не валится. Чего ещё?
Поводя плечами, расправляя на руках слежалые синие перчатки, она вышла впереди меня из комнаты, медленно стала спускаться по лестнице.
Расшитые узорами накладные карманы у неё на пальто, полные под завязку кукурузы, тяжело топырились.
Какое-то время я машинально брёл следом. Но необъяснимо почему остановился, постоял на разных ступеньках – духом взлетел назад на свою площадку, налёг на звонок в шестнадцатую.
Валя сбила руку со звонка.
– Ты что, хазар?! По ночам названивать! Воистину, как говорит у нас одна в бухгалтерии, у людей дураки внатруску, а у нас внабивку. Прежде чем звонить, подумал бы, что люди-то скажут?
– Люди ничего не скажут. Письмо – скажет!
– Не читал, а уже знаешь!
Она взяла у меня пластмассовый кукиш с колечком, на котором были нанизаны ключи, открыла дверь.
Зажгла свет.
– Что с тобой, Должок? На тебе лица нет.
– Что же вместо лица?
– Одна растерянность.
Растерянность? Пожалуй… Может быть… Сразу и ума не сведёшь…
Наверное, я ничего так на свете не боюсь, как своей интуиции.
…В глубокой молодости, когда я пробовал себя в журналистике, я защищал в газете одного парня, которого ни разу не видел.
Ни разу не видел, но – защищал.
Он был в предварительном заключении. Уже назначен был день суда. Против меня и того парня были следователь, районный прокурор. За меня и за того парня была лишь моя интуиция.
По рассказам его знакомых я сложил себе его суть, я поверил в его невиновность.
Дня за три до суда вышла моя статья.
Слушание отложили для более детального изучения дела. Однако потом пришлось вовсе отпустить парня безо всякого суда.
С той поры я почувствовал силу своей интуиции, именно с той поры я верю своей интуиции.
Но сегодня я боюсь её…
4
– Говорит Москва. Доброе утро, товарищи. Третья программа Всесоюзного радио начинает свои передачи…
Правой рукой я осторожно потянулся к динамику, что стоял в углу на сине обшитом стуле, выключил.
Из лени мы не заводили подаренный тёщей красный будильник. Он валялся в шкафу. Будил же нас в будни, в семь, оставленный с вечера невыключенным динамик. А в выходные дни и под выходные динамик мы всегда выключали.
Но сегодня как-никак суббота.
– Девушка Всеха! Ты зачем с ночи включила? Тебе куда-нибудь надо?
– Или у тебя выпало из ума? Субботник!
– В парке дорожки мести под наблюдением бдительной дворничихи?
– Не угадал. На сегодня нашу бюстгальтерскую сальдовую рать повысили. Доверили ухорашивать нашу новенькую станцию «Новогиреево». Конечно, не саму станцию. А рядом, у метро. Где мусор там убрать, где деревце подсадить…
– Крутиться будешь?
– Обязательно!
Я встал, поставил бигуди на газ.
С сухим, с пронзительным треском от побежавших по карнизу колесиков растолкал в обе стороны оконного простора по шёлковой голубой шторе с белыми гребешками волн, поднял жалюзи.
Мертвенно-бледный свет дня втёк в комнату.
На дворе не мело. Было как-то успокоенно-тихо.
За ночь везде на деревьях наросли царственно-великолепные узоры из снега. Белые высокие колпаки надели холодно-важные бельевые столбы.
– Ради Бога, покорми же скорей детей! – сонно скомандовала жена, указывая на балкон. – Раскричались, спать не дают!
В стеклянную дверь на балкон видно, как по перилам, по почтовому, с рваными сургучными печатями, ящику (он служил нам холодильником) скакали склочно галдевшие голодные воробьи. Эти шнырики жили у нас же на балконе под деревянным настилом, куда они набили для тепла Бог весть сколько сухих листьев, сена, пуха.
Я взял горсть подсолнухов – подсолнухами мама пересыпала посылки с яйцами, – но не выходил. Совсем не видимый этим разбойникам вслушивался в их шум. Наверное, они почуяли близкий завтрак и заволновались, засновали проворней, закипели, закричали как-то требовательней против прежнего.
Я вышел.
Отхлынув на ближнюю грушу у нас под окном, воробьи наблюдали, как я сыпал подсолнухи в пакет из-под молока с оконцем, на нитке свисавший с гвоздя в стене. Наблюдали без шума, как-то чинно.
А что было шуметь? Уйду и кормитесь.
С соседней башни, откуда-то с двенадцатого этажа, широко пропел петух, славя утро.
Месяца уже с два как проявился этот горький московский соломенный вдовец.
Подружки его где-то в деревне и петь ему самому осталось лишь до первого семейного праздника.
Пел он яростно, пел, пожалуй, даже несколько озлоблённо, домогаясь услышать ответное пенье, но ни один петуший голос не отвечал ему, не подхватывал. Оттого задор и вызов в нём помалу слабели, тухли, и скоро с той же выси падали уже какие-то тоскующие, просительные крики, и прохожие, слыша их, как-то особенно виновато улыбались друг другу и опускали глаза – давила-таки тоска по своей Полтавке, по своей Верейке, по своей Киндельке. Стегала-таки боль по своей деревеньке, а такая деревенька жила в каждом: родился ли, рос ли, работал ли, отдыхал ли там.
Послушал-послушал я тревожное пенье и, вздохнув, вошёл в комнату.
5
Слившись калачиком, Валя всё ещё дремала.
У неё не один – оба глаза воровали.
– Девушка! Да ты не опоздаешь? Я думал, ты уже завилась… Чем тебя кормить?
– А чем не жалко.
Я поставил на газовую плиту кастрюльку с водой на любимые ею яйца в мешочек и понёс в туалетную комнату долго кипевшие бигуди.
Щербатой деревянной ложкой я вылавливал по одному из кастрюли эти пупырчатые пластмассовые чурочки и подавал ей.
Пока она, из-под локтя косясь в зеркало, накручивала на них прядки тёмных волос, я со сна пускался разглядывать наклеенные над зеркалом одна над одной календарные стенки: зимний березовый лес, ромашки на лугу и на самом верху, под потолком, по голому сосновому стволу взбирался медведь. Снизу на медведя удивлённо и с восторженным подобострастием пялился синий волк-судья со свистком на груди и в кедах. Волка я вырезал из подарочного плёночного пакета.
Моя берегиня[4] завивалась очень уж медленно, без аппетита, поэтому все эти картинки я самым тщательным образом изучал каждое утро в течение шести лет и, насколько помнится, мне это ни разу не надоело.
Правда, иногда меня клонило в философию.
– И это, – говорил я, – каждый божий день!.. А нельзя ли… Раз хорошенечко закрутись и на весь год!
– Можно при условии, если ты раз хорошенечко поешь – и на весь год!
– Ты везде свои условия выставляешь.
– Только так. Лучше помоги. Мне неудобно, накрути на затылке. На две бигудёжки там осталось.
Я накручиваю всё на одну оранжевую болванку.
– Ну я же просила на две!
– Я ж не виноват, что всё уместилось на одной! – Я поднял глаза кверху: – Михайло Иваныч! Ну скажи хоть ты ей!
Кажется, медведь дрогнул и живей дёрнул вверх, а предусмотрительный волк настороже отпрянул.
После, покуда она ест, я в блеск начищаю её сапоги, достаю из обливного таза под диваном самое роскошное яблоко, долго мою сначала под горячей струёй, потом под холодной, вытираю, кладу в походную жуковую сумочку, похожую на парфюмерный магазинишко в миниатюре.
К яблоку добавляются два крупных кубинских мандарина, пакетик с соевыми конфетами «Кавказские» к предобеденному чаю; в кошелёк идёт рублёвка на сам обед, два пятака на дорогу туда и обратно.
Подумав, я перекладываю монетки в карман с расшитыми розами. В толчее всё легче из кармана денежку достать, не то что из сумочки.
Хотя… Совсем из памяти вон…
Ей же никуда сегодня не ехать!
Метро рядом, через школу от нас. И чая не будет. Какой ещё чай на субботнике?
Напихал всего как в обычный будний день. Ну да ладно.
Вот, пожалуй, и всё. Собрал…
Жена мне кажется беспомощной восьмиклассницей. Каждое утро, чудится, я только для того и просыпаюсь, чтоб собрать её, дать последнее наставление, пока она завтракает.
– Валентина Нифонтовна, ты уж будь там похитрей на переходах. Опаздываешь не опаздываешь – не суй, пожалуйста, нос под колеса. Помнут!
– Увижу красивые колёса – суну! – Посмеивается без зла. – Ну не нуди, а? Хоть в субботу отдохни от своих лекций.
В прихожей я помогаю ей одеться, целую её в весёлую щёку, и она уходит.
6
Уже хорошо рассвело.
Я снова позвонил в шестнадцатую.
Открыл сынишка с ранцем за плечами.
Он бежал в школу.
– Миша! Мама или папа дома?
– Они ещё спят. И они совсем вам не нужны Вам нужно… – Мальчик наклонился за дверь, подал письмо. – Вот…
Письмо было из дома.
По мелким, друг на дружку падающим буквам на конверте я узнал братову руку.
Здравствуйте, дорогие Тоник, Валя!
Получили от вас два письма. Хотел и на второе не давать ответа, но мама настояла.
Причина нашего молчания – горькая правда, которую не хотели вам сообщать, а теперь придётся.
Если б вы знали, как нам сейчас трудно, но я-то лось здоровый, вынесу, дал бы Бог здоровья маме, а у мамы оно пошатнулось и очень сильно.
Бедная наша мама пластом пролежала три недели, да, три недели. У неё плохи дела с сердцем, сильные головные боли, а это, наверно, из-за того, что плохо работает сердце. Давление чуть-чуть пониженное, пульс был 92, это плохо, сейчас 80, лучше.
Было уже начала подниматься, есть понемногу (сама сильно похудела, хотя и не была полной) и вдруг коварный неожиданный удар – воспаление легких (правая сторона).
Вот тут-то и началось самое мучительное. Это было 3-4 октября. В боку кололо, словно иголками, что ни вздох, то страдание, а не плачет, только охает.
Вызвал скорую, а сам начал её собирать. Поднял с кровати, начал ноги мыть в тазике, а она, бедная, не может сидеть, так ей уж плохо.
Мою я ей ноги, а у самого слёзы ливмя сыплются в тазик. Взяла она меня за голову и говорит:
– Сынок, шо ты плачешь? Всё равно колы-нэбудь один раз плакаты…
Не знаю, к чему это она так сказала.
Собрались с горем и с божьей помощью, скорая отвезла в больницу на приём. Принял врач, прошла рентген.
Если бы вы знали, как мы добирались до дома. Лил дождь как из ковша, а мы (от больницы до нас, сами знаете, метров с двести) пешком 40 минут добирались, и что ни шаг, то страдания.
На скорой мама не схотела ехать, сказала, что ей лучше.
Дома налил кипятка в грелку и полулёжа на кровати мама заснула (лежать трудно). В больницу не положили, нет мест для нашего брата.
Через день пошёл за снимком.
Рентген показал воспаление правого лёгкого. Курс лечения с воспалением лёгких длится 21 день, если всё будет хорошо.
Боли в боку немного обвяли, сникли. Стало легче, а воспалительный процесс продолжался.
Какое же лечение? Таблетки да капли! А надо бы назначить уколы, банки, да этого херакнутый терапевт Святцев не соизволил назначить.
Усилились головные боли, заболели руки и ноги, кружится голова, в глазах разноцветные круги, слабость (мама ест очень мало, ни мой Бог; всё есть, всего до воли, а аппетита – нету).
Сегодня – оно уже отошло во вчера – снова водил на приём.
Наконец-то положили (надо бы было показать её невропатологу, но невропатолога не было, в военкомате принимал допризывников), положили не в местную, не в районную больницу, нет мест, а в Ольшанку. Из Верхней Гнилуши, из райцентра – в глушь! Районная больница на задах у нашего огородчика, а вытолкали лечиться за 20 км от нас! Какой у нас старикам почётище!
Возили на скорой, ездил и я.
Маме очень плохо, сильно уж болит голова. Жалко на неё смотреть, сердце аж вскипает. Что характерно – температура почти нормальная. Не знаю, чем все это кончится. Развязалась четвёртая неделя, а улучшения никакого.
Я остался один, круто приходится, всё на мне: и хозяйство, и работа, и дом. Не в масть мне всё это. Глаза б завязать да уйти…
Мама сказала:
– Напиши Антонику, хай прииде, як шо можно хочь на недильку. Тоби поможе та и я подывлюсь на його, а то бачишь, яка я важка[5] та погана: года немолоди, всэ може буты.
Тоник, если можешь, приезжай хоть на недельку. Всё у нас есть, плохо одно, что постигло нас такое горе. Всё будет хорошо. Даст Бог, мама поправится.
Приезжай, Тоник. Ждём.
12 октября, 4 часа ночи.
Глебка.
7
Маму определили в Ольшанку одиннадцатого.
В понедельник.
А днём раньше, в воскресенье вечером, мы с Валентинкой передвинули диван – стоял, как корабль, чуть ли не посредине комнаты – поближе к оконному свету. Передвинули, ну и передвинули, эко чудо.
Вместе с диваном пришлось на новое место перекинуть и валявшуюся под ним полотняную сумку со старыми сушёными грушами от мамы.
Встали мы в понедельник утром – белые толстые короткие черви у Валентинки на чёрном платье, что лежало на спинке кресла, на потолке, даже на входной двери.
Мне тогда суеверно подумалось, что это к худу.
И вот оно вошло?
Я смотрю на письмо, вижу: огромный нож бьёт меня по рукам, и отрубленные окровавленные кисти, судорожно сжимая в брызгах крови письмо, тихо, сторонне переворачиваясь, как в замедленной съёмке, летят в чёрную бездну.
Громовой хохот.
«И это смешно? Кому?»
«Мне».
Огляделся вокруг – никого вокруг кроме приплясывающего ножа величиной с дом.
«Это я говорю».
«Кто ты? Я не вижу тебя… Хоть назовись».
«Я – нож!»
Кажется, я что-то надевал, куда-то на чём-то ехал, ехал, ехал и всё никак не мог приехать. Я сидел у какого-то окна. Стеклина холодила. Я смотрел в неё на метель – из свинцового матёрого буйства вытекала, бесконечно удлиняясь, широкая сталь беды. Вдруг этот нож проткнул облако – посыпался мелкий пух. Подбираясь, ужимаясь, облако истаяло, пропало. И тут же в мгновение нож с приплясом развалил дом, будто арбуз, на две половины, пройдя посередине комнат. Из жильцов кто-то уже встал, кто-то ещё лежал с открытыми глазами, сибаритствовал, пользуясь правом субботы. Разом все оцепенели на своих местах, с немым ужасом таращат глаза на то, как половинки расходились в противоположные стороны, всё быстрее удалялись, опрокидываясь и исчезая в белом мраке пурги…
«Зачем ты это сделал?»
Нож засмеялся:
«Но я могу и это!»
Игольчато-тонкое начало ножа посунулось из сумрака метели к маме.
«Не смей! Возьми лучше меня. Взял же руки – возьми всего! Только не трогай её…»
«Скорее… скорее… скорее…» – торопил я кого-то, пряча глаза в воротник, прикрывая лицо руками, но ещё явственней видел летящий нож уже у материнской груди…
Наконец вокзальная очередь придавила меня к окошку.
– Девушка! На ближайший до Воронежа… Один в общий…
– Сегодня ничего… Только завтра, вечер. Общих нет. Плацкартный?
– Ну-у…
– Ехать всю ночь. Постель берёте?
– Я – спать? Думаете…
– А я никогда не думаю.
– Нашли чем похвалиться… Вот… Деньги на билет…
В билете жила какая-то ясная, властная сила.
Пропали видения, утишилась во мне паника. Я почувствовал всего себя в сборе, твёрже.
За тот час, покуда тащился трамваем обратно с Казанского, я продумал всё, чем займусь до поезда.
Выставил на балкон две красные табуретки, заходился доглаживать на них рубанком старые доски на книжный стеллаж под потолок на кухне.
Сначала кинулись мы было купить, но оказалось, что стеллажи не продают. Мы в мастерскую. Пожалуйста, заказывайте, восемьдесят рубчиков метр. Кусается стеллаж.
И потом.
Эту бандуру в прихожей не пропихнёшь, через хрущобный балкон если – четвёртый всё же этаж! – не вскинешь…
Сел я тогда на велик и покрутил за железнодорожную ветку в милое Кусково, откуда в предолимпийской суматохе распшикали жителей по всей Москве. Кусково срочно сносили.
Дом, где была там у меня на Рассветной аллее, 56, своя холостая восьмиметровая клетушка-пенал, ещё не снесли огнём.
Из пола наковырял на стояки, из сарайных перегородок нарвал на сами полки, перевёз на велике.
Загорелся сразу ладить, даже начал и тут же отложил. Командировка. А там… Сегодня – завтра, сегодня – завтра… Доманежил дальше некуда.
Пахнущая старым жильём стружка наполовину забелила ножки у табуреток.
Отчаянный азарт водил рубанком. Разохотился, разошёлся я, да не в час позвал к себе звонок.
С глухой досадой пошёл я открывать.
8
– Ты уже вернулась? – спросил я сияющую Валентинку, принимаясь снова за доски.
– Как видишь…
Она стояла смотрела мою работу.
– Что-то быстро… Ты хоть дошла до «Новогиреева»? Или сбежала?
– Обижаешь доблестных труженичков. Обижаешь… Во-первых, уже вечереет. Для побега поздновато. А во-вторых, нас со спасибом отпустили. Мы ж вместо одного субботника целых два выдали!
– Любопытно…
– Набилось в метро народу нашего как мурашей-дурашей на кочке. Получили цэушку: те самые ёлочки, что у выхода мы сажали весной, аккуратненько выкапывать и на их место сажать клёны.
Ворочали все с задором, с огня рвали. Все поворачивались на одной ножке, только вот одна Гоголь, козырная принцесса, сидела как именинница. Веришь, и к лопате не притронулась. Недоперестаралась.
Подхожу раз – красится. Подхожу два – красится. Дело глухо. Как в танке. Я и говорю этой Оленьке: где твоя совесть?
– Представь, далеко отсюда!
– Ну что ж. Сейчас пришлю тебе маляров, пускай они тебя раскрасят.
Девчонки грохнули. Зашушукались ухо на ухо, а слышно за угол:
– Не мешала б. У неё ж персональный субботник: генеральная раскраска личности.
– У нашей Лёлечки мигрень: краситься охота, а работать лень!
– Пускай красится. Она ж без грима вылитая бабка-ёшка. Пожалейте!
Ну что ж. В семье не без урода, особенно если семья большая.
Постарались мы ударно. Задание своё так в час и вжали. Что делать? Разбегаться по домам? Как-то неудобно. Рано ещё.
А на метро я была за главную.
Звоню на овощную базу. Сергееву. На базе субботничала вторая партия с нашего «Агата», и Сергеев, общий генерал субботника, был там. Сергеев ко мне с мольбой: у нас полный завал, давай, сударушка, сюда срочно своих добровольцев.
Гоголь, Алексахина, Воробьёва, Чернова, Прянишникова отпали. Не поехали.
Ничего, в понедельник выпущу стенгазету. Одну статью напишу «Мо-лод-цы!» – это про тех, кто ездил. А непоехавших продёрну в статье «Позор!!!» Я им покажу, как надо профсоюз уважать.
Ну, примчалось нас на базу человек сорок.
Пришёл бригадир:
– Десять человек на капусту!
Капуста во дворе. Да не одна. Со снегом!
Которые с хитрецой скромно жмутся назад. В тенёчек.
Прорезается второй бригадир:
– Десять человек на картошку!
Хитрюшки носа из тени не высовывают. Скромность совсем смяла. Стоят ждут, когда понадобятся кому для дел порадостней.
Сергеев тут командует:
– Остальные к помидорянам в цех номер три.
В цехе сухо. Тепло.
Достали соли. Перебираем.
Откуда-то выкруживает молодое дарование Витя Бажибин. С арбузом под мышкой. Съели. Конечно, арбуз. Витя понадобился ещё. Притаранил винограду. Ягоды с палец. Я такой в магазинах не видала.
Акции наши росли. Нам доверили выгрузку дынь.
Открыли на рельсах вагон.
До метра высотой полно дынь! Сверху солома.
Я полезла в вагон.
С земли кричат:
– Ищи с густой сеткой трещинок! Ищи вкусную! Сейчас в машины будем грузить.
Нашла мягкую. Во рту тает.
Ох, сколь грузили! До одурения грузили!
До того, веришь, нагрузились, хоть домкратом подымай да лебедкой ссаживай с вагона.
Ну, выпорожнили мы вагон.
Второй нам открывать не стали. Иль побоялись, что и этот выпорожним в себя, или что там, но с огромными спасибами еле выпроводили нас с базы.
Тянемся мы черепахами через проходную.
Дедан в каждую сумочку борзой глаз засылает. Ну прямо тебе агент глубокого внедрения!
Разодрал этот труп, завёрнутый в тулуп, двумя крюками-пальцами сумочку мою. Перечисляет:
– Помадулечка, конфетулечки, яблынько, мандаринчики… Сто-оп, машина!.. Я извиняюсь. Яблынько и мандаринчики попрошу на стол.
У меня пятки со стыда загорелись. Язык потерялся.
Стою не знаю, как и сказать.
Наконец вернулась я в себя.
– Да и яблоко, – говорю, – и мандарины муж дома положил…
– Фю-фю! Так я и дал тебе веру! Нонешний муж скорей сам цопнет, нежли положит. Муж! И чего криулить?.. Ещё ни одна холера не катывала со своим самоваром в Тулузу. По-вашему, в Тулу. Не знай, не ведаю, каковски это муж и чего тебе клал, а только я знаю, идёшь ты не от мужа, а с базы. Выкладай, милушенция! Выкладай, покуда я не пустил дело в милицейский пляс. Ежли это твоё, так и прячь надёжко. Съела б… Там никто не увидит. А ежель я собственноглазно вижу – вы-кла-да-ай!
Дедуха тут замотал головой и выстрожел лицом.
– Да не стану я своё выкладывать!
– Выложишь! У нас на всякий горшок быстро сыщется крышка!.. Сейчас, – глянул он на телефон в проходной, – папку[6] вызову! Это тебе не старший помощник младшего дворника!.. Хватит мне одного… Какое правое судие учинили! Даве мигнул Васька-электрик, а его под микитки и ко мне, тычут мне Васькин пропуск. Ты кого, шумят, пропустил? Кого ж, Ваську-электрика! А ты всмотрись в карточку. И близко так к самым к глазам приставляют. Мне и сам Васька так сблизка показывал, шептал, мол, внимательно, в оба смотри, дедуня. А я что, дверью прихлопнутый? Чего я буду на Ваську лупиться? Что, я за десять годов не нагляделся на этого облезлого кобеля? У Васьки просторная лысина, хоть блины пеки… Я даже отвернулся, когда Васька внагло совал мне свой пропуск, а тепере вгляделся… Э-э! Какого дал зевка. Сам себе всю панихиду испакостил. Вишь, чего контроль подсуропил? Наклеил Ваське в пропуск крокодилью портретность! На Ваську схоже. У Васьки зубяки длиньше пальца. Наклеил, значит, и пустил Ваську через мой пост. А сам, контроль-то этот, со сторонки смотрит-проверяет бдительность мою. Вот грехи тяжкие! Я так и сел на посмех, умылся выговорешником… Милушка, – жалобно заговорил дедулька, – пожалей ты меня. Мы обое попали в такую крутость… Выпусти я тебя с нашим товарцем, мне и до пенсионарии не дадут дочихать три месяца, под фанфары заметут. Давай уговоримся… Ты сейчас оставляй своё. А приходи завтра. Я тебе не две мандарининки – полную сумочку накидаю из аннулированных фондов. Не будет аннулированных, сам в цех шатнусь, выпрошу, а дам. Только сейчас выкладай. Христом-Богом прошу. Я ж не могу тебя пропустить. Я служу под тельвизором (я поискала глазами телекамеры, но не увидела), у меня начальство видит, как божий глаз, с чем я народ выпущаю. Ежли б мне видеть, видит ли оно меня сейчас… Ежли б знатки, что не видит, я б на радость своей душе выпустил бы тебя. А так… А ну вповторно промахнусь?.. Тогда у нашей завки[7] правду, как у ежихи ног, не скоро допытаешься.
Мне и деда жалко, и себя не хочется топтать в грязь. Да отдай я мандарины с яблоком, значит, я сознаюсь, что взяла их на этом овощегноилище? Что тогда наши подумают обо мне?
Стою вся в растрёпанных чувствах… Ну, дед, навёл бузу…
Тут входит наш начдив Сергеев. Неувядаемый лбомж-бруевич.[8]
Увидал его дед, заполошно как закричит, совсем разыгрались глаза у старого:
– Выкладай! Не то хомутской[9] шукну! Я тут приставлен строгость держать, а не антимоньки размазывать!
Сергеев, у этого в зубах не застрянет, вежливо так и спроси:
– Я прекрасно понимаю, что ум хорошо, два лучше, а три уж никуда и не годятся. Но тем не менее любопытно знать, об чём, папаша, шум? Какие новости в мире бдительности?
Дед объясняет.
Я стою. У самой по ведру слёз в каждом глазу.
Сергеев, святая душа, и говорит:
– Папаша! Вы кого заставили плакать? Да вы знаете, кто она? Да у вас не хватит пальцев на руке сосчитать! Зам главбуха – раз! – Сергеев начал загибать пальцы у деда на руке. – Молодая интересная жена – два. Вечерница – три. Уже на четвёртом курсе. Между прочим, второе высшее ударно куёт! По субботам институт с утра. Сегодня нарочно пропустила занятия. Припожаловала вот спионерить у вас яблочко… Лучше б смотрели, что везут на машинах. А то роетесь в дамских сумочках… Профсоюзная шахиня – четыре. Наконец, заместитель начальника по субботнику, личный мой заместитель…
– О-ло-ло, горелая я кочерёжка, – замялся дед, отступно закрывая и подавая мне мою сумочку. – На кого замахнулся… Сама шахиня! Покорно прошу прощения… Не разглядел… Да куда… Не в жилу… Несчастный неутыка! У меня ж одна извилина, и та след от фуражки…
– Вот такие сегодня у меня новостёхи! – заключила Валентина.
– Но это ещё не всё, – буркнул я, не отрываясь рубанком от доски. – Возьми письмо у Найды в корзиночке.
Скоро Валя вжалась на тесный балкон.
Она была белее снега.
– И после всего этого, – трясёт письмом, – наводишь глянец на своих досточках?
– А что?
– А то, что как минимум надо ехать за билетом на первый же поезд!
– Лежит твой минимум в той же корзиночке. Зайка подсуетился.
– Когда едешь?
– Завтра в двадцать два сорок.
– Поздновато. Но я всё равно провожу до поезда.
– Чтоб убедиться, что уехал?
– Ну, у тебя фирмовые солдатские шуточки!
– А без шуток если, как возвращаться одной в полночь? До трамвая проводишь и точка. Это завтра. А сейчас сходи прогуляйся-ка по магазинам… Главное уже есть, – кивнул я в угол на рюкзак с пшеном.
– Но он же ничего не пишет про пшено!?
– Мама в больнице… До пшена ему? Да и… Или ты забыла? Хоть я один… хоть с тобой – разве был случай, чтоб мы приехали из Москвы в Гнилушу без пшена и без сухой колбасы? И между ежегодными летними гостевыми наездами разве не кидаем мы им посылки с тем же добром? А чуть зазеваешься, летит слезница: «Деревня просит у Москвы… Как будете собираться к нам в гости, возьмите пшена да колбасы сколько сможете… Нас бы устроило скромное соотношение 20:5. А то и каши хочется, и цыплят кормить нечем…»
– Я не понимаю… Воронежский край – российская житница. Там всё выращивают. Везут в Москву. А мы из Москвы при на своих горбах туда же, в воронежскую деревню, их же пшено! Как Богов гостинчик! Как это получается в любимой стране?
– Так и получается, раз в любимой стране всё делается через назад. Там всё зерно выметают в поставку под метёлочку. Красивыми рапортами звенят. А как простым людям жить – кого это интересует?.. Крутись, как знаешь… На прошлой неделе нарвался на рассыпное пшено. Сору многовато, какое-то серое, но уж и то хорошо, что плесенью не воняет. Взял пуд… Надо ж слать. А тут не канителиться с посылками. Привезу. Тебе остаётся – посмотри сухой колбасы килограмма четыре да фруктов.
– Вообще-то груши у нас есть. Помнишь? Недели две назад брали на вылежку. Наверно, уже дошли…
Валентина приставила к гардеробу табуретку, взобралась на неё. Приподняла над верхом шкафа разостланную газету.
– Груши все пожелтели уже! Заберёшь все до одной. Посмотрю ещё яблок получше, винограду, гранатов. Только я что, одна пойду?
– Одна. Компании я тебе сегодня не составлю. Надо успеть дострогать все достоньки, сбить стояки, внести… Пока меня не будет, замазкой залепишь на досках ямки от старых гвоздей, вмятины и трижды покрасишь голубой.
– Голубой? Ну ты же говорил – красной!
– Да ну её, красную. И так стены в прихожей, в ванной, на кухне – везде красные. Ещё здесь не хватало. И потом смотри: обои, шторы, диван, кресло, стулья – всё голубое, всё один цвет, а вымажь стеллаж в красное, так и будешь на него натыкаться глазами, так и будет дразнить глаза. Да, не забыть бы! После магазина заверни мне туда красного корня, золотого корня, бадана, душицы. Да я мамушку одними спиридоновскими чаями подыму!
Глава вторая
Ни печали без радости, ни радости без печали.
Чудеса в решете: дыр много, а выскочить некуда!
1
Была глухая ночь.
Всё в вагоне спало, и лишь я один тупо пялился в заоконную чёрную кутерьму. Меня несло по краю, который я избегал в молодости вдоль и поперёк. Где-то совсем рядом лились мои вчерашние пути-дороги, свиваясь в один комок в Светодаре.
Светодар – столица моей любви, столица моей беды…
Как-то уж так выбегало, что я много раз приезжал в Светодар и всегда только ночью, в поздний час, как вот сегодня. И всякий раз летишь, летишь во тьме и вдруг натыкаешься, как сейчас, на неожиданно выскочившие вдалеке огни. Далёкая переливчатая дуга огней обмазывает душу тревогой, долго маячит вдали, то отходит, отливается ещё дальше, то наближается, но вплотняжь не подходит к нашему скорому составу.
Первая остановка от Москвы дальних поездов…
Вагон наш остановился аккурат против того места, откуда когда-то провожала меня Валя в командировку в Тбилиси.
Как это было давно…
С Верхней Вольты, то есть с Верхней Волги, я слетел в Светодар, в областную молодёжку. Приехал именно этим поездом, именно в этот мёртвый час.
Ни ковров, ни музыки…
Ночь я дожал на вокзальной лавке.
А наутро поехал в редакцию.
С жильём было плохо, с деньгами ещё хуже и мне, чердачнику,[10] великодушно разрешили ночевать на редакционном диване.
Перед концом рабочего дня я выбегал в ближайший магазин, брал, конечно, не торт «Я вас люблю, чего же боле?», брал простенькое, хлеба там, бутылку молока, ещё чего-нибудь наподобие дешёвенькой колбасы и скакал назад. А ну закрой уборщица редакцию на ключ, я и кукуй где придётся?
Но вот и уборщица угреблась в торжественном громе своего ведра и швабры.
Тихо, покойно. Я один на всю редакцию.
Полная отвязка!
Поешь…
Ну, а что дальше?
Дальше – тоска.
Раньше двенадцати не уснуть.
Чем прикажете заняться до этих двенадцати?
Я надумал купить верёвку. Один конец привяжу к батарее, а другой выкину вечером в окно во двор, спущусь со своего второго этажа. И гуляй на воле, как утка в пруду. Как надоест, приложусь к родимой верёвушке и поехал спатушки к себе нах хаузе.
С неделю мялся я у хозмага, но верёвку так и не купил. Ну, хорошо, рассудил я, стану я курсировать на своей верёвке вверх-вниз, вверх-вниз и надолго ль эта спектаклюха? А ну подметит кто? А ну за вора примут? Ещё отдуплят да в сыроежкин дом[11] не потащат? И не загорится ли мне тогда сделать из моей верёвки себе петлю?
И верёвочная отпылала радость…
В сумерках я лежал на диване и тупо пялился на телефон на столе. Телефон – это что-то отдельное!
А что если перебибикнуться[12] с какой молодкой?
Я кинулся наугад накручивать какие попало номера.
Если мне отвечал мужчина или старая женщина, я умным голосом спрашивал:
– Это роно?
И быстро клал трубку.
Но если мне отвечал девичий голосок…
Я весь вечер проговорил с Валей, и в первый же вечер чуть её не потерял.
Время уже к двенадцати, её гонят в постель, и мы на грустных радостях расстались. Друг дружке поклялись в верности аж до завтрашнего вечера.
Пришёл новый вечер.
Я кинулся к телефону и обомлел.
Номер!
О Господи! У них Пномпень, а у нас Пеньпнём! Ну пенёк с ушками! Забыл у неё спросить её номер!
Вечера три подряд я до полуночи жарил раскалённый диск. Набирал, набирал, набирал – что наберётся. Попалась же мне раз Валентина! Неужели ей запрещено попасться мне ещё хоть единый разок? Только один-единый! Боженька! Шепни, пожалуйста, её номерок… Только один разик! Мне больше не надо…
Боженька как-то прохладно, безответственно отнёсся к моим мольбам…
Фа, фа!.. На Бога надейся, да сам колупай!
Теперь я с надеждой смотрел на свой указательный палец и умолял его:
– Золотунчик! Ну вспомни, милашечка, её родной номерок! Будь другом. Выручай! Ты же свой мне в досточку! Ну, набери ещё разок то, что ты уже набирал один раз! Помоги! А я тебя авансом поцелую…
Я поцеловал палец и, отвернувшись к стенке, набирал что набежит.
Я хорошо помнил, что в тот раз я вертелся недалеко. Надёргивал всё единички да двойки. Они крайние на диске. Быстрей наберёшь заветные четыре цифирьки. Диску-то меньше крутежа!
И теперь, не глядя, я набирал крайнушки.
И выкружилось-таки в конце концов то, что нужно!
И как только я услышал в трубке её безнадёжно-испуганное «Алло?!», мы одновременно закричали в панике друг другу:
– Номер!.. Какой твой номер!?..
– Двадцать один – двадцать! – торопливо прокричала она, будто боялась в следующий миг забыть его, потерять. – Двадцать один – двадцать!.. Двадцать один – двадцать, Тони!..
– Двадцать один – двадцать! – для надёжности повторил и я. – Номер нашего Счастья!
Оказывается, все эти три вечера она тоже набирала наугад мой номер.
Как мы обрадовались, что снова нашли друг дружку!
И прежде всего мы теперь позаписывали телефоны куда понадёжней. Уж теперь никакая глупь нас не разольёт!
Каждый вечер мы болтали до самой крайней минуты, где-то до полуночи, когда кто-нибудь из её родителей, выпрыгивая уже из себя, кидал в гневе руку на рычажок.
Ушла неделя, отошла вторая, слилась третья.
Что дальше?
Не век же трындеть по телефону. Надо ж когда-то и выходить на встречу.
Вот встречи каждый из нас и боялся.
По телефону мы сотню раз объяснились в любви. Что телефон… Телефон стерпит всё. А вот встреться… Тогда что будет? А вдруг вживе мы не придёмся друг другу ко двору?
Между прочим, взаимное неприятие – идеальный исход. Ну, поплакались друг дружке при встрече в жилетки и на извинительном вздохе распались на атомы.
А вот будет чувал обиды, если кто-то из нас не понравится.
И я видел себя именно тем, кто не понравится, и потому не спешил назначать свидание. Уж лучше амурничать по телефону, чем лить слёзы наяву.
Мне кажется, она тоже так думала о себе.
Но однажды Валя переломила себя и бросила с вызовом:
– Тони! А давай завтра встретимся на пять секунд!
– Не слишком ли долгой будет эта наша первая встреча?
– Не слишком.
– Ты боишься, что мы дольше не вынесем друг друга?
– За нас с тобой я не боюсь. А вот за троллейбус, за нашу двушку, я честно боюсь. Дольше она нас не вынесет.
– А при чём тут двушка?
– На ней мы завтра с папайей поедем в театр. И мимо твоей редакции тролесбос этот сарай на привязи удет тащиться не больше пяти секунд.
– Бабушка-затворенка! Это что ж за встреча? Я что, должен на ходу влететь в твою двушку?
– Не надо никуда влетать. Спектакль начинается в семь. С шести до шести с половиной стой у окна на улицу. В это время мы проедем мимо.
– Но как я тебя узна́ю?
– Я помашу тебе ручкой. Сяду в троллейбусе у самого окна и помашу!
– А что за спектакль завтра дают?
– «Три стана изо льда».[13]
– Не поморозят вас там?
– А мы потеплейше оденемся!
2
Было без четверти шесть.
С колотящимся сердцем я подошёл на ватных ногах к окну и больше не сдвинулся с места.
Ровно в шесть (часы были у меня на левой руке) я выструнился, поднял руку к виску. Служу Его Величеству Любви!
К шести обычно редакция вымирала.
А тут как назло нет-нет да и прошлёпает мимо какой запоздалец.
Как только до меня доносило чьи-то шаги, я, не отымая глаз от улицы, начинал сосредоточенно чесать висок, будто пыжился вспомнить что-то важное и никак не мог. Человек проходил, и пальцы у виска снова строго вытягивались в струнку.
Одного ушлого ходока я не заметил.
Ответсек (ответственный секретарь редакции) рябой Васюган ходил бесшумно. Я не слышал, как он подошёл и озабоченно заглянул мне в лицо.
– У тебя всё хорошо? – спросил он.
– Сверхорошо!
– А кому ты честь отдаёшь в окно?
– Троллейбусам, – честно признался я.
– Всем?
– Всем, всем. Чтоб не обижались.
– Ну-ну… – сочувствующе хмыкнул он. – Отдавай, отдавай… Раз завелось что отдавать…
Он покачал головой и пошлёпал вниз по ступенькам.
Тротуар у редакции узкий, всего шага три, и троллейбусы скреблись почти у самого дома, так что со своего второго этажа я мог видеть лишь плечи сидящих у окон.
Чуть не выдавливая стекло, я добросовестно пялился на троллейбусы, но что-то похожее на взмах руки я так и не увидел.
Было уже семь пять, когда я покинул свой боевой пост.
На следующий день она сама позвонила мне раньше обычного. Ещё даже из отдела не все ушли.
– Ну, как вчерашние смотрины?! – радостно спросила она.
Мне не хотелось, чтоб посторонние о чём-то догадались, и я с занудным равнодушием ответил:
– Нормальный откат.[14]
– Там кто-то ещё пасётся?
– Ты права…
– И как тебе боевой смотр? Я не ошиблась в тебе. Тонинька, ты мне понравился на большой! А я тебе?
– Тоже… Не на маленький…
Наконец я остался в отделе один и легко вздохнул:
– Все отбыли в сторону домашнего фронта. Я могу спокойно говорить.
– Так говори! Не молчи!.. Чего молчишь? Я люблю тебя! Ради тебя я готова на всё!
– На всё? На всё?
– На всё! На всё! На всё!
– На всё? На всё? На всё? На всё?
– На всё! На всё! На всё! На всё! На всё!
– На всё? На всё? На всё? На всё? На всё? На всё?
– На всё! На всё! На всё! На всё! На всё! На всё! На всё!
– На всё? На всё? На всё? На всё? На всё? На всё? На всё?.. А на что – на всё?
– Ну… На всё!!! Хочешь, завтра приду к тебе на первое свидание Евой?
– Это как Евой?
– Безо всяких постромков и попон там… Голенькой…
– Это-то при пятнадцати мороза?
– Трублема![15] А хоть при тридцати и ниже!
– Не вериссимо!
– Не веришь? А напрасно. Я смельчуга! У нас в выпускном все девчонки отважные. Классок подобрался… Ух! Девульки-бой! Уже который день долдонят точке, точке, запятой,[16] что родительный падеж – глупый выскочка. Не на своём месте! Он должен скромно идти вслед за дательным, а не скакать попереди него!.. Все наши девчонки подписали воззвание «Кончим среднюю школу недевушками!»
– А кем же? Мальчиками? Непонятка[17]…
– Да ну тебя!.. Трус!
– А ты подписала?
– Я же сказала – все! Ну, так спорим?
– Спорим!
– А на что спорим?
– На поцелуй. Если я прихожу в шапке, в пальто и в сапогах и больше ничего на мне нет – выиграла я. Я и целую. Но если кроме шапки, сапог и пальтеца будет на мне хоть ещё одна финтифлюшка – выигрыш твой. Целуешь ты меня!
– Хоть так поцелуй. Хоть так поцелуй. Ладно. Согласен. Но одно условие. Целоваться взасос, по-брежневски, не будем.
– А почему такие ограничения? – закапризничала она в кокетстве. – По-че-му такие строгости?
– А потому, что я не Бровеносец в потёмках,[18] а ты не Ясирка Арафат. На первом свидании всё должно быть скромно, сдержанно. Как на приёме в Кремле. Один деловой, протокольный поцелуй, и разъезд по зимним квартирам.
– Но сначала надо съехаться.
– Завтра и съедемся, съездюки!
– Нет! Сегодня! Сейчас!.. Я только у папайи отпрошусь… О-о! Он вчера был молодцом в театре. Нарядный. Торжественный. Будто жених при мне…
3
Мы встретились на автобусной остановке.
Я увидел её и сделал всё, что мог. Онемел от изумления. Меня облило счастье. Она была так хороша собой, что какие самые красивые слова ни скажи про неё – всё серо, уныло, мертво.
– Это я, Тони, – сказала она.
– Вижу. Но где же Ева?
– При тебе.
Она коротко отпахнула верх пальто, и мне озоровато улыбнулось литое ядро высокой груди. Здравствуй!
– Ты извини, что я тебе не поверил… – пробормотал я. – Я думал, ты шутила… Давай назад в автобус! Я провожу тебя до дома.
– Меня папайя не поймёт. Удивится, чего так быстро отпала я от своей неразлучницы Милки Благонравовой… Знаешь, какую я отколола мулю? Положила к себе в сумочку «Обществоведение» и сказала отцу, что иду к Милке за этим своим учебником. А когда приду, важно покажу ему этот учебник. Мол, я тебя никогда не обманываю. Ходила за учебником, вот и принесла… Можешь полюбоваться… А Милка живёт у нас же в доме через три подъезда. Когда-то я училась с нею в одном классе. По болезни я брала годовой академический отпуск. Побывала в академичках… Милка в прошлом мае пришила школенцию. Теперь секретарит в обкоме комсомола у самого у первого! У Конского! Отец удивился. «Зачем ей твой учебник?» – «А захотела что-то там освежить в памяти. Так… Для расширения парткругозора… Почитать захотела что-то там по спиду». – «Че-го?» – «Ты, па, сильно не пугайся. Это не какая там подпольная литература… Спид расшифровывается очень простенько. А именно: Социально-Политическая История Двадцатого (века). Толечко и всего». Он знает, от Милки я быстро не уйду. А как я через полчаса нарисуюсь дома? Меня не поймут. Давай, Анчик, погуляем. Хоть поцелуемся для закрепления знакомства…
Было уже очень поздно, когда я проводил Валентину до дома.
– А как же ты, Тони? – всполошилась она. – В редакции дверь заперта!
– Надо покупать верёвку…
– Собрался вешаться после первой же встречи со мной? Разочаровался?
– Очумел от счастья! Куплю верёвку. Один конец привяжу к батарее, другой кину в окно, что выходит во двор. И спокойно по той верёвочке буду забираться к себе на ночёвку в редакцию. От тебя и на верёвочку…
– А сейчас как?
– Воробей стреху найдёт.
Ночь я перекружил на вокзале.
А утром по пути в редакцию таки купил себе верёвку.
Мы встречались в день по два раза.
Утром чем свет я вскакивал и летел к Вале под окно.
В телефонной будке набирал её номер. И как только раздавался у неё звонок, вешал трубку.
Через мгновение она подбегала к окну, отталкивала в сторону занавеску. Жди! Лечу!
Ещё со ступенек она на бегу бросала мне портфель.
Я ловил его, встречно распахивал руки, и мы, обнявшись, замирали в бесконечном поцелуе.
Потом мы шли в школу.
Я был почётным портфеленосцем при ней.
За квартал до школы мы расставались и снова встречались в этот же день вечером.
Святое время, божьи дни…
Мы убредали в Берёзовую рощу и что там вытворяли – не всякое перо осмелится описать. Мы боролись в снегу. Гарцевали, как полоумники, друг на дружке…
За все те лихости я расплатился отмороженным ухом.
И не жалею. Есть же про запас второе!
4
В редакции я вроде прижился и меня откомандировали на месяц в Тбилиси, в «Молодёжь Грузии». Эта газета раньше называлась «Молодой сталинец», где я опубликовал первые свои заметки.
Тогда было в моде крепить дружбу областных русских газет с газетами союзных республик. Обменивались опытом.
Пришла разнарядка отправить одного опытного журналиста в «Молодёжь Грузии». Редактор и ткни в меня худым пальчиком:
– Ты из тех краёв… Шпрехаешь по-грузински… Ты и вези им наш опыт.
С восторгом летел я в Тбилиси.
В воображении рисовались картины одна занимательней другой. Вот я приземляюсь в Тбилиси и сразу прямым намётом к главному редактору, к Кинкладзе, к тому самому Кинкладзе…
Мои заметки безбожно кромсали в тбилисской редакции, и я попросил его, чтоб этого не делали. Так он лихо оскорбился и надолбал кляузы в райком комсомола и директору школы, требовал, чтоб меня, одиннадцатиклассца, потрудились срочно подвоспитать в комдухе, иначе из такого строптивца никогда не получится журналист.
Вот Фомка неверующий!
Не прошло и века, а я уже давно профессиональный газетчик.
Прилетаю вот к этому Кинкладзе и – нате из-под кровати!
Но… Кинкладзе в редакции уже не было.
Под большим секретом мне сообщили, что Кинкладзе ушёл куда-то в архивысокие тёмные верхи и в какие именно – лучше не спрашивай.
Будем делать как лучше.
Я съездил в командировку в свои Насакиралики. Привёз кучу материалов и не спеша отписывался.
И светлой отдушинкой во весь этот грузинский месяцок-цок были мне письма Валентины.
Мы писали друг другу не каждый ли день.
Первое своё письмо я вложил в коробку из-под обуви. Это вовсе не значило, что письмо было такое большое. Просто коробку я забил мимозой и нежными первыми фиалками, насобирал у себя в Насакирали на придорожных бугорках под ёлками.
Скоро самолёт привёз мне ответную родную весточку.
Валя писала, что цветы ей очень понравилась. Понравились и маме и она упрекнула отца, что не посылал ей ранние цветы.
И в конце было
Что я мог ответить на её волшебное письмо?
Все слова казались мне деревянными, и не было тех слов, которые бы мне надо вложить в ответное письмо, и я не нашёл ничего лучшего, как отправил ей лишь один прасоловский[19] стих.
- Ты вернула мне наивность.
- Погляди – над головой
- Жаворонок сердце вынес
- В светлый холод ветровой.
- Расколдованная песня!
- Вновь я с травами расту,
- И по нити по отвесной
- Думы всходят в высоту.
- Дольним гулом, цветом ранним,
- Закачавшимся вдали,
- Сколько раз ещё воспрянем
- С первым маревом земли!
- Огневое, молодое
- Звонко выплеснул восток.
- Как он бьётся под ладонью –
- Жавороночий восторг!
- За мытарства, за разлуки
- Навсегда мне суждены
- Два луча – девичьи руки –
- Над становищем весны.
Второе её письмо начиналось сердито:
