Хозяйка гостиницы бесплатное чтение
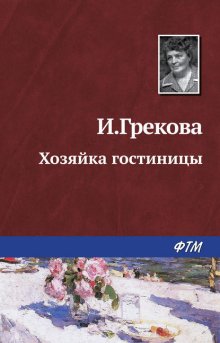
1
В тысяча девятьсот тридцатом году Верочка Бутова кончила школу. Ей было восемнадцать лет, и она была счастлива.
Ранним утром, только что искупавшись, раскинув по плечам мокрые, соленые волосы, она шла по берегу моря. Розовенькое ситцевое, впервые надетое платьице дулось на свежем ветру; спереди оно прижималось к коленям и бедрам, сзади – струилось и хлопало, провожая хозяйку множеством легких аплодисментов. Над головой Верочка размахивала стареньким красным купальником; восхитительно яркий, пока не просох, он взвивался, опадал и вспыхивал флагом. Невысокие волны одна за другой взбегали на берег, круглились, рушились и отступали, оставляя за собой мелкий шепот исчезающей пены. В песке свежо сверкали разноцветные, волной умытые камни. Море тоже было разноцветно: вблизи отливало желтым, дальше – зеленым, бутылочным, а еще дальше уже не отливало, а стояло сплошным монолитом пламенной синевы. Вдалеке, на невидимой нити между небом и морем, белой жемчужинкой завис небольшой пароход, идущий и неподвижный, – светлая точка настоящего между прошлым и будущим. Белые чайки с черноокаймленными, будто в тушь обмакнутыми крыльями носились над морем, время от времени молниеносно снижаясь и припадая к воде. В их клювах угадывалась цепко схваченная серебряная добыча. Вольная жадность чаек, их ширококрылая свобода была заразительна; Верочка шла широкими шагами по скрипящему, шевелящемуся живому песку, размахивала флагом, и ей хотелось всего. От полноты души она пела немаленьким своим, но не совсем верным голосом старый романс, запетый целыми поколениями русских девушек, начавший жизнь в гостиных и закончивший в кухнях и прачечных, – романс о белой чайке и загубленной женской судьбе:
- Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды.
- Над озером быстрая чайка летит…
Впереди, за мысом, четко врезанным в голубизну, уходила вдаль узкая полоска пляжа, бедная песком, утесненная корявыми скалами. Берег в этот ранний час был пустынен, и только далеко вдали шла, перебирая ногами, то ли сюда, то ли отсюда, одинокая фигура человека в темном.
2
Верочкино детство было бедное, трудовое, но светлое, солнечное, все в маках.
…В хатке прохладно, ветерок гуляет от окна к окну, колышет тюлевые гардинки; они накрахмалены, коробятся жесткими складками, шуршат, задевая о фуксии, и время от времени какая-нибудь из фуксий роняет розовый каплевидный нежно висячий цветок. Сложно пахнет яблоками, тмином, полынью, недавно сбрызнутым глиняным полом; он просыхает неровно, пятнами; чуть притоптан с одного боку чистый пестрый лоскутно-вязаный половичок. Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть – сверху вниз или с боку на бок. В углу икона – Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой – лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы.
Верочка выходит из хаты, и светлая жара кладет ей на голову горячую руку. Стрекочут кузнечики, воздух полон их знойным звоном. Земля под ногами пыльна, горяча; цепочкой печатаются на ней детские босенькие следы. Вокруг огорода – плетень: разновысокие колья плотно перевиты прутьями; кора кое-где отстала и висит на лычках, обнажая голое гладкое дерево. Красная букашка с черным узором ползет по колу вверх, устремляясь туда за каким-то никому не ведомым букашечьим делом. На самых рослых кольях сушатся кверху дном смуглые глечики в неровной поливе, солнцем сияет пузатая бутыль слоистого водяного стекла. Зеленеют пахучие укропные зонтики; высокий подсолнух выше плетня поднимает тяжелую свою желтую голову. Внизу, у его твердой граненой ноги, жмутся к земле замысловато изрезанные пыльно-зеленые арбузные листья. А вот и сам арбуз, он величествен, полон тяжелой круглотой, одна сторона – темно-зеленая – жарко нагрета солнцем, другая, нижняя, бледна и прохладна; Верочка всегда норовит потрогать арбуз, чтобы еще раз убедиться, какие у него разные щеки. У плетня крутится штопором, цепляясь за прутья усами, хитрый вьюнок по имени «крученый паныч»; его крупные нежные сине-лиловые колокольчики, яркие внутри, бледные снаружи, направляют широко разинутые раструбы во все стороны, приглашая пчел. Цветок паныча живет один день – утром разворачивается, а к вечеру уже никнет лиловой тряпочкой. Сорвешь его – сразу завянет, ставь его в воду или не ставь. Верочка тянет к себе, не срывая со стебля, самый большой колокольчик и окунает в него нос по самые щеки. Цветок слабо и сладенько пахнет; когда его нюхаешь, он словно бы всхлипывает и тонко-тонко приникает к ноздрям.
А больше всего в огороде маков. Стройные, сомкнутые, они похожи на веселое войско. Ветер качает маки, они клонятся, и видно, как они разноцветны – розовые, абрикосовые, белые, махровые и полумахровые, и простые красные с черно-лиловым сердцем. Верочка в высоких маках ходит как в лесу, и цветы качаются выше ее светленькой головы. Бабочка-капустница порхает над маками и невзначай садится на Верочкину голову, как на цветок.
3
Семья Бутовых жила на окраине большого богатого приморского города. Город-то был богат, а они-бедны. Верочка с детства привыкла знать, что они, Бутовы, бедны: в доме мало было денег, мало вещей, маловато еды, но это ее не огорчало. Вообще она была девочка веселая, с вечным лучом радости на кругленьком лукавом лице.
Нравом и веселостью она уродилась в отца. Отец, Платон Бутов, был человек веселости неистребимой, хотя и крепко ударила его жизнь. С германской войны вернулся без ноги, да еще и отравленный газами – с тех пор у него внутри что-то свистело. Верочка любила слушать, как в папе свистит, он ей это охотно позволял, прижимая ее маленькое, мягкое, пакетиком складывающееся ухо к своей широкой груди: «Слышь ты, какая музыка». Верочка думала, что отец грудью насвистывает нарочно, для смеху. Посмеяться-то он любил. Был он большой, выше притолоки, ясноглазый, с прямым соломенным чубом. Когда играл на балалайке, чуб прыгал. Иногда Платон пытался даже петь, но быстро замолкал, схваченный одышкой, и глаза допевали остальное. Одевался он чисто, даже щеголевато, единственный сапог начищал до зеркального блеска, бороду брил каждый день, а рыжие усы закручивал кольчиками, как у Кузьмы Крючкова – знаменитого казака-героя. Свою деревянную ногу сам раскрасил, расписал цветами и птицами и так весело стукал по горнице, что никто про него не сказал бы «калека». Верочка вся уродилась в отца – и глазами, и соломенным блеском волос, и веселым неуныванием. Женя, младшая, та больше походила на мать – смуглая, длиннорукая, сердитая. Мать, Анна Савишна, была сердитая не отроду, а от тяжелой жизни. Пенсия мужу-инвалиду шла грошовая, деньги падали, цены росли. Мать промышляла шитьем, часами стуча на ножной машинке, зингеровской, еще приданой своей. Верочка, сколько себя, так помнила эту машинку – золотопестрые узоры и крупную букву «3» на толстой черной ноге, быстрое снование светлой иглы, жесткий запах новеньких ситцев – розовых, голубых, крапчатых, из которых мать шила платья и кофточки окраинным щеголихам. Верочке доставались обрезки – длинные или треугольные лоскутки, в которые она заворачивала своих кукол (а куклами были у нее маковые головки). Еще мать зарабатывала поденщиной, ходила в город к богатым барыням стирать кружевное белье.
Верочка у отца научилась смеяться, а у матери – работать. С самых малых лет, с пяти-шести, она матери помогала-и по дому, и в огороде. Цапка большая, вдвое выше Верочки, но она кое-как приспосабливалась: перехватит рукоятку пониже, бьет по сорняку коротеньким, детским замахом. Мать по воду – и она с ней; мать – с ведрами, Верочка – с кувшином. Кувшин, когда без воды, – легкий, а с водой – налитой, тяжелый, и вода в нем прыгает, чуть что – через край. Капли разбегаются по пыльной земле, не смачивая ее, оставаясь шариками.
Женя, младшая сестренка, была слаба здоровьем. Фельдшер нашел у нее английскую болезнь, велел поить рыбьим жиром. Рыбий жир стоил дорого, покупали его в аптеке, где за окном прекрасно сияли налитые разноцветными жидкостями стеклянные шары: зеленый, малиновый, солнечножелтый. Аптекарь, старенький немец в чистейшем халате, был робок, держал голову низко, припрятав ее между плеч, словно перед ударом. Он гладил Верочку по голове, говорил: «Oh, frommes Kind!», дарил ей флаконы и коробочки из-под лекарств с длинными бумажными хвостами, где было что-то написано.
Женька рыбий жир пила плохо, приходилось ей нос зажимать, чтобы она рот открыла, и тогда залить туда ложку силком. После этого начинался рев. Ревела Женька длинно и нудно, басовым голосом, по целым часам. Сядет и ревет, словно деньги зарабатывает. Верочка этого рева терпеть не могла, а мать за Женьку заступалась: «Она еще маленькая». Вообще она младшую дочку, наверно от жалости, больше любила. Зато Верочка – папина радость, отец на нее не надышится. Тележку ей смастерил, клетку для соловья, только самого соловья еще не было, дорого стоит, но отец обещал купить, когда разбогатеет.
Он твердо верил, что разбогатеет, да не один, а со всем трудовым народом, дай только разберемся. А пока что было трудно. Мать ужом крутилась, чтобы выгадать лишний двугривенный. С огорода многого не возьмешь, что вырастили, то и съели. Ели они борщ три раза в день: утром, в обед и вечером. Борщ когда какой – по доходам. Чуть получше с деньгами – и борщ пожирней, с мозговой косточкой. Похуже – борщ постный, с чесноком и фасолью. Совсем плохо – борщ почти из одной ботвы. Забелить нечем, коровы нет. Мать брала молоко у соседки Дуняши за деньга, по глечику в день. Пила одна Женя – она маленькая, да и здоровьем слаба. Наливали ей кружечку молока, в руку – половину баранки, она и тут ухитрялась реветь – зачем баранку сломали. При грозе молоко кисло, и мать давала Верочке простоквашу – Женька-капризница кислого не ест. Такого – да не есть! Простокваша прямо с погреба, голуба, холодна, чудесно режется ложкой на нежно-плотные, дрожащие куски. Кусок лежит на языке и медленно тает, а ложка уже идет за другим, и опять, и опять, и вот уже видно дно, и радость кончается, но не совсем, потому что можно еще высунуть язык и, упираясь носом в тарелку, вылизать ее дочиста. Верочка любит простоквашу и, значит, любит грозу, радуется, когда пухнут на краю неба синие тучи.
Тучи приходили с моря. Бутовых хата стояла у самого моря на высоком, крутом берегу. Ниже летали чайки, выше – ласточки. Красный глинистый берег увалами спускался к морю и был весь изрыт, расщемлен оврагами. Весной по ним бежала вода, глыбами ворочая глину. Овраг – по-здешнему «враг». «И подлинно, враг, – говорила Анна Савишна, – верно сказано: да воскреснет Бог и расточатся врази его». Начал уже враг подбираться к бутовской хате, подмывал основание, рвал из плетня колья, грыз по краям огород, как ни боролась с ним Анна Савишна, подсыпая землю и камни, подпирая, ухичивая свое жилье.
Близко море, а ходить некогда. Пока сходишь туда-обратно, полдня как не бывало, а работа не ждет. Изредка все же ходила мать искупаться, брала с собою девчонок. Жене, по слабости здоровья, купаться было нельзя, но сидеть в горячем песке фельдшер ей посоветовал, говорил, что хорошо от английской болезни. Потому и ходила мать к морю, сидела на пляже, как барыня. Она раздевала Женю, закапывала ее до пояса в песок. Продолговатые сыпучие холмики повторяли очертания длинных слабеньких ног. Мать садилась рядом и, совестясь, отдыхала, глядя на слепящее море из-под коричневой узкой ладони. Сидела она одетая, в том же старом темненьком платье, в котором работала, шила, стирала. Решив искупаться, она быстро, стыдливо раздевалась и шла к воде, в своей длинной сборчатой рубахе, придерживая ее для приличия горстью у горла. Глубокая, почти лиловая чернота лица, шеи и рук резкой чертой отделялась от остального, незагорелого тела – казалось, матери и впрямь впору было стыдиться такой белизны. Войдя в воду по пояс, мать крестилась и трижды окуналась по шею, обняв себя руками за плечи. На этом купанье кончалось, она выходила вон из воды. Кристальные струи стекали с мокрой рубахи, четко обозначалось все стройное, узкое тело, облитое прилипшей, лучами расходящейся тканью. Мокрая, выходящая из воды мать походила на серебряную рыбу, вставшую на хвост; Верочка следила за ней с восторгом, обнимая глазами, оглаживая. Но Анна Савишна стыдилась даже дочерних глаз. Она и в баню-то ходить не любила, все из-за жестокой своей стыдливости. Искупавшись, она торопливо одевалась и снова повязывалась платком по глаза.
А Верочку из моря клещами не вытянешь. Давно уже пора домой, а она все бродит по мелкой теплой воде, волны гуляют туда-сюда, все это снует, торопится, блещет. Маленький краб резво и ловко боком-боком бежит по песку и прячется у подножия камня. Камень бросает глубокую тень, где сторожко отстаиваются почти невидимые, песчаного цвета бычки. Плывет голубая медуза; ее студенистое, зыбкое тело полупрозрачно, недолговечно, быстро сохнет на горячих камнях и становится белой пленкой.
– Верочка, домой! – кричит мать. А она как не слышит. – Кому говорю? Вылезай!
Она еще медлит. Сладко и опасно медлит.
– Ве-ра! – врастяжку, по слогам произносит мать. Ну, тут уже пахнет ремнем, ничего не поделаешь, надо идти.
Подъем крут, тяжел. Из-под ног сыплются камни. Жидкие кустики маслины, цепляясь, тоже ползут по красноватому склону; их острые, удлиненные листья на серой подкладке похожи на перочинные ножички; когда подувает ветер, кусты подергиваются серебряной дымкой. Женя устает, начинает реветь, мать берет ее на руки и, согнувшись, несет в гору. У Верочки руки свободны, она цепляется за кустарник. Тонкие, узколистые прутья непрочно сидят в земле, легко вырываются с корнем; взмах в воздухе пыльного кома – и скольжение вниз на коленях, а то на заду. Мать бранится. Солнце палит. Когда после такого солнца войдешь в хату, перед глазами долго еще плавают радужные круги. Радостно хочется пить, звякает ковшик, и глоток холодной воды, чуть отдающей ржавчиной, наполняет живот и все тело немыслимым счастьем.
4
Вообще Верочка жила животом. Именно там, в животе, был у нее источник непрерывного счастья, и там у нее екало, когда думала о приятном.
Много приятного на свете. Приятно есть. Приятно купаться. Приятно ходить в город с матерью на постирушки.
Мать наденет ей желтенькое, цыплячье платьице с оборками, берет за руку и ведет. Кончается знойная балка, и вот уже город.
Улицы широки, вымощены красноватым булыжником. По краям тротуаров каменные столбики, у которых собаки, весело вскинув ногу, справляют свои дела. Круглые тумбы пестрят афишами. Над окнами магазинов большими шатрами раскинуты полотняные навесы – маркизы, края у них с фестонами, обшиты красной каймой. Ветер вскидывает фестоны, и кажется, что город нарядно летит. В тени акаций, пронизанной солнечными кружочками, цветочницы продают розы. Цветы стоят и лежат в ведрах, в тазах, в суповых мисках. Колкие стебли не сжаты, не стиснуты, вольно разбросаны, розы прохладны, сбрызнуты каплями, пахнут. Запах притягивает Верочку, как пчелу. Уже пройдя мимо роз, она все оборачивается. «Не вертись!» – говорит мать и легонько, небольно шлепает ее по руке. Рука у Верочки пухлая, как булочка, и от шлепка слегка зарумянива ется.
Вот они приходят в дом – большой, каменный, трехэтажный. Черный ход – со двора. Двор глубокий, прохладный, с чинарой в углу. Дети крутят скакалку, играют в «классики». Верочка с ними бы поиграла, да некогда ей – надо матери помогать.
На кухне жарко, светло, разноцветно, медные кастрюли блестят розовым, самовар – желтым. В самоваре смешно отражаются вещи и лица. Верочка смотрится в самовар и смеется: глазки у нее становятся мелкими, как пуговицы, а нос лезет вперед, распухает. Мать не любит, когда Верочка смотрится в самовар, и нарочно завешивает его салфеткой.
Белья целая куча. Мать стирает в большом корыте, Верочка – в маленьком тазике. Бело-синее жуковское мыло скользит в руке, только недоглядишь – вывернется, и на полу. Дыбится пышная пена, вся из радужных пузырьков. Мать стирает, низко согнувшись, не снимая платка; спина у нее все чернеет и чернеет от пота.
Кухарка готовит обед на огромной плите, что-то напевает, постанывая; шипит выкипающий суп, резво бегают капельки по раскаленному чугуну, сытно пахнет мясным наваром. После стирки кухарка зовет прачек обедать; прежде чем сесть за стол, обе крестятся, мать – распаренной, синеватой рукой, Верочка – мягкой булочкой. Кухарка садится с ними, но сама не ест, только вздыхает. Обед хороший, господский. Верочка до того наедается супом, что живот у нее выпирает мячиком. Для второго и места нет, а жаль – на второе котлеты. Верочка, из жадности, все-таки просит котлетку, но есть уже не может, отщипнет кусочек и отваливается, молчит, мигает. Котлету, ворча, доедает мать.
После обеда идут во двор – вешать белье. Мать стоит на табуретке, а дочка снизу ей подает тяжелые, винтами скру ченные жгуты. Мать встряхивает простыню, расправляет – легкий хлопок, и она уже висит, прищемленная за концы, изгибается, дуется парусом.
Просохшее, чуточку влажное белье пахнет свежестью. Верочка с матерью гладят. У матери большой духовой утюг, похожий на паровоз, сзади огненный глаз, впереди труба. Утюг ходит танцуя, из-под него воздушно встает махровая, пенно-белая кружевная оборка, и вся блузка, когда готова, не виснет на пальце, а взлетает облаком. Гладить кружева и оборки Верочке пока не дают, гладит она что попроще да попрямее, самым маленьким утюжком, но и тот для нее тяжел. Поднимает она его двумя руками, но гладит исправно, не сожжет, не запачкает. «Ось гарна дивчина!» – вздыхает кухарка и дает Верочке леденец. Верочка сама леденца не съест, сбережет для Женьки. Младшую сестру она любит сердитой любовью.
Белья много, гладят до вечера. Вечером идут домой. Улицы ярко освещены, шипят газовые фонари, гуляет нарядная публика, качаются махровые шляпы, звенят офицерские шпоры, и все это – как сон. Красные розы в газовом свете кажутся черными. Верочка опять засматривается на розы, робко, ожидая окрика, но мать уже до того устала, что забывает ее одергивать, идет как во сне.
А дома, над обрывом, – тишина, темнота, хаты спят, редко светится розовое окно. Звездное небо шевелится складками. Над морем шарят, скрещиваясь и расходясь, длинные лучи прожекторов. Домашний запах хаты зовет ко сну. Голова становится мягкой, валится. Верочка только успевает донести ее до подушки – и уже спит.
Пока мать с Верочкой в городе, отец дома сидит, нянчит Женьку и расписывает деревянные ложки. Платят ему по копейке за штуку.
5
Платона Бутова в молодости прозвали «Светит месяц» за то, что мастерски играл на балалайке известную эту песню – играл с переборами, с дребезгом, с лихим стуком костяшек по треугольной деке. Так и подмывало от этой песни, так и несло в пляс. Был он чудак, заводила, шутник, враль. Бывало, такого наврет, хоть святых выноси. Врал, а правду любил. Грамоте знал хорошо. Выпить тоже был не дурак, но до положения риз не напивался, а, выпивши, брал балалайку и начинал играть на ней божественное. Поп, отец Савва, старик свирепый, грозил ему за это божьим гневом.
Был Платон беден – ни овцы, ни курицы, ни семьи; изба-развалюха подперта кольями. Отец с матерью давно померли, почти ничего йе оставили сыну, а что оставили, то он роздал. Легок был на руку, мог отдать последнее и не вспомнить. Девки по нем обмирали, он их не отпугивал, но и жениться не торопился. Какая-то веселая непутевость кидала его из стороны в сторону. Кормился он, батрача у богатых мужиков, деньгами не дорожил, ел за двоих. Был у него живописный дар, мог бы деньгу зашибать, расписывая сундуки да ставни, но куда там – не мог усидеть на месте. Что заработает – прогуляет с приятелями, а то нищему отдаст – и опять гол как сокол.
Никак не мог ни к чему прислониться, пока не полюбил Анку Морозову – попа Саввы дочь. Где уж они повстречались, где слюбились – неизвестно. Поп Савва с попадьей Маланьей дочку держали в строгости, ни боже мой – никуда не пускали, была она уже просватана за семинариста из Киева, которого ожидал в торговом селе богатый приход. Собой Анка была красавица – высока, ровна, смугла без румянца, глаза бархатные, как камышовые свечи. А уж скромна – не ответит, не улыбнется, глаза в землю – и мимо. И вот приворожил ее «Светит месяц» – пустобрех, балалаечник, голь перекатная, за душой ничего, кроме той балалайки да розовой рубахи, в праздник носить. И никто ничего про них с Анкой не знал, пока не случилась беда. А беда открылась, когда уже была девка на пятом месяце. Матушка-попадья волосы на себе рвала, отец Савва ногами топал и клюкой замахивался, да что поделаешь – проворонили дочь. Пришлось срочно ее за Платошку-бездельника выдать. Поп Савва сам их и обвенчал, венчал, негодуя, а когда дьякон возгласил: «Жена да убоится своего мужа», сплюнул в сторону. Однако не проклял, выдал дочери даже приданое – сколько-то деньгами и швейную машину «Зингер».
После свадьбы Платон Бутов остаться в селе не захотел, а увез свою молодую в богатый и веселый приморский город, где думал и жизнь начать богатую и привольную. На приданые деньги купили они хату с огородом на высоком крутом берегу, где внизу летали чайки, а вверху – ласточки. Еще купили двуспальную кровать с шарами и граммофон с лиловой трубой, расписанной золотом. На стене повесили балалайку и стали жить-поживать, проедать приданые деньги. А их и немного оставалось.
Но Платона это не тревожило, он вообще деньгам счета не знал, была у него поговорка: «Будет день – будет пища». По вечерам он заводил граммофон, ставил его на окошко, а сам выходил с молодой женой наружу, на холодок. Они сидели, обнявшись, глядя на море, и слушали, как сладко рыдал граммофон, негромко, на два голоса, ему подпевая.
Иногда в море появлялся корабль и, светясь огнями, медленно шел по темной далекой воде; в такие минуты у Платона внутри что-то ныло и замирало. Эх, пошел бы он в порт, нанялся матросом, повидал бы дальние страны. Слона, обезьяну увидел бы не в зверинце, а так. Но жалко было жену – даже такую, тяжелую, подурневшую, он ее крепко любил. Наслушавшись граммофона и насмотревшись на море, они шли в хату и ложились в новую двуспальную кровать, спали тревожно, под звон пружин, и нередко по ночам посещали Платона шальные мысли, что, мол, кончилась веселая жизнь, что зря он себя связал, хотя бы и с этой, с любимой.
Когда родилась Верочка, он сперва огорчился, как всякий отец, получив дочь вместо сына, но скоро об этом забыл. Поносив девочку раза два-три на руках, он уже любил ее без памяти. Влажная щека, порхающий глаз, волосы нежные, цыплячьи до того были пронзительны, что он даже стонал. Позднее, когда Верочка научилась уже улыбаться, он мог сидеть часами, наклонясь над ребенком, щелкая, чмокая, весь выходя из себя, лишь бы еще раз увидеть святую, беззубую эту улыбку.
Верочка росла на диво спокойным ребенком, плакала редко, спала хорошо. Утром, проснувшись, играла своими ножками и весело гугукала, будь хоть мокрым-мокра. «Здравствуйте, барыня, Вера Платоновна!» – говорил ей отец, и она смеялась. «Здравствуйте, барыня, Вера Платоновна!» – повторял он, выдвигая голову, как бы бодаясь. Эта шутка имела вечный успех. В ответ на нее Верочка вся исходила смехом, чуть дребезжащим, счастливо икающим. Слушая ее, отец тоже начинал смеяться и не мог перестать. Взаимный смех доходил до полного восторга, до исступления. Не зная, что уж и делать, отец хватал девочку и подбрасывал к потолку. Она падала ему на руки толстеньким ангелом, вся раскинувшись, словно паря. «Будет вам, оглашенные!» – притворно сердилась мать, а сама тоже смеялась, рот прикрывая платком. Но глаза были печальны будущее ее тревожило. Платон полдня играл с дочерью, а в свободное время учил скворца говорить.
Тем временем кончились приданые деньги. Пришлось продать граммофон. Анна Савишна жалела красивую, нарядную вещь, а Платон говорил беспечно: «Что с него? Только угол занимает…» Скоро проели и граммофон. Платон продал кровать с шарами. Задешево продал, половины не выручил, что сами платили. Анна молчала, про себя жалела не кровать, а расшитые поднизи, которые Платон задаром отдал вместе с кроватью. Спали они теперь на полу, и снова Платон говорил, что так даже лучше, прохладнее, что ему ночной звон надоел. Звону теперь и правда не было – тихо спал Платон, подложив под голову сильный белый локоть, тихо дышала Верочка, тихо лежала Анна Савишна, тревожась о будущем.
Скоро прожили и кроватные деньги. Платон замахнулся было на швейную машину, но тут уж Анна Савишна встала стеной: «Не отдам! Она еще нас кормить будет!» Впервые она осмелилась перечить мужу. Платон несказанно был удивлен, посмотрел на жену, как на диковинного зверя, потом махнул рукой и засмеялся: «Ну, бабы!» Не сказавши, не посоветовавшись, пошел на завод наниматься. Там ему не понравилось: душно, грохочет, железом воняет. Нанялся в батраки к соседу-мельнику, чинил ветряк, подсыпал зерно, мешки таскал с утра до ночи. Придет весь в муке, брови белые. Жена ему подает умыться. Платон брызгается, фыркает, усталость с него сходит водой, он усмехается похудевшим, скуластым лицом, вскидывает голову: «Ничего! Мы еще с тобой поживем!»
Жили бедно. Мельник оказался нудный, прижимистый. Работал у него Платон почти за одну только пищу – хозяин за каждую копейку готов удавиться. Денег домой приносил Платон мало и редко. Иной раз и до дому не донесет, по дороге отдаст кому попало, а то купит пустяк какой-нибудь: свистульку, ножичек. Анна Савишна мужа безденежьем не попрекала. Что теперь делать? Сама такого выбрала, сама полюбила, сама и терпи. В ее бедной трудовой жизни муж был как предмет роскоши, как граммофон.
6
В четырнадцатом году грянула война. Платона Бутова сразу же взяли. Ушел веселый, Верочку подбросил, потискал, жену поцеловал трижды со щеки на щеку, заломил фуражку-и был таков. Анна Савишна вспомнила, какой он был веселый, когда еще ходил в женихах и звали его «Светит месяц», уронила голову на стол и заплакала. Может, там, в солдатчине своей, без домашних забот, снова месяцем станет Платон? Только бы не убило, не искалечило…
Стала жить одна с дочкой Верочкой, поднимать ее, поджидать мужа. Жила своими трудами: поденщиной, стиркой, шитьем. Руки у нее потрескались, коричневые глаза потускнели, подернулись сизым.
Платон вернулся через год без ноги, да еще отравленный газами. Анна Савишна и плакала, его жалея, и радовалась, что хоть такой, а вернулся. Не работник, а все же живой. Видно, всю жизнь не ему меня, а мне его кормить. Стала своими трудами кормить и мужа, и себя, и дочку Верочку. Через год родилась у них еще одна дочка, Женя. Тут уж Платон совсем расстроился: ждал сына, а снова девка. Даже поглядеть на новую дочку не пожелал. Потом – что поделаешь? – глядел, но без удовольствия. Длинная какая-то уродилась, слабая, вредная. Верещит всю ночь, да с надрывом. Верочка-то, бывало, камушком спит: как легла, так и встала. Анна Савишна все пыталась приохотить его к ребенку, помня, как он с Верочкой играл, но все напрасно: Платон вторую дочку так и не полюбил. А мать, ее жалея, еще пуще любила. Когда прогнали царя, Верочка была еще мала и плохо понимала, что происходит. Царя она знала по портретам: красивый, русобородый, он помещался где-то вверху, рядом с богом. Теперь его прогнали. Куда прогнали? Как? Думая о том, что прогнали царя, Верочка вспоминала, как гнала мать с огорода соседскую курицу: мать гонялась за нею с метлой, а курица громко кудахтала. Может быть, царь тоже кудахтал? Но понемногу все становилось яснее. К отцу ходили разные люди, соседи и дальние, сорили на пол, дымили махоркой, спорили, стуча кулаками. В разговорах звучали новые слова: «Петроград», «революция», «республика». Отец был за республику, Верочка – тоже. Ей нравилось, как оно звучит, мячиком: «Республика!» Мельник был за царя.
Отец говорил, что без царя начнется для всех новая, красивая жизнь, не будет ни богатых, ни бедных, все будут равны. «И розы у всех будут?» – спрашивала Верочка. «И розы, – отвечал отец, – погоди, разберемся маленько, будут тебе и розы». Верочка ждала терпеливо, пока разберутся – красивой жизни все еще не было. По-прежнему одни были богаты, другие бедны. Мать жаловалась на дороговизну, еле сводила концы с концами. Тот же борщ, реже мясо, чаще ботва. А в городе все сменялись разные власти. Вечером стреляют, а назавтра, гляди, – новая власть. Были немцы, были румыны, петлюровцы, самостийные. Были белые, были зеленые, а в промежутках – красные. Отец был за красных, у него в хате сходилась беднота, батраки и судьбой обиженные, пели «Варшавянку», кричали: «Долой буржуев!» Кто-то донес, и отца посадили в тюрьму. Когда его уводили, мать птицей металась, кричала: «Не троньте калеку!» – а отец сказал ей: «Молчи, глупая баба». Уходил он вольно, весело между двумя солдатами шел, сверкая белой спиной в новой, нарядной рубахе, и Верочка еще долго видела, как двигалось вверх и вниз его подпертое костылем плечо. Пока отец сидел в тюрьме, мать носила ему передачи, один раз взяла с собой Верочку; в окне за решеткой она увидела бледное чужое лицо с поникшими, спутанными усами. «Помахай папе», – сказала мать, Верочка махать не захотела, заплакала.
А когда насовсем пришли красные, отца выпустили из тюрьмы и привезли домой на телеге. После тюрьмы он стал не такой, как прежде, – не играл на балалайке, не стукал деревяшкой по горнице, а все лежал и кашлял. Мать говорила, что в тюрьме коршуны отбили у него нутро. Когда отец кашлял, в этом нутре ухало у него, как в бочке. Такого, нового папу Верочка боялась и редко к нему подходила.
Однажды летним днем – мать ушла на поденщину, а сестра Женя спала в холодке под черешнями – отец подозвал к себе Верочку. Лежал он на топчане совсем плоский, даже нога-деревяшка – и та плоская. Лицо бледное, а потное. Жарко ему.
– Верочка, дочка моя старшая, любимая, поди сюда, позвал отец.
Она подошла. Что-то хрипело-сипело в отцовской груди.
– Возьми платок, вытри меня, милая, тяжко мне.
Верочка взяла со стола матери белый в крапушку головной платок и вытерла плоско вогнутый лоб, серые виски, небритые щеки отца. Пот катился по ним, как слезы.
– Пришло мое время. Скоро умру.
Верочка не поняла, о чем он говорит, но заплакала.
– Ты обо мне не плачь. Умру – вам же легче, одним ртом меньше. Не плачь, погляди на меня. Незабудки, сказал отец, – чистые незабудки. Не забудь меня, дочка. Плохой я тебе был отец, а ты все ж таки помни. Будешь меня помнить?
– Буду.
– То-то же. Теперь иди. Устал я. Засну.
Верочка вышла. На дворе светило горячее солнце. Под черешнями пели пчелы. Женя спала, откинув в сторону марлевый положок. Желтая бабочка села на тыкву, сложила крылышки, расправила их, снова вспорхнула. Верочка сидела и помнила об отце, как будто бы зажимая что-то внутри себя. Солнце шло к вечеру, тени росли. Женька проснулась, заревела: «Хочу бараночки!» Бараночек в доме давно не бывало, а она все просила, нудная. Верочка принесла ей борща в глиняной миске. «Не хочу борща, дай бараночки!» – басила Женька. Верочка на нее рассердилась, отшлепала. Женька перешла с баса на визг, повизжала немного и затихла. Так всегда у нее: ревет-ревет, а нашлепаешь – поверещит и затихнет. И в доме было тихо, отец спал.
Солнце покраснело и стало садиться. Было жутковато от красного солнца, от тишины. Матери уже пора вернуться, а ее нет. Вот наконец шаги по тропинке. «Мама!» – крикнула Верочка. «Мама, бараночки принесла?» – заерзала Женька. Обе влепились в материнский подол. Мать молча их отстранила, вошла в дом. И почти сразу же раздался ее страшный крик.
Отца хоронили в яркий солнечный день, под крики ласточек. Мать на последние деньги купила целую корзину роз. Ими обложили, обсыпали гроб, только одно темное лицо с горько и косо стиснутыми губами виднелось среди цветов. Священник в черной рясе с большим, нестерпимо блиставшим наперсным крестом махал кадилом, развевая пахучий, сизый дымок. Гроб засыпали красной землей, охлопали лопатами холмик, поставили сосновый, наскоро срубленный крест; на его перекладине черными буквами было написано: «Платон Бутов, ничей не раб» (так он сам завещал). Поп на эту надпись все косился, но слова не говорил. Мать пала на могилу, раскинула руки, прильнула к земле. Ее подняли, повели. Она не плакала, просто недоумевала. Твердыми темными пальцами растирала по щекам и по лбу прилипшую красную землю. «Мама, у тебя лицо грязное», – сказала ей Верочка. Она кивнула, но не утерлась.
За поминальным столом подавали огурцы, печеные яйца, сухую рыбу тарань. Стояли две бутылки с жемчужносиреневым самогоном. Гости косились на скудное угощение, перешептывались, осуждая вдову. Поминали розы. «В доме есть нечего, а она – розы». – «А кому они нужны, розы-то? Покойнику все равно…» Головы соседок покачивались неодобрительно. Верочка лупила яйцо. В горле саднило от соленых, горько непролитых слез. Тут заревела Женька. Верочка схватила ее поперек живота, отнесла в сарай и с наслаждением отшлепала. Каждый шлепок был как ответ соседкам: нет, покойнику не все равно! Нет, надо покупать розы!
7
Похоронили, погоревали и снова начали жить. Все шло вроде по-прежнему, только мать стала другая. Как будто, купив розы, она от чего-то избавилась, освободилась. Пропало ее строгое скопидомство, тревога о будущем, стала она беспечнее, словно унаследовала у Платона легкую поговорку: «Будет день – будет пища». Однажды привела в дом мальчишку-приемыша, звали Ужиком. Черный, верткий, волосы торчат, а в них – сено. Анна Савишна нашла его в сене, где он ночевал, беспризорный, и взяла себе в сыновья. Как зовут его по правде, он не говорил – Ужик да Ужик, так и остался Ужиком, хотя мать и выправила ему документ, по которому он был Бутов, Платон Платонович. Соседки осуждали Анну Савишну за безрассудство: самим есть нечего, а она парня взяла. Да еще беспризорный, на вид ворюга ворюгой, черное слово у него с уст не сходит. И правда, ругаться Ужик был великий мастер, с такими завитками выделывал, что мужики за живот хватались. Однако Анна Савишна его от этой привычки живо отвадила. Как-то раз сидели они за столом, мать разливала борщ, Ужик по привычке раскатился было затейливым матом, но кончить не успел: мать размахнулась да так хватила его горячим половником по губам, что они у него пузырями вздулись. С тех пор, как только Ужику приходило на ум выругаться, сразу же у него начинали чесаться губы, и он молчал.
По возрасту он был где-то между Женей и Верочкой (сколько ему лет, в точности никто не знал), но дружил больше со старшей сестрой. Ей он рассказал под большим секретом (землю заставил есть!) страшную свою тайну. Ужик был иностранный принц, рожденный от лиц королевской крови. Отец у него носил всю жизнь железную маску и умер в тюрьме. А мать его звали Эмилией, она тоже была королевская дочь, с золотой короной на черных распущенных волосах. У нее были враги, из них главный – кардинал Ришелье. Чтобы сына не истребили враги, она завернула его в шелковые пеленки, положила в корзину и пустила вплавь по реке, и так он попал в Россию. А говорить об этом нельзя никому, потому что большевики против царей и, если узнают, сразу его убьют. Верочка тайну хранила свято. Ужик, хоть и принц, был в жизни обыкновенный мальчишка, учился плохо, плавал отчаянно и, когда время пришло, поступил в комсомол.
Верочкины школьные годы были бурные, двадцатые. Неслыханным половодьем разливалась новая жизнь, размывала устои. В воздухе носились слова: «Долой!» и «Даешь!» – оба на «д». Долой церковь, долой попов и монахов, долой мещанство, долой собственность! Даешь новое! «Долой» и «даешь» захлестывали, конечно, и школу. Возникали, шумели и отмирали новые методы обучения: комплексный, Дальтон-план, бригадно-лабораторный. Вводилось, ограничивалось и снова вводилось самоуправление. Выкидывались парты, черные доски. Во дворах горели костры из пособий. Классы становились лабораториями, учителя – консультантами. Ученикам раздавали книги, по одной на бригаду в пять-шесть человек, и велели работать самостоятельно, коллективно. А как работать – не объясняли, им и самим это было неясно. Новые методы изобретались где-то в столицах, а сюда приходили в виде невнятных, противоречащих друг другу инструкций.
Иные учителя, по-новому «шкрабы», вовсе сбивались с толку; захлестнутые волной перемен, они плыли по течению, робко недоумевая. Однако были среди них и сильные, одаренные, которые, невзирая на методический хаос, продолжали учить и чему-то выучивали. Вокруг таких учителей группировались самые способные, желающие учиться, и Верочка – среди них. У нее было счастливое свойство приспосабливаться ко всему новому, сливаться с обстоятельствами, плыть в них как рыба в воде и туда, куда нужно. Глядя, как она усердно и весело учится, можно было подумать, что есть здравое зерно и в Дальтон-плане, и в бригадно-лабораторном. Память у нее была отличная, она любила русский язык, литературу, обществоведение, питала здоровое отвращение к математике и ухитрилась выйти из школы с неплохим в общем-то образованием, хотя и дырявым. Дырки получались там, где в переходах от метода к методу что-нибудь просто забывали пройти. Так вышло у Верочки с запятыми. Она ставила их не по правилам, а по вдохновению и, на всякий случай, почаще, почти после каждого слова. Так и осталось у нее навсегда. Верочка всю жизнь любила и умела писать письма; эти веселые, милые письма казались от лишних запятых еще веселее, милее. Запятые были в них как множество ликующих подтверждений.
