Стадный инстинкт в мирное время и на войне бесплатное чтение
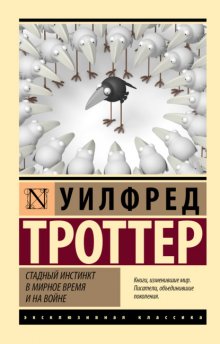
Серия «Эксклюзивная классика»
Wilfred Trotter
INSTINCTS OF THE HERD IN PEACE AND WAR
Перевод с английского А. Андреева
Школа перевода В. Баканова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
От автора
Первые два эссе из этой книги были написаны около десяти лет назад и опубликованы в 1908 и 1909 годах в «Sociological Review». Изначально это было одно эссе, однако его опубликовали двумя частями с интервалом в полгода, значительно сократив при этом общий объем.
Позже мне сообщили, что, поскольку тираж выпусков, где были напечатаны эссе, распродан, а затронутая тема по-прежнему представляет интерес, возможна повторная публикация. Пользуясь случаем, я решил добавить в качестве комментария результаты десятилетних размышлений и попытаться применить очерченные принципы к современным событиям.
Новый комментарий вскоре превзошел по объему исходные эссе и теперь составляет почти весь текст настоящей книги, кроме относительно немногих страниц. Я упоминаю этот небольшой рекорд не потому, что он представляет интерес сам по себе, а потому что мне хочется подчеркнуть, насколько захватывающим оказался процесс сопоставления принципов, сформулированных десять лет назад, с теми событиями, которые мы сейчас наблюдаем. И говорю об этом не для того, чтобы объявить о своем даре предвидения, – я ведь уже давно указал причины, по которым стабильность цивилизации выглядит подозрительно непрочной, – а потому что известно: атмосфера великой войны не благоприятствует свободным размышлениям. Если бы принципы, на которых базируются мои аргументы, были сформулированы в нынешние времена, у читателя имелись бы серьезные причины сомневаться в их обоснованности, какими бы правдоподобными они ни казались в условиях чрезвычайного положения в стране.
В этой книге мне хотелось бы опровергнуть мнение о психологии как о чем-то неопределенном и бесполезном и показать, что психология, особенно в связи с другими разделами биологии, способна стать проводником в актуальных жизненных вопросах и предложить такое понимание человеческого разума, которое даст нам практичный и полезный способ предсказать те или иные стороны поведения человека. Нынешнее состояние дел в обществе позволяет проверить справедливость таких предположений в условиях опасности для страны.
Если эта война с каждым днем, как очевидно, все больше бросает вызов моральному духу, то глубокое понимание природы и источников боевого духа нации может служить, по крайней мере, таким же источником силы, как технические познания военного инженера и изготовителя пушек. Можно предположить, что главная функция крепкого морального духа – поддержание мужества и решимости в суровых военных условиях. В стране, независимости и просто существованию которой угрожает внешний враг, эти качества могут восприниматься как должное и могут сохраняться, когда общие моральные силы серьезно подорваны. Крепкий моральный дух дает нечто более труднодостижимое. Он обеспечивает энергию и предприимчивость национальной экономике, а отдельным индивидам гарантирует максимальную отдачу при минимальном вмешательстве таких эгоистических страстей, как тревога, нетерпение и недовольство. Практическая психология должна определить необходимые функции и найти средства их активировать.
Чем внимательней мы рассматриваем действия правительства в ходе войны, тем яснее становится, что каждый акт властей дает результат в двух различных сферах: во‑первых, оказывает практически немедленное воздействие на врага, а во‑вторых, влияет на моральный дух нации. Первая составляющая, как любое военное предприятие, обладает неопределенностью: успех или поражение невозможно предсказать; влияние второй составляющей можно определить и предвидеть, и отрицать это могут лишь люди невежественные и безразличные.
Хотя относительная важность военных и моральных факторов в различных действиях и предприятиях разнится, можно указать, что моральный фактор присутствует всегда. Однако этому постоянному и, по общему признанию, важному фактору в действиях правительства уделяется внимание настолько незначительное и поверхностное, что возникает чувство, будто привычная вера в его значительность – не более, чем условность.
Применяемый мною метод откровенно умозрительный, тем не менее факты доступны всем и открыты для подтверждения или опровержения. Я пытался показать путь; я не старался призывать или убеждать в его выборе: это вне моей компетенции.
Ноябрь 1915 года.
Стадный инстинкт и его влияние на психологию цивилизованного человека
I. Вступление
Очень немногие темы приводили к столь оживленной и продолжительной дискуссии, как попытка дать определение науке социологии. И, для того чтобы данное эссе нашло применение в социологии, автору необходимо уточнить, в каком смысле он использует этот термин. Назвать социологию наукой означает, разумеется, выразить точку зрения, согласно которой социология – это совокупность знаний, полученных на основе исследования своего объекта и организованных таким образом, чтобы можно было предсказывать, а если возможно, то и направлять в будущем поведение объекта. А объектом является человек в обществе, или человек ассоциированный.
Таким образом, очевидно, что социология – еще одно название психологии в самом широком смысле, то есть психологии, включающей все феномены сознания без исключений, даже самые сложные, и существенно более полезной, чем любая ортодоксальная психология, какая существует до сих пор.
Социологию, разумеется, часто описывают как социальную психологию, которая в отличие от обычной психологии имеет дело с формами ментальной активности, демонстрируемой человеком в социальных отношениях. Полагают, что общество выводит на свет особые ментальные способности, которыми обычная психология, сосредоточенная на индивиде, не занимается. Сразу скажу, что основной тезис настоящего эссе – то, что упомянутый подход ошибочен и ведет к сравнительной бесплодности психологического метода в социологии. Две области – общественную и индивидуальную – нужно рассматривать как неразрывно связанные. Вся человеческая психология есть психология ассоциированного человека, поскольку человек в качестве одиночного животного нам неизвестен, и каждый индивид проявляет характерные реакции общественного животного, если такие существуют. Единственное отличие между этими двумя ветвями науки состоит в том, что обычная психология не претендует на практическую пользу в смысле выдвижения полезных предсказаний, а социология говорит о работе со сложными проблемами обычной жизни; а обычная жизнь в силу биологической необходимости является социальной жизнью. Таким образом, если социологию определять как психологию, то лучше называть ее не социальной, а практической или прикладной психологией.
Первым результатом полного принятия такой точки зрения станет подтверждение очевидной сложности и необъятности задачи социологии. В самом деле, сама возможность подобной науки порой отвергается. Например, на одном из первых собраний Социологического общества профессор Карл Пирсон выразил мнение, что рождение науки социологии ожидает усилий гения-одиночки калибра Дарвина или Пастера. Позже на подобном собрании мистер Герберт Уэллс пошел дальше и заявил, что наука социология не только не существует, но существовать не может.
Такой скептицизм обычно основывается на мнении, что практическая психология в описанном смысле невозможна. Одни считают ее невозможной в силу того, что человеческая воля привносит в поведение элемент, неизбежно неизмеримый, и делает поведение человека поистине разнообразным, а следовательно, недоступным научному обобщению; другие, приверженцы детерминистской школы, полагают, что поведение человека, хоть и не демонстрирует истинного разнообразия в философском смысле и человеческая воля не является его первопричиной, представляется на деле столь сложным, что свести его к полной системе обобщений будет невозможно, пока наука в целом не добьется значительного прогресса. Любой из этих подходов на практике ведет к равному пессимизму в отношении социологии.
Наблюдаемая сложность человеческого поведения, несомненно, велика и обескураживает. Однако проблема обобщения имеет одну важную особенность, не столь очевидную на первый взгляд. Дело в том, что в качестве наблюдателя мы постоянно зависим от мнения человека о своих поступках; что наше наблюдение о некоем действии в той или иной степени смешано со знанием, полученным от наших чувств, о том, как себе все представляет человек, совершающий это действие, и избежать воздействия этого фактора намного сложнее, чем принято считать. Любой из нас твердо убежден, что его поведение и убеждения сугубо индивидуальны, разумны и не зависят от внешних причин, и любой готов представить серию объяснений, что его поведение согласуется с этими принципами. Более того, такая же аргументация спонтанно придет на ум наблюдающим за поведением ближних со стороны.
Здесь предполагается, что ощущение невообразимой сложности и разнообразия человеческой деятельности реже, чем принято думать, возникает из прямого наблюдения, а чаще – из фактора интроспективной интерпретации, который можно назвать своего рода антропоморфизмом. Соответственно, поправка на это в человеческой психологии не менее важна, чем предпринятые в сравнительной психологии шаги, связанные с именами Бете, Беера, Икскюля и Нюэля. Считается, что именно этот антропоморфизм в общем подходе психологов, скрывающий наблюдаемое единство в человеческом поведении, замедлил становление действительно практической психологии. Хотя объект мало исследовался с точки зрения полного объективизма, даже сейчас возможно сформулировать обобщения, касающиеся некоторых областей человеческих убеждений и поведения. Впрочем, такое исследование не является задачей этого эссе, и данные соображения приведены, во‑первых, чтобы предположить, что проблема социологии вовсе не так безнадежно сложна, как представляется, а во‑вторых, чтобы оправдать применение для определенных аспектов поведения человека дедуктивного метода. Автор хотел бы уточнить: этот метод, хотя и признан опасным, если подменяет тщательное расследование, где дедуктивные процессы сведены к минимуму, все же является полезным в случаях, когда неверно интерпретируется значимость предварительно накопленных фактов или когда более точные методы не дали результата из-за отсутствия указаний, какие факты наиболее полезны для измерений. Таким образом, данное эссе станет попыткой с помощью дедуктивного рассмотрения поведения вывести некоторое руководство по применению тех методов измерения и сопоставления фактов, на которых базируется вся истинная наука.
Даже беглое рассмотрение проблемы поведения делает понятным, что искать ключ следует именно в области чувств – в самом широком смысле. Чувства связаны с инстинктом столь же очевидно и фундаментально, как связаны интеллектуальные процессы и рефлекторные действия; и в данной работе мы займемся рассмотрением инстинкта.
II. Психологические аспекты инстинкта
Много лет назад, в знаменитой главе учебника по психологии, Уильям Джеймс проанализировал и установил, предельно тонко и точно, каким образом инстинкт предстает перед интроспективным взглядом. Джеймс показал, что импульс инстинкта выглядит настолько аксиоматически очевидным побуждением, настолько «осмысленным», что любая мысль про обсуждение его основ является глупой или порочной[1].
Когда мы поймем, что инстинктивные решения осознаются в такой характерной и легко опознаваемой форме, логично тут же спросить: являются ли все решения, принимающие такую форму, инстинктивными по происхождению? Исследования, однако, показывают, что количество мнений, основанных на предположениях такого интроспективного характера, так огромно, что любой ответ, кроме отрицательного, был бы совершенно несовместим с современными представлениями о природе человеческого мышления[2].
Было много попыток объяснить поведение человека инстинктами. Действительно, таких очевидных инстинктов, как самосохранение, еда и размножение, достаточно, чтобы объявить подобное объяснение правдоподобным, а его первые плоды заманчивыми. Эти три инстинкта позволяют легко делать крупные обобщения, и возникло непреодолимое искушение объяснять ими все поведение человека. Увы, первый триумф материализма вскоре начал подвергаться сомнениям. Несмотря на очевидный долг, человек так часто не бережет себя, отказывается от еды и уклоняется от сексуальных соблазнов, что попытка втиснуть его поведение в эти три категории натыкалась на очевидные и в конце концов непреодолимые препятствия. Человек, вроде бы укладывающийся в эти рамки, так часто оказывался «вне их», что от идеи пришлось отказаться; и снова выяснилось, что человек не только не подчиняется, но и никогда не подчинится научному обобщению.
Более очевидным было бы умозаключение, что существует некий инстинкт, который не принимался во внимание, некий импульс, который сам по себе не столь очевиден, но, как правило, модифицирует другие инстинкты и создает новые комбинации, где импульсы примитивных инстинктов меняются до неузнаваемости. Подобный механизм производил бы серию действий, в которых было бы трудно распознать единообразие при непосредственном наблюдении, но оно было бы очевидным, знай мы характеристики неизвестного «х».
Среди животных есть виды, чье поведение легко обобщить в категориях самосохранения, питания и размножения; в то время как поведение других так не объяснить. Простое поведение тигра и кошки легко объяснимо и не представляет неожиданных аномалий; а поведение собаки, с ее совестью, юмором, боязнью одиночества, преданностью грубому хозяину, или поведение пчелы, беззаветно преданной улью, представляет феномены, которые не объяснит никакая софистика без привлечения четвертого инстинкта. Однако небольшое исследование покажет, что животные, чье поведение трудно обобщить в рамках категорий трех примитивных инстинктов, относятся к стадным. Если удастся показать, что стадность имеет биологическое значение, по важности приближающееся к другим инстинктам, можно надеяться объяснить аномалии поведения; а если мы сможем также показать, что человек – стадное животное, то мы получим определение неизвестного «х», которое отвечает за сложность человеческого поведения.
III. Биологическое значение стадного инстинкта
Животное царство претерпело два относительно внезапных и очень серьезных скачка в сложности и размере единиц, на которые действует немодифицированный естественный отбор. Это случаи объединения прежде независимых единиц: переход от одноклеточных организмов к многоклеточным, и объединение индивидов в социумы.
Очевидно, что в многоклеточном организме отдельные клетки теряют некоторые способности одноклеточных организмов: репродуктивная способность регулируется и ограничивается, питание старым способом невозможно, а реакция на стимулы проходит только по определенным каналам. Взамен на эти жертвы, говоря метафорически, действие естественного отбора внутри объединения прекращается. Отдельная непригодная клетка или непригодная группа клеток уже не может быть легко устранена; она включена в целый многоклеточный организм, который гораздо менее зависим от капризов одной клетки, чем одноклеточный. Теперь у отдельных клеток больший простор для разнообразия, а значит, богаче выбор материала для отбора. Более того, изменения, которые не дают немедленной пользы, получают шанс на выживание.
С этой точки зрения многоклеточность позволяет спастись от сурового естественного отбора, который для одноклеточных превращает конкуренцию в такую отчаянную борьбу, что малейший выход за узкие пределы является гибельным, ведь если даже он и в каком-то отношении выгоден, то в другом вреден. Так что единственным путем дальнейшего прогресса было увеличение конкурирующего организма. Можно предположить, что со временем разные виды многоклеточных организмов достигнут пределов возможностей. Конкуренция выйдет на максимум, все меньше изменений будут приводить к серьезным результатам. Для видов, находящихся в таких условиях, прогресс требует увеличения единицы. И это уже не означает увеличения физической сложности; необходимым шагом представляется появление стадности. Необходимость и неизбежность таких изменений видна по их появлению в самых разных областях (например, у насекомых и млекопитающих); можно подозревать, что так возникла и многоклеточность.
Стадность часто рассматривают как черту, вряд ли заслуживающую названия инстинкта, действительно полезную, но не имеющую фундаментального значения и не укоренившуюся глубоко в видовой памяти. Такой взгляд, видимо, объясняется тем фактом, что стадность, по крайней мере, у млекопитающих, не сопровождается сколько-нибудь значительными физическими изменениями[3].
Чем бы ни был обусловлен такой подход к рассмотрению социальных привычек, по мнению автора, он не оправдан фактами и не приведет к плодотворным выводам.
Изучение пчел и муравьев сразу показывает, какое фундаментальное значение имеет стадность. Индивид в таких сообществах совершенно неспособен выживать в одиночку; этот факт немедленно подтверждает подозрения, что даже в сообществах, не столь тесно спаянных, как у муравьев или пчел, индивид может на деле больше зависеть от общественной жизни, чем представляется на первый взгляд.
Еще одно потрясающее свидетельство того, что стадность важна не просто как позднее приобретение, – замечательное совпадение ее появления с повышением уровня интеллекта или возможностью очень сложных реакций на окружающую среду. Вряд ли можно считать незначительным фактом то, что собаки, лошади, обезьяны и люди – общественные животные. Самые удивительные примеры – пчелы и муравьи. Здесь преимущества стадности перевешивают самые серьезные различия в строении, и мы видим, что условия, которые зачастую считались простой привычкой, способны помочь нервной системе насекомых соревноваться по сложности адаптации с нервной системой высших позвоночных.
Если согласиться, что феномен стадности имеет глубокое биологическое значение и отвечает за важную группу инстинктивных импульсов, следующим шагом в нашем обсуждении будет вопрос: следует ли рассматривать человека в качестве стадного животного в полном смысле слова, иначе говоря, обеспечит ли его социальная привычка массой инстинктивных импульсов, столь же мощных, как самосохранение, еда и размножение. Можем ли мы рассматривать социальный инстинкт в качестве объяснения «априорных синтезов высшего сорта, не требующих подтверждения в силу самоочевидности», которые нельзя объяснить тремя примитивными инстинктами и которые остаются камнем преткновения на пути обобщения поведения человека?
Представление о человеке как о стадном животном, разумеется, отлично знакомо; его часто встретишь в трудах психологов и социологов, и оно благосклонно принимается широкой публикой. Такой подход уже настолько избит, что первый долг автора, уверенного, что значение этого тезиса еще даже не до конца понято, показать, что сам подход далеко не исчерпывающ. До сих пор эта идея представлялась довольно смутной и сама по себе, и по практической ценности. Она всего лишь предлагала интересную аналогию с некоторыми примерами поведения человека или служила полусерьезной иллюстрацией саркастически настроенному писателю, но обычно не рассматривалась в качестве биологического факта, имеющего точные последствия и непреложное значение, как, например, секреция желудочного сока или преломляющий свет аппарат глаза. Как правило, социальный инстинкт рассматривался в качестве позднего приобретения. Примитивной ячейкой считалась семья; из нее развивалось племя, а с распространением семейного чувства на все племя развивался и социальный инстинкт. Интересно, что психологическую атаку на эту точку зрения предвидели и социологи, и антропологи; уже было признано: первобытной основой человеческого общества правильней считать не семью, а недифференцированную орду.
Самым важным результатом такого размытого взгляда на социальную привычку человека стало то, что полноценные исследования ее психологических следствий практически не велись. Когда мы видим громадное влияние, оказываемое на поведение стадным наследием у пчел, муравьев, лошадей или собак, становится очевидно: если бы стадность у человека всерьез рассматривалась как определяющий факт, был бы проделан огромный объем работы по точному определению того, какими тенденциями стадность отметилась в мозгу человека. К сожалению, таких работ крайне мало.
С биологической точки зрения вероятность того, что стадность является первичным и фундаментальным качеством человека, представляется значительной. Как уже указывалось, подобно другим крупным расширениям биологических единиц, но в гораздо более наглядном виде, стадность явно дает эффект роста преимуществ изменчивости. Изменения, не приносящие немедленной пользы, далекие отклонения от стандарта, даже неблагоприятные для индивида, получают шанс на закрепление. Развитие человека во многом идет не с теми характеристиками, с какими проходит развитие изолированных индивидов в рамках немодифицированного естественного отбора. Серьезные изменения, такие как прямохождение, уменьшение челюсти и ее мускулатуры, сниженное обоняние и слух требуют для выживания вида или деликатной подгонки к развивающемуся в качестве компенсации разуму, немыслимо слабому, или существования какой-то защиты, пусть несовершенной, укрывающей отдельных индивидов от влияния естественного отбора. Наличие такого механизма может компенсировать потерю физической силы индивидом значительным увеличением силы крупной единицы, то есть единицы, на которую по-прежнему действует немодифицированный естественный отбор.
Таким образом, понимание функции стадности избавляет нас от необходимости полагать, что двойные вариации – уменьшение физической силы и увеличение умственной способности – всегда происходили параллельно. Доводы в пользу первичности социальной привычки еще серьезнее в случае развития речи и эстетической деятельности, но их обсуждение здесь привело бы к излишним биологическим рассуждениям.
IV. Ментальные характеристики стадных животных
(а) Современные взгляды в социологии и психологии
Если мы считаем, что стадность можно рассматривать как фундаментальное свойство человека, остается обсудить, как она могла воздействовать на структуру его мозга. Однако сначала попытаемся очертить, как далеко уже продвинулись исследования в этом направлении. Ясно, что здесь не удастся привести полный обзор всего, что сказано в отношении такой знакомой концепции, и даже если бы такое было возможно, вряд ли бы оно принесло пользу, поскольку большинство авторов не видели смысла в фундаментальном исследовании. Так что мы просто упомянем несколько представительных авторов и дадим обзор характерных черт их взглядов.
Насколько мне известно, первым, кто указал на не столь очевидную биологическую полезность стадности, был профессор Карл Пирсон[4].
Он пытался привлечь внимание к увеличению селективной единицы в результате появления стадности, а также к тому, что внутри группы естественный отбор начинает действовать модифицировано. Такое представление, как известно, ускользнуло от внимания Геккеля, Спенсера и Гексли; и Пирсон указал, к какой путанице в рассмотрении проблем общества привело эту троицу данное упущение[5]. В качестве примера можно привести знаменитое противопоставление «космических» и «этических» процессов, провозглашенное в Романизовской лекции Гексли «Эволюция и этика». Пирсон четко показал, что этический процесс, проявление, так сказать, альтруизма нужно рассматривать как непосредственный инстинктивный продукт стадности, а значит, столь же естественный, как любой другой инстинкт.
Впрочем, этот ясный и полезный подход, похоже, не привлек должного внимания биологов, и, насколько я знаю, его автор не предпринял дальнейшего изучения структуры стадного разума, которое, несомненно, обернулось бы в его руках новыми столь же ценными выводами.
Далее мы можем рассмотреть подход современного социолога. Я выбрал работу американского социолога Лестера Уорда и хочу кратко описать его позицию, изложенную в книге «Чистая социология» (Pure Sociology)[6].
Обобщить взгляды любого социолога, как мне кажется, достаточно сложно из-за определенной расплывчатости в изложении позиции и тенденции сводить описания фактов к аналогии, а аналогии – к иллюстрации. Невежливо сомневаться, что подобные тенденции нужны для плодотворного изучения объекта социологии, но, поскольку они бросаются в глаза при разговоре о стадности, необходимо указать, что человек отдает себе отчет в трудностях и чувствует, что они могут привести к неверной интерпретации.
С этой оговоркой можно утверждать: судя по работам Уорда, он считает, что стадность представляет лишь несколько точных и первичных характеристик человеческого сознания. Механизмы, через которые действует групповой «инстинкт», видятся ему разумными процессами, а сам групповой инстинкт рассматривается в качестве относительно позднего приобретения, довольно тесно связанного с рациональным знанием того, что он «окупается». Уорд говорит: «За неимением лучшего названия я охарактеризовал этот общественный инстинкт, или инстинкт видовой безопасности, как религию, отчетливо понимая, что он представляет собой первоначальную недифференцированную плазму, из которой впоследствии развились более важные человеческие институты. Это если не инстинкт, то, по крайней мере, человеческий аналог животного инстинкта и служил тем же целям после того, как инстинкты в основном исчезли, а эгоистичный разум в противном случае быстро привел бы к уничтожению расу в ее безумной погоне за собственными удовольствиями»[7].
То, что стадность следует отнести к числу факторов, формирующих тенденции человеческого разума, давно признано практическими психологами. Однако в целом ее рассматривали как свойство, проявляющееся в характеристиках реальной толпы – то есть скопления людей, действующих вместе. Такое представление послужило толчком к большому количеству ценных работ по исследованию поведения толпы[8].
Из-за того, что вопрос влияния стадности на мозг отдельного человека не исследовался в качестве наиболее существенного, теоретическая сторона психологии толпы осталась неполной и относительно бесплодной.
Впрочем, есть одно исключение: работы Бориса Сидиса. В книге под названием «Психология внушения» (The Psychology of Suggestion)[9] он описал определенные психические свойства, связанные с социальными привычками как индивида, так и толпы. Его позиция требует обсуждения. Базовый элемент позиции – концепция нормального существования подсознательного «я». Считается, что это подсознательное, подбодрственное «я» представляет «низшие», скорее звериные качества человека. Оно иррационально, подражательно, легковерно, трусливо, жестоко и лишено индивидуальности, воли и самоконтроля[10]. Такая личность приходит на смену нормальной личности под гипнозом или когда человек действует в толпе, например во время беспорядков, паники, линчевания, на митингах и так далее.
Из двух личностей – подсознательной и нормальной – только первая является внушаемой; успешное действие внушения предполагает, пусть и временный, распад личности, когда «подбодрственное я» берет управление над разумом. Именно внушаемость «подбодрственного я» позволяет человеку стать общественным животным. «Внушаемость – цемент стада, истинная душа примитивной социальной группы… Человек – общественное животное, без сомнения, но общественное в силу внушаемости. Внушаемость, однако, требует расщепления сознания, следовательно, общество предполагает расщепление разума. Общество и душевные эпидемии тесно связаны, поскольку социальное стадное «я» – это внушаемое подсознательное «я».
С нашей нынешней точки зрения особая ценность книги Сидиса в том, что она привлекает внимание к несомненно тесной связи стадности и внушаемости. Однако механизм, с помощью которого, по мнению Сидиса, действует внушаемость, вызывает вопросы. Сомнительно, что его доказательства заставляют согласиться с концепцией постоянного подсознательного «я»[11]. Существенным отличием взглядов Сидиса от представленных далее является то, что он рассматривает внушаемость как нечто вторгающееся в нормальный разум в результате дезинтеграции сознания, а не как обязательное качество любого нормального разума. Внимательное чтение книги Сидиса подталкивает к четкому выводу: автор рассматривает внушаемость как пагубное и позорное наследие дикаря и варвара, нежелательное в цивилизованном обществе, препятствующее правильному развитию индивида и никоим образом не связанное по происхождению с таким ценным качеством, как альтруизм. Более того, складывается впечатление, что автор считает, будто внушаемость проявляется чаще всего, если не всегда, в толпе, во время паники, на митингах и в условиях тесного общения.
(b) Дедуктивные рассуждения
Для биологического вида стадная привычка в широком смысле может выполнять атакующие или защитные функции, или и те, и другие. В любом случае она будет коррелировать с эффектами, которые можно разбить на два класса: общие характеристики социального животного и особые характеристики формы социальной привычки, которой обладает рассматриваемое животное. Собаки и овцы хорошо демонстрируют характеристики двух простых форм стадности: атака и защита.
1. Особые характеристики стадных животных
Здесь нет необходимости их рассматривать, поскольку эти качества по большей части исследованы психологами в работах о следствиях стадности у человека. Дело в том, что эти качества наиболее очевидны у человека, действующего в толпе, и представляются чем-то, что добавляется к возможностям изолированного индивида. Соответственно, они рассматривались как составляющие все стадное наследие человека, а возможность того, что это наследие может иметь столь же важные последствия для индивида, почти не рассматривалась.
2. Общие характеристики стадных животных
Главное свойство стада – однородность. Понятно, что огромным преимуществом социальной привычки является то, что она позволяет большому количеству особей действовать как единое целое; в случае охоты стая зверей в преследовании и нападении значительно превосходит в силе жертву[12], а в обороне чувствительность новой единицы к опасности значительно превосходит чувствительность отдельного животного в стаде.
Чтобы обеспечить преимущество однородности, члены стада должны обладать чувствительностью к поведению собратьев. Изолированный индивид не имеет никакого значения; индивид, входящий в стадо, способен передавать мощные импульсы. Каждый член стаи повторяет за соседом, и за ним, в свою очередь, повторяют; каждый в каком-то смысле способен стать лидером; однако поведение, слишком отклоняющееся от нормального, повторять не будут, а будут повторять только поведение, похожее на нормальное. Если вожак зайдет так далеко, что покинет пределы стада, его наверняка проигнорируют.
Оригинальность в поведении – противостояние, так сказать, голосу стада – будет подавлена естественным отбором; волк, не следующий импульсам стаи, обречен на голодание; овцу, которая не реагирует на стадо, съедят.
Опять-таки, индивид не только будет отвечать на импульсы, идущие от стада, но и будет воспринимать стадо, как нормальное окружение. Импульс всегда оставаться внутри стада будет иметь наибольший вес. Все, что грозит отделить индивида от его собратьев, будет решительно отвергаться.
До сих пор мы рассматривали стадных животных с объективной точки зрения. Мы видели, что они ведут себя так, словно стадо – это единственная среда, в которой они могут жить; что они особо чувствительны к импульсам от стада и совершенно иначе реагируют на поведение животных вне стада. Теперь давайте оценим ментальные аспекты этих импульсов. Представьте, что биологический вид, обладающий рассмотренными инстинктивными особенностями, обладает и самосознанием. Зададим вопрос: в какой форме эти феномены отразятся в его сознании? Во-первых, совершенно очевидно, что импульсы, порожденные стадным чувством, воспринимаются разумом как инстинктивные; они представляются «априорными синтезами самого совершенного сорта, не требующими подтверждения в силу самоочевидности». Однако нужно помнить, что они не обязательно придают это качество одинаковым отдельным действиям, но показывают отличительную характеристику, которая может сделать любое мнение интуитивной верой, превращая его в «априорный синтез». Так что мы можем ожидать действия, которые было бы абсурдно рассматривать как результат отдельного инстинкта – выполняемые с энтузиазмом инстинкта и демонстрирующие все признаки инстинктивного поведения. Неспособность распознать проявления стадного импульса как тенденцию, как силу, способную санкционировать любые убеждения и действия, не позволила социальной привычке человека привлечь внимание психологов, что было бы весьма полезно.
